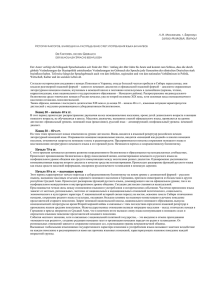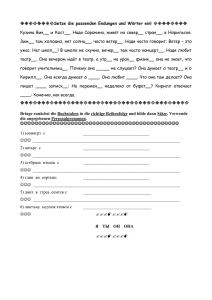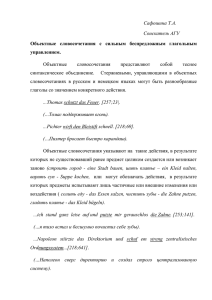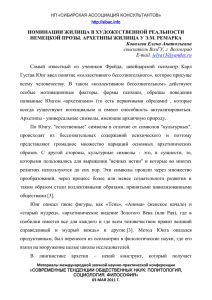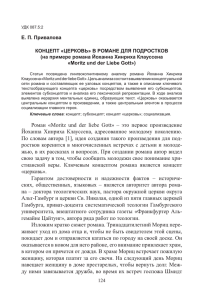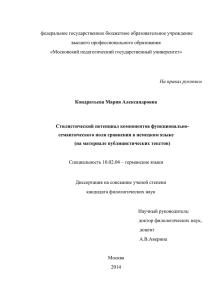Н.Д. Марова ПЕРСПЕКТИВА ТЕКСТА КАК ПАРАДИГМА
реклама
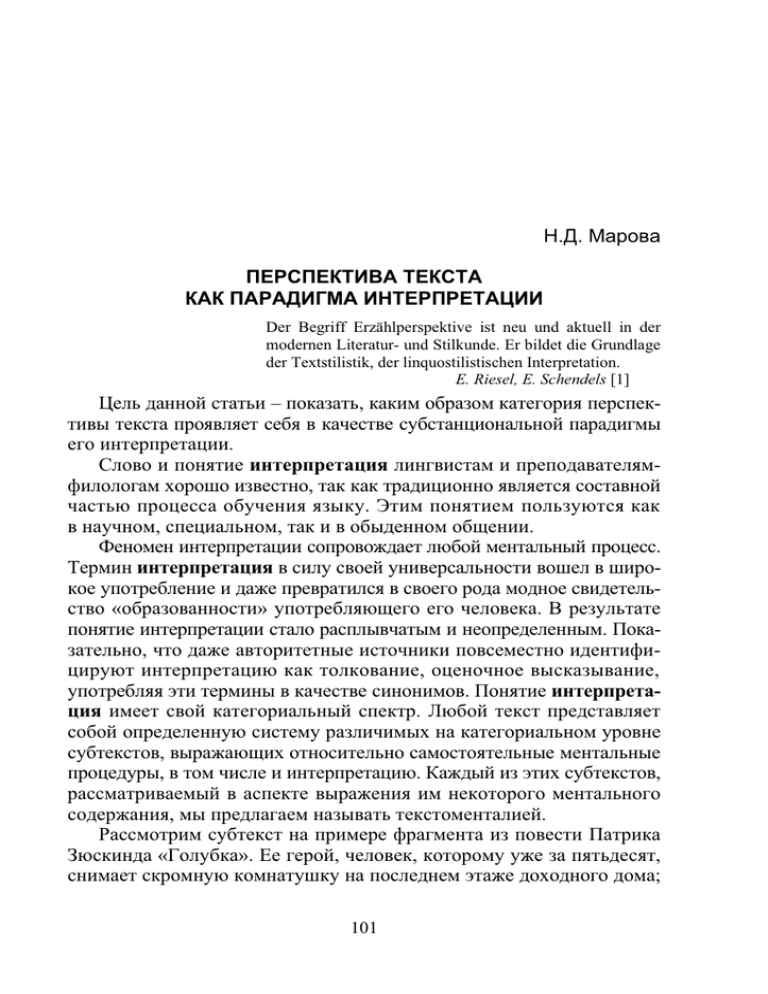
Н.Д. Марова ПЕРСПЕКТИВА ТЕКСТА КАК ПАРАДИГМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ Der Begriff Erzählperspektive ist neu und aktuell in der modernen Literatur- und Stilkunde. Er bildet die Grundlage der Textstilistik, der linquostilistischen Interpretation. E. Riesel, E. Schendels [1] Цель данной статьи – показать, каким образом категория перспективы текста проявляет себя в качестве субстанциональной парадигмы его интерпретации. Слово и понятие интерпретация лингвистам и преподавателямфилологам хорошо известно, так как традиционно является составной частью процесса обучения языку. Этим понятием пользуются как в научном, специальном, так и в обыденном общении. Феномен интерпретации сопровождает любой ментальный процесс. Термин интерпретация в силу своей универсальности вошел в широкое употребление и даже превратился в своего рода модное свидетельство «образованности» употребляющего его человека. В результате понятие интерпретации стало расплывчатым и неопределенным. Показательно, что даже авторитетные источники повсеместно идентифицируют интерпретацию как толкование, оценочное высказывание, употребляя эти термины в качестве синонимов. Понятие интерпретация имеет свой категориальный спектр. Любой текст представляет собой определенную систему различимых на категориальном уровне субтекстов, выражающих относительно самостоятельные ментальные процедуры, в том числе и интерпретацию. Каждый из этих субтекстов, рассматриваемый в аспекте выражения им некоторого ментального содержания, мы предлагаем называть текстоменталией. Рассмотрим субтекст на примере фрагмента из повести Патрика Зюскинда «Голубка». Ее герой, человек, которому уже за пятьдесят, снимает скромную комнатушку на последнем этаже доходного дома; 101 Вестник МГЛУ, выпуск 554 каждое утро он, стараясь избежать встреч с соседями, привычно уходит на службу, а вечером таким же образом возвращается домой; по воскресеньям он предпочитает не выходить из своей комнаты; он вообще не любит событий, нарушающих установившийся порядок вещей. Но вот однажды утром, собираясь на работу, он открывает дверь своей комнаты в обычно пустующий в это время общий коридор и вдруг видит там сидящую на его пути, перед самым порогом комнаты, голубку: Fast hätte er den Fuß schon über die Schwelle gesetzt gehabt, er hatte den Fuß schon gehoben, den linken, sein Bein war schon im Schritt begriffen – als er sie sah. Sie saß vor seiner Tür, keine zwanzig Zentimeter von der Schwelle entfernt, im blassen Widerschein des Morgenlichts, das durch das Fenster kam. Sie hockte mit roten, kralligen Füßen auf den ochsenblutroten Fliesen des Ganges, in bleigrauem, glattem Gefieder: die Taube. Sie hatte den Kopf zur Seite gelegt und glotzte Jonathan mit ihrem linken Auge an. Dieses Auge, eine kleine, kreisrunde Scheibe, braun mit schwarzem Mittelpunkt, war fürchterlich anzusehen. Es saß wie ein aufgenähter Knopf am Kopfgefieder, wimpernlos, brauenlos, ganz nackt, ganz schamlos nach außen gewendet und ungeheuer offen; zugleich aber war da etwas zurückhaltend Verschlagenes in dem Auge; und zugleich wieder schien es weder offen noch verschlagen, sondern ganz einfach leblos zu sein wie die Linse einer Kamera, die alles äußere Licht verschluckt und nichts von ihrem Inneren zurückstrahlen läßt. Kein Glanz, kein Schimmer lag in diesem Auge, nicht ein Funken von Lebendigem. Es war ein Auge ohne Blick. Und es glotzte Jonathan an. Она склонила голову набок и уставилась на Ионатана своим левым глазом. Этот глаз – маленький, круглый диск, карий с черной точкой зрачка – внушал ужас. Он походил на пуговицу, пришитую к головному оперенью; без ресниц, без бровей, совершенно голый, он был бесстыдно обращен вовне и жутко открыт; но в то же время в нем была какая-то сдержанная закрытость; и все же он не казался ни открытым, ни закрытым, а просто безжизненным, как линза фотоаппарата, поглощающая весь внешний свет и не выпускающая изнутри ни единого луча. В этом глазу не было ни блеска, ни мерцания, ни единой искры, ничего живого. Это был глаз без взгляда. И он пялился на Ионатана. Этот фрагмент представляет собой сложную систему текстоменталий: наблюдение, толкование, объяснение и др. Сопоставляя их друг с другом, попробуем разобраться, какой из субтекстов здесь доминирует. С этой целью используем прием отрицания, действуя методом рассуждения от противного. Прежде всего, констатируем, что этот текст, очевидно, представляет собой нечто большее, чем акт чистого наблюдения: его главное содержание заключается не в регистриро102 Н.Д. Марова вании некоторых фактов (человек видит за порогом своей комнаты сидящую птицу) и не в том, что текстоментальный субъект просто идентифицирует явленный ему объект наблюдения и составляющие его признаки. Здесь не занимает ведущего места также и процесс толкования, ибо толкование полагает обнаружение некоего изначально скрытого смысла в ситуации, которую субъект воспринимает как закодированный знак, а описанная встреча с голубкой не несет в себе общезначимых признаков символа (герой произвольно превращает голубку в знак беды – Unheil, что в принципе противоречит традиционному толкованию образа голубя). В представленном эпизоде не фокусируются признаки познавательного характера, поскольку в нем нет никакой новой информации ни о голубях вообще, ни об этой голубке, в частности. Данная ситуация не демонстрирует стремления к постижению истины и поиска сущностного объяснения сложившихся обстоятельств. Эта ситуация не является проявлением прямого оценочно-прагматического отношения персонажа именно к данной голубке (как, впрочем, и к голубям вообще); встретив сидящего голубя где-то на улице, он, наверняка, не обратил бы на него внимания. Его отрицательное отношение к голубке становится эмоциональным следствием специфического восприятия голубки под влиянием некоторых других факторов, которые вызвали в нем эту неожиданную реакцию: Er sei zu Tode erschrocken gewesen – so hätte er den Moment wohl im Nachhinein beschrieben, aber es wäre nicht richtig gewesen, denn der Schreck kam erst später. Er war viel eher zu Tode erstaunt. Он испугался до смерти – так, вероятно, он описал бы потом этот момент, но описание было бы неточным, потому что испуг пришел позже. Скорее он был до смерти изумлен. Итак, перечисленные выше ментальные субтексты присутствуют, но не они образуют главенствующую ментальную характеристику этого текста. Главным текстоментальным содержанием является процесс вèдения и сам способ вèдения происходящего. Автор следует законам перспективы и дает постоянные опорные пункты восприятия, которые воссоздают общую картину вúдения: – субъектные (центром наблюдения является герой повести Ионатан); – линейные (vor seiner Tür – голубка сидела перед дверью; keine zwanzig Zentimeter von der Schwelle entfernt – на близком расстоянии, менее двадцати сантиметров от порога); 103 Вестник МГЛУ, выпуск 554 – вертикальные (im blassen Widerschein des Morgenlichts, das durch das Fenster kam – в белесом отблеске утреннего света, проникавшего через одно единственное окно в коридоре); – векторные, указывающие на направленность взгляда наблюдателя и расположение тела голубки так, что он мог хорошо рассмотреть только ее левый глаз (Sie hatte den Kopf zur Seite gelegt und glotzte Jonathan mit ihrem linken Auge an). Эти перспективные параметры восприятия, тщательно выписанные автором, не только укрупняют план вèдения объекта, но и вызывают необходимость в ментальной обработке изображаемой картины. В первичном восприятии картина вèдения уточняется категоризирующими признаками иной картины вúдения героя, т. е. возникает «картина вèдения картины вèдения», или, иначе, некое «зеркало вèдения» для данной изначально картины, в котором особую значимость приобретает обостренное восприятие персонажем остраненного глаза голубки: es glotzte Jonathan an (он пялился на Ионатана). Эта обостренность передается рядом ассоциативных образов в сознании героя: глаз представляется ему в виде маленького, круглого коричневого диска с черной точкой зрачка посередине (eine kleine, kreisrunde Scheibe, braun mit schwarzem Mittelpunkt); глаз похож на пуговицу, пришитую к головному оперению птицы (Es saß wie ein aufgenähter Knopf am Kopfgefieder); он кажется безжизненной линзой фотоаппарата (wie die Linse einer Kamera). Нагнетание подобных ассоциаций переносит картину вèдения живого существа в мир неодушевленных вещей (Scheibe, Knopf, Linse), одновременно приращивая к первичному объекту обретенные из этого умственного экскурса образы. Новые категоризирующие признаки, отмеченные некоторой противоестественностью и заключающие в себе болезненную несовместимость составных частей картины вèдения, призваны, в конечном счете, показать тенденцию к борьбе начал живого и неживого. Это усиливается детализацией при описании признаков голубки – wimpernlos, brauenlos, ganz nackt (голая округлость, лишенная обычного для глаза окружения), ganz schamlos nach außen gewendet (неуемная выпуклость, обращенность наружу, вовне), ungeheuer offen (беспредельная открытость) и в то же время etwas zurückhaltend Verschlagenes (некоторая сдержанная закрытость). Выражение в этом образе какой-то безжизненной, неодушевленной силы, пугающей персонажа, находит в тексте формы своего прямого эксплицирования 104 Н.Д. Марова (leblos) и образного сравнения (wie die Linse einer Kamera, die alles äußere Licht verschluckt und nichts von ihrem Inneren zurückstrahlen läßt). Образ конструируется градационным отрицанием наличия признаков живого в рассматриваемом объекте (Kein Glanz, kein Schimmer lag in diesem Auge, nicht ein Funken von Lebendigem). Завершающим аккордом такого рода рефлектирующего движения сознания становится знаменательная фраза: Es war ein Auge ohne Blick (Это был глаз без взгляда). В ней раскрывается тайна необычности психологического восприятия персонажем обыкновенной голубки в тривиальных, на первый взгляд, обстоятельствах. Оказывается, глаз может не выражать жизни. Он безразличен и бездушен. Это бесстрастное зеркало, в котором герой видит себя в своем стремлении отгородиться от жизни. И увиденная в этом зеркале картина вначале его изумляет, хотя подлинных причин этого он пока не осознает. Для него эта голубка, которая находится здесь и сейчас, перед дверью его привычного, вполне, как ему кажется, упорядоченного жизненного уклада, – есть воплощение хаоса и анархии (der Inbegriff des Chaos und der Anarchie). Встреча с этой птицей становится для него знаком крушения всей его жизненной программы. Таким образом, механизм описанной в текстоментальных параметрах «фатальной» встречи героя с голубкой демонстрирует свойственный именно ему способ вèдения данной ситуации. Введенное в текст зеркало вèдения этого героя интегрирует перспективы двух рангов: с одной стороны, имманентно явленную, данную, и, с другой – перспективу, безотчетно отрефлектированную с иной точки зрения, трансцендентно устремленную в неведомое. Этот текстоментальный способ вèдения обладает собственной спецификой, и именно его мы называем интерпретацией. Основополагающей, иначе субстанциональной, парадигмой интерпретации служит, как явствует из проведенного анализа, перспектива текста в ее функциональной предназначенности быть соотнесенной с иными перспективами. Это приводит к тому, что текст выстраивается как многосмысловая картина вèдения, находящаяся в зависимости от ментально-духовной точки зрения автора / персонажа / читателя. Тем самым интерпретация, раскрываясь в качестве необходимой функции перспективы текста и будучи порождаемой ею, сама наделяется свойством порождать измененную картину вèдения. В этом своем свойстве она выступает в роли акциального посредника, занимая промежуточную позицию между соотносимыми ею перспективами. 105 Вестник МГЛУ, выпуск 554 Из сказанного можно сделать вывод: категория перспективы обнаруживает себя в качестве субстанциональной парадигмы интерпретации текста. ССЫЛКИ НА ЛИТЕРАТУРУ 1. Ризель Э.Г., Шендельс Е.И. Стилистика немецкого языка: Учеб. для ин-тов и фак-тов иностр. яз. – М.: Высшая школа, 1975. – 316 с. Цитируемая литература Patrick Süskind. Die Taube. – Zürich: Diogenes, 1990. Патрик Зюскинд. Голубка. Три истории и одно наблюдение: Повесть, рассказы / Пер. с нем. Э. Венгеровой. –СПб.: Азбука-классика, 2005. 106