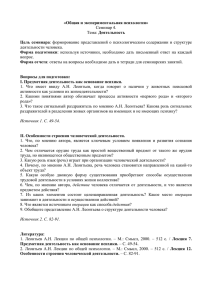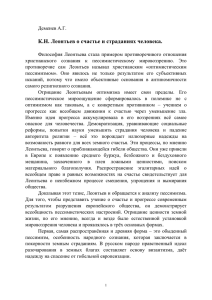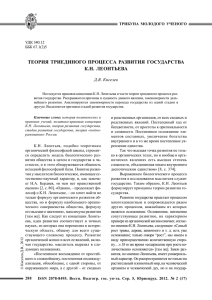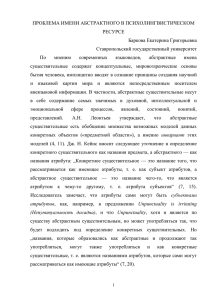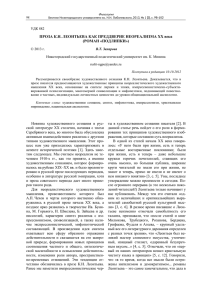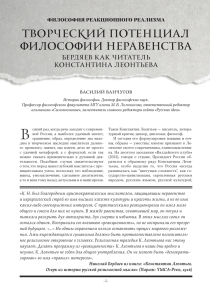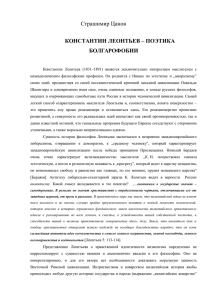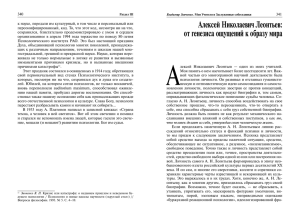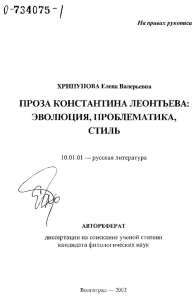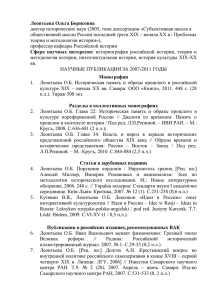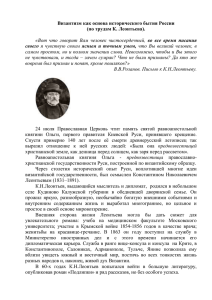историсофские воззрения к.н. леонтьева
реклама

1 Историософские воззрения К.Н. Леонтьева «В истории так называемого консерватизма, не официального, не катковского, скорее романтического, чем реалистического, скрыто много богатств, много творческих и совсем не «консервативных» идей. Нужно уметь понимать эти идеи и находить эти богатства, – писал в начале XX века Н.А. Бердяев. Особое явление в истории русской консервативной мысли представляет К.Н. Леонтьев, называвший себя принципиальным или идейным консерватором (в противоположность официальному или грубо практическому консерватизму). Бердяев восхищался неповторимой личностью Леонтьева: «Бывают писатели с невыразимо печальной судьбой, неузнанные, непонятые, никому не пригодившиеся, умирающие в духовном одиночестве, хотя по дарованию, по уму, по оригинальности они стоят многими головами выше признанных величин. Таков был Константин Леонтьев, самый крупный, единственно крупный мыслитель из консервативного лагеря, да и вообще, один из самых блестящих и своеобразных умов в русской литературе… Бедный Константин Леонтьев: его хуже, чем не знают… Для прогрессивного лагеря со всеми его фракциями он был абсолютно неприемлем и мог вызывать только отвращение и негодование, консерваторы же видели только поверхность его идей… и не понимали его мистической глубины… Леонтьев очень сложный писатель, глубоко противоречивый, не следует каждое слово его понимать слишком просто и буквально». В своей работе «Русский богоискатель» Н.А. Бердяев отмечает: «…судьба замечательного русского человека, необыкновенно оригинального и талантливого, томившегося и тосковавшего – Константина Леонтьева, почти гениального реакционера, еще печальнее судьбы Чаадаева. Политическое изуверство погубило Леонтьева, его никто не хочет знать. Кто чувствует, что в этом реакционере было религиозные страсти?» что-то поистине революционное, бушевали 2 В последние годы жизни Леонтьева мысли его обрели предельную ясность, глубину и пророческую силу. Он с возрастающим волнением всматривался в события, происходившие в Европе и России, как бы вслушивался в подземный гул грядущих кровавых событий, стремился предупредить о всечеловеческой катастрофе. Как быть? Что делать? Чему верить? На что надеяться? – вот вопросы, над которыми он мучительно размышлял. Все основы, вековые основы жизни расшатывались и подрывались – православие, самодержавие, народность; мельчала и обмирщивалась церковь; разлагался народ; слабела традиционная государственность; уходили в мир иной лучшие люди, а здравствующие монархи или отцы церкви были или посредственны, или малолетни, или бессильны. Чтобы спасти Россию, необходимо было, согласно Леонтьеву, развивать и углублять сословность, укреплять самодержавие, православие и православную церковь. «Для замедления всеобщего уравнения и всеобщей анархии необходим могучий Царь. Для того чтобы Царь был силен, т.е., и страшен, и любим, – необходима прочность строя, меньшая переменчивость и подвижность его; необходима устойчивость психических навыков у миллионов подданных его. Для устойчивости этих психических навыков необходимо сословие и крепкие общины» – эти меры должны были спасти Россию от эгалитарно-либерального прогресса, кровавой революции и антихриста. Леонтьев предупреждал, что «вслед за падением сословного строя должно воцариться господство денег и мелкой учености, грубая плутократия…». Оценивая место К. Н. Леонтьева в ряду русских мыслителей, нужно учитывать его появление после славянофилов, почвенников и националистов. Величие его в том, что он не пошел по проторенному пути, а нашел свой, в котором выразил те аспекты русского самосознания, которые либо вовсе игнорировались, либо рассматривались слишком общо и неопределенно. Всегда трудно выйти из-под влияния больших философов, начинающих то или иное направление, даже в некоторых вопросах, а тем более утвердить свою особую 3 позицию буквально во всем. Леонтьев с полным правом мог сказать о себе: «Я ни к какой партии, ни к какому учению прямо сам не принадлежу; у меня свое учение». Но отсюда проистекало лютое одиночество мыслителя, непонимание его позиции и взглядов. Отсюда же пристрастная и необъективная критика со всех сторон. Леонтьев с горечью писал: «Чем вознаградила меня печать? Тем, что восхищающиеся на словах и в письмах молчат перед публикой, а другие понимают меня так превратно, так обидно и так даже ужасно, как понял меня г. Астафьев или редакция «Благовеста». К.Н. Леонтьев достойно вынес свой крест непризнания и замалчивания, и в этом ему помогла вера во Христа, то особое, а, строго говоря, обычное Православие, которое он называл филаретовским, противопоставляя христианству славянофилов и, в особенности, т. н. «новых христиан» — Л. Толстого и Ф. Достоевского. Последним он посвятил несколько статей, которые не устарели до настоящего времени. Леонтьев чутко прозрел в мировоззрении Достоевского, а ещe более Толстого зародыши нового сектантства. То, что у них было лишь гранью, аспектом, оттенком христианского мировоззрения, у последователей могло стать сутью, что и осуществилось на примере толстовства. И в этом отношении чтение Леонтьева и в наши дни — хорошая прививка от «розового христианства», подменяющего православное вероучение сентиментальным и отвлеченным гуманизмом, обещанием земной гармонии и благоденствия. Если покопаться в старых журналах и газетах, то выйдет, что о Леонтьеве писали многие, но все не то, кроме, быть может, Льва Тихомирова. Поэтому лишь чтение самого Леонтьева даст нам понимание всей глубины и своеобразия этого мыслителя, а главное — вооружит новым взглядом на, казалось бы, давно очевидные явления. Хотя читать его, несмотря на блестящий язык и образность, иногда трудно, но, вчитавшись и поняв своеобразие его понимания, мы уже не сможем, как ранее, безоговорочно одобрять или безоговорочно осуждать многие события. Какая-то новая глубина, новые аспекты истины откроются нам. 4 Так, увидев в национальных движениях «слепое орудие всемирной революции», мы сможем понять критику Леонтьевым панславизма и оценить глубину его предостережения: «Идея православно-культурного русизма действительно оригинальна, высока, строга и государственна. Панславизм же во что бы то ни стало — это подражание и больше ничего. Это идеал современно европейский, унитарно-либеральный; это стремление быть как все. Это все та же общеевропейская революция... Русским в наше время надо стремиться со страстью к самобытности духовной, умственной и бытовой... и тогда и остальные славяне пойдут со временем по нашим стопам...» Д. Бонхоффер писал из нацистской тюрьмы в праздничный для него день Реформации: «Хотелось бы знать, как случилось, что результаты деятельности Лютера прямо противоположны его намерениям и омрачили последние годы его жизни и работы настолько, что он усомнился в пользе всех своих начинаний... Со студенческих лет я помню спор между Холлом и Гарнаком о том, что побеждает в любом движении, первичные или вторичные причины. Тогда я думал, что прав Холл, который отдавал предпочтение первым. Сейчас я уверен, что он ошибался». Вот эти вторичные причины, которые и восторжествовали в результате национальных революций в Европе XIX столетия, были увидены Леонтьевым и определены как антигосударственные, противорелигиозные и, в конечном счете, космополитические. Никто, кроме Леонтьева, не хотел этого признать, более того, его работа «Племенная политика как орудие всемирной революции» вызвала резкую критику со стороны славянофилов и националистов. Конечно, понимание К. Н. Леонтьевым национализма не несло в себе всей полноты, но в главном он был прав. Никакого возрождения народной жизни, расцвета национальное национальной своеобразие даже культуры не там, оно, где произошло, было, напротив, ослабло, что способствовало уравнительному смешению и торжеству буржуазной пошлости и мещанства. Оценивая леонтьевским взглядом современный «парад суверенитетов», 5 можно с уверенностью предсказать, что и здесь побеждают вторичные причины, и вместо возрождения народной жизни и национальной культуры происходит дальнейшая нивелировка и смешение и, в конечном итоге, восторжествует космополитизм. Не только нетерпение и жажда готовых рецептов не располагают к пониманию Леонтьева, но и отсутствие собственной продуманной личностной позиции, боязнь смелой нетрадиционной мысли, даже просто подхода, взгляда. Но как раз сейчас нам особенно не хватает такого неконформистского отрезвляющего взгляда. Пусть мы не во всeм или даже вовсе не согласимся с Леонтьевым, но... задумаемся, и прежняя вера в безошибочность и истинность наших верований и упований поколеблется. А что-то представится нам иначе и если и не утешит, то уж наверняка излечит от изрядной доли горечи, досады и разочарований. Скептически относясь к юго-западным славянам, Леонтьев не ждал ничего хорошего от союза с ними и публично и по службе предостерегал от излишнего связывания с ними российских государственных и национальных интересов. Его прогноз оказался верным, хотя в свое время понимания он не встретил ни у кого. Обратимся теперь к современности. Может быть, потеря части ближнего зарубежья не так уж для нас страшна, если и не прямо благотворна? Редкая способность видеть действительные причины и конечные последствия многих исторических явлений и движений в особенности отличала С. Н. Леонтьева. Лавров ему это при жизни не принесло, но зато сделало нашим современником. Нам как никогда близка независимость его мысли, способность всe оценивать «на свой салтык». Его мечты и упования, к сожалению, не оправдались, но прогнозы или даже пророчества сбылись, говорил ли он о югозападных славянах, о будущем Европы, о ближайшей или отдаленной судьбе России. За 28 лет до революции он писал в письме к Губастову: «Все мне кажется, что религиозность эта наша и наш современный национализм — все это эфемерная реакция, от которой лет через 20—30 и следа не останется. 6 Сознаюсь, я иногда так думаю». «Наши Романовы, при своей исторической гуманности и честности, — откажутся сами, быть может, от власти, чтобы спасти народ и страну от крови и опустошения» (Письмо к о. И. Фуделю, 6— 23.7, 1888). «Коммунизм в своих буйных стремлениях к идеалу неподвижного равенства должен рядом различных сочетаний с другими началами привести постепенно, с одной стороны, к меньшей подвижности капитала и собственности, с другой — к новому юридическому неравенству, к новым привилегиям, к стеснениям личной свободы и принудительным корпоративным группам, законом резко очерченным; вероятно, даже к новым формам личного рабства или закрепощения». «Для исполнения особого и великого религиозного призвания Россия должна всe-таки значительно разниться от Запада и государственно-бытовым строем своим. Иначе она не главой религиозной станет над ним, а простодушно и по-хамски срастется с ним ягодицами демократического прогресса (родятся такие уроды — ягодицами срослись)» (Письмо к о. И. Фуделю, 19.1—1.2, 1891). Никакая система невозможна без «стержневого, господствующего принципа». И он, вопреки утверждению. Вл. Соловьева, имелся у Леонтьева, хотя и не был им до конца, «до самого дна» философски осмыслен и сформулирован, возможно, потому, что слишком метафизически глубок и всеобъемлющ, а вернее всего, в силу превратности судьбы, толкавшей его вширь, а не вглубь. Другими словами, если Н. Я. Данилевский сумел сформулировать закон о культурно-исторических типах как аксиому или метафизическую истину, лежащую в основе всего его мировоззрения, Леонтьев этого не сделал. Сознавая это, он писал о. И. Фуделю: «У меня свое учение, но я положил ему только основание, а другие должны проверять и разрабатывать его». Стержневым для Леонтьева было убеждение об изначальном, прирожденном или внутреннем неравенстве людей и вера в то, что вытекающая отсюда субординация в любом обществе, государстве, коллективе чрезвычайно благотворна, ибо выражает метафизический закон человеческого существования. Жить в соответствии с этим законом естественно и гармонично, 7 вопреки — противоестественно и безобразно. Отсюда его пресловутый «эстетизм» и «византизм». Вера в «горизонтальную иерархию» людей присутствовала у К. Н. Леонтьева во все периоды его жизни, был ли он «язычником» или христианином, врачом или дипломатом, состоял ли на государственной службе или был в отставке, жил в миру или в монастыре. Те народы, общества, государства, церкви, которые жили, берегли, развивали любые формы, сохраняющие иерархичность, сословность, «закрепощенность», структурность и т. п., ценились им и превозносились, те же, где границы размывались, строгие формы разрушались, где эгалитарные процессы преобладали — клеймились со всей беспощадностью. Как никто другой он видел, что эгалитарные процессы, возобладавшие в Европе после Французской революции, подступили уже и к России. Леонтьев также ясно сознавал, что эти уравнительные процессы не просто антиэстетичны, пошлы, уродливы, вульгарны, но и идут наперекор фактическому (или, что то же, — метафизическому) неравенству людей и потому приведут к реакции, которая породит новые, но уже уродливые формы неравенства между людьми и народами (что мы и наблюдали на примере тоталитарных режимов ХХ века и современного империализма, стремящегося разжечь глобальный конфликт между христианскими и мусульманскими народами). В любом случае это приведeт к глубокой неудовлетворенности современной жизнью подлинно глубоких и талантливых людей, а что они предпримут против этого — одному Богу известно. Таким образом, К.Н. Леонтьев значительно расширил русскую проблематику, начатую славянофилами и развитую далее почвенникаминационалистами, Российского показав государства исключительную и русского важность народа для жизненности традиционализма и преемственности, которые он и назвал «византизмом». Термин этот смутил и продолжает смущать многих. В целом он в такой же степени удачен и неудачен, как «славянофильство» и, впоследствии, «евразийство». Удачен 8 потому, что не позволяет отождествлять эти понятия с русизмом или русскостью; неудачен — поскольку слишком расширяет понятие русскости до почти полного слияния со славянами, Византией и даже туранскими народами». Византизм в понимании Леонтьева — это не только особая культура, склад чувств, мыслей и всей жизни, которую Россия унаследовала от Византии (как понимал это Н. Н. Страхов), но и глубокая иерархичность всего жизненного уклада Византии (монашества, клира, государства, общества, культуры), которая была воспринята Русью и в значительной степени обеспечила русскому народу неуклонный рост силы, могущества, величия, что выразилось в создании Российской империи, в раскрытии лучших черт народа (совестливости, правдоискательства, героизма, самоотверженности, чувства достоинства), в создании глубокой, сложной, разветвлeнной и разнообразной культуры. Леонтьеву как никому было дано понять, что нашей славой, величием, даже долголетием мы обязаны не столько национальной самобытности, сколько той великой традиции, тому преемству, той религиозности и государственности, которые были унаследованы от Византии. Знал Св. Владимир что выбирать: ни католичество, ни ислам, ни, тем более, иудаизм не дали бы той возможности для полного раскрытия всего лучшего, что потенциально было заложено в русском народе. Важность следовать (византийской» традиции во всей еe полноте не осознавали ни почвенники, ни славянофилы, ни националисты, отчего они и не защищали эти устои, не охраняли их со всей страстью и беззаветностью. Крушение устоев, медленное, но систематическое, совершалось на глазах и неумолимо вело к краху. Без сословности, дворянства не могло быть самодержавных форм правления, их слабость усиливала всевозможные упрощающие явления вплоть до протестантизма в Перми (обновленчество). К.Н. Леонтьев со своих «византийских» позиций видел, что современное европейское влияние смертельно для Российской империи, и пытался, как мог, его предотвратить, в чeм он полностью сходился со всеми русскими 9 мыслителями-патриотами. . Таким образом, в Леонтьеве завершилось становление триединого или всестороннего подхода к русской проблеме, к пониманию «особенной стати» России, к уяснению провиденциального смысла русской истории и существования русского народа. После него при решении этих вопросов уже нельзя игнорировать правду славянофилов, почвенников-националистов и «византийцев-государственников», но и нельзя зацикливаться только на них. Триединый подход спасeт нас от крайностей узкого национализма, абсолютизации государственности или народности, не позволит, как прежде, придавать им самодовлеющее значение вне связи с другими факторами и в то же время обяжет предусматривать их в качестве обязательных элементов русского самосознания. Конечно, Россия теперь совсем иная. Простой консерватизм не может спасти нас, ибо охранять пустоту и хаос бессмысленно. Ныне, как никогда, важно соединить начало власти, призванное выражать авторитет объективных ценностей, и начало права, призванное ограждать свободу личности, без чего нация обречена на омертвение и вырождение. При этом, вопреки нарастающей суете и пустословию о приоритете прав индивида над сверхличными ценностями и интересами, мы должны осознавать, что главное условие правового государства – отнюдь не наличие конституционных сочинений, нашпигованных правовыми декларациями, а твердая власть, обоснованная объективными ценностями и закономерная по логике следования этим ценностям. Объективные же ценности – это не те идеи и доктрины, которые, исходя из своих индивидуальных вкусов, полагает наиболее важными отдельный человек, не то, что признает главнейшим самая активная или массовая партия и даже большинство общества, но то, что утверждено как высшая религиозная истина и святыня в историческом опыте народа, что делает нацию соборным организмом и частью человечества, а каждого человека – уникальным членом нации, образом и подобием Божиим. Практический опыт либерального русоборчества и расточительства 10 авторитета власти в России, закономерным итогом которого стала победа богоборческого социализма и хищнического капитализма, указывает, что государственная измена объективным ценностям, воплощенным в национально-религиозных и общественно-культурных традициях, превращает государство в дьявольское орудие. И напротив, та власть, которая сознает себя слугою религиозно-нравственных ценностей и традиций народа, хранит духовную осмысленность и свободу народной жизни, хотя бы государство и не имело демократической природы. Сможем ли мы воссоздать мощный национально-государственный организм, исходя из русских идеалов и великих культурно-исторических задач? Если хотим послужить будущему России, то не должны остаться глухи к призыву Константина Леонтьева крепко стоять на почве традиции вопреки всеразлагающему и всеуравнивающему космополитическо-либеральному потоку. Как творческое напутствие и как духовное завещание воспринимается сегодня молящая просьба мыслителя, обращенная к русской интеллигенции: «Не берите на себя лишнего, не возноситесь все этими высокими порывами, в которых кроется часто столько гордыни, тщеславия, честолюбия. Будьте свободолюбивы, если вам угодно, на почве политической… но ради Бога, на почве религиозной учитесь скромно у Церкви,.. учитесь у русского духовенства»… Вливайте в сосуд Православия «утешительный и укрепляющий напиток вашей образованности, вашего ума, вашей личной доброты, и только, – и вы будете правы»