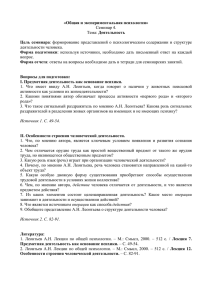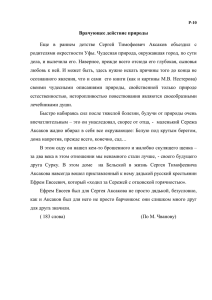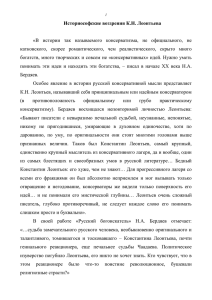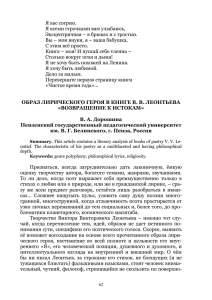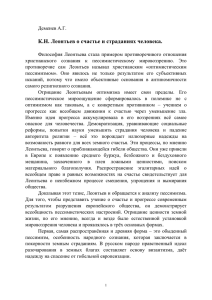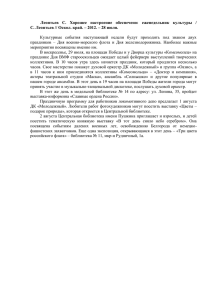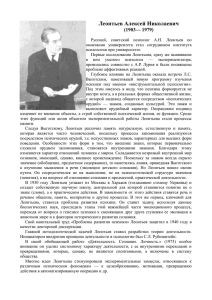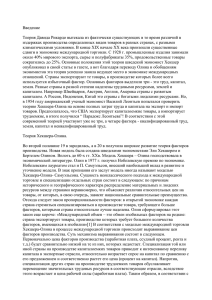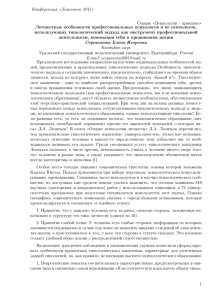★★Creative traditionalism as a direction of Russian social thought in 1880-1890.
реклама

Введение ГЛАВА I. Творческий традиционализм как направление русской общественной мысли 1880-1890-х гг 17 1. Консерватизм и традиционализм 17 2. Две тенденции в русском традиционализме 1880-1890-х гг 26 ГЛАВА II. Творческий традиционализм поздних славянофилов 45 1. Проблема позднего славянофильства 45 2. Славянофильство и либерализм 53 3. Позднее славянофильство в контексте творческого традиционализма 70 4. Особенности славянофильского традиционализма 78 ГЛАВА III. Творческий традиционализм КНН. Леонтьева 103 1. К вопросу о «подмораживании России» 103 2. Идеи Леонтьева в контексте творческого традиционализма 118 3. Леонтьев и славянофильство 132 4. Особенности леонтьевского традиционализма 156 ГЛАВА V. Творческий традиционализм ЛАА. Тиховирова 187 1. енезис оощественно-политических воззрении 187 2. Идеи Тихомирова в контексте творческого традиционализма 200 3. Тихомировский «синтез» 208 ГЛАВА V. Творческий традиционализм и власть 225 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 249 СПИСОК СОКРАЩЕНИИ 253 БИБЛИОГРАФИЯ 254 1. Творческий традиционализм как направление русской общественной мысли 1880-1890 гг. Сергеев С. М. 1.1 Консерватизм и традиционализм Споры о терминах, вероятно, самые сложные в гуманитарных науках с их почти онтологической неточностью в дефинициях. Но в то же время совершенно очевидно, что невозможно правильно понять то или иное явление (историческое, в нашем случае), не дав ему правильного наименования. Приблизительность последнего влечет за собой приблизительность знания о сути предмета исследования. По небесспорной, но интересной мысли о.Павла Флоренского, “суть науки — в построении, или, точнее, в устроении т е р м и н о -л о г и и (разрядка автора. — С.С). Слово, ходячее и неопределенное, выковать в удачный термин — это и значит решить поставленную проблему” (1). “Консерватизм” относится к числу чрезвычайно сложных и расплывчатых терминов. Долгое время в отечественной публицистике, где с середины XIX в. тон задавали либеральные и социалистические органы печати, это понятие было практически ругательным, синонимом мракобесия, обскурантизма, всего того, что противоречит нормальному общественному развитию. В политической литературе начала ХХ века можно было прочесть, что “консерваторы — это группа, которая опирается на силу предрассудков, суеверий, преданий и народного невежества, которые они породили за время своего господства. Консерваторы стремятся сохранить то, что мешает обществу жить и развиваться, а людям дышать” (2). В известном справочном издании того же времени говорилось, что консерватизм есть “стремление отстаивать существующее против всякого новшества, господствующие политические и социальные формы — против стремлений к глубоким и широким преобразованиям, в особенности, если они имеют революционный характер” (3). Сказано более деликатно, но суть та же самая. Впоследствии подобное представление, густо приправленное марксистской фразеологией, стало основой трактовки данной темы советской гуманитарной наукой. Так, в опубликованной уже в период “перестройки” научнопопулярной брошюре, ее авторы подразумевали под консерватизмом “тип политики господствующих классов антагонистического общества с соответствующей идеологической надстройкой, с определенной партийно-организационной базой. <…> Консерватизм направлен против общественного прогресса, противодействуя ему разнообразными методами — от провозглашения готовности к ограниченным реформам до откровенного насилия <…>” (4). В словарях 1980-х гг. консерватизм подавался как “приверженность к старому, отжившему и вражда ко всему новому, передовому” (5), как явление, противостоящее “прогрессивным тенденциям социального развития” (6). Но, … “времена меняются”, и сегодня такие оценки выглядят уже как маргинальные. Более того, ныне именовать себя “консерватором” стало и модно, и престижно, свидетельством чему служат высказывания видных представителей “российской элиты” — от политиков до кинорежиссеров. Естественно, изменился и тон наших обществоведов. “Мы категорически против того, чтобы заведомо выносить русскому консерватизму <…> какиелибо приговоры <…>” (7), обнадеживающе заявляет в предисловии к новейшему исследованию проблемы В.Я. Гросул. Однако, нельзя сказать, чтобы с исчезновением тенденциозного негативизма в отношении консерватизма, данное явление обрело четкую удовлетворительную дефиницию. Напротив, для большинства попыток создать последнюю характерна еще большая расплывчатость, чем прежде. Скажем, тот же В.Я. Гросул определяет консерватизм как “идейное и политическое течение охранительного характера, направленное на принципиальное сохранение существующих социальных отношений и государственного устройства <…>” (8). При внешней справедливости этой трактовки, она лишена историзма и, в сущности, применима ко всем векам и государствам от конца III тысячелетия до н.э. до начала XXI столетия н.э., от Шумера до Российской Федерации. Всегда и везде существовали люди и идейно-политические течения, отстаивавшие общественный status quo против реформ или революций. Таким образом, под консерватизмом можно понимать некую всечеловеческую жизненную установку, состоящую в приверженности к устоявшемуся и апробированному в противовес новому и неизведанному. Подобный подход сделался весьма распространенным в современной научной литературе. Для А.Н. Родионова, скажем, “консервативная традиция предстает в виде цепи защитных реакций на вызовы революционных и радикальных движений и умонастроений, направлена на погашение их дестабилизирующих импульсов” (9). В.И. Приленский видит в консерватизме “понятие, обозначающее политические силы, которые в тот или иной период борются за сохранение традиционных, сложившихся основ общественной жизни, а также характеризующее определенный тип или стиль мышления” (10). Отдает дань расширительному толкованию консерватизма и А.В. Репников, утверждающий, что он “в определенной степени присущ всем политическим движениям” (11). Та же размашистость проявляется и в хронологии консерватизма. Американец Р. Пайпс в 1970 г. взял за исходную точку русского варианта этой идеологии конец XV в.(12), а наш соотечественник В.А. Гусев в 1993 г. переместил ее уже в XI столетие, объявив основоположником русской консервативной традиции митрополита Иллариона (13). Расширительный подход к консерватизму имеет под собой определенные основания, свою логику и некоторые плюсы. Действительно, консерватизм как структура сознания или тип мышления имеет много общего во все века и у всех народов. Но при такой его интерпретации мы теряем возможность продуктивного исследования консерватизма как особой идеологии, противостоящей и либерализму, и социализму (коммунизму), имеющей свою систему ценностей, свою историю, своих классиков (Э. Берка — в Англии, Ж. де Местра и Л. де Бональда — во Франции, А. Мюллера — в Германии, Х. Доносо–Кортеса — в Испании, Н.М. Карамзина и К.Н. Леонтьева в России…). Естественно, что понимая консерватизм расширительно, возможно говорить не только о консервативных либералах, но и о консервативных коммунистах и даже и о консервативных нигилистах. Мы нисколько не утрируем: современный шведский философ Т. Топше совершенно серьезно доказывает, что любой устоявшийся порядок традиционен и защита его и есть консерватизм, приводя в качестве примера коммунистов-ортодоксов из СССР (14). А вот мнение российского философа В.И. Толстых: “Консерваторы есть и среди либералов, и среди социалистов, и среди националистов, образуя “фундаментальное” крыло любой из существующих идеологий” (15). Следуя этой логике, нетрудно обнаружить либеральных, социалистических и … консервативных консерваторов. А если мы еще вспомним, что некоторые мыслители находят социализм уже в Древнем Египте и в империи инков, а слово “либерал” давно стало синонимом бытового и административного демократизма, то легко вообще ликвидировать всю устоявшуюся идеологическую триаду конца XIX — начала ХХ вв.: консерватизм, либерализм, социализм (коммунизм). Мы не консерваторы в области научных методологий, но нам кажется, что, если в культурологии или психологии понимание консерватизма как структуры сознания не только уместно, но и перспективно, то в социально-политической истории оно только запутывает проблему. Нет сомнения, что упомянутая выше триада не объемлет всей полноты исторической конкретики, что она являет собой схему… Но, возможна ли вообще гуманитарная наука без таких схем, как неких “идеальных типов” (М. Вебер) (16)? Думается, что нет. Рассмотрение К.П. Победоносцева, П.Н. Милюкова и М.А. Суслова как звеньев “цепи защитных реакций на вызовы революционных и радикальных движений” нам не представляется слишком многообещающим делом для историка общественной мысли. Если мы обратимся к фактам, то сразу же увидим неудобство расширительной трактовки консерватизма. Например, когда в 1797 г. Жозеф де Местр полемизировал с известным либеральным идеологом Б. Констаном (автором брошюры с характерным названием “О мощи нынешнего правительства Франции и о необходимости принять его сторону”) (17), то, кто из них был “консерватором”, кто отстаивал “существующие социальные отношения и государственное устройство”? Республиканец Констан, а не монархист де Местр. В 1880–1890-е гг. консерваторами выглядят совсем не К.Н. Леонтьев или Л.А. Тихомиров, а публицисты либерального “Вестника Европы” типа Л.З. Слонимского, защищающие от “вызовов радикальных движений” “старый порядок”, сложившийся в результате Великих реформ. Конечно, Ж. де Местра и К.Н. Леонтьева можно назвать “реакционерами”, но вряд ли это будет вполне корректно: первый прямо говорил, что проект возврата к дореволюционному состоянию Франции подобен разлитию Женевского озера по бутылкам (18), а второй недвусмысленно утверждал, что “возвратиться вполне к прежнему и нельзя, и не нужно <…>” (19) (курсив здесь и в других цитатах, кроме особо оговоренных случаев — их авторов). Нередко, не только в публицистике, но и в научной и научно-популярной литературе (например, у А.Н. Медушевского, О.В. Кишенковой, А.М. Руткевича (20)) мы встречаем смешение “консерватизма” славянофилов и К.Н. Леонтьева с “консерватизмом” либералов вроде Б.Н. Чичерина и религиозных философов начала ХХ в. вроде Н.А. Бердяева или С.Л. Франка. Но между этими “консерватизмами” различий больше, чем сходства… Нельзя, однако, не заметить, что сама семантика понятия “консерватизм” провоцирует на подобный “универсалистский” подход к теме. “Консервировать”, т.е. сохранять можно все, что угодно, — и либерализм, и коммунизм в том числе. А что же хочет сохранить “консерватизм”? Слово на сей вопрос однозначного ответа не дает, в отличие от тех же “либерализма” и “коммунизма”, четко и ясно выражающих центральные идеи обозначаемых этими терминами движений. Кроме того, получается, что “консерватизм” как идеология имеет только негативную дефиницию, что он “трактуется с помощью негативных определений, выступая как антитеза программе всяких изменений вообще” (21) (А.Н. Медушевский). На самом же деле, позитивная программа в “консерватизме”, как и в других идеологиях играла не меньшую роль, чем критика идейных противников. Нам, поэтому, представляется, что явление, именуемое “консерватизмом”, нуждается в другом, более точном названии. Мы думаем, что искомый термин давно уже найден, имя ему — традиционализм. В данном контексте он впервые был использован (со ссылкой на Макса Вебера) Карлом Манхеймом в 1927 г. (22) Но для последнего он означал не идеологическую структуру, а ее эмоциональную подпочву — нерефлектирующую приверженность прошлому. “Консерватизм” же понимался Манхеймом именно как идеология, как осознанный традиционализм. Его точку зрения разделяют некоторые современные отечественные исследователи (23). Но такое словоупотребление совершенно произвольно и, в сущности, не опирается на какие-либо серьезные доводы. Мы же присоединяемся к позиции польского социолога и культуролога Е. Шацкого, поменявшего в манхеймовской дихотомии “консерватизм” и традиционализм местами. Причем Е. Шацкий здесь не выступает каким-то новатором, а присоединяется к целому ряду предшественников — известных западных философов (П.Р. Роден, А. Рош, А. Лаланд, Э. Шилз, Р. Арон) (24). Сам он называет традиционализмом “не просто склонность противодействовать любому изменению, а более или менее систематизированную совокупность утверждений о специфической ценности всего, что старо” (25). Далее, конкретизируя данное понятие, Е. Шацкий, ссылаясь на Э. Шилза, обозначает “консервативные” доктрины Нового времени как “идеологический традиционализм” (26). Очень важна оговорка польского ученого о том, что “идеологический традиционализм не исключает из своей картины мира социальных изменений <…>”, что “защита “доброго старого времени” была для большинства представителей “идеологического традиционализма” “скорее защитой неких общих принципов (таких, например, как иерархия, авторитет, антииндивидуализм, приоритет обычая над законом), нежели защитой конкретного социального порядка, существовавшего в определенном месте в определенное время” (27). В подтверждение своей мысли Е. Шацкий приводит весьма выразительное высказывание Жозефа де Местра: “Наверняка человеком будут управлять всегда, но никогда одним и тем же способом. Разные обычаи, разные верования неизбежно вызовут к жизни разные законы” (28). Среди российских ученых наиболее близкую нам точку зрения мы обнаружили у специалиста по французской общественной мысли М.М. Федоровой, чьи рассуждения с удовольствием процитируем: “<…> консерватизм означал не просто возврат к прошлому, но и определенный проект переустройства <…> общества, но на иных началах, чем предлагал <…> либерализм, а позднее социализм. Таким образом, смыслообразующим элементом для консерваторов выступает традиция, понимаемая как сохранение и развитие всего ценного, что было накоплено тем или иным народом за всю его историю и реконструкцию политических институтов в соответствии с этими культурно-историческими ценностями <…> Вот почему <…> общественно-политический проект консерватизма в целом следовало бы назвать традиционализмом в качестве одной из тенденций в рамках консерватизма <…>” (29). И у Е. Шацкого, и у М.М. Федоровой совершенно справедливо отмечено, что идея развития отнюдь не чужда “консерваторам”. Поэтому, когда И.Л. Беленький формулирует, что консерватизм — это “система воззрений на мир, ориентированная на сохранение и поддержание исторически сформировавшихся “органических” форм государственной и общественной жизни, ее морально-нравственных оснований <…>” (30), в его достаточно удачном определении как раз не хватает слова “развитие” рядом с “сохранением” и “поддержанием”… Но может ли “консервируемое” развиваться? По точному смыслу слова, нет. А вот традиция, без всякого сомнения, развиваться может, не переставая при том выполнять функции сохранения, и потому традиционализм — термин, в данном случае, гораздо более адекватный. С принятием термина традиционализм идеология, ранее именовавшаяся “консерватизм”, приобретает позитивный вектор, присущий всем идеологиям без исключения, у нее появляется совершенно определенный и ясный субъект — традиция. Традиционализм выступает не против развития вообще, а против антитрадиционных (с его точки зрения) вариантов развития, выдвигая им в противовес свою собственную положительную программу, опирающуюся на опыт прошедших столетий. Использование этого термина прекращает путаницу вокруг двойного смысла понятия “консерватизм”. Можно спокойно согласиться с его расширительным толкованием и признать, что и у либералов, и у социалистов, и у традиционалистов есть свои радикалы и свои консерваторы. Кроме того, традиционализм сразу же вызывает ассоциацию с таким понятием, как традиционное общество. И эта ассоциация, конечно, не случайна, ибо традиционализм и является, в сущности, рациональным выражением идеалов традиционного общества. По точной формулировке В.М. Ракова, “традиционализм есть отстаивание ценностей традиционного общества в условиях модернизации” (31). Идеологический традиционализм появляется в Европе в конце XVIII в. как реакция на идеологию Просвещения и его социальное следствие — Французскую буржуазную революцию. Это общее место в работах, посвященных “консерватизму” (например: “<…> консерватизм <…> — дитя реакции на Французскую революцию и Просвещение <…>” — американский исследователь проблемы Р. Нисбет) (32). До тех пор, пока ценности традиционного общества не были поставлены под радикальное сомнение, потребности в подобной идеологии не существовало. Как замечает английский ученый Р. Арис, — “<…> пока прежний порядок оставался неизменным, <…> традиционалистские тенденции никогда не выливались в замкнутую систему идей или политическое движение” (33). В России зачатки идеологического традиционализма можно найти у противников церковных реформ патриарха Никона и особенно у противников преобразований Петра I, какие-то намеки на него встречаются у М.М. Щербатова и А.С. Шишкова. Но, конечно, подлинной датой рождения русского традиционализма следует считать 1811 г. — время создания “Записки о Древней и Новой России” Н.М. Карамзина. Это сочинение стало “своеобразным манифестом” русского политического консерватизма (34) (Ю.С. Пивоваров); “самым выдающимся памятником зарождающегося русского политического консерватизма” (35) (В.Я. Гросул); “<…> от Карамзина тянется длинная нить русского политического консерватизма, охватывающего самые разнообразные направления — от славянофильства и почвенничества до “византизма” и веховства” (36) (А.Ф. Замалеев). Конец традиционализма как реальной социально-политической силы в Европе и России естественно связан с крушением в результате Первой мировой войны и буржуазных революций монархических режимов в Германии, Австро-Венгрии и России, т.е. его можно датировать 1917–1918 гг. При этом идеологический традиционализм отнюдь не исчезает, более того, он существует и по сей день, но с течением времени все более маргинализируется, ибо его социальная база — остатки традиционного общества, — довольно быстро размывается. На сегодняшний день традиционализм в чистом виде есть удел небольших групп интеллектуалов, не имеющих никакого веса в реальной политике. Так называемый “неоконсерватизм” на Западе представляет собой в целом консервативный либерализм, отстаивающий свободный рынок, гражданское общество и парламентаризм, т.е. все то, с чем боролись Жозеф де Местр и К.Н. Леонтьев (37). Другое дело, что элементы традиционализма были впитаны различными идеологиями ХХ в. — тем же либерализмом, национализмом, фашизмом, всевозможными видами “национального социализма” и даже коммунизмом. Такие традиционалистские понятия как авторитет, иерархия, религиозная вера, — оказались в разной степени всем им необходимы. Итак, традиционализм (“консерватизм”) — это направление мировой общественной мысли, возникшее в Европе в конце XVIII в., а в России — в начале XIX в. Традиционализм является идеологическим ответом традиционного общества на вызов модернизации и сопутствующей ей идеологии Просвещения с ее подчеркнутым отрицанием исторической традиции как предрассудка, рационализмом, индивидуализмом, механицизмом, экономическим и политическим либерализмом, приоритетом формального права. Традиционализм выступает за сохранение, поддержание и развитие исторически сложившихся религиозных, культурных, политических и хозяйственных основ данного общества. Для традиционализма характерны: 1) признание религии (в случае России — православного христианства) фундаментом общества; 2) понимание общества как своеобразного организма, продукта постепенного исторического роста; 3) предпочтение “мудрости веков” абстрактным схемам, обычая — формальному праву; 4) приоритет общности над индивидом; 5) социальный иерархизм; в случае России — 6) подчеркивание ее цивилизационной самобытности; 7) апология самодержавной монархии (38). 1.2 Две тенденции в русском традиционализме 1880–1890-х гг. Проблема типологии русского традиционализма (“консерватизма”) не менее сложна и запутанна, чем проблема его дефиниции. В историографии по этой проблеме было высказано немало интересных суждений. У Р. Пайпса, например, классификация данного явления совпадает с его периодизацией, и он выделяет четыре типа “консерватизма”: церковный, дворянский, интеллигентский и бюрократический (39). Представителями “интеллигентского” или “нового” “консерватизма”, возникшего после 1860 г., американский ученый называет И.С. Аксакова, Н.Я. Данилевского, Ф.М. Достоевского, Ап.А. Григорьева, М.Н. Каткова, К.Н. Леонтьева, К.П. Победоносцева, Ю.Ф. Самарина (40). Список чрезвычайно пестрый, но различий между вышеназванными мыслителями Р. Пайпс не фиксирует совершенно, хотя достаточно сопоставить позиции И.С. Аксакова и К.П. Победоносцева, или А.А. Григорьева и М.Н. Каткова, чтобы они обнаружились. Их легко различить, как нам кажется, любому человеку, неплохо знающему историю и культуру России XIX в., а уж тем более специалисту по общественной мысли. О нелепости определения Р. Пайпсом “консерватизма” 1880–1890-х гг. как “бюрократического” уже говорилось. В недавних работах российских ученых подход к проблеме классификации гораздо более продуман. К.А. Лотарев, скажем, разграничивает консервативное, охранительное и реакционное направления в русском традиционализме (41), но они у него практически не прописаны. В.М. Раков выделяет два варианта: “радикально-охранительный” и славянофильский (42). К первому он относится резко отрицательно (“упрощенческий, конфронтационный вариант”), а второе считает “явлением плодотворным”. Недостатком данной типологии являются весьма приблизительные представления ее создателя о славянофильстве, куда им записаны наряду с И.В. Киреевским и А.С. Хомяковым, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой и В.С. Соловьев (последний подается как самый яркий символ этого направления). А К.Н. Леонтьев каким-то странным образом попал в число и “славянофилов”, и “радикалов-охранителей”. М.С. Вершинин считает, что в отечественном “консерватизме” существовало два основных типа. Первый — “ценностный”, предполагающий, что “цель общества в сохранении и воплощении основополагающих ценностей — ценностей социальной интеграции: Бог, Родина, община, этничность, общее прошлое, общая судьба и др. (славянофилы, “почвенники”). Второй — “структурный”, который исходит из того, что стабильность обеспечивается не сохранением ценностей, а общественными структурами (М.Н. Катков, К.Н. Леонтьев, К.П. Победоносцев, Л.А. Тихомиров) (43). В таком разделении есть определенный смысл: действительно, представители второго типа больше размышляли о вопросах государственного и общественного устройства, чем представители первого. Но абсолютизировать такое разделение было бы неверно. Из всех “структурников” только М.Н. Катков в полной мере может быть к ним причислен. Ни К.Н. Леонтьев, ни Л.А. Тихомиров, ни даже К.П. Победоносцев никогда и нигде не писали о приоритете “структур” над “ценностями”. С другой стороны, и многие славянофилы (особенно, И.С. Аксаков и Ю.Ф. Самарин) думали не только о “ценностях”, но и о “структурах”. Близок по ходу мысли к М.С. Вершинину А.В.Р епников, отделяющий от славянофилов особую группу “консервативных государственников” (Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, К.П. Победоносцев, Л.А. Тихомиров) (44).Резон для такого отделения опять-таки имеется, проблема государства у указанных мыслителей играет гораздо более значительную роль, чем у славянофилов. Странным, правда, выглядит отсутствие в этой группе государственника par exellence — М.Н. Каткова. Неудачен, как нам кажется, сам термин, — что же, И.С. Аксаков, “антигосударственник” или “негосударственник”? Как быть с тем, что Н.Я. Данилевского многие славянофилы считали своим виднейшим теоретиком? Но главное в том, что фигура К.П. Победоносцева выбивается из всего остального ряда, легко объединяемого по близости историософских или социально-политических идей. К.Н. Леонтьев ссылается на Н.Я. Данилевского, Л.А. Тихомиров — на К.Н. Леонтьева при разработке самых существенных вопросов своих концепций; нетрудно провести между этими тремя мыслителями единую идейную линию. Ссылки же на К.П. Победоносцева у К.Н. Леонтьева и Л.А. Тихомирова носят прикладной или прагматический характер, а Н.Я. Данилевский же о Константине Петровиче и вовсе не упоминает, впрочем, как и тот о Николае Яковлевиче… Своеобразную “поколенческую” классификацию предложил Э.А. Попов, который разводит “консерваторов-ортодоксов” (К.П. Победоносцев) и “новое поколение” (К.Н. Леонтьев, Л.А. Тихомиров, Д.А. Хомяков), выдвинувших программу “консервативных реформ” (45). Отделение К.П. Победоносцева от К.Н. Леонтьева и Л.А. Тихомирова и определение последних как “консервативных реформаторов” нам кажется совершенно справедливым, но сама терминология — расплывчатой и неудовлетворительной. Во-первых, не ясно, что такое “ортодоксальный консерватизм”. Во-вторых, понятие “новое поколение”, вполне применимое к Л.А. Тихомирову и Д.А. Хомякову, нимало не подходит к К.Н. Леонтьеву и формально (он младше К.П. Победоносцева всего на четыре года), и фактически (печататься Константин Николаевич начал раньше, чем Константин Петрович, раньше выступил и как теоретик традиционализма, главный теоретический труд К.П. Побеносцева “Московский сборник” вышел через пять лет после смерти К.Н.Леонтьева). Подход к проблеме типологии традиционализма, предлагаемый нами, имеет довольно продолжительную генеалогию. Еще в 1899 г. П.Б. Струве тонко подметил, что современный ему русский “консерватизм” не представляет собой единого целого и обозначил в нем два направления: “консервативную романтику” (“консерватизм” как “целостное культурное миросозерцание”) и “консервативную казенщину” (“консерватизм” как “узкое направление практической политики”) (46). И если “консервативная романтика, создавая или воссоздавая целостный культурно-общественный идеал, требует его целостного воплощения в жизнь”, то “консервативная казенщина охраняет данную конкретную <…> действительность<…>” (47). Это очень близко к классификации М.С. Вершинина, но гораздо точнее и внятнее. “Романтика” и “казенщина”, конечно, никуда не годятся в качестве исторических терминов, но главный водораздел между “консерваторами” П.Б. Струве определил совершенно верно. В 1969 г. А.Л. Янов вычленил два типа “реакционных идеологий” — “охранительный” и “консервативный”: “Охранительные идейные течения <…> исходили из нерушимости существующей структуры во всей ее целостности. И, стало быть, любое изменение структуры казалось охранителям революцией, катастрофой, гибелью системы. <…> В основе же консерватизма лежало представление о непрерывности определенной культурной традиции, другими словами, о приоритете и нерушимости лишь какого-то одного элемента существующей структуры, будь то “православие”, “народность” или “византизм”. Ради оптимального функционирования именно этого элемента консервативная мысль, как правило, проектировала иной, отличный от существующего набор связей его с другими элементами системы. А, стало быть, и принципиально другую структуру системы” (48). Постигнуть смысл яновской тирады не очень просто, из-за ее интеллектуальной и лексической невразумительности. Но, если попытаться отбросить абсурдные рассуждения о “приоритете” того или иного “элемента”, и пересказать сей текст нормальным языком, то мы увидим, что автор правильно нащупал точку расхождения разных направлений традиционализма. Излишне, наверное, говорить, что сама терминология А.Л. Янова просто анекдотична: по своему смыслу слова “охранитель” и “консерватор” — синонимы. Используя находки П.Б. Струве и А.Л. Янова, мы определяем две тенденции русского традиционализма как “консервативную” (или “охранительную”) и “творческую”. Если первая видит цель своих усилий в сохранении существующего status quo как он есть, то вторая желает преобразования наличной действительности, но не в духе либеральных или социалистических идей или банального реставраторства, а на основе продолжения и развития православно-монархических традиций русской жизни в новых, соответствующих духу эпохи формах. Если первая руководствуется прежде всего интересами конкретной политической ситуации (“практической политики”), то вторая исходит, в первую очередь, из “целостного культурно-общественного идеала”, который она пытается воплотить в жизнь. Попытаемся подтвердить нашу гипотезу на материале 1880-1890-х гг. Нам представляется, что выразителями консервативного традиционализма в эту эпоху являлись К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, В.А. Грингмут, а традиционализма творческого — И.С. Аксаков и другие поздние славянофилы, К.Н. Леонтьев, Л.А. Тихомиров. Разберем сначала консервативную тенденцию. С самого начала необходимо оговориться, что всякий консерватизм относителен и что противники любых изменений вообще вряд ли существовали когда-либо в природе. Ни К.П. Победоносцев, ни М.Н. Катков, ни В.А. Грингмут, естественно, не призывали к некой абсолютной социально-политической неподвижности России. Напротив, М.Н. Катков был идеологом большинства так называемых “контрреформ” Александра III, а К.П. Победоносцев — инициатором возрождения системы церковно-приходских школ. Речь идет о другом: меры, которые предлагались консервативными традиционалистами, являлись частичными, представляя лишь незначительную коррекцию той социально-политической системы, которая сложилась в стране в период Великих реформ Александра II, эти меры не носили характера принципиального пересмотра основ данной системы. Консерваторы пытались приостановить процессы разложения традиционного общества в России, но позитивного Большого проекта общественного развития, который мог бы стать достойной альтернативой Больших проектов либералов или социалистов они не выдвинули. Вообще, теоретическая база консервативных традиционалистов оказалась разработана очень слабо, во многом потому, что они были слишком тесно привязаны к реалиям текущей политической жизни. Консерватизм К.П. Победоносцева имел наиболее последовательный характер. Скептик и пессимист, он вообще не верил в возможность улучшения общества посредством переделки его государственных и социальных институтов, считая, что только благодаря исправлению человеческих нравов можно достичь каких-нибудь положительных изменений. Государственную программу, которую он пытался осуществить, можно назвать “программой нравственного перевоспитания общества” (49). Ко всему же, что выходило за пределы этой программы, К.П. Победоносцев относился, по меньшей мере, с недоверием (характерно его любимое присловье — “не надо”). Поэтому он был противником всякой “коренной ломки” социального бытия, и даже основные “контрреформы” 1880-х гг. встретили в нем решительного противника (50). В публицистике К.П. Победоносцева также невозможно найти хоть какой-нибудь намек на положительный социально-политический проект, она практически вся посвящена критике основ либерализма и социализма, тотальный критицизм пронизывает и его письма. Любопытен в этой связи отзыв в дневнике славянофила А.А. Киреева о победоносцевском “Московском сборнике”: “<…> есть превосходные страницы, в особенн[ости] переводные, но в этом сборнике — весь Победоносцев. Умно написано, виден культурный человек с сильно развитым анализом, но с полным отсутствием синтеза, от этого — сильная критика, разрушение и никаких созидательных сил, кастрат!” (51) Хорошо передают сущность мировоззрения К.П. Победоносцева и строки из письма к нему И.С. Аксакова, однокашника обер-прокурора Святейшего Синода по Училищу правоведения: “Если бы в те времена спросили тебя: созывать ли Вселенские Соборы, которые мы признаем теперь святыми, ты представил бы столько основательных критических резонов против их созыва, что они бы, пожалуй, и не состоялись<…>. Твоя душа слишком болезненно чувствительна ко всему ложному, нечистому, и потому ты стал отрицательно относиться ко всему живому, усматривая в нем примесь нечистоты и фальши” (52). Не слишком одобрял К.П. Победоносцев и теоретические изыскания идеологов творческого традиционализма. В декабре 1896 г. Л.А. Тихомиров записывает в дневнике, что “Победоносцев <…> не особенно доволен моей публицистикой за то, что касаюсь идеалов Монархии. Он этого всегда боится” (53). В январе 1897 г. — похожая запись: обер-прокурор говорил В.А. Грингмуту (намекая на Л.А. Тихомирова), “что нетактично или непрактично писать о самодержавии…” (54). Бодрый, темпераментный М.Н. Катков был, казалось бы, полной противоположностью К.П. Победоносцева, но их роднило полное отсутствие разработанной теоретической программы. М.Н. Катков являл собой типичного журналиста, меняющего свои взгляды в зависимости от политической ситуации. Впрочем, несмотря на все его повороты, он оставался верен одной идее, “а идея эта, — по точным словам Н.П. Гилярова-Платонова – единство Русского государства и его мощь. Частные факты, теоретические права и интересы преклонялись перед ней, исчезали в ней” (55). О том же свидетельствовал и К.Н.Леонтьев: “<…> говорил он почти всегда вовремя и кстати, заботясь лишь о действиях завтрашнего дня <…>. Умалчивая о том, что прежде его это самое сказали Хомяков, Аксаков, Н.Я.Данилевский, Тютчев, <…> он повторял чужие мысли в такие только минуты, когда становилось возможным их немедленное приложение <…>. Оттого Катков так часто и менял свои мнения, оставаясь всегда верен одной основной цели: принести пользу русскому государству, принести ему пользу так, как он сам в данную минуту понимал эту пользу” (56). “Великий оппортунист” (57), М.Н. Катков не создал какой-нибудь самостоятельной идеологии и потому, как бы ни старались исследователи его творчества, им никак не удается связно определить его своеобразия как мыслителя (58). По верному замечанию В.В. Розанова, “невозможно даже политическую часть идей Каткова свести ни в какую систему <…>” (59). Теоретическая девственность Михаила Никифоровича хорошо выразилась в таком его пассаже из статьи 1881 г.: “Что теперь нам делать? Прежде всего не задавать подобных вопросов. В этих-то беспрерывных вопросах и состоит наш опасный недуг. Что нам теперь делать? Да просто стать на ноги, очнуться от дремоты, отряхнуться от праздности и делать то, что у каждого под руками.<…> Что делать? Очевидно, следует делать то, что требуется основными законами нашей страны” (60). Суженный кругозор политического эмпирика привел М.Н. Каткова к выводу, что “Россия в настоящем своем положении совершенно здорова, что она не нуждается ни в славянофильских, ни в либеральных переустройствах, чтобы идти по пути православия, самодержавия и народности <…>” (61). Процитированное выше суждение В.А. Грингмута о М.Н. Каткове достаточно полно объемлет собственную программу этого правоверного катковского апологета и ученика. Правда, В.А. Грингмут испытал на себе некоторое влияние К.Н. Леонтьева, прежде всего в трактовке славянского вопроса, но в целом леонтьевский пафос оказался ему чужд (недаром, К.Н. Леонтьев дважды, в письмах к разным корреспондентам называет его “предателем” (62)). Служивший под руководством В.А. Грингмута в “Московских ведомостях” Л.А. Тихомиров неоднократно отмечает в дневниках его “пренебрежение к теоретической работе” (63) и даже характеризует своего начальника как “чистокровного бюрократа” (64). В.В. Розанов отмечал “чрезвычайную элементарность” идей и личности Владимира Андреевича (65). Будучи типичным эпигоном, В.А. Грингмут лишь довел до логического конца линию М.Н. Каткова, возведя в систему его лозунги 1880-х гг. Консервативная тенденция в традиционализме с первого взгляда кажется более очевидной, чем творческая. Но при внимательной работе с материалом становится ясно, что как явление мысли второе направление несравнимо значительнее первого, ибо только во втором случае можно говорить о четкой системе взглядов, об идеологии. Вряд ли нужно доказывать, что И.С. Аксаков, К.Н. Леонтьев или Л.А. Тихомиров являются более оригинальными мыслителями, чем К.П. Победоносцев, М.Н. Катков или В.А. Грингмут. В отличие от консервативных, творческие традиционалисты пытались создать свой Большой проект развития России, который можно было бы противопоставить как равноправный проектам либералам и социалистов. И надо сказать, что по своей радикальности идеи творческих традиционалистов часто не уступали идеям их оппонентов. И это оттого, что восприятие традиции И.С. Аксаковым и К.Н. Леонтьевым было динамическим, а не статическим, как у К.П. Победоносцева и М.Н. Каткова. Понимание того, что слова “традиционализм” и “развитие” не есть антонимы, в последние годы начинает прочно утверждаться в отечественной историографии. Так, например, О.В. Кишенкова характеризует “консерватизм” “не как безоглядную защиту старого, отжившего, а как идею обновления, которое не предполагает разрушения всего предшествующего <…>” (66). Т.А. Филиппова и К.А. Лотарев употребляют понятие “консервативное обновление” (67). А.В. Репников высказывается по данной проблеме, используя весьма близкую нам терминологию: “<…> консерваторы не были просто “охранителями” <…> Они были еще и творцами. Термин “консервативное творчество” имеет полное право на существование” (68). Однако четкого разграничения (в том числе и терминологического) двух главных направлений традиционализма сделано еще не было. Мы отдаем себе отчет, что словосочетание творческий традиционализм звучит достаточно необычно, и ,возможно, кому-то покажется неудобоваримым. Но нам оно представляется наиболее адекватным для обозначения рассматриваемого явления. Начнем с того, что само понятие творчество имеет для И.С. Аксакова, К.Н. Леонтьева и Л.А. Тихомирова принципиальное значение. Слова “творчество”, “творческий”, “творить”, “творец” и т.д. встречаются в текстах этих мыслителей очень часто и всегда употребляются в позитивном смысле. Чтобы не быть голословным, приведем сооответствующие цитаты. И.С. Аксаков. Верховная власть “со времен Петра была <…> не свободна от ржавчины отрицания. От этой-то ржавчины и необходимо ей вполне избавиться, чтоб стать снова и вполне — силою творчеcкою(выделено здесь и далее нами. — С.С.) и зиждущею” (69). “Наш недуг <…> утрата внутренней цельности и творчества жизни” (70). “Ни народ без того слоя, который призван служить ему органом самосознания, ни этот самый слой сам по себе <…> не могуттворить ничего. А ведь именнотворчества <…> и недостает нашей земле” (71).“Поистине, колоссальный подвиг предназначен нам <…> восстановить в себе цельность и творчество народной жизни” (72). “Необходимо <…> покончить с периодом казенщины; необходимо энергии отрицания противопоставить энергию положительного творчества <…>” (73). “Народность — есть то же самое, что в отдельном человеке личность, но вмещающее в себе большее богатство творчества <…>” (74). К.Н. Леонтьев. Противопоставляя оригинальность “охранения (старого)”, “оригинальности творчества (нового)”, он отдает предпочтение последнему, ибо “надежно только созидание чего-либо нового <…>” (75). К.Н. Леонтьев резко критикует “консервативную” прессу за “равнодушие ко всему творческому”(76). “Пусть то, что на Западе значит разрушение, — у славян будет творческимсозиданием…” (77). “<…> у нас слишком еще мало<…> своего творчества <…>” (78). Похвала католичеству за то, что в его истории — “что ни шаг, то творчество, своеобразие, независимость, сила” (79). “Я всегда готов был ненавидеть русский ум и русский вкус за недостаток творчества и стиля” (80). Необходимо “способствовать <…> национальному творчеству на всех поприщах, начиная с государственного и художественного и кончая промышленным ” (81). Л.А. Тихомиров. От успешности “процесса национального самоопределения <…> зависит все наше социальное творчество” (82). Тихомиров призывает “не пересоздавать русское, а создавать его, творить из него и сообразно с ним” (83). Царствование Александра III “дает исходный пункт живому творчеству научной мысли, а, стало быть, подготовляет умственный капитал для своеобразного и самостоятельного развития страны” (84). “<…> вся свободная творческаяработа сосредоточилась” в среде традиционалистов (85). Революционеры “составляют вечную помеху социальному творчеству…” (86). “Вредное действие бюрократии <…> состоит в том, что она всю жизнь нации подводит под однообразные обязательные нормы, уничтожая <…> всякую свободную творческую работу нации <…>” (87). “Значение государства состоит в том, что оно дает место сознательному человеческому творчеству в широких пределах национального или даже (в идеале) всемирного союза” (88). “<…> государство при монархической верховной власти наилучше обеспечивает качественную сторону коллективного творчества” (89). Подобных высказываний нетрудно подобрать еще много, но и так очевидно, что понятие творчество отнюдь не случайное для всех троих вышепроцитированных мыслителей. У них встречаются и другие общие ключевые понятия, например, созидание, зиждительность, органичность, весьма близкие по смыслу к творчеству и потому еще более утверждающие нас в правильности нашей терминологической новации. Конечно, можно было бы прибегнуть к более “академичному” определению данного явления, обозначить его как “традиционалистский реформизм” или “реформаторский традиционализм”, но слово реформа объемлет лишь социальный аспект проектов традиционалистов и не затрагивает более широкий (и более для них важный) аспект культурно-исторический. Не подходит нам и ставшее модным в современной публицистике, с легкой руки А.Г. Дугина, словосочетание консервативная революция, которым, кстати, тот же Дугин определяет мировоззрение и славянофилов, и К.Н. Леонтьева (90). Перенося понятие, возникшее в Германии в 1920-х гг. в среде непримиримых противников Веймарской республики, пытавшихся синтезировать “правые” и “левые” ценности (А. Мелер ван ден Брук, Э. Юнгер, Э. Никиш и др.) публицист как будто не замечает, что, в отличие от последних, русские традиционалисты выступали лишь за преображение существующего государственного и социального строя, а не за его уничтожение, а слово революция в их лексиконе имело определенно негативное значение. Отделяя персонажей нашего исследования от консерватизма, мы специально проследили их субъективное отношение к этому понятию. Выяснилось, что всем им оно казалось неподходящим для обозначения их философской и общественной позиции. И.С. Аксаков вобще отказывался идентифицировать себя с консерваторами, впрочем, как и с либералами, видя и в тех, и в других помеху нормальному развитию общества и называл их соответственно “лжеконсерваторами” и “лжелибералами”, противопоставляя им “направление народное”, которое “только <…> одно и консервативно, и либерально вместе” (91). Естественно, главным выразителем “народного направления” И.С. Аксаков считал славянофильство, чьим лидером он являлся в 1860-1880 гг. В понятии славянофил, таким образом, снималось для И.С. Аксакова противоречие между консерватором и либералом. Вспомним, однако, что сам термин славянофилы не может считаться слишком удачным, ибо онвозник как презрительная кличка, данная кружку А.С. Хомякова, Киреевских и Аксаковых их оппонентами-западниками, и отцы-основатели “славянофильства” долгое время ее чурались (92). И.С. Аксаков жестко отчитывал современных ему “охранителей” за отсутствие творческого духа: “Лишенные точной руководящей мысли, они знают только одно различие: “старое” да “новое”, преисполненные искреннейшего испуга при встрече лишь с призраком чего-либо “нового” (хотя бы это новое было само по себе очень и очень старо, но только забыто или презренно), они в то же время испытывают “влечение — род недуга” ко всему “старому”, — хотя бы это старое было никуда не годным, или само в свою пору было незаконным и насильственным новшеством! <…> Они ничего не охраняют, а разве лишь мертвят, обрывая у охраняемого ими корня всякий новый росток, новый стебель <…>” (93). К.Н. Леонтьев, во многом идейный антагонист И.С. Аксакова, тем не менее, тоже не определял себя как консерватора и писал, что это наименование для противников либералов и социалистов “не совсем правильно” (94). Он пытался найти другое название для своего направления, и у него возникали достаточно экстравагантные словосочетания, вроде “прогрессивно-охранительное”, “реакционно-двигающее”, “реакционно-прогрессивное” (95), “консервативно-творческое” (96) и т.д. Константина Николаевича раздражали его союзники, занимавшиеся “робким охранением существующего и только одного существующего <…>” (97). Он постоянно подчеркивал, что “нужна жизнь новая” (98). Л.А. Тихомиров, подобно И.С. Аксакову, не относил себя ни к консерваторам, ни к либералам, предпочитая называть свой идейный лагерь лагерем “русских националистов”, “именуемых со стороны противников “консерваторами”, “реакционерами” и т.п., в действительности же — являвшихся сосредоточием всего прогресса русской мысли” (99). Именно его единомышленники казались Льву Александровичу носителями нового, а оппоненты-либералы — “реакционерами”. Л.А. Тихомиров отмежевывается от “ложного”, “малодушного” консерватизма, т.к. он “из боязни поколебать основы общества, скрывает их, не дает им возможности расти и развиваться” (100). Истинный же консерватизм, по его мнению, “совершенно совпадает с истинным прогрессом в одной и той же задаче: поддержании жизнедеятельности общественных основ, охранении свободы их развития, поощрении их роста” (101). Отвечая на упреки, что-де его идеалы в “прошедшем”, Л.А. Тихомиров писал: “Нет, нисколько. Мои идеалы в вечном, которое было и в прошлом, есть в настоящем, будет и в будущем. Жизнь личности и жизнь общества имеет свои законы, свои неизменные условия правильного развития. Чем лучше, по чутью или пониманию, мы с ними сообразуемся, тем мы выше. <…> Идеалы мои <…> в том, чтобы видеть <…> возможно большее торжество жизненных начал. “Реакционно” же такое мое мировоззрение или “прогрессивно” — право, меня это ни на одну йоту не интересует” (102). Итак, и И.С. Аксаков, и К.Н. Леонтьев, и Л.А. Тихомиров выступали не за сохранение всего старого, а за творческое развитие традиционных основ русской жизни, говоря словами Леонтьева, “совершенно новых по частным формам, но вечных по существу своему” (103). Но выражение этих вечных устоев России они мыслили себе только в рамках знаменитой уваровской триады “Православие, Самодержавие, Народность”, будучи уверенными в том, что все ее составляющие способны к плодотворному развитию. Подробному рассмотрению идеологии творческого традиционализма будут посвящены следующие главы диссертации. Пока же попытаемся сформулировать несколько постулатов, общих для всех творческих традиционалистов, чтобы затем проверить на конкретном материале соответствие этих постулатов мировоззрению каждого из персонажей нашего исследования. 1. Понимание России как самобытной цивилизации (находящейся в стадии становления), принципиально отличающейся как от Запада, так и от Востока. Понимание “истинного прогресса” как органического процесса развития русской цивилизации по своему собственному пути. 2. Отрицательное отношение к европейской цивилизации ХIХ в., в особенности к таким ее элементам, как секуляризм, индивидуализм и парламентаризм. 3. Определение духовно-общественных основ России формулой “Православие, Самодержавие, Народность”, при подчеркивании несомненного главенства первого члена триады. 4. Признание русской действительности 1880-х гг. недостаточно традиционной для простого ее охранения. Призыв к ее преобразованию на основе традиционных ценностей. Наличие Большого социально-политического проекта данного преобразования. 5. Осознание Православной Церкви как духовно-общественного фундамента страны. Идея создания сильной, самостоятельной, независимой от светской власти церковной организации. Требование освобождения Церкви от гнета синодальной бюрократии. 6. Идея изменения социальной структуры России и расширения социальной базы самодержавия. 7. Призыв к серьезной теоретической работе для осмысления новых путей развития традиционных основ русской жизни. 8. Требование активной внешней политики для расширения границ русской цивилизации и оздоровления внутриполитической ситуации в империи. Следует сразу отметить, что консервативные традиционалисты были солидарны с творческими в полной мере лишь по пункту № 2. Обоснование самобытности русской цивилизации у них отсутствует. Более того, издававшийся М.Н. Катковым журнал “Русский вестник” откликнулся на первую публикацию “России и Европы” Н.Я.Данилевского в высшей степени неблагожелательной рецензией П.К. Щебальского, в которой, между прочим, недвусмысленно утверждалось: “Ныне культура одна для всех, это та, которая с Востока перешла в Грецию и оттуда разлилась по всей почти Европе и Америке, обещая проникнуть во все части света <…>” (104). К.Н. Леонтьев впоследствии писал, что этот “пустейший отзыв” “стыдно читать” (105). Внешне соглашаясь с приоритетом Православия, они, по сути, ставили на первое место самодержавие. Поэтому они были резкими противниками независимости Церкви. Особенно последовательную позицию здесь занимал К.П. Победоносцев (106). М.Н. Катков развернуто по данному вопросу не выступал, но К.Н. Леонтьев на основе личных бесед с ним утверждал: “Феофан Прокопович <…> вот кто в нем жил <…> Государство — прежде; Церковь — после; видимо, думал Катков. Дальше идеалов Петра I он не шел” (107); Катков “в делах Церкви хуже анафемы” (108). Социальные идеи М.Н. Каткова сводились к усилению роли дворянства. В принципе, выступая за внешнеполитическую активность России, консерваторы не имели ее продуманной концепции. Об отношении же их к теоретической работе и преобразовательным проектам мы уже говорили выше. В заключение, два слова о генеалогии обоих, выявленных нами, направлений русского традиционализма. Они, конечно, возникли гораздо раньше 1880-х гг. Идейный фундамент консервативной тенденции заложен еще Н.М. Карамзиным в его “Записке о Древней и Новой России”, эту тенденцию продолжали и развивали в 1830–1840-е гг. идеологи так называемой “официальной народности” (М.П. Погодин, С.П. Шевырев), она получила отражение в публицистике Н.В. Гоголя и Ф.И. Тютчева. Творческий традиционализм оформился в классическом славянофильстве 1840–1850-х гг.; в 1860-х гг. появились его новые ответвления в лице почвенничества (А.А. Григорьев, Ф.М. Достоевский, Н.Н. Страхов) и учения Н.Я. Данилевского. Но именно в эпоху 1880–1890-х гг. оба течения достигают своей окончательной завершенности. Список литературы 1. Священник Павел Флоренский. Соч. в 4-тт. Т.3(1). М., 1999. С.210. 2. Каменев Ю. Что такое либерал и консерватор. М., 1906. С.5. 3. Водовозов В. Консерватизм // Новый энциклопедический словарь. Т.22. Пг,. Б.д. С. 500. 4. Галкин А.А., Рахшмир П.Ю. Консерватизм в прошлом и настоящем. М., 1987. С.5. 5. Советский энциклопедический словарь. М., 1980. С.628. 6. Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 273. 7. Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. М., 2000. С. 14. 8. Там же. 9. Современный консерватизм. М., 1992. С.49. 10. Приленский В.И. Консерватизм // Русская философия. Словарь. М., 1999. С.235. 11. Репников А.В. Консервативная модель переустройства России // Россия в условиях трансформации. Историко-политологический семинар. Материалы. Вып.2. М., 2000. С.25. 12. Пайпс Ричард. Русский консерватизм во второй половине XIX века. М., 1970. С.1. 13. Консерватизм в России. (“Круглый стол”) // Социологические исследования. 1993. № 1. С.44. 14. См. Рахшмир П.Ю. Три консервативные традиции: общее и особенное // Исследования по консерватизму. Вып.2. Пермь, 1995. С.14-15. 15. Консерватизм как течение общественной мысли и фактор общественного развития. (Материалы “круглого стола” // Полис. 1995. № 4. С.38. 16. См.: Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С.389-414. “Идеальный тип — не “гипотеза”, он лишь указывает, в каком направлении должно идти образование гипотез. Не дает он и изображения действительности, но представляет для этого однозначные средства” // Там же. С.389 (курсив автора. — С.С.). 17. Местр Жозеф де. Рассуждения о Франции. М., 1997. С.192. (сноска). 18. См.: Консерватизм как течение общественной мысли… С.41. 19. Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство. М., 1996. С.228. 20. Консерватизм в России … С.52.; Кишенкова О.В. Концепция общественной модернизации в политической доктрине российской консервативной мысли XIX — нач. ХХ вв.: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 1996. С.24; Руткевич А. Что такое консерватизм? М. СПб., 1999. С. 213. 21. Консерватизм в России… С.49. 22. См.: Манхейм К. Диагноз нашего времени // Консервативная мысль. М., 1994. С.593-597. 23. См. например: Рахшмир П.Ю. Указ. соч.; Раков В.М. Особенности русского традиционализма // Исследования по консерватизму. Вып. 2. Пермь, 1995. С.70. 24. Шацкий Е. Традиция. Обзор проблематики // Шацкий Е. Утопия и традиция. М., 1990. С.365-366, 369-370, 377-378. 25. Там же. С.378. 26. Там же. 27. Там же. С.380, 381. 28. Там же. С.382. 29. Консерватизм как течение общественной мысли… С.41. 30. Беленький И.Л.. Консерватизм // Отечественная история. Энциклопедия. Т.3. М., 2000. С.15. 31. Раков В.М. Указ. соч. С.70. 32. Цит. по: Галкин А.А., Рахшмир П.Ю. Указ. соч.- С.8. (Советские авторы полностью согласны с американским коллегой). 33. Цит. по: Шацкий Е. Указ.соч. С.380. 34. Пивоваров Ю.С. Политическая культура пореформенной России. М.,1994. С.169. 35. Русский консерватизм XIX столетия… С.43. 36. Замалеев А.Ф., Осипов М.Д. Русская политология. СПб., 1994. С.60. 37. См. подробнее: Неоконсерватизм в странах Запада. Ч.1-2. М., 1982. 38. При выявлении признаков традиционализма мы использовали схему С. Хантингтона (См.: Шацкий Е. Указ. соч. С.399-400). 39. Пайпс Р. Указ соч. С.1. 40. Там же. С.5. 41. Лотарев К.А. Политический консерватизм в процессе реформирования российского общества. История и современные проблемы.: Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата политических наук. М., 1995. С.14. 42. Раков В.М. Указ. соч. С.75-77. 43. Вершинин М.С. Типологические особенности политической философии русского консерватизма // Отечественная философия: русская, российская, всемирная. Нижний Новгород, 1998. С. 39. 44. Репников А.В. Консервативная концепция русской государственности. М., 1999. С.44-45. 45. Попов Э.А. Разработка теоретической доктрины русского монархизма в конце XIX –начале ХХ века: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Ростов-на-Дону, 2000. С.4-5, 27. 46. Струве П.Б. Романтика против казенщины. (В.В.Розанов. “Сумерки просвещения”. СПб., 1899) // Василий Розанов. Pro et contra. Кн. 1. Спб,. 1995. С.362. 47. Там же. С.363. 48. Янов А.Л. Славянофилы и Константин Леонтьев // Вопросы философии. 1969. №8. С.100. 49. См. подробнеее: Полунов А.Ю. К.П. Победоносцев в начале 1880-х гг.: Программа нравственного перевоспитания общества // Россия и реформы. 1861-1881. М., 1991.; Он же. Под властью обер-прокурора… М., 1996. См. также общую характеристику мировоззрения К.П. Победоносцева в наших работах: К.П. Победоносцев // Великие государственные деятели России. М., 1996.; К.П. Победоносцев // Русские писатели. 1800-1917. Биографический словарь. Т.4. М., 1999 (совместно с А.А. Гумеровым). 50. Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце XIX столетия. М., 1970. С.32, 405-406. 51. НИОР РГБ. Ф.126. К.12. Л.74. 52. К.П. Победоносцев и его корреспонденты. Т.1. Полутом 1. М.-Пг., 1923. С.277. 53. ГАРФ. Ф. 634. Оп.1. Ед. хр.6. Л.66. 54. Там же. Л. 80 об. 55. Гиляров-Платонов Н.П. Сборник сочинений. Т.2. М., 1899. С.523. 56. Леонтьев К.Н. Указ. соч. С.443. 57. Там же. С.458. 58. См.: Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия. М., 1978.; Ванеян С.С. Катков М.Н. // Русские писатели. 1800-1917. Биографический словарь. Т.2. М., 1992.; Лебедева Г.Н. Социально-философская концепция консерватизма в творчестве М.Н.Каткова: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. СПб., 1996. 59. Розанов В.В. Письмо в редакцию // Северный вестник. 1897. № 4. С.87. 60. Катков М.Н. О современных вопросах России. М., 1898. С.6. 61. Грингмут В.А. Катков как государственный деятель // Памяти Михаила Никифоровича Каткова. 1897 — 20 июля — 1897. М., 1897. С.56. 62. Леонтьев К.Н. Избранные письма. СПб., 1993. С.507.; Александров А.А. Памяти К.Н.Леонтьева. Письма К.Н.Леонтьева к А.Александрову. Сергиев Посад, 1915. С. 80. 63. ГАРФ. Ф.634. Оп.1. Ед. хр.6. Л.76 об.; Там же. Л.192. 64. Там же. Л.201. 65. Розанов В.В. Указ. соч. С.88. 66. Кишенкова О.В. Указ соч. С.3-4. 67. Филиппова Т.А. Мудрость без рефлексии // Кентавр. 1993. № 6. С.55; Лотарев К.А. Указ. соч. С.24. 68. Репников А.В. Консервативная концепция российской государственности… С.43. 69. Аксаков И.С. Полное собр. соч. Т.5. М., 1887. С.74. 70. Там же. С.39. 71. Там же. С.82. 72. Там же. С.552. 73. Там же. С.43. 74. Там же. Т.2. М., 1886. С.570. 75. Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство… С.514. 76. Там же. С. 645. 77. Там же. С. 392. 78. Там же. С.674. 79. Там же. С.699. 80. Леонтьев К.Н. Собр. соч. Т.9. М., 1914. С.333. 81. Там же. Т.5. М., 1912. С.263. 82. Тихомиров Л.А. Славянофилы и западники в современных отголосках // Русское обозрение. 1892. №10. С. 920. 83. Он же. К вопросу об упадке творчества // Русское обозрение. 1893. № 8. С.906. 84. Он же. Между прошлым и будущим // Русское обозрение.1895. № 11. С.428. 85. Он же. Современные направления // Русское обозрение. 1897. № 2. С.1030. 86. Он же. Борьба века. 2-е изд. М., 1896, С.36. 87. Он же. Единоличная власть как принцип государственного строения. Нью-Йорк, 1943. С.93. 88. Там же. С.127. 89. Там же. С.128. 90. Дугин Александр. Консервативная революция. Краткая история идеологий третьего пути // Элементы: Евразийское обозрение. 1992. № 1. С.15-16. 91. Аксаков И.С. Полн. Собр. Соч. Т.2. С.538. 92. См. подробнее: Цимбаев Н.И. Славянофильство. М., 1986. С.23-33. 93. Аксаков И.С. Полн. собр.соч. Т.4. М., 1886. С. 666. 94. Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство … С. 432. 95. Там же. С.391, 393. 96. Леонтьев К.Н. Собр. соч. Т.9. С.281. 97. Он же. Восток, Россия и Славянство … С.456. 98. Там же. С.362. 99. Тихомиров Л.А. Современные направления … С.1030. 100. Он же. Борьба века … С.38. 101. Там же. 102. Тихомиров Л.А.. К чему приводит наш спор? // Русское обозрение. 1894. № 2. С.913-914. 103. Леонтьев К.Н. Указ. соч. С. 378. 104. П.Щ. [П.К. Щебальский]. Заметка // Русский вестник. 1869. № 7-8. С.368. 105. Леонтьев К.Н. Указ. соч. С.470. 106. См. его аргументацию в книге: А.Р. Историческая переписка о судьбах Православной Церкви. М., 1912. С. 32-48. 107. Леонтьев К.Н. Указ. соч. С.454. 108. РГАЛИ. Ф.290. Оп.2. Ед. хр. 86. Л.1. 2. Творческий традиционализм поздних славянофилов Сергеев С. М. 2.1 ПРОБЛЕМА ПОЗДНЕГО СЛАВЯНОФИЛЬСТВА Прежде чем говорить о традиционализме поздних славянофилов, приходится доказывать само их существование в 1880-1890-х гг. Ситуация парадоксальная, если учесть, что в это время продолжал активно работать (до 1886 г.) последний классик и признанный лидер славянофильства И.С. Аксаков; выходило множество изданий, именовавшихся “славянофильскими” (“Русь”, “Свет”, “Известия славянского благотворительного общества”, “Русское дело”, “Славянские известия”, “Благовест”, “Русский труд”, “Русская беседа” и т.д.); славянофилами называли себя такие видные публицисты, ученые, государственные, общественные и церковные деятели, как Н.П. Аксаков, епископ Антоний (Храповицкий), А.В. Васильев, П.Д. Голохвастов, протоиерей А.М. Иванцов-Платонов, Н.П. Игнатьев, А.А. Киреев, В.В. Комаров, М.О. Коялович, В.И. Ламанский, О.Ф. Миллер, О.А. Новикова, П.П. Перцов, Д.Ф. и Ф.Д. Самарины, М.Д. Скобелев, Т.И. Филиппов, Д.А. Хомяков, М.Г. Черняев, С.Ф. Шарапов и др. Тем не менее, наиболее авторитетный на сегодняшний день исследователь проблемы Н.И. Цимбаев утверждает, что “к середине 1870-х годов славянофильство изжило себя и перестало существовать как направление русского общественного движения” (1). Убедительности этому взгляду добавляет практически полное отсутствие специальных работ о славянофильстве конца XIX в. Впрочем, есть и другие точки зрения на сей счет. П.Н. Милюков, скажем, выделял в истории славянофильства заключительный этап “разложения” (1860-1890-е гг.), включая в число “разложенцев” Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева и даже Вл.С. Соловьева (2). Милюковской концепции, в целом, следует Г.В. Флоровский, относивший к представителям “позднейшего “вырождающегося” славянофильства” К.Н. Леонтьева, А.А. Киреева, К.Н. Бестужева-Рюмина, А.В. Васильева; при этом он, правда, выделил Ф.М. Достоевского и Вл.С. Соловьева как “продолжателей классических славянофильских традиций” (3). Известный советский историк С.С. Дмитриев “периодом заката и распада славянофильства, периодом превращения его в исключительно реакционное направление”, считал пятнадцатилетие с 1865 по 1880 гг. (4) Польский ученый А. Валицкий рассматривает конец ХIХ века как время “дезинтеграции” и “дезутопизации” славянофильства(5), что в общем тоже близко к милюковскому взгляду. Классическое славянофильство, по А. Валицкому, завершается в 1881 г. (6) Крупный современный специалист по данной теме Е.А. Дудзинская в своей последней монографии утверждает, что “классическое славянофильство ушло с исторической сцены со смертью всех его видных представителей”(7), т.е. его концом можно считать 1886 г. — год смерти И.С. Аксакова. Исходя из логики Е.А. Дудзинской, можно сделать вывод, что после “классического” славянофильства существовала еще и какая-то его “неклассическая” форма. В.М. Хевролина употребляет применительно к 1870-1890-м гг. термин “поздние славянофилы” и причисляет к последним И.С. Аксакова, Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, В.И. Ламанского, А.А. Киреева, А.В. Васильева, Н.Н. Дурново (8). Многие исследователи обозначают продолжателей классического славянофильства в конце XIX в. как “неославянофилов”. Обычно к ним относят Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, Н.Н. Страхова (9). Для М.Ю. Конягина “неославянофильство как течение русской общественной мысли конца XIX — начала ХХ века”, как “особое явление” представлено прежде всего фигурой С.Ф. Шарапова (10). Как видим, идею Н.И. Цимбаева о кончине славянофильства к 1875 г. подавляющее число его коллег не разделяет. Однако попробуем рассмотреть аргументацию этого весьма почтенного ученого. Н.И. Цимбаев противопоставляя “истинных славянофилов” и “славянофиловславянолюбов”, связывает отход И.С. Аксакова от “истинного славянофильства” с его “идейной эволюцией <…> в сторону политического панславизма”: “И. Аксаков не замечал коренного изменения своих взглядов, в 1870-1880-е годы субъективно он был верен идеалам истинного славянофильства, но в действительности с середины 1870-х гг. был, конечно, славянолюбом” (11). Тем более отлучаются от “истинного славянофильства” такие панслависты, как О.Ф. Миллер (“сузил и исказил идеи истинных славянофилов”), А.А. Киреев (“именовал свои консервативные, панславистские убеждения “славянофильством”), С.Ф. Шарапов (“беспринципный журналист”) (12). Конечно, нельзя не согласиться с тем, что для раннего, классического славянофильства 1840-1850-х гг. славянский вопрос не играл первостепенной роли, но ощутимая “славянолюбская” тенденция в нем все-таки присутствовала. Сам же Н.И. Цимбаев приводит весьма выразительное высказывание К.С. Аксакова (1845-1846): “Кто не славянин, тот, конечно, не русский. Кто смеется над какимито славянофилами или славянолюбцами, тот, конечно, сам славян ненавидит, а кто ненавидит род, ненавидит и вид, кто ненавидит славян — ненавидит и русских”. Из пяти признаков принадлежности к славянофильству, им сформулированным, пятый предполагал обязательное сочувствие к “племенам славянским”, правда, “отклоняя все возможные мечты о политическом соединении всех славян в одно целое” (13). Идея славянского единства пронизывает лирику А.С. Хомякова (см. его стихотворения “Орёл”, “Ода”, “Беззвездная полночь дышала прохладой…”); писал он о ней и прозой: “<…> признаюсь охотно: люблю славян <…> я их люблю потому, что нет русского человека, который бы их не любил; нет такого, который не сознавал бы своего братства с славянином и, особенно, с православным славянином. <…> Насмешку над нашей любовью к славянам принимаю я так же охотно, как и насмешку над тем, что мы русские” (14). В журнале “Русская беседа” (1856-1860) был особый “славянский” отдел. С годами “славянолюбская” настроенность стала перерастать в нечто более определенное. В передовице первого номера газеты “День” (октябрь 1861 г.) И.С. Аксаков недвусмысленно утверждает: “Освободить из-под материального и духовного гнета народы славянские и даровать им дар самостоятельности духовного и, пожалуй, политического бытия, под сению могущественных крыл русского орла — вот историческое призвание, нравственное право и обязанность России” (15). Так что панславизм позднего И.С. Аксакова и его последователей был вполне органичным (хотя, конечно, не обязательным, и уж тем более не фатально предопределенным) завершением означенной тенденции. Последняя, кстати, в 1840-1850-е гг. приглушалась еще во многом и потому, что правительство Николая I резко негативно относилось к любым национальноосвободительным движениям, нарушающим принцип легитимизма, твердо исповедуемый самим императором. Недаром же Ф.В. Чижова и И.С. Аксакова подвергли арестам в 1847 и 1849 гг. прежде всего потому, что подозревали в них панславистов (16). Но главное даже не в этом. Неужели усиление внимания И.С. Аксакова к внешнеполитическим проблемам принципиально изменило его воззрения на вопросы политики внутренней? Или, может быть, он коренным образом пересмотрел общетеоретические основы славянофильского учения? По Н.И. Цимбаеву, получается именно так: “В 1879-1881 гг. под впечатлением роста революционного движения, в обстановке демократического подъема и связанной с ним поляризации общественных сил Иван Аксаков твердо стоял на позициях, которые можно определить как консервативнонационалистические. Он открыто встал в ряды сторонников самодержавия и всеми силами отстаивал свои убеждения. Аксаков был откровенно враждебен революционному движению, с недоверием и презрением относился к деятельности российских либералов” (17). Можно подумать, что И.С. Аксаков и славянофилы вообще были когда-либо противниками самодержавия (другое дело, что они его понимали по-другому, чем самодержцы), или что их отличал особенно дружественный настрой по отношению к “деятельности российских либералов”, а уж тем более — к “ революционному движению”! Без сомнения, в конце 1870х — начале 1880-х гг. И.С. Аксаков значительно “поправел” — это стало естественной реакцией на обострение внутриполитической ситуации в стране, ознаменованной народовольческим террором. Но основные положения славянофильства в том виде, как они сложились у И.С. Аксакова в начале 1860-х гг., не подверглись какой-либо кардинальной ревизии с его стороны. Панславизм не мешал издателю “Руси” много и разнообразно писать о внутреннем положении России, рассматривая его через призму именно славянофильских представлений. В 1880-х гг. в аксаковской публицистике все они сохраняются почти без изменений. И общая историческая схема развития России с идеализацией московского и отрицанием петербургского периодов. И признание основой русской жизни крестьянской общины, вообще некоторое “народопоклонство” — постоянная апелляция к “простому народу”, как к хранителю истины. И резкая критика конституционализма, которой славянофилы усердно занимались, по крайней мере, с начала 1860-х гг. (особенно Ю.Ф. Самарин), сочетающаяся с не менее резкой критикой петербургской бюрократии. И, наконец, специфическая концепция “народного самодержавия”, предполагающая не ограниченную законом власть монарха, дополненную развитым местным самоуправлением и Земскими Соборами (основы этой политической теории разработал еще в 1850-х гг. К.С. Аксаков). Характерно, что свой тезис о конце славянофильства к 1875 г., разрубающий И.С. Аксакова на славянофила до- и на панслависта-консерватора-националиста после этой даты, Н.И. Цимбаев не подтверждает сравнительным анализом его текстов, как будто эта, более чем оригинальная идея настолько самоочевидна, что “и доказательств никаких не требуется”. Шаткость данного утверждения определяется прежде всего общим цимбаевским пониманием славянофильства как варианта либеральной идеологии, а поскольку антилиберальный пафос позднего И.С. Аксакова заретушировать невозможно, остается только одно — объявить о смерти славянофильства. Нам представляется, что, если под славянофильством понимать ту сумму идей, которую пропагандировали издания И.С. Аксакова 1860-1880-х гг. (“День”, “Москва”, “Москвич”, “Русь”), то оно безусловно продолжало свое бытие в 1880-1890-е гг. и даже в начале ХХ в. Конечно, славянофильство было чревато разными возможностями. Например, И.В. Киреевский вообще не интересовался славянским вопросом и в последние годы жизни отрицательно относился к освобождению крестьян и к любым другим политическим реформам. Невостребованными оказались многие историософские и исторические идеи А.С. Хомякова, далеко не все одобрявшего в трудах К.С. Аксакова. В пореформенном славянофильстве реализовалась, условно говоря, линия братьев Аксаковых. Можно не считать ее выражением “истинного славянофильства”, но тогда следует заканчивать историю последнего 1860-м г. — смертью А.С. Хомякова (кстати, И.С. Аксаков первоначально так ее и расценил: “История нашего славянофильства <…> как деятеля общественного замкнулась” (18)). Признавая же славянофильство в 1860-х гг., нужно признавать его и в 1880-1890-е гг. Сами же мы предлагаем следующую схему периодизации истории этого направления русской общественной мысли. Первый этап (1839-1857 гг.) мы, вслед за С.С. Дмитриевым (19), считаем временем “теоретического” славянофильства, когда в дискуссиях с западниками и внутри самого кружка вырабатывались основные идеологемы “московских славян”. Второй (1858-1882 гг.) — можно условно назвать “практическим”. Он связан с активными попытками славянофилов претворить свои идеалы в общественной жизни. Здесь и участие в подготовке и проведении крестьянской реформы, и организация земского движения, и создание славянских комитетов, и активное воздействие на внешнюю политику во второй половине 1870-х гг. Крайняя дата — 1882 г., — выбрана не случайно: именно тогда проваливается аксаковский проект созыва Земского Собора, уходит в отставку “славянофильский” министр внутренних дел Н.П. Игнатьев, и умирает близкий к славянофилам, популярный в стране генерал М.Д. Скобелев. Эти события, по сути, подвели черту под эпохой ощутимого влияния славянофилов на власть и общественность. Поэтому заключительный, третий этап истории движения (1883-1910-е гг.) — есть время “позднего” славянофильства, период его “угасания”, маргинализации, и, в конце концов, можно согласиться с Вл.С. Соловьёвым, — “вырождения” (правда, сам Соловьёв понимал сей “термин” в совершенно ином смысле). Славянофильство, несмотря на попытки обновления, постепенно превращается в замкнутую идеологическую секту с влачащими жалкое существование малотиражными и нечитаемыми газетами и журналами. Какую-то одну конкретную дату завершения славянофильства назвать затруднительно. Оно умирало вместе со своими “последними могиканами”: Н.П. Аксаковым (1909 г.), А.А. Киреевым (1910 г.), С.Ф. Шараповым (1911 г.), В.И. Ламанским (1914 г.), Ф.Д. Самариным (1916 г.), Д.А. Хомяковым (1918 г.), А.В. Васильевым (после 1917 г.)… Когда Н.И. Цимбаев отказывает тем же А.А. Кирееву, Н.П. Аксакову или С.Ф. Шарапову в преемственности по отношению к “классикам”, он опять-таки не формулирует, в чем же состоит глобальный разрыв между ними. А если читать тексты без предвзятости, то мы увидим, что у “эпигонов” лишь несколько больше панславистской риторики,( хотя само понятие “панславизм” в применении к себе ими отвергалось), в остальном же они твердо следуют аксаковским, и отчасти хомяковским заветам. Немаловажно отметить и тот факт, что “эпигонов” с “классиками” соединяли тесные связи: родственные, дружеские, деловые, творческие. Д.Ф. и Ф.Д. Самарины — это соответственно родной брат и племянник Ю.Ф. Самарина, Д.А. Хомяков — родной сын А.С. Хомякова, Н.П. Аксаков — дальний родственник К.С. и И.С. Аксаковых. А.А. Киреев и О.А. Новикова (урожденная Киреева) росли в доме, в котором завсегдатаями были все лидеры “теоретического” славянофильства и находились под их прямым влиянием (20). Т.И. Филиппов был создателем (вместе с А.И. Кошелевым) в 1856-1857 гг. первого славянофильского журнала “Русская беседа”. В.И. Ламанского, частого автора “Русской беседы”, “Дня”, “Москвы”, находившегося в близких отношениях с К.С. и И.С. Аксаковыми, Ю.Ф. Самариным и др., даже строгий Н.И. Цимбаев признал “истинным славянофилом” (21). А ведь В.И. Ламанский — несомненный панславист, причем, по мнению Б.Ф. Егорова, автор “первой откровенной программы русификаторского панславизма”, обнародованной еще в 1864 г.(22). Постоянным автором аксаковских изданий был О.Ф. Миллер, а С.Ф. Шарапов — помощником И.С. Аксакова по изданию “Руси”. На все это необходимо указать, ибо по глубокому наблюдению о. Павла Флоренского, ядро славянофильства — в “дружественно-родственных” отношениях (23). Нам кажется некорректным применять к славянофильству 1880-1890-х гг. термин “неославянофильство” (ничего принципиально нового в это время в учение “московских славян” внесено не было). Это именно “позднее”, “эпигонское”, “угасающее” славянофильство. Не можем мы согласиться и с причислением к славянофилам (или “неославянофилам”) Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, Н.Н. Страхова, а уж тем более, Вл.С. Соловьева. Это вполне самостоятельные мыслители, несомненно, испытавшие на себе сильное влияние славянофильских идеологем, но создавшие свои варианты традиционализма, по ряду принципиальных положений, сильно отличающиеся от “классического” и, особенно, “аксаковского” славянофильства. О проблемах “Н.Я. Данилевский и славянофильство”, “К.Н. Леонтьев и славянофилство” мы поговорим подробнее ниже. Что же до Вл.С. Соловьева, то он в своем творчестве 1880-1890-х гг. вышел за рамки не только славянофильства, но и русского традиционализма вообще. Весьма показательно в этом смысле такое острое высказывание И.С. Аксакова (1883), долгое время покровительствовавшему философу и помещавшего его работы в “Руси”: “До такого крайнего, радикального отрицания, такого крайнего, радикального западничества не доходил доселе никто из русских мыслителей” (24). Еще более резкая реакция на прокатолические писания Соловьева содержится в письме К.П. Победоносцева И.С. ксакову от 30 ноября 1884 г.: “Стыдно и позорно сыну соединяться с клеветниками и сплетниками на нашу родину…”(25) В конце 1880-х гг. Соловьева перестают печатать традиционалистские издания, и он публикуется в основном в либеральной прессе. Таким образом, круг поздних славянофилов мы ограничиваем теми именами, которые перечислены нами в самом начале главы. Из них нам наиболее интересны как идеологи прежде всего И.С. Аксаков, а затем А.А. Киреев, С.Ф. Шарапов, Н.П. Аксаков, А.В. Васильев. Именно они наиболее активно пытались развивать славянофильское учение в 1880-1890-е гг. 2.2 СЛАВЯНОФИЛЬСТВО И ЛИБЕРАЛИЗМ Еще одна чрезвычайно важная проблема, на которой необходимо остановиться перед рассмотрением идеологем поздних славянофилов — это вопрос о взаимоотношениях славянофильства и либерализма. В современной российской историографии представление о славянофильстве как об одном из вариантов русского либерализма является господствующим. Характерно, что в новейшем обобщающем труде “Русский консерватизм XIX столетия” взгляды славянофилов не разбираются, ибо последние безоговорочно признаны либералами. Родоначальником такого подхода к славянофильству был С.С. Дмитриев, еще в 1941 г. писавший, что “объективным итогом реализации социально-экономической программы славянофилов 1840-1850 гг. было бы развитие промышленного капитализма, их политическая программа привела бы при ее реализации к получению элементарной свободы выражения для либерально-помещичье-буржуазного мнения” (26). Развивая эту идею, Е.А. Дудзинская пришла к выводу о буржуазной сущности славянофильской идеологии: “Подталкивая правительство к отмене крепостного права, и, ратуя за промышленное развитие России, помещики-славянофилы как представители “самого образованного и наиболее привыкшего к политической власти класса”, выполняли на данном этапе роль идеологов буржуазной эпохи” (27). Наконец, Н.И. Цимбаеву становится ясно, что “славянофильство и западничество были <…> ранними формами российского либерализма<…>” (28). Но, если для Н.И. Цимбаева, как мы видели, славянофильство заканчивается к 1875 г., и, следовательно, поздний И.С. Аксаков и тем более такие его последователи как А.А. Киреев и С.Ф. Шарапов — уже не либералы, то для Е.А. Дудзинской — И.С. Аксаков остается славянофилом и, соответственно, либералом до самой смерти (“неклассические” формы славянофильства она вообще не рассматривает). Но мы уже показали, что воззрения поздних славянофилов, по крайней мере, в социальнополитическом аспекте мало чем отличались от взглядов “классиков”. Более того, все они резко отмежевывались от “официального консерватизма” и высказывали мысли, которые вполне можно было бы назвать “либеральными”. Вот, например, некоторые суждения из концептуальной статьи А.В. Васильева “Задачи и стремления славянофильства” (1883): “Без свободы слова и печати, без действительной свободы самоуправления народа и Церкви, без свободы совещания о местных и общегосударственных нуждах и делах, по всему государству и в его сердце около престола <…> не может быть действительного знания государственных польз и нужд <…>”; “Нельзя вечно держать Россию в осадном положении и весь народ под полицейским надзором!” “Подлинное славянофильство не окрашено только, но насквозь пронизано самым ярким и полным либерализмом” (29).Интересно, что последнюю цитату сочувственно приводит Н.И. Цимбаев, почему-то при этом не торопясь зачислить ее автора ни в славянофилы, ни в либералы (30). А вот тезисы другого лидера позднего славянофильства Н.П. Аксакова: “Славянофильство и ретроградный консерватизм взаимоисключают друг друга, и одно направление является отрицанием другого” (31). “Неравноправность есть прежде всего несправедливость, нравственная неправота” (32). За что С.Ф. Шарапов критикует В.А. Грингмута? За то, что последний отрицает земское самоуправление, за то, что он “против гласности и независимости судов”, за то, что он поддерживает “бюрократическое начало в управлении <…>” (33). Не правда ли, полное впечатление, будто либерал ругает консерватора?! Нетрудно найти либерализм и у “консерватора-панслависта” А.А. Киреева, решительно разводившего свою позицию с теми, кто “всякое самостоятельное проявление народной воли, народной мысли считают тем самым уже незаконным, что оно самостоятельно, забывая, что <…> и самое сильное правительство нуждается в помощи народа, которым оно призвано управлять, и что на общество, лишенное самостоятельности, не привыкшее думать, опираться нельзя” (34). В своем дневнике А.А. Киреев сожалеет, что Александр III не повел Россию “по славянофильскому либеральному пути” (35). Что же касается И.С. Аксакова, то он уже, перестав быть, по мнению Н.И. Цимбаева славянофилом и либералом, тем не менее, писал О.Ф. Миллеру (8 мая 1881 г.), что его социальнополитический идеал, “есть венец либеральных вожделений общества, основа действительная для всякого, в нужном случае, представительства” (36). С.Ф. Шарапов вспоминал такие слова издателя “Руси”: “<…> я бы с удовольствием сказал, что я либерал <…>, если б самое слово не было так затаскано и загажено <…>” (37). Интересно, что Н.И. Цимбаев в качестве союзника в деле “либерализации” славянофилов использует К.Н. Леонтьева, который писал о последних: “Если снять с них пестрый бархат и парчу бытовых идеалов, то окажется под этим приросшее к телу их обыкновенное, серое, буржуазное либеральничанье, ничем существенным от западного эгалитарного свободопоклонства не разнящееся” (38). Советский историк приветствует леонтьевский метод “снятия” со славянофилов “пестрого бархата и парчи бытовых идеалов”, отмечает “уместность этого приема”, его “очевидные достоинства” (39). Странно, что ученый не обратил внимание на то, что К.Н. Леонтьев и поздних славянофилов считал либералами: “Все они от Киреевского до Данилевского (включительно), до Бестужева, до А.А. Киреева, Шарапова и т.д. более или менее либералы <…>”(40) (из письма А.А. Александрову от 12 мая 1888 г.). Таким образом, нельзя ли и нам сделать вывод о либерализме не только “классиков”, но и эпигонов славянофильства? Но почему же эти “либералы” публиковались не где-нибудь в “Вестнике Европы”, “Новостях” или любых других действительно либеральных органах печати, а либо создавали свои газеты и журналы, либо находили пристанище в “консервативных” “Московских ведомостях”, “Русском обозрении”, “Русском вестнике”… Почему позднее, в пору Первой русской революции 19051907 гг. они примкнули не к кадетам, и даже не к октябристам, а к Союзу русского народа и близким к нему политическим организациям? Наконец, почему их сочинения переполнены выпадами в адрес целого ряда основополагающих либеральных ценностей и институтов, так сказать, “священных коров” либерализма? Любой объективный исследователь славянофильства не может не признать, что “либеральные” цитаты, приведенные нами выше, далеко не выражают сущности славянофильского мировоззрения, ибо они, что называется, вырваны из контекста. Общий же пафос славянофилов скорее носит антилиберальный характер. Не будем голословными и приведем доказательства. Особо обращаем внимание на отношение славянофилов к конституционализму и парламентаризму. Разве это не пробный камень для правоверного либерала? И.С. Аксаков. “Нужно рассеять туман, напущенный пошлостью нашего псевдолиберализма. Было бы весьма опасно признать эту мнимую силу за силу действительную, и мнениями той фракции общества, которая именует себя “либеральной”, а, в сущности, просто — нерусская, чуждая преданиям истории и духу нашей народности, — мнениям ее, этому пустословному бреду, придавать какое-либо веское значение…” (41); “<…> полновластный Царь не властен лишь в одном: в отречении от своего полновластия, <…> заменив главное начало русского государственного строя западноевропейской конституцией, он стал бы отступником от народного исторического пути, изменником Русской земле, предателем своего народа”(42); “<…> всякая <…> западноевропейская конституция равнялась бы для России окончательному отречению от своей истории и народного миросозерцания” (43). “Великий грех приняла на свою душу Россия, навязав Болгарскому народу конституцию русского изделия по западноевропейскому образцу, напялив на Болгарию эту шутовскую одежду, сшитую “российскими портными из Лондона и Парижа”, да еще подпоротую болгарскими их учениками, — отравив, исфальшивив, искалечив нравственно все общественное бытие родной нам страны с самых первых дней ее свободы” (44); “<…> конституция в России — не избавление от зол, а начало горших зол. Дать конституцию Царь не может. Это с его стороны было бы изменой народу, предательством. Если только будет дана конституция или что-нибудь ей подобное, произойдет — это верно как 2х2=4, — мятеж народный — за Царя против “господ” и вынужденной ими у Царя “господины”. Конституция — это венец денационализации России, начавшейся при Петре, следовательно, ее гибель” (45). А.А. Киреев. “К парламентарному государству мы, славянофилы, не питаем ни малейшего доверия. Недоверие наше так велико, что мы скорее согласимся иметь дело с Аракчеевым, нежели с парламентарными дельцами современного типа” (46). “Можно ли серьезно думать о конституции для России, где девяносто девять сотых народа не поймут разницы между депутатом, сидящим в парламенте, и всяким другим чиновником, назначенным от короны, где одного слова какого-нибудь решительного и крутонравного Государя будет достаточно для того, чтобы петербургские или московские дворники метлами разогнали “говорильню”?”(47) “Назначение государства — дать возможность каждому гражданину достигнуть наилучшее свое назначение. <…> Для этого едва ли парламентаризм не худшая форма правления, ибо она основана на постоянном подличании избираемых перед избирателями” (48). С.Ф. Шарапов. “Наша бюрократия сделала все зависящее, чтобы скомпрометировать и сделать всем ненавистным наш чудный и светлый исторический принцип — Самодержавие. Еще немного, и она своего добьется <…> Тогда явится “конституция”, как акт отчаяния, начнется парламентаризм, и мы сразу попадем в какую-нибудь неслыханную Стамбуловщину. Мирная земская Россия, которая могла бы процветать и развиваться, имея на верху истинное Самодержавие, станет ареною политической борьбы, ненависти, лжи и кровавых насилий. Никто не будет в состоянии разобраться, где и в чем беда, как не могут в этом разобраться сейчас во Франции” (49). Славянофилы постоянно подчеркивали принципиальное отличие Земского Собора, необходимость созыва которого они пропагандировали, от западноевропейского парламента. И.С. Аксаков: “Можно <…> и западноевропейский государственный строй перенять и причесать <…> и, сочинив какое-либо народное представительство, <…> окрестив его названием “Земского собора”: толку от этого не будет, а будет лишь сугубая ложь” (50); “<…> Земский собор вовсе не есть конституционное, в духе западноевропейском, собрание народных представителей, решения которых обязательны для верховной власти и формально ее ограничивают, <…> это есть только одна из более живых форм непосредственного общения Царя с народом, один из вернейших способов узнавания народной мысли, проверки самим правительством доброкачественности его собственных распоряжений, одним словом — советования власти с землею” (51). А.А. Киреев: “Мы не только бы не желали видеть умаления самодержавной власти, но, напротив, желали бы ее усиления, в особенности в отношение способности ее узнавать действительные нужды и желания народа <…> Однако, ежели бы, при каких-нибудь исключительных обстоятельствах, Самодержавная власть сочла уместным посоветоваться со своим народом <…> мы бы желали, чтобы прибегая к такому средству, она не сочла нужным поступиться при этом своими правами и обязанностями в пользу каких-либо сословий или партий <…> Русский народ не ищет и не желает никакого иного государственного устройства, никакого нового правового порядка, кроме ныне существующего, и желает лишь одного, чтобы Царю его действительно были известны его нужды и желания <…>” (52). “Конечно, наши древние Земские соборы не имели ничего общего с парламентами Запада, ни с нашими земствами современными” (53). С.Ф. Шарапов: “<…> Земский собор возможен лишь как венец упорядоченной России, а отнюдь не как собрание, имеющее ее упорядочить” (54). Совершенно очевиден и антибуржуазный настрой славянофилов. И.С. Аксаков писал о “растлевающем духе западной буржуазии”(55). А.А. Киреев порицал современную ему Францию за то, что она превратилась “в компанию на акциях”, а государство должно, по его мнению, преследовать “цели идеальные, не только не подходящие под мерило выгоды (религию золотого тельца), несоизмеримые с ними, но иногда и прямо им противоположные”. Он видел непосредственную связь капиталистических отношений и конституционализма: “Говорят, что конституционный образ правления самый лучший — да, но лишь для денежных дел, <…> но ведь деньги-то не всё <…> Скажу более, там, где деньги все — бог, там Бог общество разрушает!” Ему ненавистно “царство банкиров и адвокатов” (56). Свойственен для славянофилов и своеобразный “правовой нигилизм” — отрицание права как главного регулятора общественной жизни (что тоже мало подходит “идеологам либерализма”). “Не на контракте, не на договоре зиждутся в России отношения народа к царю, а на страхе Божием, на вере в святыню человеческой совести и души”, — патетически восклицал И.С.Аксаков (57). “<…> Ни для царской власти, ни для народного послушания не существует иных ограничений, кроме заповедей Господних”, — писал он же (58). “Никаких бумажных конституций нам не нужно! — вторил ему А.А.Киреев, — В нас, в нас самих должна быть конституция; и этой конституции у нас никто не отнимет, и только она и надежна”. Он противопоставлял начало этическое как высшее — началу юридическому как низшему, соответственно русские для него — “народ не юридический, а этический” (59). “Вот наша хартия, другой нам не нужно!” — говорит Киреев о христианском Символе веры (60). Важно отметить, что антилиберальные выпады поздних славянофилов не являлись чемто новым и неожиданным в истории этого течения русской мысли. Наоборот, “эпигоны” не добавили здесь ничего существенного по сравнению с “классиками”, зачастую просто копируя предшественников. Вот, скажем, достаточно определенный отзыв К.С. Аксакова о немонархических формах государственного устройства: “О конституции мы не говорим, это даже не особая какая-нибудь форма: это есть осуществленная ложь и лицемерие всех государственных начал друг перед другом. Республика является для большей части Запада как совершенство, но республика есть самая вредная правительственная форма <…>” (61) (1848). Ю.Ф. Самарин в 1862 г. написал специальную статью против конституционных проектов московского дворянства, в которой недвусмысленно утверждал, “что всякую попытку ограничить самодержавие в настоящее время в России, мы считаем делом безумным, потому что оно невозможно , а если бы оно и было возможно, то назвали бы его бедствием и преступлением против народа” (62). А.С. Хомяков неоднократно подчеркивал, что право — “мнимая наука” и не находил “законности истинной в формальном призраке законности” (63). Максималист К.С. Аксаков по этому вопросу высказывался еще более радикально: “Гарантия не нужна! Гарантия есть зло. Где нужна она, там нет добра <…> Вся сила в нравственном убеждении. Это сокровище есть в России, потому что она всегда в него верила и не прибегала к договорам”(64) И.В. Киреевский, по сути дела, отрицал для России возможность частной собственности на землю: “<…>Все здание западной общественности стоит на развитии <…> личного права собственности. В устройстве русской общественности личность есть первое основание, а право собственности только ее случайное отношение. <…> Одним словом, безусловность поземельной собственности могла являться в России только как исключение. Общество слагалось не из частных собственностей, к которым приписывались лица, но из лиц, которым приписывалась собственность” (65). Мнение Киреевского разделяли и другие члены кружка. “Верховное право собственности на землю принадлежит в России государству — с этим выводом согласны все славянофилы. Он означал признание условности права частной собственности, что противоречило классическим представлениям европейского либерализма”, — это вынужден констатировать даже Н.И. Цимбаев (66). Конечно, время не могло не сместить некоторые акценты в славянофильской идеологии. И.С. Аксаков, например, во многом пересмотрел свое отношение к Великим реформам Александра II, в которых славянофилы, как известно, приняли самое горячее участие. Уже 22 марта 1881 г. издатель “Руси” заявил в своей речи в Петербургском Славянском обществе: “Мы подошли к самому краю бездны. Еще шаг в том направлении, в котором мы двигались до сих пор — и кровавый хаос!” (67) “<…>Вредная сторона преобразований минувшего царствования , — доказывал он два месяца спустя, — заключается в параллельной с ними слабости национального самосознания в самом правительстве, и еще более в образованном русском обществе; в том, что они совершались большею частью (кроме наделения крестьян землею) в духе европейского либерализма <…> Другими словами: как <…> уступки <…> так называемой интеллигенции, — а не как созидание истинной <…> жизненной русской свободы <…>” (68). Еще более жестко тот же тезис был сформулирован Аксаковым в письме к Д.Ф. Самарину (20—22 апреля 1885 г.): “Общий <…> характер реформ Александра II, кроме эманципации крестьян, запечатлен был характером европеизма и либерального доктринерства” (69). А.А. Киреев также был убежден, что Александр II много “нагородил либеральной чепухи” (70). Более того, размышляя о трагической гибели императора, он записывает в своем дневнике: “Это злодеяние было счастием <…> для России (уберегши нас <…> от дальнейших конституционных поползновений) <…>”; “<…> страшно вымолвить, а не погибни Царь именно в этот день и час, — у нас была бы теперь узаконенная анархия <…>” (71). Резко отрицательной становится оценка И.С. Аксаковым деятельности земского движения: он соглашается с тем, что недоверие правительства к последнему “оправдано самой действительностью, и пуще всего — всеобщим <…> недоверием самого населения!” Современное земство, хотя и не нужно “уничтожать”, но необходимо “преобразить”,– считал вождь поздних славянофилов (72). Как отмечает Н.И. Цимбаев, “по вопросу об отношении к либеральному земскому движению произошел окончательный разрыв его (И.С. Аксакова. — С.С.) с последним из оставшихся в живых славянофилов А.И. Кошелевым” (73). Действительно, уже в августе 1881 г. Аксаков констатирует в письме к Д.Ф. Самарину, что Кошелев “положительно приписался к противоположному стану” (74). Отметил этот разрыв и А.И. Кошелев в своих мемуарах: “Мне особенно неприятны были выходки Аксакова против либералов, против правового порядка, земских учреждений, новых судов и пр. Этим он становился явно против нас, сторонников предпринятых реформ, и как бы под знамя Каткова <…>” (75). Естественно, что Н.И. Цимбаев пытается доказать, что в данном споре классическому славянофильству остался более верен Кошелев: “Общественно-политическая эволюция Аксакова не была характерна для большинства бывших славянофилов, чьи убеждения до конца жизни оставались умеренно-либеральными” (76). Но справедливо ли это? Не вернее ли будет сказать, что Кошелев, отойдя от славянофильства, просто влился в общий поток либерального движения, о чем он сам, кстати, весьма откровенно написал: “<…> Я был глубоко убежден, что пора так называемых славянофильства и западничества безвозвратно миновала; <…> что теперь все разумные наши соотечественники более или менее глубоко сознают необходимость изучать свое, развивать его и им проникаться, но вместе с тем отнюдь не чуждаться того, что выработано народами, предупредившими нас на поприще общечеловеческого быта и образования. <…> Писались им (Аксаковым. — С.С.) статьи и высказывались мнения, которые отзывались каким-то отжившим славянофильством. <…> И.С. Аксаков <…> проповедовал в своей “Руси” какой-то странный возврат к самобытности <…>” (77). Но разве “возврат к самобытности” — не центральная идея классического славянофильства (сам же Кошелев считал, что славянофилов правильнее было бы называть “самобытниками”(78)), разве Хомяков, Иван Киреевский и Константин Аксаков не допускали выходок “против либералов” и “правового порядка”? Вопреки утверждению Н.И. Цимбаева, кошелевский случай как раз единичен, люди близкие к славянофильскому кружку, вроде того же Д.Ф. Самарина или В.И. Ламанского, остались в аксаковском лагере. Не говорим уже, о кошелевской идиллической картине общественной и интеллектуальной жизни России конца 1870-х гг., о якобы полном примирении “самобытников” и “европеистов”. Достаточно вспомнить неудачную попытку Ф.М. Достоевского объединить тех и других своей Пушкинской речью, вызвавшей, напротив, ожесточенные споры в русской печати. Особо нужно подчеркнуть, что Кошелев никогда не являлся теоретиком, занимаясь в основном практической, прикладной работой, а потому вряд ли его эволюцию можно считать более адекватной логике развития славянофильства, чем эволюцию Аксакова — признанного идеолога движения в пореформенную эпоху. Другой весьма значительный сдвиг в мировоззрении И.С. Аксакова произошел по отношению к сословному вопросу. Некогда страстный пропагандист бессословности, призывавший дворянство к самоупразднению, он в 1880-х гг. вынужден был признаться: “Мы слишком теоризировали, отрицая явления исторической жизни и быта — в образе сословий <…>” (79). В 1884 г. Аксаков публикует статью с “говорящим” названием “О непригодности применения принципа всесословности к русской жизни”, в которой настаивает на том, что “земщина — это не просто множество личных верноподданных единиц, где просто количественная сумма отдельных индивидуумов: это целый бытовой разнообразный строй со множеством разветвлений, разрядов и групп. Стало быть, раз он признается, раз эти так называемые, положим, "сословия" существуют, — государство не имеет права не признавать, игнорировать их и вводить насильственно начало бессословности, чуждое жизни <…>” (80). Аксакова поддерживал А.А. Киреев: “Граждане без сословий — что растения без почвы <…> Соборное начало, земское, было сословное, а совсем не то, на котором основано земство современное” (81). Очевидное “поправение” Аксакова в 1880-х гг. сблизило его позиции по некоторым вопросам с позицией М.Н. Каткова настолько, что тот же Киреев (пожалуй, наибольший “консерватор” из всех поздних славянофилов) счел возможным записать в своем дневнике следующее: “ <…> Аксаков и Катков считают себя противниками, а между тем, и вся Россия, и в особенности весь Славянский мир вполне понимают, что они служат тем же самым идеалам, преследуют те же самые цели, <…> а им кажется, что они противники, потому что Акс[аков] желал бы, чтобы Государь поскорее собрал совет земли, <…> а Катков думает, что из этого ничего теперь путного не выйдет”; “<…>Аксаков верит более обществу, нежели правительству, Катков — наоборот, <…> но оба они за православие, за народность, за самодержавие, за освобождение крестьян, оба враги парламентаризма, враги “интеллигентов”, адвокатов, мироедов <…>” (82). Конечно, Киреев чересчур замазывает принципиальные противоречия между двумя столпами русского традиционализма, но то, что они оба относятся к одному идейному лагерю (хотя и к разным его флангам) он отметил совершенно верно. Другие славянофилы конца XIX в. не заходили так далеко в сближении с Катковым и “катковцами”, скорее наоборот, открещивались от них. Но, например, С.Ф. Шарапов, в статье, посвященной 10-летию кончины издателя “Московских ведомостей”, наряду с критикой в адрес покойного, позволил себе и такое метафорическое сравнение: “<…> русский ум нашел своего выразителя в Гилярове-Платонове, чувство в Аксакове, воля в Каткове” (83). Ничего подобного никто из славянофилов не написал ни о ком из виднейших либеральных идеологов. Но дело, в конце концов, не в “поправении” Аксакова и не в комплементах Киреева и Шарапова в адрес Каткова. Это все-таки частности. Славянофильство по самой своей сути никогда не было либеральным учением. Даже самый “левый” из поздних славянофилов (наряду с А.В. Васильевым) Н.П. Аксаков, принципиальный сторонник бессословности, напрочь отвергавший возможность какого-либо соглашения с “ретроградствующим консерватизмом” (т.е. с консервативным традиционализмом), совершенно четко и ясно отмежевывал славянофильство и от либерализма. Он подчеркивал, что сходство двух этих учений “выражается в частностях, более или менее крупных, программы, а не в исходных положениях и духе. <…> Мы <…> радикально противоположны ему по духу, по исходным положениям, а может быть, и по конечным целям” (84). Основное различие между славянофилами и либералами Н.П. Аксаков видел в том, что первые ставят в центр своей идеологии понятие “народ”, а вторые — “личность” (85). Думается, что ему действительно удалось обозначить главный водораздел между двумя мировоззрениями… И здесь, нам кажется, вполне уместно и даже необходимо небольшое отступление для того, чтобы определить: что же такое либерализм в принципе. Мы не имеем возможности разбирать этот вопрос подробно и потому обратимся к авторитетному исследованию проблемы — монографии В.В. Леонтовича о русском либерализме. Вот как описывается там сущность либеральной идеологии: “Либерализм — система индивидуалистическая, дающая человеческой личности и ее правам превосходство надо всем остальным. Однако, либеральный индивидуализм не абсолютен <…> в отличии от анархизма, <…> либерализм требует создания объективного правового государственного порядка, противостоящего воле отдельных людей и связывающего ее. <…> Тем не менее, это — индивидуалистическая система , потому что отдельный человек, личность стоит на первом месте, а ценность общественных групп или учреждений измеряется исключительно тем, в какой мере они защищают права и интересы отдельного человека и способствуют осуществлению целей отдельных субъектов <…> Либерализм провозглашает незыблемость частной собственности перед лицом государственной власти, потому что в ненарушимом обладании благами, принадлежащими отдельным лицам, он видит самую действенную гарантию возможности для отдельного человека спокойно преследовать свои цели и развивать свои способности” (86). Итак, три кита либерализма — это автономная личность, правовой порядок и частная собственность. А, как замечает В.В. Леонтович, “суть либерализма в России была совершенно тождественна с сутью западного либерализма” (87). Думается, мы привели достаточно цитат из сочинений идеологов славянофильства для обоснования следующего тезиса: каждый член либеральной триады не только не был для них безусловной ценностью, но скорее даже представлял собой антиценность. Добавим лишь еще одно очень характерное высказывание К.С. Аксакова по поводу главного элемента “индивидуалистической системы”: “Личность дана человеку с тем, чтоб он сознательно и свободно победил ее в себе и нашел для нее центр не в ней самой, а в Боге. Начало личности есть грешное начало, как скоро личность служит себе, и становится высоким подвигом, как скоро личность отрекается от себя и служит не себе, а отказывается от себя, полагая центр не в себе, а в истине и любви братской, и образует общество. <…> Личность отказывается здесь от своего эгоизма и находит себя уже не как отдельная личность, а как любовная совокупность личностей; переставая быть центром, личность становится одним из лучей, согласно истекающих из общего любовного союза, невидимый центр которого в Боге. Он один, и только Он — один” (88). Трудно вообразить себе что-либо более далекое от либерального понимания общества как компромисса между борющимися индивидуальными эгоизмами, чем эта апология растворения личности в общности! Складывается впечатление, что тезис о либеральной сущности славянофильства основывается в большей степени не на научном анализе, а на неких околонаучных предрассудках, первый из которых — расплывчатое, расширительное понимание либерализма. Характерно, что тот же Н.И. Цимбаев нигде не дает его четкого и ясного определения. Да, славянофилы требовали отмены крепостного права и свободы слова, но сводится ли к этому либерализм и, главное, сводится ли к этому славянофильство? Если же мы согласимся с определением В.В. Леонтовича (которое не есть какое-то его личное изобретение, а, скорее, общее место в мировом обществоведении), то нам ничего иного не остается как согласиться с вышеприведенным утверждением Н.П. Аксакова, что либерализм и славянофильство сходятся лишь “в частностях”. Н.И. Цимбаев неоднократно говорит о своеобразии, “нетрадиционности” славянофильского либерализма (89), но почему-то не показывает, — в чем это своеобразие состоит, вернее, последнего оказывается настолько много, что либерализма в нем разглядеть не удается. Если Цимбаев не согласен с классическим пониманием либерализма, пусть сформулирует свое, в рамки коего славянофильство бы вписывалось не только “частностями”, но и основой… Думается, что есть и еще одна “околонаучная” причина настойчивого отождествления славянофильства с одной из форм либерализма! Такое отождествление в свое время помогало снять со славянофильства идеологические ярлыки (“реакционеры”, “крепостники” и т.д.), облегчало изучение и издание их наследия. В середине 1980-х гг. как тактика этот подход был весьма полезен, но сегодня в подобной тактике нет необходимости, тем более нет нужды превращать ее в единственно верную стратегию. Следует отметить, что далеко не все специалисты по истории русской общественной мысли соглашались и соглашаются с “либерализацией” славянофильства. Еще в 1882 г. был издан серьезный труд П. Линицкого, специально посвященный данной проблеме, где автор решительно разводит политические идеалы славянофилов и либералов (90). Не считает славянофилов либералами и современный знаток русской общественной мысли Б.Ф. Егоров, по его мнению, о близости славянофилов либеральным западникам можно говорить только применительно к периоду подготовки крестьянской реформы (91). В одной из своих последних работ, посвященных славянофильству, Б.Ф. Егоров рассматривает его как консервативную (традиционалистскую) идеологию и находит в нем много общего с японским традиционализмом (92). Ряд возражений против причисления славянофилов к либеральному лагерю выдвинут в статьях З.В. Смирновой и В.А. Китаева. По мнению З.В. Смирновой, “идеализация патриархального типа общественных связей, отрицательное отношение к буржуазной собственности и политическим и правовым принципам буржуазного общества, противопоставление "органических" начал жизни "искусственным", рационалистическим — все это свидетельствует в пользу взгляда на славянофильство как на консервативно-патриархальную утопию, вариант общеевропейского протеста против утверждающегося буржуазного общества и просветительской идеологии. Несомненное наличие в славянофильстве либеральных мотивов и тенденций, связанных с антикрепостнической позицией, не меняет этой его сущности”, — подчеркивает исследовательница (93). В.А. Китаев отстаивает позицию, “которая предполагает наличие в славянофильстве наряду с либеральной линией второй, консервативно-утопической <…> Она (позиция. — С.С.) достаточна широка, чтобы без всяких оговорок рассматривать в границах одного идейного течения наиболее последовательных выразителей двух этих тенденций: либерала Кошелева и антибуржуазных утопистов К. Аксакова, И. Киреевского и позднего И. Аксакова. <…> Утопистов-оппозиционеров и либералов, склонных к социальноутопическим построениям, могли соединять только относительно бесспорные для обеих сторон элементы утопии. Соединительными звеньями были также неприятие крепостного права и протест против всесилия бюрократической государственности. Но ни то, ни другое не предполагало в качестве неизбежного следствия развитие буржуазных институтов и отношений” (94). Но, пожалуй, наиболее развернутая и аргументированная критика идеи о либеральной сущности славянофильства содержится в капитальной монографии польского историка русской мысли А. Валицкого “В кругу консервативной утопии: Структура и видоизменения русского славянофильства”, которую справедливо называют лучшим зарубежным исследованием поставленной в заголовок темы (впрочем, и в отечественной историографии мало что можно с ней поставить рядом). Она вышла в свет еще в 1964 г. (т.е. за двадцать с лишним лет до появления книги Н.И. Цимбаева) и лишь в 1991-1992 гг. был осуществлен ее сокращенный перевод на русский язык. Для А. Валицкого славянофилы — консерваторы, что видно уже из названия его работы. Свой вывод он подтверждает тщательным и разноплановым научным анализом. Оригинальна и плодотворна, например, приведенная им параллель между историософией И.В. Киреевского и концепцией немецкого социолога Ф. Тенниса, в которой сопоставляются два типа человеческого общежития: “Gemeinschaft” ("община") и “Gesellschaft” ("общество"). Это сопоставление “почти полностью совпадает со славянофильской антитезой России и Европы, народа и "общества", христианской цивилизации и рационалистической цивилизации” (95). Совпадает оно, добавим мы, и с принятой в культурологии дихотомией: традиционное и современное общество. Еще К. Манхейм утверждал, что консерватизм — это защита “Gemeinschaft” от “Gesellschaft” (96). “На примере Киреевского, — пишет А. Валицкий, — этот тезис <…> подтверждается во всей своей полноте” (97). “Либерализм” К.С. Аксакова польский ученый именует “архаическим” и подчеркивает, что он является “либерализмом <…> в самом общем, туманном смысле этого слова; с либерализмом как исторически определенным общественным мировоззрением, мировоззрением буржуазным (выделено автором. — С.С.), он, в сущности, не имел ничего общего” (98). Свой тезис А. Валицкий подкрепляет подробным разбором аксаковской записки “О внутреннем состоянии России”, отмечая, что в ней критика бюрократизма ведется “с консервативных позиций” и “сочетается с романтической идеализацией архаических институтов и старых, дорациональных форм общественного сознания” (99). Любопытно также наблюдение Валицкого о схожести славянофильского требования созыва Земского Собора с требованием созыва сословного парламента с правом совещательного голоса у немецких консерваторов 1830-х гг. (100) Наконец, выделяя наиболее существенные расхождения между славянофилами и западниками, исследователь подчеркивает, что “внутренняя логика славянофильской мысли вела к отрицанию капиталистического пути развития России; западничество как структура мышления влекло за собой одобрение буржуазного пути развития” (101). Н.И. Цимбаев, конечно же, знает книгу Валицкого и даже цитирует ее в своей монографии о славянофильстве, но мысль польского коллеги о том, что “архаический либерализм” славянофилов не имел ничего общего с классическим либерализмом он отвергает с порога, не затрудняя себя хотя бы мало-мальскими аргументами: “Такое мнение следует признать односторонним, оно не учитывает реальной действительности России середины XIX в.” (102) — вот и вся аргументация… Нам представляется, что трактовка славянофильства как варианта либерализма не выдерживает серьезной критики. Можно (и даже нужно) признать в этом направлении русской общественной мысли либеральные тенденции, но в своей сущности, в своем идейном ядре, славянофильство (как классическое, так и позднее) есть, конечно, одна из форм традиционализма. Причем, традиционализма творческого. ПРИМЕЧАНИЯ 1. Цимбаев Н.И. Славянофильство. М., 1986. С.88. 2. Милюков П.Н. Славянофильство // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза — И.А. Ефрона. Т.30. СПб., 1900; Он же. Разложение славянофильства // Он же. Из истории русской интеллигенции. СПб., 1903. 3. Флоровский Г.В. Вечное и преходящее в учении русских славянофилов // Он же. Из прошлого русской мысли. М., 1998. С. 45, 50. 4. Дмитриев С.С. Славянофилы и славянофильство // Историк-марксист. 1941. № 1. С. 89. 5. Славянофильство и западничество: Консервативная и либеральная утопия в работах Анджея Валицкого // Реферативный сборник. Вып. 1. М., 1991. С. 21. 6. См.: Дьяков В.А. Славянский вопрос в общественной жизни дореволюционной России. М., 1993. С. 25. 7. Дудзинская Е.А. Славянофилы в пореформенной России. М., 1994. С. 15. 8. Хевролина В.М. Идея славянского единства во внешнеполитических представлениях поздних славянофилов (конец 1870 — сер. 90-х гг.XIX в.) // Славянский вопрос: Вехи истории. М., 1997. С. 90, 92, 99. 9. См.: Пеунова М.Н. Неославянофильство // История философии в СССР. Т.3. М., 1968; Голосенко И.А. Социальная философия неославянофильства // Социологическая мысль в России. Л., 1978. 10. Конягин М.Ю. С.Ф. Шарапов: Критика правительственного курса и программа преобразований. Конец XIX — начало ХХ века: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 1995. С.1, 2, 6. 11. Цимбаев Н.И. Указ.соч. С. 39. 12. Там же. С. 40, 43, 254. 13. Там же. С. 31. 14. Хомяков А.С. О старом и новом. М, 1988. С. 155-156. 15. Цит. по: Егоров Б.Ф. О национализме и панславизме славянофилов // Из истории русской культуры. Т.5. (XIX в.). М., 1996. С. 500. 16. См.: Там же. С. 498-500. 17. Цимбаев Н.И. Указ. соч. С. 108-109. 18. Цит. по: Цимбаев Н.И. И.С.Аксаков в общественной жизни пореформенной России. М., 1978. С. 69. 19. Дмитриев С.С. Указ. соч. С. 88. 20. См. Штакельберг Ю.И. Киреев А.А. // Словарь русских писателей. 1800-1917.- Т. 2. М., 1992. С. 532. 21. См. Цимбаев. Н.И. Славянофильство… С. 45-46. 22. См. Егоров Б.Ф. Указ. соч. С. 502-503. 23. Свящ. Павел Флоренский. Соч. в четырех томах. Т.2. М., 1996. С. 342. 24. Аксаков И.С. Полн. собр. соч. Т.4. М., 1886. С. 221. 25. РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 188. Л. 6 об. 26. Дмитриев С.С. Указ. соч. С. 96, 95. 27. Дудзинская Е.А. Славянофилы в общественной борьбе. М., 1983. С.59. 28. Цимбаев Н.И. Указ. соч. С. 240. 29. Васильев Аф. Миру — народу мой отчет за прожитое время. Пг., 1908. С. 141, 143, 144. 30. Цимбаев Н.И. Указ. соч. С. 121. 31. Аксаков Н.П. О народности и русской народности по преимуществу: Письмо к приятелю // Благовест. Вып. 41. С. 1439. 32. Там же. Вып. 44. С. 1593. 33. Русский труд. 1897. № 10-11. С.11. 34. А.К.[Киреев А.А.]. Избавимся ли мы от нигилизма? СПб., 1882. С. 23 35. НИОР РГБ. Ф. 126. К.10. Л.184 об. 36. Цит. по: Цимбаев Н.И. И.С.Аксаков в общественной жизни … С. 251-252. 37. Шарапов С.Ф. Соч. Кн. 3. СПб., 1899. С.14. 38. Леонтьев К.Н. Моя литературная судьба // Литературное наследство. Т. 22-24. М., 1935. С. 446. 39. См. Цимбаев Н.И. Славянофильство… С. 117. 40. Леонтьев К.Н. Избранные письма. СПб., 1993. С. 362. 41. Аксаков И.С. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 25. 42. Там же. С. 183. 43. Там же. Т. 2. С. 571. 44. Там же. Т. 1. С. 454. 45. ГАРФ. Ф. 730. Оп.1. Ед. хр. 2258. Л. 17. 46. Киреев А.А. Соч. Ч. 2. СПб., 1912. С. 181. 47. Он же. Избавимся ли мы от нигилизма? … С. 25. 48. НИОР РГБ Ф. 126. К. 9. Л. 203. 49. Шарапов С.Ф. Самодержавие и самоуправление. Берлин, 1899. С. 7-8. 50. Аксаков И.С. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 37. 51. Там же. С. 462. 52. НИОР РГБ. Ф. 126. К. 9. Л. 173 об. 53. Там же. К. 10. Л. 75. 54. Шарапов С.В. Указ. соч. С. 40. 55. Аксаков И.С. Указ. соч. С. 546. 56. НИОР РГБ Ф. 126. К. 9. Л. 42, 37 об., 203. 57. Аксаков И.С. Указ. соч. С. 156. 58. Там же. С. 120-121. 59. Киреев А.А. Краткое изложение славянофильского учения. СПб., 1896. С. 37,38,59. 60. НИОР РГБ. Ф. 126. К. 9. Л. 202 об. 61. Цит. по: Цимбаев Н.И. Славянофильство… С. 157. 62. Самарин Ю.Ф. Статьи. Воспоминания. Письма. М., 1997. С. 157. 63. Хомяков А.С. Указ. соч. С. 118, 124. 64. Аксаков К.С. Полн. собр. соч. Т. 1. М., 1861. С. 9-10. 65. Киреевский И.В. Критика и эстетика.- Изд. 2-е. М., 1998. С. 301-302. 66. Цимбаев Н.И. Указ. соч. С. 170. 67. Аксаков И.С. Указ. соч. С. 26. 68. Там же. С. 64-65. 69. НИОР РГБ. Ф. 265. К. 181. Ед. хр. 14. Л. 208. 70. Там же. Ф. 224. К.1. Ед. хр. 64. Л. 125 об. 71. Там же. Ф. 126. К. 10. Л. 80; К.11. Л.75 об. 72. Аксаков И.С. Указ. соч. С. 578. 73. Цимбаев Н.И. И.С. Аксаков в общественной жизни… С. 250. 74. НИОР РГБ. Ф. 265. К. 181. Л. 98. 75. Записки А.И. Кошелева // Русское общество 40-50-х годов. Ч. 1. М.,1991. С.192. 76. Цимбаев Н.И. Славянофильство… С. 91. 77. Записки А.И. Кошелева… С. 192, 195. 78. Там же. С. 92. 79. Цит. по: Цимбаев Н.И. И.С.Аксаков в общественной жизни… С. 254. 80. Аксаков И.С. Указ. соч. С. 559. 81. НИОР РГБ. Ф.126. К. 10. Л. 72,73 об. 82. Там же. К. 9. Л. 198 об. — 199; К.10. Л.151 об. 83. Русский труд. 1897. № 30. С. 1. 84. Аксаков Н.П. Указ. соч. // Благовест. Вып. 41. С. 1440, 1441. 85. Там же. С. 1440. 86. Леонтович В.В. История либерализма в Росси. М., 1995. С. 3-4. 87. Там же. С. 3. 88. Аксаков К.С. Эстетика и литературная критика. М., 1995. С. 435, 437. 89. См. напр.: Цимбаев Н.И. Славянофильство… С. 232. 90. Линицкий П. Славянофильство и либерализм. Опыт систематического обозрения того и другого. Киев, 1882. 91. Егоров Б.Ф. Борьба эстетических идей в России середины XIX в. Л., 1982. С. 103. 92. Он же. Некоторые особенности русских славянофилов на фоне японского традиционализма // Из истории русской культуры. Т.5. С. 476-479. 93. Смирнова З.В. К спорам о славянофильстве // Вопросы философии. 1987. № 11. С.125. 94. Китаев В.А. Славянофильство и либерализм // Вопросы истории. 1989. № 1. С.142143. 95. Славянофильство и западничество: консервативная и либеральная утопия в работах Анджея Валицкого … Вып.1. С. 124. 96. Манхейм К. Консервативная мысль // Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994.С. 587. 97. Славянофильство и западничество… Вып.1. С.130. 98. Там же. Вып. 2. С. 60. 99. Там же. С.73. 100. Там же. С. 198. 101. Там же. С.185. 102. Цимбаев Н.И. Указ. соч. С. 119. 2.3 ПОЗДНЕЕ СЛАВЯНОФИЛЬСТВО В КОНТЕКСТЕ ТВОРЧЕСКОГО ТРАДИЦИОНАЛИЗМА Тезис о самобытном культурно-историческом пути России был для славянофилов (как классических, так и поздних), что называется, общим местом: с него, собственно, и начинается славянофильство как идеология, оно же впервые и разработало его в русской мысли с достаточной глубиной и детальностью. Неоднократно обращался к этой теме в своей публицистике 1880-х гг. И.С. Аксаков. “Что же противополагается романо-германской Европе или Западу в лице России? — вопрошает он в статье "Всемирно-историческое призвание России" (1884), и тут же дает ответ, — Мир православно-восточный, или Славянство — возросшее до значения православно-восточного мира” (1). В другой статье того же года Аксаков утверждает, что “Россия призвана явить новый культурный исторический тип, который примирит в себе и Восток и Запад на основе православнославянской” (2). Главная задача русских, по мнению лидера позднего славянофильства, "быть самими собой" (3). Споря и с либеральными западниками, и с консервативными традиционалистами, издатель “Руси” настаивает на том, что “единый истинно-либеральный, прогрессивный, и в то же время единый охранительный для России путь — есть <…> путь национально-исторический” (4). “<…> Народность, — подчеркивает Аксаков, — <…> есть целое органическое начало жизни, объемлющее собою все ее отправления, государственные и бытовые. Народность — есть то же самое, что в отдельном человеке личность, но вмещающая в себе более широкое содержание <…>, живущая в веках и в пространстве, во множестве единиц составляющих один общий цельный духовный организм. Это та непосредственная самобытность, которая нисколько не враждует ни с просвещением, ни со знанием общечеловеческим, но без которой немыслимо плодотворное усвоение никакого просвещения и никакого знания” (5). Так же трактует “истинный прогресс” и А.А. Киреев: “"Прогресс" мы признаем, но не по западному шаблону; мы понимаем его в смысле постоянного развития и применения к жизни наших основоположений <…>” (6). Поздние славянофилы в целом удовлетворялись уровнем разработки идеи самобытности России у своих классиков (прежде всего, у А.С. Хомякова и К.С. Аксакова) и отчасти у Н.Я. Данилевского. Поэтому специальных теоретических ее исследований у них почти нет; как мы уже говорили, она для них представляла общее место и не нуждалась в доказательствах. В качестве исключения можно назвать научный труд В.И. Ламанского “Три мира АзийскоЕвропейского материка” (1892), последнее крупное историософское сочинение славянофильской школы в XIX в. Ученый предложил следующее деление “АзиатскоЕвропейского материка”: 1) “собственно Европа”, 2) “собственно Азия” и 3) “средний мир”, который характеризуется Ламанским как “греко-славянский” и включает в себя все славянские и православные народы во главе с Россией (7). 2. В § 2 мы уже приводили немало высказываний славянофильских идеологов, свидетельствующих об их неприятии современной им западноевропейской цивилизации или отдельных ее сторон. Это, собственно, еще одно общее место славянофильства. “Мы думаем, что то, что вообще на Западе называется "прогрессом" <…> есть упадок созидательных сил и приближение к смерти <…>”,- заявлял А.А. Киреев (8). Он же именует в своем дневнике Европу XIX в. “цивилизацией демократического варварства”, а Францию — “современным Карфагеном” (9). И.С.Аксаков клеймит европейцев как “цивилизованных мещан” (10). Западное общество, по его мнению, “христианское”, но “отрекшееся от Христа” и потому его “окончательный удел <…> — бунт или революция” (11). Парламентаризм, считает он, даже “и на материке Европы является до сих пор неудачной копией” английского “оригинала”, а уж славянам тем более “приличиствует <…> как корове седло” (12). С.Ф. Шарапов видит принципы, враждебные “русскому направлению” в таких важнейших идейных основах либерально-буржуазного общества как “атеизм, парламентаризм, космополитизм” (13). 3. Понимание славянофилами формулы “Православие, Самодержавие, Народность” принципиально отличалось от ее официальной интерпретации, но саму эту триаду они признавали безусловно. И.С. Аксаков писал, что сам по себе “девиз :”православие, самодержавие и народность” вполне истинный<…>” (14). А.А. Киреев отстаивал “Православие, понимаемое как сумма его (русского народа. — С.С.) этических взглядов, самодержавие, как выражение его взглядов политических — и то, и другое неразрывно и органически связанное с русской народностью, которая служит им сферой действия,и которой они служат высочайшим выражением!” (15) С.Ф. Шарапов выделял “три основных принципа”, “сгруппированных в одно знамя”, которые “одинаково приемлются самыми разнообразными органами печати так называемого р у с с к о г о направления”: “церковный — православие, политический — самодержавие и культурный — народность” (16). Он же хвалил А.В. Васильева за то, что ему “принадлежит заслуга весьма точной формулировки положений учения, которое можно по всей справедливости считать русским народным. <…> Таких основных положений три: 1) Церковь (православие). 2) Русская государственность (самодержавие). 3) Славянство (народность)” (17). Д.А. Хомяков видел “великую заслугу” Николая I и С.С. Уварова в том, что “они определительно избрали девизом России эту трехсоставную формулу <…>” (18). Славянофилы постоянно подчеркивали приоритетность для них Православия в “уваровской” триаде. И.С. Аксакову “Россия представляется”, в первую очередь, “наиболее пока широким историческим сосудом для вмещения в наибольшей полноте жизненной христианской истины”; Православие является “существенным содержанием русского национального типа” (19). Для С.Ф. Шарапова Россия — “хранительница и защитница святыни православия, центр и сила православной системы народов” (20). Наиболее четко данный вопрос трактует А.А. Киреев, декларировавший, что “каждый из нас, православных, сознает и чувствует себя во-первых сыном своей Церкви, а затем уже подданным своего государства <…>” (21), что “русский человек более, первее христианин и сын православной церкви, нежели гражданин русского государства” (22). 4. В представлении славянофилов практически вся внутренняя политика Романовых, начиная с Петра I, носила антитрадиционный характер. Поэтому они призывали к радикальной “ликвидации Петровского переворота” путем “сознательного отречения от иностранного пути” и “возвращения на прежний, оставленный русский путь”. Особо подчеркивалось, что это “вовсе не означает возвращения ко всем внешним старым формам жизни” (23). Тем более что, по мысли Аксакова “в нашей старине, вместе с отпорам новизнам, чуждым русскому народному духу, таятся и действительные условия истинного прогресса <…>” (24). Современную ему государственную систему издатель “Руси” не считал подлинным самодержавием и характеризовал как “систему полицейско-канцелярской диктатуры или иностранного цезаризма в сослужении “православия” и “народности”, причем последние являлись только орудиями служебными, почему и искажались в своем существе” (25). Отрицание “петербургского периода” было для Аксакова выражением “известного диалектического закона”, по которому “к положительному <…> можно возвратиться только через отрицание самого отрицания <…>” (26). Иван Сергеевич отмечал, что “в наше время <…> нет более досуга ни места тому органическому, долгому, так сказать бессознательному, историческому процессу творческой самодеятельности <…>: нам и ждать некогда, и работа анализа и вообще сознания слишком возбуждена; волей-неволей приходится сразу определять формы — и в то же время не доверять им! <…> в тех случаях, где органический процесс сокращен, где непосредственность постепенного развития упразднена историческими судьбами <…> люди, утратив истину, возвращаются к ней процессом сознания <…>” (27). “Положение России, — полагал он, — требует теперь не мелкого делания, а крупного — меры решительной, такой, которая разом бы перевернула все общественное настроение, подняла дух всей страны; открыла бы новую историческую эру для России <…>” (28). “Наша несчастная современность, — писал С.Ф. Шарапов, — которую всеми силами охраняют “консерваторы”- да куда же она годится?” (29) “<…> можно ли защищать существующее!” — вторил ему А.А. Киреев, возмущавшийся тем, что “консерватизм отождествляется с охранением всего существующего”, а последнее он представлял отнюдь не в радужных тонах: “<…> вместо православия видишь консисторию Константина Петровича [Победоносцева], вместо самодержавия видишь чиновника и городового, вместо народности пьяного мужика” (30). “Мы должны п о н я т ь , что мы на перепутьи <…> — указывал Киреев,- нам придется выбирать, идти ли в “парламент” или возвратиться “домой”. <…> Среднего пути нет, а стоять на месте — тоже нельзя — другие, враги обойдут!” (31) По его мнению, русский вопрос “заключается в радикальной переработке всего нашего общества <…>” (32), но “в смысле наших традиционных начал” (33). 5. Признавая Православие духовной основой России, славянофилы естественно видели в Церкви важнейший элемент социально-политической системы империи. “Самодержавие терпимо и благотворно (лучшая форма правления), — записал в своем дневнике А.А. Киреев, — когда оно соединено с Церковью (органически) <…> Царю — власть, народу — мнение, но и то и другое под влиянием Церкви, носительницы религиозной истины и несокрушимых вечных идеалов” (34). Но реальное положение Церкви в конце XIX в. было не просто далеким от этого идеала, оно казалось славянофилам прямо-таки катастрофическим. Несмотря на то, что “Россия осталась православною, Православная церковь признана господствующей, — отмечал И.С. Аксаков, — <…> ее функции, как учреждения, были извращены: она взята была в казну, низведена на степень одного из официальных “ведомств”, облечена в мундир, разрознена с общественной жизнью страны, почти парализована в своих силах…” (35). “<…> благодаря ложному положению Русской церкви <…> голос ее почти не слышен, не авторитетен, по видимому не властвует над душами. Вот где наше современное зло и где корень, разъедающего нас недуга!” (36) — сетовал издатель “Руси”. “<…> в своем нынешнем состоянии русская Церковь — продолжал мысль “учителя” С.Ф. Шарапов, — уже не является в жизни русского народа тою могучею, светлою силою, какою была во все предшествовавшие периоды русской истории, <…> вместо побед она отмечает лишь поражения…” (37) Способом лечения этого “недуга” славянофилы считали освобождение Церкви от государственной опеки. “<…> нужно прежде всего снять с церкви давление государственной стихии, — призывал И.С. Аксаков, — возвратить Церкви свободу внутренней жизни, как самоопределяющемуся организму” (38). “Церковь наша, — конкретизировал А.В. Васильев, — должна вернуться к прежнему каноническому, допетровскому строю! Восстановление патриаршества, обращение к соборному началу, возобновление деятельного и живого общения с другими Православными Церквами оживят и одухотворят и нашу церковную жизнь, исцелят многие наши общественные язвы и, быть может, восстановят духовную цельность Русского народа и всего Православного Востока” (39). 6. Одной из центральных славянофильских идеологем было восстановление якобы существовавшей в допетровской Руси прямой связи между монархом и народом. И.С. Аксаков писал о том, что власти нужно “искать <…> опоры <…> в непосредственном единении с Русским народом” (40). Земское и “государственное” начала, по его мнению, “начала взаимно восполняющие друг друга, тесно связанные между собою единством нравственным, взаимною любовью и верою, — только со времен Петра разъединенные господством иностранных воззрений и ждущие только благоприятных условий для нового, совместного плодотворного развития” (41). О необходимости участия народа в делах управления страной говорил и А.А. Киреев: “<…> бывают такие минуты, когда и самое сильное правительство нуждается в помощи народа, которым оно призвано управлять <…>” (42). Такое участие должно придавать правительству “необыкновенную устойчивость, последовательность и крепость” (43). С.Ф. Шарапов полагал, что царь должен опираться не на бюрократию, а на “ряд живых общественных самоуправляющихся земских организмов” (44). 7.Славянофилы понимали разработку теоретических основ национального бытия как первоочередную задачу, стоящую перед русским обществом. “России нужнее всего теперь напряженный труд мысли <…>” (45), “<…>скучать рассуждениями о принципах у нас еще рано” (46), — утверждал И.С. Аксаков. Он довольно зло иронизировал над безыдейностью правительственной политики: “В Петербурге так и кишит "практическая деятельность", так и сыплет он на Россию "практическими указаниями". Но <…> в практике его <…> ни до каких принципов или общих начал и не доберешься, и в идеалах он неповинен. Его <…>практика не только не есть логический вывод из какой-нибудь общей руководящей теории, но и сама не может быть возведена в теорию <…>” (47). Между тем, по Аксакову, первым делом нужно “совершить своего рода эмансипацию истинного русского самосознания от искажавших его ложных воззрений <…>” (48), а потому “вопрос об общих началах, о выборе пути <…> — имеют первенствующее практическое значение <…>” (49). О том же много раз говорил и А.А. Киреев, считавший, что “главное <…>, чтобы была в правительстве руководящая идея, оно не должно страдать идеебоязнью <…>” (50). “Очевидно, — писал он А.А. Александрову, — нужно совершить дело для нас очень трудное — от которого мы отвыкли давно — подумать! <…> Будет ясность мысли — будет и убеждение — явится и энергия. Что же мы должны делать? Мы все, могущие говорить и писать (и думать)? Мы преимущественно должны заботиться о разъяснении нашей народной, государственной и церковной мысли. Вот в чем дело, вот что должно составлять главную нашу заботу (и работу) <…> Ведь не достаточно говорить — давайте православие и самодержавие, не хотим парламентаризма, католичества и протестантизма. Я консерватор! Да что, что консервировать! <…> Вот это нужно выяснить <…>” (51). В том же духе рассуждал и Н.П. Аксаков: “Россия <…> может успешно действовать извне только тогда, когда <…> с полной ответственностью сознает она собственную задачу <…>” (52). 8. Одна из центральных идей поздних славянофилов — идея “политического освобождения от иноплеменной власти и объединение угнетенных и разрозненных славянских народностей” (53) — уже сама по себе предполагала значительную активизацию внешней политики, ведущую, в перспективе, к войне с Турцией и Австро-Венгрией. Однако, этим их внешнеполитические притязания не ограничивались. “Конечно, — записывает в дневнике А.А. Киреев, — для нас в Европе только один интерес — Славянские земли, <…> все наши интересы в Сибири, в Китае, Центральной Азии, а не в крохотной Европе!” (54) На том же настаивал и И.С. Аксаков: “Хотя Россия несомненно стоит во главе Славянства и вся его сила в ней, но в ней славянская стихия не исчерпывается только этнографическим племенным определением и скромною задачею политической независимости, как для прочих Славянских племен, а призвана к мировому самостоятельному значению <…>” (55). Он приветствовал расширение России на Восток и на Юг, присоединение к ней Средней Азии (и вообще думал, что распространение империи на Восток нужно продолжать вплоть до Гималаев, Китайской стены и Тихого океана), печалился по поводу продажи Аляски США и т.д. (56) Особое внимание Аксаков уделял овладению черноморским бассейном: “<…> без Черного моря Россия немыслима. Оно должно быть совсем русским, со всеми своими проливами <…>” (57). Итак, мы можем констатировать соответствие позднего славянофильства идеологии творческому традиционализму по всем пунктам. 2.4 ОСОБЕННОСТИ СЛАВЯНОФИЛЬСКОГО ТРАДИЦИОНАЛИЗМА Славянофильское учение обладает яркой, неповторимой спецификой, резко выделяющей его среди других традиционалистских доктрин. Эта специфика заметна даже в материалах, приведенных в предыдущем параграфе. Попробуем, однако, сформулировать ее более определенно. а) Главной отличительной чертой славянофильской идеологии является ее подчеркнутый демократизм. Это утверждение, вероятно, может показаться странным и вызвать, по крайней мере, два законных вопроса. Первый: как же славянофилы могут быть демократами, если целый параграф данной главы посвящен доказательству того, что они — не либералы? Второй: может ли вообще традиционализм по определению быть демократичным? Отвечая на эти вопросы, прежде всего, следует отметить, что демократия — понятие весьма широкое и расплывчатое, не имеющее определенного идеологического содержания, вернее, последнее в нем меняется в зависимости от места и времени. И это естественно, ибо “воля народа”, приоритет коей защищает демократический принцип, не может быть одинаковой у разных этносов, в разные эпохи. Крупнейший немецкий юрист XX в. К. Шмитт еще в 1923 г. писал, что “различные народы или социальные и экономические группы, которые организуются демократическим образом, только абстрактно имеют один и тот же субъект- народ. In concreto массы социологически и психологически разнородны. Демократия может быть милитаристской или пацифистской, прогрессивной или реакционной, абсолютистской или либеральной, централистской или децентрализующей, <…> не переставая быть демократией” (58). Действительно, большинство современных режимов Азии и Африки вполне демократичны по своему происхождению, но много ли у них общего с западноевропейским и североамериканским “эталоном” демократии? А соответствует ли ему “военная демократия” древних германцев или древнерусское вече? Возможно ли с ним совместить, наконец, классическую эллинскую демократию, основанную на рабовладении и ксенофобии? То же самое наблюдается и в сфере идеологической. На демократическом принципе основан противостоящий либерал–капитализму социализм (коммунизм), выдвинувший идею социальной демократии. Бесспорно демократическую генеалогию имеет и национализм, размежевавшийся в XX в. с либерализмом и ставший самостоятельной доктриной. Либерализм, как видим, не только не является существенным и безусловным воплощением демократии, но скорее противоречит ее сущности, ибо главная его ценность — личность, а не народ (демос). Говоря словами известного французского философа А. де Бенуа, “демократия основывается на суверенности народа, либерализм на правах индивидуума” (59). В самом деле, во всех перечисленных нами выше вариантах нелиберальной демократии индивидуум занимает подчиненное положение по отношению к общности (как бы она не называлась — род, община, племя ,полис, класс, нация и т.д.). Демократия в своих архаических формах — не разрушитель традиционного общества, напротив она его неотъемлемая часть. Она играет главную структурирующую роль на ранней стадии его существовании, когда еще не произошло четкого сословного разделения. Но и позднее, на уровне местного самоуправления (городское вече, сельский “сход”) она продолжает активно функционировать. Общественный идеал демократического традиционализма — народное единство, основанное на идее социальной справедливости. Символом этого единства являлся — “всенародный монарх”, перед лицом которого все общественные группы должны быть равны. В свете такого идеала слишком резкое расслоение общества не могло не казаться покушением на традицию. Вряд ли случаен тот факт, что все народные движения в России (вплоть до XX в.) апеллировали не к “светлому будущему”, а “доброму старому времени” и вдохновлялись образами подлинных или самозванных царей. Как блистательно показал А.М. Панченко, Емельян Пугачев был гораздо большим традиционалистом, чем Екатерина II (60). Нам кажется, что именно в контексте архаической демократии и нужно рассматривать демократизм славянофилов. Подобный подход уже применялся при рассмотрении данной проблемы и дал весьма интересные результаты. Уже не раз упоминавшийся А. Валицкий , разбирая политическую теорию К.С. Аксакова, находя ей параллели в народничестве и “толстовстве”, отмечал, что мировоззрение “неистового Константина” “оставалось <…> в границах консерватизма”, но “это был максимально демократизированный “народный” консерватизм , который обращался к архаическим слоям сознания <…>” (61). Да и в целом для польского ученого “классическое славянофильство 40-х гг.” является “”народной” разновидностью консерватизма” (62). Близкую Валицкому точку зрения высказал и отечественный исследователь В.П. Попов. По его мнению, “в учении ранних славянофилов <…> царит дух бесклассовости, говоря их собственным языком, “дух общинности””; славянофильское понимание народности “соответствует общинной, доклассовой ступени развития общества” (63). Но, “как община в период феодализма не могла существовать в своем “истинном” виде — как архаическая, доклассовая формация, — подчеркивает В.П. Попов, — так и общинная точка зрения на мир не могла объективироваться как таковая и не могла занять третью позицию в идейной борьбе 40-50-х годов XIX века <…>” (64). Мы, в принципе, принимаем концепцию Валицкого–Попова, которая, на наш взгляд, хорошо объясняет как особое положение славянофильства в традиционалистском лагере , так и причины ошибочного зачисления славянофилов в либералы. Правда, Валицкий и Попов говорят исключительно о раннем славянофильстве, но легко показать, что их подход вполне применим и к концу XIX в. Наиболее четко и ясно славянофильскую идеологему демократического традиционализма сформулировал Ю.Ф. Самарин: “Токвиль, Монталамбер, Риль, Штейн — западные славянофилы. Все они по основным убеждениям и по конечным своим требованиям ближе к нам, чем к нашим западникам <…> Но вот разница: Токвиль, Монталамбер, Риль и другие, отстаивая свободу жизни и предание, обращаются с любовью к аристократии , потому что в исторических данных Западной Европы аристократия лучше других партий осуществляет жизненный торизм <…> Напротив мы обращаемся к простому народу, но по той же самой причине, по которой они сочувствуют аристократии, т.е. потому, что у нас народ хранит в себе дар самопожертвования, свободу нравственного вдохновения и уважение к преданию. В России единственный приют торизма — черная изба крестьянина” (65). Таким образом, крестьянство для славянофилов ценно, прежде всего, как, по сути, единственный хранитель национальной традиции, отсюда и проистекает демократическая ориентация славянофильства. Кроме того, по мысли А.С. Хомякова, отсутствие сословных и этнических предрассудков, врожденная идея равенства всех людей есть основа русского (и шире славянского) самосознания: “<…> я знаю, что <…> многие из моих соотечественников желали бы видеть в нас начала аристократические и родовую гордость германскую, надеясь найти в них защиту от влияния иноземного и будущее развитие гражданской свободы (на манер английской) и проч. и проч. Но чуждая стихия не срастется с духовным складом славянским. Мы будем, как всегда и были, демократами между прочих семей Европы; мы будем представителями чисто человеческого начала, благословляющего всякое племя на жизнь вольную и развитие самобытное. <…> невозможно в нас вселить то чувство, тот лад и строй души, из которого развиваются майоратство и аристократия, и родовое чванство, и презрение к людям и народам. <…> зародыш будущей жизни мировой — не германец, аристократ и завоеватель, а славянин, труженик и разночинец<…>” (66). Ту же идею К.С. Аксаков подкреплял и религиозными аргументами: “Для меня нет ничего богопротивнее аристократии <…> Аристократ — враг народа и христианства” (67). Совершенно в том же духе высказывались и поздние славянофилы. Так И.С. Аксаков характеризовал русское крестьянство как “многомиллионную массу, которая может быть сравнима у нас, по своему охранительному духу, с английской аристократической партией тори <…>”. По его мнению, “нет надежнейшей опоры и оплота для русской царской власти как наш сельский мир; на мирском или общинном строе Русской земли <…> зиждется русское самодержавие”. Он постоянно подчеркивает, что “у нас с е л о преобладает над городом, а потому селом по преимуществу и должен определяться наш государственный тип” (68). Апелляция к “простому народу” — бросающаяся в глаза особенность аксаковской публицистики: “<…>не у тех ли разгадка вопросов, кто в настоящую минуту молчит? Не они ли скажут нам простую правду, простое слово жизни? О, если б их вызвать на слово! Может быть голос их подал бы нам спасительное отрезвление, помог бы нам разбить заколдованный круг нашей вековой отвлеченности, нашей духовной немощи, перестать мудрствовать и начать жить!” (69) “<…> мы, русские, демократы, но демократические консерваторы”, — так определял свое кредо А.А. Киреев (70). О.Ф.Миллер настойчиво утверждал “плебейский характер славянского мира” (71). Н.П.Аксаков писал, что “всякие вожделения к образованию или санкционированию правящего класса разрушают идею народности в самом ее основании и составляют посягательство на жизнедеятельность народную” (72). “Антидемократизм” — главный его упрек в адрес консервативных традиционалистов (73). Словом, в данном вопросе “эпигоны” повторяют “классиков” даже текстуально. Любопытно в этой связи рассмотреть проблему взаимоотношений славянофильства и народничества. Такие мыслители как А.И. Герцен, Н.П. Огарев, М.А. Бакунин, заложившие основы народнической идеологии, прямо признавали славянофильские влияния на генезис своих теоретических построений. А. Валицкий убедительно показал непосредственную зависимость от славянофильских идеологем виднейших народнических публицистов А.П. Щапова и Г.З. Елисеева (74). Так, например, Щапов, по словам его биографа Н.Я. Аристова, “разделяя мнения и убеждения славянофилов и высказывая их постоянно”, всячески, однако, затушевывал свою к ним близость “как будто <…> опасался <…>, как бы его не назвали славянофилом” (75). Славянофильские корни народничества не отрицал и Г.В. Плеханов (76). Славянофильские реминисценции легко просматриваются в сочинениях “легальных народников”, ведущих авторов газеты “Неделя” П.П. Червинского и И.И. Каблица (Юзова) (77). Пример последнего особенно показателен. Его главная книга “Основы народничества” была положительно отрецензирована О.Ф. Миллером (“Замечательный труд о народничестве” // Русский курьер. 1888, № 303 от 2 ноября). В последние годы жизни он работал в Государственном контроле под началом Т.И. Филиппова, подбиравшего кадры в свое ведомство по принципу идейной совместимости с начальником (в Госконтроле, например, служили А.В. Васильев, Н.П. Аксаков, И.Ф. Романов, В.В. Розанов). Некролог Каблица, написанный Розановым, был опубликован в центральном традиционалистском журнале 1890-х гг. “Русское обозрение” (1893. № 11) (78). Славянофильскую генеалогию народничества еще в 1883 г. отметил И.С. Аксаков (79). Как всегда ученически точно его мысль подхватил С.Ф. Шарапов: “<…> разве школа так называемых народников не выделилась из западнического космополитизма и либерализма под прямым воздействием учения славянофилов об общине?” (80) Но наиболее обстоятельно данного вопроса коснулся Н.П. Аксаков, считавший, что “так называемое народничество несравненно ближе к так называемому славянофильству, чем все другие типы современного общественного мышления <…>”. В то же время он показал и существенные различия между двумя этими направлениями общественной мысли: народничество сосредоточилось только на социально-экономических проблемах крестьянства, игнорируя его религиозную жизнь и отрицая Церковь; оно рассматривает народ исключительно в настоящем, отрицая, таким образом, важность исторического предания. Народничество, заключает Н.П. Аксаков, “не безусловно еще отрешилось дать народу Вольтера в фельдфебели и не только учится у народа, но и учит его государственной и социальной мудрости”; “мы (славянофилы. — С.С. ) принимаем идеалы народа целиком, а они (народники. — С.С. ) на выбор и по своему усмотрению” (81). Факт совпадения некоторых идейных установок народничества и славянофильства весьма выразительно подчеркивает демократическую составляющую последнего. Но неверно было бы делать отсюда далеко идущие выводы. Пересекаясь в некоторых пунктах, и то и другое течение двигалось, каждое, своей собственной дорогой. Зафиксированные частные контакты отдельных их представителей между собой (например, нами обнаружено письмо А.В. Васильева от 9 апреля 1900 г. к С.Н. Кривенко, изрядно “поправевшего” в это время) (82) достаточно маргинальны и не дают повода говорить о каком-либо идейно-политическом сближении обоих направлений. Осторожно следует относиться и к представлению о социалистической природе славянофильства, хотя для этого есть некоторые основания. О “социализме” славянофилов говорили многие их современники в 1840-1850-х гг. (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, П.В. Анненков, С.Г. Строганов и др.). В 1974 г. В.П. Попов утверждал, что “в учении славянофилов было возможно накопление ингредиентов для идеологии русского (народнического) социализма, начиная с Чернышевского и Герцена” (83). Несколько раз к этой проблеме обращался А.Г. Кузьмин. В 1982 г. он настаивал на том, что славянофилы “создали очень непоследовательный вариант христианского утопического социализма” (84). Однако, рецензируя в 1984 г. книгу Е.А. Дудзинской “Славянофилы в общественной борьбе”, ученый высказывался по той же проблеме гораздо скептичнее: “<…> "социалистические" увлечения славянофилов <…> были слишком поверхностными даже и для утопического социализма <…>” (85). В 1998 г. А.Г. Кузьмин снова подчеркивает связь славянофильства и социализма, но несколько в ином контексте, упоминая “русский социализм, который славянофилы впервые почувствовали в традиционной крестьянской общине” (86). В 1993 г. была опубликована рукопись виднейшего исследователя славянофильства С.С. Дмитриева, специально посвященная теме “раннее славянофильство и утопический социализм”. Вывод историка таков: “Целый ряд черт, присущих” славянофильству “позволяет говорить о некоторых сторонах его как о своеобразной национально-русской разновидности христианского утопического социализма. “Социалистический” оттенок, сознаваемый представителями иных направлений русской общественной мысли середины прошлого века, действительно присутствовал в раннем русском славянофильстве” (87). Дмитриев формулирует свою точку предельно аккуратно, поэтому вызывает недоумение “подкрепляющая” ссылка на его статью у Е.Ю. Тихоновой, категорично определяющей славянофильство как “ответвление феодально-религиозного социализма” (88). И.А. Воронин подчёркивает, что “социально-утопические взгляды ранних славянофилов по многим позициям были близки идеям раннего христианско-утопического социализма Западной Европы” (89). Нам представляется, что можно говорить лишь о социалистических элементах в славянофильском учении, и то достаточно условно, в той же мере, как можно говорить о социалистических элементах в русской крестьянской общине. Славянофилы признавали относительную правду социалистических учений как реакции на кричащие противоречия буржуазного общества, как неправильного ответа на правильно поставленный вопрос. Ю.Ф. Самарин, например, писал, что “коммунизм есть только карикатура мысли прекрасной и плодотворной”, но нимало не аттестовал себя коммунистом, наоборот искал “средство обессилить и победить коммунизм” (90). Для А.С. Хомякова социализм — “жалкая попытка слабых умов, желавших найти разумные формы для бессмысленного содержания, завещанного прежними веками”. Правда, он оговаривается, что “эта попытка имеет свое относительное достоинство и свой относительный смысл в той местности, в которой она явилась; нелепо только верование в нее и возведение ее до общих человеческих начал” (91). Т.е. Хомяков недвусмысленно говорит о неприменимости европейского социализма в русских условиях. Но и с “русским социализмом” Герцена, Бакунина, народников славянофилы не могли найти общего языка: революционеры-демократы были убежденными противниками Православия и Самодержавия, краеугольных принципов учения “московских славян”. Естественно, что, говоря словами А.Г.Кузьмина, “славянофилы решительно восставали против реального социалистического движения” (92). Социалистов и славянофилов собственно роднила лишь негативная сторона их идеологий — критика пороков буржуазной цивилизации. Но, как известно, везде в Европе “эта критика изначально исходила из кругов правой оппозиции, а затем постепенно была перенята оппозицией левой” (93). Антибуржуазный пафос изначально присущ традиционализму, который и родился как реакция на буржуазные революции. Интересно, чтов 1820-1830-х гг. социалисты пытались интегрировать в свою систему идей отдельные традиционалистские положения: лидеры французского сен-симонизма, скажем, декларировали синтез Вольтера и де Местра (94). Позднее, однако, ситуация изменилась, и уже традиционалисты, дабы убедительнее отвечать на вызовы времени, используют те или иные социалистические наработки. Это видно не только на примере славянофилов, но — и К.Н. Леонтьева (подробнее об этом в III-ей главе) и даже К.П. Победоносцева, чьи знаменитые антилиберальные статьи “Великая ложь нашего времени” и “Печать” являются вольными переводами из книги М. Нордау “Ложь предсоциалистической культуры”. М.А. Твардовская доказывает, что в своей критике либеральной демократии традиционалисты “смело обращались к народнической литературе 70-х годов” (95). Таким образом, по нашему мнению, славянофильство (как раннее, так и позднее), ощущавшее себя выразителем народной (крестьянской) точки зрения на мир (что отчасти соответствовало реальности, ибо крестьянство той эпохи в целом было религиозно и монархично, не нуждалось в либеральной демократии, но в то же время отрицательно относилось как к сословному неравенству, так и к власти бюрократии) представляло собой демократический вариант творческого традиционализма. Славянофилы искренне думали, что их направление “может быть определено названием русского народного направления, ибо оно более других, вернее, только оно одно соответствует преобладающим в Русском народе складу мыслей и строю чувств” (А.В. Васильев) (96). Более того, по словам Н.П. Аксакова, “славянофильство не теория, а именно непосредственная жизнь в народе и в церкви без всякой предвзятой теории, но с постоянным напряжением мысли и чувства” (97). Безусловно нельзя не видеть в этих высказываниях изрядной доли утопизма, но по крайней мере, субъективный демократизм их авторов очевиден. б) Из демократического пафоса славянофильства непосредственно проистекает другая важная особенность этого течения русскойобщественной мысли — его оригинальная политическая теория. Сами славянофилы ее очень ценили. С.Ф. Шарапов, скажем, утверждал, что “если русская самостоятельная мысль по вопросу о государственном устройстве нашла себе выражение, то именно у славянофилов” (98). Под этим чересчур категоричным заявлением есть, однако, некоторые основания. Славянофилы выступили с новым обоснованием идеи самодержавия, доказывая его народное происхождение. “У нас есть одна сила историческая положительная, это — народ, и другая сила — самодержавный царь, — писал Ю.Ф. Самарин, — Последний есть также сила положительная, историческая , но только вследствие того, что ее выдвинула из себя народная сила и что эта последняя сила признает в царе свое олицетворение, свой внешний образ” (99). Для И.С. Аксакова “царь — представитель народа, носитель исторической идеи. Таким явился он (Александр II. — С.С.) в крестьянском вопросе. <…> Он и не думает этого, быть может, а он выходит, самый демократический царь” (100). А.С. Хомяков признавал понятие народного суверенитета, и утверждение самодержавия в России связывал с проявлением последнего. “Само повиновение народа есть un acte de souverainete!” — считал он (101). Такое “демократическое” понимание монархического принципа решительно противоречило теории божественного права, обычно используемой традиционалистами. На это еще в 1916 г. обратил внимание о. Павел Флоренский (у Хомякова “Самодержец есть самодержец не “Божиею милостью”, а народною волею”) (102), а вслед за ним Н.И. Цимбаев (102). Поздние славянофилы в данном вопросе целиком следовали за “классиками”. Так П.П. Перцов таким образом противопоставлял русское и западноевропейское монархическое самосознание: если для первого царь — “представитель народа перед Богом”, то для второго — “властитель над народом, хотя бы и Божией милостью”; для первого ключевое слово — “служение”, для второго — “господство” (104). Еще более четко формулирует “демократический” подход к самодержавию Д.А. Хомяков (сын А.С. Хомякова) в итоговом труде славянофильской школы, посвященном проблемам политической философии “Самодержавие. Опыт схематического построения этого понятия” (в целом этот труд выходит за пределы нашего рассмотрения, ибо первое его издание состоялось уже в 1903 г., хотя основной текст был написан еще в 1899 г.): “Самодержавие есть олицетворенная воля народа, следовательно часть его духовного организма и потому сила служебная <…> Призвание Самодержавия состоит в том, чтобы творить не “свою волю”, а выражая собою народ с его духовными требованиями и с его особенностями, вести народ по путям “народом самим излюбленным”, а не “предначертывать ему измышленные” пути. <…> Величие Самодержавия заключается в величии народа, добровольно вверяющего ему свои судьбы, но вовсе не в нем самом <…>” (105). Итак, монарх у славянофилов — воплощение воли народа, а не наместник Бога на земле. Самодержавие хорошо не потому, что оно — богоустановленная форма правления, а потому, что оно национально. Славянофилы считали реально существующую российскую монархию искажением идеи истинного самодержавия и противопоставляли “петровский, перенесенный из Запада и переложенный на русские нравы абсолютизм” “самодержавию по древним русским понятиям” (106). Ориентируясь на исторический опыт Московской Руси, они разработали свою схему взаимоотношений царя и народа, или, в славянофильской терминологии, “власти” и “земли”. Создателем этой схемы был К.С. Аксаков, наиболее полно изложивший ее в записке “О внутреннем положении России” (1855) на имя императора Александра II. У нас нет задачи разбора этого важнейшего памятника славянофильской политической мысли, тем более что это уже давно и с блеском сделано А. Валицким и Н.И. Цимбаевым (107). Приведем лишь авторское резюме, прекрасно передающее смысл трактата: “Правительству — неограниченная свобода правления, исключительно ему принадлежащая, народу — полная свобода жизни и внешней, и внутренней, которую охраняет правительство. Правительству- право действия и, следовательно, закона; народу — право мнения и, следовательно, слова” (108). Самодержавие, по К.С. Аксакову, не должно быть политически ограниченным, но зато оно, в свою очередь, не должно посягать на бытовую и религиозную свободу народа, который имеет право доносить до верховной власти свои чаяния и нужды. Именно концепция К.С. Аксакова легла в основу политической теории поздних славянофилов. Записка “О внутреннем состоянии России” была впервые опубликована только в 1881 г. (“Русь”, № 26-28) и сразу же получила значение программного документа. Позднее С.Ф. Шарапов подчеркивал, что славянофильство стоит “на определении Самодержавия, данном Константином Аксаковым, признавая только эту схему нашей исторической правдою <…>” (109). Опираясь на аксаковские идеи, славянофилы выдвигали следующий проект государственного устройства: 1) гармоническое сочетание неограниченного самодержавия с широким местным самоуправлением; 2) связь “земли” и “власти” через всесословные Земские Соборы, имеющие совещательные, но не законодательные функции; 3) радикальное ограничение властных полномочий бюрократии. И.С. Аксаков так излагал славянофильский политический идеал: “Государство, стерегущее, охраняющее заботливо земский строй; земский строй, берегущий, охраняющий государство <…> государство постоянно вызывающее голос земли, ищущее доброго совета для свершения своего великого служебного подвига; земля не безгласная, советная, но притом беспрекословно покорная велениям государственной власти; центральная власть самая свободная, самая мощная — при самом широком земском местном самоуправлении; власть — не механический бездушный снаряд (вроде случайного большинства нескольких голосов), а живая, личная с человеческим сердцем; земство — не формальное представительство, а живое органическое выражение интересов и духа самой земли… Вот основы нашего политического организма, лежащие в духе народном, нашедшие себе, хотя бы и неполное выражение в старой Руси и которых полное развитие — тот идеал, к которому мы теперь стремимся” (110). А вот в интерпретации И.С. Аксакова славянофильское представление о народном представительстве. “Народное представительство не должно иметь никакой власти. Тогда и гнаться за большинством голосов не будет надобности; но тогда и разнообразия мнений нечего опасаться, а напротив, нужно желать. Ум хорошо, а два лучше, говорит русская пословица; пусть будут эти умы и не согласны между собой, дело от этого только выигрывает, осветится вопрос с разных сторон. <…> Но никто, конечно, не скажет: одна воля хороша, а две лучше, потому что чем больше<…> многосторонних направлений воли, тем труднее и соглашение. Вот мы и приходим к тем основным русским положениям, которые были уже не раз высказываемы в “Руси”: народу, земле принадлежит — мнение и только мнение, — разумеется вполне свободно высказываемое; верховное же решение — единой личной верховной воле. Никакой иной принудительной, гарантирующей силы, кроме нравственной, мнение не должно и не может иметь <…>” (111). Развивая образы аксаковской публицистики, А.А. Киреев формулировал славянофильскую идею самодержавия как “много умов и одна воля”, противопоставляя ее бюрократическому типу монархии (“государство — это я”) и западноевропейскому парламентаризму (“много умов и много воль”) (112). Особое внимание И.С. Аксаков уделял развитию местного (земского) самоуправления, для него это было необходимым условием осуществления славянофильских чаяний. Как уже говорилось, деятельность пореформенных земств, во главе которых, как правило, находились либералы, его не удовлетворяла. Поэтому он усиленно призывал к реформе земских учреждений: “<…> для того, чтобы стать истинно Земством, необходимо Земским учреждениям пустить глубокие корни в местную жизнь и в сознание народное, тесно связаться с местным населением, быть по истине, а не по форме выразителем народной мысли, — народным местным представительством в полной правде этого слова. Но как же всем этим стать и быть, если не разрешить задачи <…> об устройстве уезда, о связи земских учреждений с крестьянским самоуправлением, о создании живых звеньев между народом и просвещенным местным слоем — об установлении той общности, солидарности, одним словом той цельности, которой теперь не существует и без которой истинное земство не мыслимо?” (113) С.Ф. Шарапов попытался конкретизировать пожелания своего “учителя” и составил детальный проект государственного устройства России. По его мнению, в ведении царя должны остаться внешняя политика, армия и флот и “дела государственного хозяйства”. В делах же внутренней политики самодержцу лучше опираться не на “бюрократический механизм”, а на “ряд живых общественных самоуправляющихся организмов <…>”. В каждом из таких “организмов” власть делится между генерал-губернатором — представителем центра (задача которого — следить за точным выполнением законов) и представителями местного самоуправления “коим принадлежит совершенно самостоятельное ведение всех дел области в пределах данного закона” (114). В России, по плану Шарапова, предполагалось новое административно-территориальное деление — на 18 областей, каждая из которых бы управлялась земским собранием из гласных от уездов и городов. Председатель земского областного собрания (он же — местный предводитель дворянства) утверждается лично царем и имеет у него личный доклад наравне с генералгубернатором. Собранию принадлежит право издавать местные законы в пределах общего законодательства, устанавливать и собирать налоги, вести хозяйственные дела, заведовать местными финансами и судом, избирать делегатов в общеимперские совещательные учреждения. Более низкими ступенями местного самоуправления становятся уезд и затем церковный приход (так сказать, первичная ячейка самоуправления). Венцом этой системы является Земский Собор, собираемый по инициативе Государя. Представители областей получали право заседать в высшем законодательном органе — Государственном Совете. Освобожденной от административной опеки Церковью, управляет Синод во главе с Патриархом. Вводится свобода слова и печати. По мнению Шарапова, “развязывая руки Царю, описываемое здесь устройство снимает с него совершенно необходимую ответственность за всякий неправильный или вредный шаг в области внутреннего управления, ныне творимого от Его Имени” (115). в) Наконец, еще одной принципиальной особенностью позднего славянофильства является его панславизм.В этом пункте оно в определенной степени отличается от раннего, хотя, как мы уже показали, панславистские настроения были свойственны и “классикам”, так что дело только в более ярком проявлении этих настроений, а не в их наличии. Любопытно, что некоторые славянофильские неофиты (Н.П. Аксаков, П.П. Перцов) (116) упрекали “отцов–основателей” в излишнем “русофильстве”. Так или иначе, но славянский вопрос стал в славянофильской публицистике 1880-1890-х гг. одним из центральных. Материалы о “братьях — славянах” заполняли не менее половины объема славянофильских журналов и газет. И.С. Аксаков недвусмысленно писал: “Славянский вопрос есть вопрос Русский и Русский вопрос есть Славянский. <…> отрекаясь от Славян — Россия перестанет быть не только Славянской, но и Русской державою <…>” (117). Как всегда, почти слово в слово, “учителю” вторил С.Ф. Шарапов: “России отречься от славянской идеи нельзя — это значило бы отречься от себя самой <…>” (118). “<…> Все славянское” племя есть разнообразный в своих частях, но тем не менее единый, целостный народный организм, одно живое народное тело <…>”, — утверждал А.В. Васильев (119). Славянофилы мечтали о славянском политическом единстве, когда “около <…> России — добровольно и не теряя самостоятельности сгруппируются единоплеменные слабейшие народности<…>”(А.А. Киреев) (120). Предполагались и конкретные пути к этому объединению и его формы. Тот же А.В. Васильев полагал, что после “освобождения от иноплеменной власти” (очевидно, с помощью русского оружия?) славянские народы войдут в единый Всеславянский Союз, в котором они будут пользоваться приблизительно такой же самостоятельностью как Финляндия в составе Российской Империи (121). Н.П. Аксаков предлагал в качестве образца такого Союза Германию (122). Славянские пристрастия у поздних славянофилов были настолько сильны, что они порой предпочитали племенной принцип конфессиональному. Так С.Ф. Шарапов упрекал К.Н. Леонтьева, Н.П. Гилярова-Платонова и И.Ф. Романова (Рцы) в том, что они “из-за заблуждений в вере, <…> готовы отвергать вовсе братьев по крови”, выражая при этом ни на чем не основанную уверенность, что “западные Славяне почти уже на пути к возврату [к Православию]” (123). А.В. Васильев был уверен, что следствием политического объединения славянства будет его “духовное объединение”, в частности, “уничтожение в нем вероисповедной <…> розни” (124). Каким образом произойдет такой колоссальный переворот он, правда, не объяснял. В заключении данной главы несколько слов о качестве и общественном статусе позднеславянофильской мысли. Нельзя не признать, что не только по сравнению с классическим периодом развития славянофильства (1840-1850-е гг.), но и даже по сравнению с 1860-1870-ми гг., 1880-1890-е гг. отмечены явным снижением теоретического уровня славянофильской публицистики. Как хорошо видно из материала данной главы, в это время славянофилы почти исключительно повторяли, популяризировали и катехизировали разработки “классиков”, почти ничего нового к ним не добавляя. Даже И.С. Аксаков, как мыслитель, в сущности, жил на счет ранее нажитого капитала. В виде исключения, можно назвать уже упоминавшуюся книгу В.И. Ламанского “Три мира Азийско-Европейского материка”, но она носила слишком специальный характер и мало что добавляла в уже сложившуюся славянофильскую доктрину. Попытки дополнить последнюю предпринимались С.Ф. Шараповым, пожалуй, самым живым и деятельным поборником позднего славянофильства. О его проекте государственного устройства России мы уже говорили выше. Другим его пристрастием была экономика. “<…> Повинуясь указанию незабвенного учителя моего И.С. Аксакова, — писал Шарапов Т.И. Филиппову, — я работал преимущественно в области вопросов экономических, где в славянофильском учении оставался сериозный пробел <…> Я хотел <…> показать, что есть возможность создать научную денежную систему в основе коей лежало бы <…> нравственное начало <…>” (125). Мы не беремся оценивать работы Шарапова на экономические темы (в частности, он резко критиковал реформы С.Ю. Витте). Для нас важно другое: в общетеоретическом плане Сергей Федорович (натура преимущественно практическая) принимал славянофильское учение как нечто вполне законченное и устоявшееся, не нуждающееся в ревизии, а разве только в конкретизации общих положений на материале отдельных сфер жизни. В том же смысле можно упомянуть и богословские труды Н.П. Аксакова и А.А. Киреева. Последний, кстати, полагал своей главной задачей именно “катехизацию” и “распространение” “наших доктрин” (126). Позднее славянофильство вообще проникнуто ощущением, что все главные слова уже сказаны, что историософские и социально-политические концепции А.С. Хомякова и К.С. Аксакова непогрешимы и критике не подлежат. Любопытно в этой связи восприятие славянофилами учения Н.Я. Данилевского. В принципе, автора “России и Европы” причисляли к “своим”, но, главным образом, как теоретика панславизма. Для С.Ф. Шарапова “Россия и Европа” — “венец славянофильской работы” в области решения славянского вопроса (127). Так же оценивал ее и А.В. Васильев. И ни тот, ни другой ни словом не обмолвились о главном содержании книги — ее оригинальной историософии. Более того, некоторых младших славянофилов она скорее раздражала, чем радовала. Так Д.А. Хомяков относил ее к числу “сомнительного происхождения суррогатов”, скрывающих “под русскими названиями <…> заморское происхождение”. Данилевский “причинил <…> славянофильству <…> скорее вред, чем пользу. Его учение о “культурных типах” не искажает, но суживает понимание славянофильства <…>” (128). Кажется, только один И.С. Аксаков использовал историософские идеи Данилевского в позитивном контексте. В целом же поздние славянофилы его концепцию не освоили, они продолжали пользоваться универсалистской риторикой и рассуждать об общечеловеческом призвании славянства, без тени сомнения возвещая, что в скором времени славянским идеалам “предстоит удел стать и общечеловеческими” (129). Но, если Данилевского приняли хотя бы частично, то К.Н. Леонтьева отвергли вовсе. Позднее “от ворот поворот” получили Л.А. Тихомиров и В.В. Розанов (последний, правда, печатался в “Русском труде”, но лишь благодаря личному расположению к нему Шарапова). Славянофильство к концу века превратилось в подобие секты, куда “чужакам” “вход воспрещен”. Поэтому можно лишь иронически воспринимать убежденность Шарапова в том, что “помимо даже своей воли встанет в наши ряды всякий свободный и самобытный русский ум, если только его работа начнется с общего фундамента, а этот фундамент — русский народный дух и русское чувство” (130) (стоит впрочем отметить, что Сергей Федорович был более терпим к другим мнениям, чем его единомышленники). Сектантство естественно вело к отрыву от реальной жизни, к маргинализации славянофильства. Комично звучало, когда А.В. Васильев величал себя не редактором, а “кормчим” журнала “Благовест”. Не менее комично читать в одном из писем Н.П. Аксакова, что журналы представляются ему “органами общественной любви — общественного душевного единения” (131). Чего-чего, а “любви” и “единения” в русских журналах конца XIX в. (в том числе и славянофильских) было не много. Перспективы славянофильства вызывали у старших его представителей глубокий пессимизм. И.С. Аксаков откровенно признавался в письмах 1884 г. близким ему людям (Н.П. Гилярову-Платонову и Г.П. Галагану): “<…> я не имею ключа к современной действительности”; “нужно какое-то новое слово современному русскому миру, наше старое слово его уже не берет <…>” (132). Он же жаловался П.А. Бессонову незадолго до смерти: “Я все <…> ищу какое-либо товарищество молодых даровитых сил, более или менее единомысленных со мною, которым бы мог передать свою “Русь”, — но не нахожу” (133). Одним из ближайших помощников Ивана Сергеевича по газете был Шарапов, но в нем он своего наследника не видел. “Относительно передачи мне “Руси”, — писал Сергей Федорович “учителю”, — Вы улыбались, улыбаюсь теперь и я. Да, Вы правы. Хомякова я не читал, остальных вождей славянофильства отчасти читал, отчасти знаю понаслышке” (134). А.А. Киреев уже в 1887 г. говорил, что он “последний могикан славянофильства” (135). В 1880-1890-х гг. статус славянофильства как особого направления в русской общественной мысли значительно понизился. После кончины И.С. Аксакова у него не осталось (и не появилось позже) ни одного по-настоящему авторитетного лидера, после прекращения “Руси” — ни одного влиятельного печатного органа. По своей сути, по своим стремлениям славянофильство изначально было движением творческим. Однако, к концу XIX в. его творческий импульс начал угасать. Оно явно потеряло способность к саморазвитию, постепенно превращаясь в догматически-замкнутую систему, все менее способную отвечать на вызовы времени. Его принадлежность к творческому традиционализму становилась все более формальной. Точнее говоря, оставаясь творческим направлением в сфере своих практических стремлений, славянофильство переставало быть таковым в сфере мысли. ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Аксаков И.С. Полн.собр.соч. Т. 2. С. 801. 2. Там же. Т. 1. С. 677. 3. Там же. Т. 2. С. 526. 4. Там же. Т. 5. С. 570. 5. Там же. Т. 2. С. 570. 6. Киреев А.А. Краткое изложение славянофильского учения… С. 58. 7. Ламанский В.И. Три мира Азийско-Европейского материка. 2-е изд. Пг., 1916. С. 3, 21-22. 8. Киреев А.А. Соч. Ч. 2. С. 51. 9. НИОР РГБ. Ф. 126. К. 9. Л. 50 об., 69. 10. Там же. К. 8337а. Ед. хр. 11. Л. 10 об. 11. Аксаков И.С. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 33. 12. Там же. Т. 1. С. 454. 13. Русский труд. 1897. № 1. С. 2. 14. Аксаков И.С. Указ. соч. С. 181. 15. Киреев А.А. Краткое изложение славянофильского учения… С. 4. 16. Русский труд. 1897. № 1. С. 1. 17. Там же. 1898. № 19-20. С. 7. 18. Хомяков Д.А. Православие, самодержавие, народность. Монреаль, 1983. С. 9. 19. Аксаков И.С. Указ. соч. С. 678, 677. 20. Шарапов С.Ф. Соч. Кн. 1. СПб., 1892. С. 12. 21. Русское дело. 1888. № 22. 22. Киреев А.А. Краткое изложение… С. 5. 23. Аксаков И.С. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 63. 24. Там же. С. 97. 25. Там же. С. 181. 26. Там же. С. 632. 27. Там же. Т. 4. С. 207. 28. ГА РФ. Ф. 730. Оп. 1. Ед. хр. 2258. Л. 15об. 29. Цит. по: Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в конце XIX века. Л., 1973. С. 72. 30. ГАРФ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 101. Л. 38 об.,70,79 об. 31. Русский труд. 1897. № 1. С.17. 32. НИОР РГБ. Ф. 126. К.10. Л. 92об. 33. Там же. К.12. Л. 236 об. 34. Там же. К.10. Л. 130 об. 35. Аксаков И.С. Полн. собр. соч. Т. 5. С.144. 36. Там же. Т. 4. С.198. 37. Шарапов С.Ф. [Предисловие] // Прот. А.Н.Иванцов-Платонов. О русском церковном управлении. СПб., 1898 (без указания стр.). 38. Аксаков И.С. Указ. соч. С. 208. 39. Васильев А.В. Указ. соч. С. 138. 40. Аксаков И.С. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 113. 41. Там же. Т. 2. С. 679. 42. Киреев А.А. Избавимся ли мы от нигилизма? С. 23. 43. Он же. Краткое изложение… С. 31. 44. Шарапов С.Ф. Самодержавие и самоуправление. С. 20. 45. Аксаков И.С. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 31. 46. Там же. Т. 5. С. 178. 47. Там же. С. 175-176. 48. Там же. С.47. 49. Там же. С 15. 50. НИОР РГБ. Ф. 126. К. 12. Л. 99 об. 51. РГАЛИ. Ф.2. Оп.1. Ед. хр. 650. Л. 22об.-24. 52. Там же. Ф.636. Оп.1. Ед. хр. 102. Л. 3об. 53. Васильев Аф. Указ. соч. С. 154. 54. НИОР РГБ. Ф. 126. К.9. Л. 242. 55. Аксаков И.С. Где границы государственному росту России // Русский геополитический сборник. № 3. С.23. 56. См.: Там же. Подробнее о геополитических воззрениях Аксакова см.: Бицилли П.М. Иван Сергеевич Аксаков и его философия нации // Русский рубеж. 1992. № 2. 57. НИОР РГБ. Ф. 265. К. 181. Ед. хр. 14. Л. 200. 58. Шмитт Карл. Политическая теология. М., 2000. С. 170. 59. Цит. по: Элементы. Евразийское обозрение. 1994. № 5. С.5. 60. См. Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ // Из истории русской культуры. Т. 3 (XVII — начало XVIII века). М., 1996. С. 29-31. 61. Славянофильство и западничество… Вып.2. С.71. 62. Там же. С. 191. 63. Попов В.П. Раннее славянофильство как эстетический феномен и проблема человека // Проблемы гуманизма в русской философии. Краснодар, 1974. С. 100, 101. 64. Он же. Социальная природа и функции раннего славянофильства // Там же. С. 7475. 65. Самарин Ю.Ф. Соч. Т.1. М., 1877. С. 402-403. 66. Хомяков А.С. Соч. в двух томах. Т.1. М., 1994. С. 99-100. 67. Цит. по: Цимбаев Н.И. Славянофильство… С. 206. 68. Аксаков И.С. Полн. собр. соч. Т.5. С. 114, 122-123, 187. 69. Там же. Т. 2. С. 527. 70. ГАРФ. Ф. 634. Оп.1. Ед. хр. 101. Л.70. 71. Русское дело. 1886. № 3. С. 8. 72. Аксаков Н.П. Указ. соч. // Благовест. Вып. 43. С. 1561. 73. То же // Благовест. Вып. 46. С. 1713. 74. Славянофильство и западничество… Вып. 2. С. 84-87. 75. Там же. С. 201. 76. Там же. 77. См.: Балуев Б.П. Споры в конце XIX века о роли интеллигенции в исторических судьбах России // В раздумьях о России (XIX век). М., 1996. С. 305, 313-315; Харламов В.И. Каблиц (Юзов) и проблема "народ и интеллигенция" в легальном народничестве на рубеже 70-х-нач.80-х гг. XIX в. // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. — 1980. № 4. 78. См. современную републикацию: Розанов В.В. Легенда о Великом инквизиторе Ф.М.Достоевского. Литературные очерки. О писательстве и писателях. М., 1996. С. 351-355. 79. Письмо И.С.Аксакова "московскому студенту" // Исторический вестник. 1886. Т. 25. С. 501-503. 80. Благовест. 1890. Вып. 1. С. 21. 81. Аксаков Н.П. Указ. соч. // Благовест. 1892. Вып. 41. С. 1439. 1444-1445, 1446. 82. РГАЛИ. Ф. 2173. Оп.1. Ед. хр. 56. 83. Попов В.П. Социальная природа и функции раннего славянофильства. — С. 82. 84. Кузьмин Аполлон. К какому храму ищем мы дорогу? (История глазами современника). М., 1989. С. 227. 85. Он же. У истоков русского либерализма // Назарова Т.А. Общественнополитические взгляды Ю.Ф.Самарина. М., 1998. С. 177. 86. Он же. Славянофилы и русское общество // Там же. С. 5. 87. Дмитриев С.С. Раннее славянофильство и утопический социализм // Вопросы истории. 1993. № 5. С. 39. 88. Тихонова Е.Ю. В.Г. Белинский в споре со славянофилами. М., 1999. С. 5. 89. Воронин И.А. Социальный утопизм в учении ранних славянофилов: Автореф. дис. …канд.ист.наук. М., 1997. С. 15. 90. Самарин Ю.Ф. Указ. соч. С. 178. 91. Хомяков А.С. О старом и новом. С. 118. 92. Кузьмин А.Г. У истоков русского либерализма. С. 177. 93. Манхейм Карл. Указ. соч. С. 589. 94. Берлин Исайя. Философия свободы. Европа. М., 2001. С.280. См. также :Воронин И.А. Указ. соч. С.8. 95. Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. М., 2000. С. 298. 96. Благовест. 1890. Вып.1. С. 1. 97. Аксаков Н.П. О старом и новом славянофильстве // Благовест. Выпуск 22. Б/г. С. 723. 98. Теория государства у славянофилов. СПб., 1898. С. 3. 99. Самарин Ю.Ф. Указ. соч. С. 96-97. 100. Цит. по: Цимбаев Н.И. Славянофильство. С. 217. 101. Хомяков А.С. Полн. собр.соч. Изд. 3-е. Т. 8. М., 1900. С. 201. 102. Свящ. Павел Флоренский. Указ. соч. С. 298. 103. Цимбаев Н.И. Указ. соч. С. 188. 104. Русский труд. 1899. 340. С. 2. 105. Хомяков Д.А. Указ. соч. С. 110, 158. 106. Аксаков И.С. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 79. 107. См.: Славянофильство и западничество… С.51-60; Цимбаев Н.И. Записка К.С. Аксакова “О внутреннем состоянии России” и ее место в идеологии славянофильства // Вестник Моск. Ун-та. Сер. 8. История. 1972. № 2. 108. Цит. по: Ранние славянофилы. М., 1910. С. 95. 109. Русский труд. 1897. № 1. С. 12. 110. Аксаков И.С. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 687- 688. 111. Там же. С. 704. 112. Киреев А.А. Краткое изложение славянофильского учения. … С. 32. 113. Аксаков И.С. Указ. соч. Т.5. С. 86. 114. Шарапов С.Ф. Самодержавие и самоуправление. С. 18, 20, 21. 115. Там же. С. 38. 116. См.: Сучков С.В. Аксаков Н.П. // Русские писатели. 1800-1917. Биографический словарь. Т.1. М., 1992. С. 35; Перцов П.П. Панрусизм или панславизм? М., 1913. С. 8. 117. Аксаков И.С. Указ. соч. Т. 1. С. 569, 791. 118. Русское дело. 1888. № 1. С.2. 119. Васильев Аф. Указ. соч. С. 150. 120. Киреев А.А. Соч. Ч. 2. С. 150. 121. Васильев Аф. Указ. соч. С. 154, 159. 122. Сучков С.В. Указ. соч. С. 35. 123. Русское дело. 1887. № 10. С. 3,4. 124. Васильев Аф. Указ. соч. С. 154. 125. ГАРФ. Ф. 1099. Оп. 1. Ед .хр. 2883. Л. 2-2об. 126. НИОР РГБ. Ф. 126. К. 12. Л. 29. 127. Русское дело. 1887. № 3. С. 1. 128. Хомяков Д.А. Указ. соч. С. 108. 129. Благовест. 1891. Вып. 20. С. 637. 130. Там же. 1890. Вып.1. С. 21. 131. РГАЛИ. Ф.636. Оп.1. Ед. хр. 102. Л.1. 132. И.С. Аксаков в его письмах. Ч.2. Т.4. СПб., 1896. С. 288; Цимбаев Н.И. И.С. Аксаков в общественной жизни… С. 254. 133. РГАЛИ. Ф.2866. Оп.1. Ед. хр. 102. Л. 33 об. 134. Цит. по: Цимбаев Н.И. Славянофильство… С.254. 135. Из переписки Владимира Соловьева с А.А. Киреевым // Русская мысль. 1917. № 78. II паг. С.148. 3. Творческий традиционализм К.Н. Леонтьева 3.1 К ВОПРОСУ О “ПОДМОРАЖИВАНИИ РОССИИ” Фигура Константина Николаевича Леонтьева воспринималась и воспринимается чаще всего как некое воплощение, почти что, символ крайнего консерватизма в русской общественной мысли, и причисление его к творческому направлению в традиционализме, вероятно, способно вызвать недоумение. Создалась уже более чем вековая привычка видеть в Леонтьеве трубадура социальной неподвижности, некоего “близнеца–брата” К.П. Победоносцева, или же — утопического реакционера, мечтающего восстановить дореформенные порядки. Уже через год после кончины мыслителя, либеральный философ С.Н.Трубецкой в специальной статье о нем охарактеризовал его социально-политическую программу, как “простое охранение status quo в Европе и России”, как “безнадежную <…> программу <…> запруд и плотин, <…> реакционных паллиативов”, усматривая в ней “обскурантизм и крепостничество” (1). Почти в тех же выражениях высказался годом позже о Леонтьеве П.Н. Милюков (2). В дальнейшем эта либеральная концепция перекочевала и в советскую гуманитарную науку. Так, по мнению М.Н. Пеуновой, Леонтьев, “будучи апологетом средневековья, <…> пытался теоретически обосновать застой, борьбу против прогресса, просвещения” (3). Р.А. Гальцева и И.Б. Роднянская причисляют его наряду с Победоносцевым к идеологам “абсолютного консерватизма”, противопоставляя их обоих “либеральным консерваторам” — Ф.М. Достоевскому, В.С. Соловьеву и И.С. Аксакову (4). Для Н.И. Цимбаева Леонтьев — прямой антагонист славянофилов — либералов, “реакционер умный, твердый”, призывавший “к застою и стагнации” (5). Л.Р. Авдеева утверждает, что леонтьевская философия — это обоснование “целесообразности сохранения и реставрации феодально-патриархального уклада общественной жизни” (6). С.И. Бажов считает, что мыслитель “решительно встал на сторону социальных и культурноисторических сил, боровшихся за сохранение в неизменном виде “самобытно”– самодержавной России” (7). В новейшем комплексном исследовании русского “консерватизма” формулировки почти те же самые. Б.С. Итенберг соглашается с дореволюционным публицистом Л. Козловским в том, что «Леонтьев весь свой талант вложил в идейную защиту крепостничества, что он был “теоретиком и певцом” той формы государственности, “в которой застыла Россия Николая I”» (8). По В.А. Твардовской, “теории Леонтьева явились своего рода порождением консервативного максимализма Каткова, Победоносцева, Мещерского”,отличие последних от первого “скорее, в степени реакционности, нежели в ее характере” (9). Как главное доказательство особой, злостной “реакционности” Леонтьева большинство авторов, пишущих о нем, приводят или используют (зачастую неточно) один и тот же знаменитый афоризм Константина Николаевича: “<…> надо подморозить хоть немного Россию, чтобы она не “гнила”…” (10) Эта фраза, ставшая, что называется, “крылатой”, буквально заворожила сознание нескольких поколений исследователей творчества мыслителя, толкующих ее не иначе как квинтэссенцию, как визитную карточку его социально-политической философии. П.Н. Милюков, кажется, первый заостривший внимание на крамольном леонтьевском “словце” (и высказавший, кстати, убедительное предположение, что оно есть реминисценция из “России и Европы” Н.Я. Данилевского) привел его в искаженном виде (вместо “не “гнила”” — “не жила”), благодаря чему оно приобрело зловеще–одиозный смысл (11). Н.А. Бердяев поставил его одним из двух эпиграфов к своей ранней статье о Леонтьеве и передал ход мысли последнего следующим образом: “<…> через Россию можно еще спасти мир, а для этого нужно заморозить (так! — С.С.) ее хотя бы самым мрачным насилием” (12). Известный русский правовед П.И. Новгородцев так рисовал умонастроение Леонтьева (“пессимистический консерватизм”): “Он мечтает о счастливой старине, о давно прошедших веках, и для тех народов, которые сохраняют еще связь с прошлым, он знает один совет — задержать, подморозить жизнь” (13). Философ–эмигрант Ф.А. Степун, характеризуя деятельность и мировоззрение К.П. Победоносцева, доказывал, что близок последнему был “разве только Константин Леонтьев. Сказанная им (Победоносцевым. — С.С.) фраза: “Разве вы не видите, что Россия ледяная пустыня, по которой ходит лихой человек” — явно напоминает известное леонтьевское изречение: “Надо подморозить Россию, чтобы она не загнила (так! — С.С.)”” (14). П.П. Гайденко трактует пресловутый афоризм как “теоретическое обоснование (? — С.С.) консерватизма Леонтьева, проникнутое глубоким пессимизмом, поскольку такого рода “подмораживание” есть мера заведомо паллиативная” (15). М.Ю.Ч ернавский считает, что знаменитая фраза явилась “квинтэссенцией правительственных контрреформ” при Александре III (16). Образ “подмораживаемой” России стал настолько расхожим, что проник даже в публицистику и художественную литературу. Известный поэт-футурист Велимир Хлебников, например, в статье 1913 г. “Западный друг” писал: “Возгласы о титаническом величественном столкновении заставляют вспомнить о Титанике, погибающем от льда, и о льдине Конст. Леонтьева. Может быть, в Северном море еще плавают льдины. Может быть, для этого Леонтьев просил кого-то “заморозить (так! — С.С.) Россию”” (17). В воображении поэта-символиста Бориса Садовского уже сам Леонтьев “замерз в глыбе кристального льда” (18). Даже Максим Горький не устоял от соблазна процитировать сакраментальные слова устами Клима Ивановича Самгина (19). Но наряду с вышеизложенной концепцией, существовала и существует иная точка зрения, подчеркивающая творческий характер леонтьевских идей. Еще в 1894 г. Л.А. Тихомиров, полемизируя с С.Н. Трубецким, настаивал на том, что автор “Византизма и славянства” “не мог, по идеалам своим требовать застоя, потому что он сам признавал никуда не годным то место, на котором мы стоим.<…> Он, по существу, звал к будущему, к “прогрессу” того типа, который мы получили от рождения. Никакой “реакции”, никакого “ретроградства” тут быть не может.<…> Леонтьев скорее напоминает якобинца 1793 г., чем гр. Аракчеева” (20). Поэт и критик В.В. Бородаевский, человек достаточно левых убеждений, тем не менее, отмечал в 1910 г., что “Леонтьев, защитник власти, не был консерватором в обычном смысле слова. <…> Ему рисуются широкие перспективы иного, обновленного строя <…>” (21). В советской историографии миф о Леонтьеве–“подмораживателе” впервые подверг сомнению в 1969 г. А.Л. Янов. Мы говорили в первой главе о его, в сущности, верном, но терминологически неудачном разделении “охранителей” и “консерваторов”. Константина Николаевича Янов решительно относит ко вторым (22). Более того, исследователь выдвинул гипотезу, согласно которой, “Леонтьев предложил альтернативный путь развития капитализма в России, “самобытный” характер которого состоял, по его мнению, в естественной для русской истории “принудительной прогрессивности”. Это был путь быстрого индустриально-милитаристского роста страны, сохранявший и даже укреплявший в то же время неограниченную авторитарную монархию” (23). Позднее, Янов продолжал развивать свою идею, но теперь он уже говорит о леонтьевском “социализме” и даже “национал-социализме”, который дает “возможность стремительно и жестко индустриализовать страну” (24). (Отдельные моменты яновских построений мы обсудим ниже). По мнению Н.В. Лиливяли, Леонтьев “полагал вполне возможным создать совершенно новую политическую культуру, направив Россию по пути “консервативного прогресса”. <…> Идеальное общество будущего Леонтьев не наделял качеством статичности, оно должно было развиваться” (25). А.И. Абрамов также пишет о “”консервативном прогрессе” леонтьевской историософской системы”, противопоставляя ее “простому и вульгарному реставрированию исторического прошлого” (26). А.М. Салмин подчеркивает антидетерминистские элементы философии автора “Среднего европейца…” и неожиданно сближает его с “консервативными либералами вроде Токвиля, Л.фон Штейна, Риля и др.” (27) А.Ф. Сивак резко противопоставляет Леонтьева Победоносцеву и Каткову, утверждая, что он “в прямом смысле консерватором не был, он совершенно не предполагал, как Катков, сохранения того, что существует в России”, а “предполагал восстановить в стране саму идею византизма и все ее реальные атрибуты в тех формах, которые доступны практической реставрации”; мыслитель был “радикальным пророческим консерватором” (28). А. Игнатов именует Константина Николаевича “одним из крупнейших представителей “консервативной революции”” и “революционным реакционером” (29). Не трудно догадаться, что из двух представленных выше точек зрения мы поддерживаем вторую. К тем аргументам, которые уже приводили ее выразители, мы хотели бы добавить и несколько своих. Прежде всего, нам представляется целесообразным наконецто детально разобрать мифологему “подмораживания” и выяснить — насколько адекватно она выражает основной пафос леонтьевской философии. Желание “подморозить хоть немного Россию” Леонтьев высказал в статье “Газета “Новости” о дворянском пролетариате” (газета “Варшавский дневник” от 1 марта 1880 г.). Но практически никто из “леонтьевоведов” не обратил внимания на то, что смысл этого высказывания разъясняется, уточняется и, отчасти, даже дезавуируется в двух написанных в том же году статьях — “Чем и как либерализм наш вреден?” (“Варшавский дневник”, № 46, 49 за 1880 г.) и “Наши окраины” (опубликована только в 1882 г. в газете “Гражданин”; в данном случае, перекличка отмечена В.И. Косиком и Г.Б. Кремневым (30)). В первой статье автор недвусмысленно утверждает, что “таяние” России “одним репрессивным подмораживанием без некоторых ретроградных реформ (выделено нами. — С.С.) вполне и приостановить нельзя” (31). Т.е. Леонтьев ясно и четко дает понять, что “подмораживание” для него — мера временная, что его истинная, позитивная программа — “ретроградные реформы”. “Быть просто консерватором в наше время было бы трудом напрасным, — пишет мыслитель в той же работе. — Можно любить прошлое, но нельзя верить в его даже приблизительное возрождение. Примеров полного возобновления прожитого история не представляет, и обыкновенно последующий период — есть антитеза предыдущего, в главных чертах; побочные же черты сохраняют связь с прошедшим или даже возвращаются к очень далеким векам”. Как видим, Константин Николаевич говорит вещи, которые сегодня не будет отрицать ни один образованный человек, это азбука историзма, его общие места. Но в 1880 г. для большинства русской интеллигенции, верившей в благодетельный, разрешающий все противоречия прогресс, такие слова звучали раздражающе-ново. Леонтьев предсказывает, что либеральные реформы, дойдя до “такой точки насыщения, за которой эмансипировать будет уже некого и нечего”, вызовут как антитезис “опять постепенное подвинчивание и сколачивание” в новых формах, и “каковы бы ни были эти невиданные еще формы в подробностях, но верно одно: либеральны они не будут”. “Точка поворота”, уверен автор, “должна совпасть со следующими двумя событиями: социалистическим бунтом в Париже, более удачным, чем прежние, и взятием славянами Царьграда <…> Значение Парижа и Европы будет с этой минуты умаляться; значение Босфора и вообще чего-то другого — расти” (32). “Чего-то другое” — это и есть те самые “ретроградные реформы”, которые возникнут в леонтьевском тексте буквально через абзац. Заканчивается статья новым напоминанием того, что “репрессивные меры (т.е.”подмораживание”. — С.С.) не могут быть сами по себе целью; они только временный прием для того, чтобы люди “не мешали” приготовить что-нибудь более прочное в будущем” (33). В “Наших окраинах” упоминается о “новом созидании” (те же “ретроградные реформы”), которого мыслитель ждет от России, вставшей “во главе какого-нибудь Восточного союза” (см. “взятие славянами Царьграда”). Но “теперь, — подчеркивает он, — до разрешения Восточного вопроса, надо одно — подмораживать все то, что осталось от 20-х, 30-х, 40-х годов и как можно подозрительнее (научно-подозрительнее) смотреть на все то, чем подарило нас движение 60-х и 70-х годов” (34). Любопытно, что после 1880 г. метафора “подмораживания” исчезает из сочинений Леонтьева. Нам известно только одно ее использование (в сугубо отрицательном контексте) — в часто цитируемом письме Т.И. Филиппову 1880-х гг. (к сожалению, его подлинник недоступен современным исследователям). Константин Николаевич дает в этом письме следующую характеристику К.П. Победоносцеву: “Человек он очень полезный; но как? Он как мороз; препятствует дальнейшему гниению; но расти при нем ничего не будет. Он не только не творец, но даже не реакционер, не восстановитель, не реставратор, он только консерватор в самом тесном смысле слова; мороз, я говорю, сторож; безвоздушная гробница; старая “невинная” девушка и больше ничего!!” (35) Здесь система образов говорит сама за себя: “мороз”-“консерватор в самом тесном смысле слова”-“сторож”-“безвоздушная гробница”-“старая “невинная” девушка” — все эти синонимы обозначают явление низшего порядка даже по сравнению с “реакционером”-“восстановителем”-“реставратором”, а уж тем более — “творцом”. “Препятствовать дальнейшему гниению” — задача важная, но чисто негативная; позитивная программа определяется словом “расти”. “<…> Леонтьев хотел роста, цветения <…>” — комментирует этот пассаж Ю.П. Иваск, настаивающий на том, что фраза о “подмораживании” не выражает взглядов мыслителя в целом (36). Легко понять, почему тема “подмораживания” муссируется Леонтьевым в 1880 г. и почти совершенно исчезает позднее (само это слово уже не встречается в его публицистике). 1880 г. принадлежит эпохе Великих реформ Александра II, которые Константин Николаевич воспринимал как разрушительные и не видел возможности им что-то противопоставить, кроме их замедления. В примечании к одной из статей того времени (написанном уже в 1885 г.) мыслитель предельно ясно объясняет свою тогдашнюю позицию: “Это писано в печальные дни 1880 года, когда мы висели над “бездной” … Россия мне казалась тогда неизлечимо либеральной… В 82 и 83 году стало мне уже не так страшно за родину… Возвратилась вера в то, что Россия еще носит в собственных недрах своих силы органического (т.е. не либерального) возрождения и что эти силы, при не слишком замедленном разрешении Восточного вопроса, должны удесятириться… Поэтому и письма мои о “восточных делах” (82 и 83 года) имеют оттенок большей уверенности и в культурной (т.е. не западной) будущности нашей отчизны” (37). В последнем предложении Леонтьев упоминает свой цикл статей “Письма о восточных делах”, который стоит рассмотреть в данном контексте. В этой работе обсуждаются те же темы, что и в публицистике 1880 г. Присутствуют тут и “социалистический бунт в Париже” (“надо желать, чтобы якобинский (либеральный) республиканизм оказался совершенно несостоятельным <…> перед коммунарной анархией <…> Разрушение Парижа сразу облегчит нам дело культуры даже и внешней в Царьграде”); и “Восточный союз” с “ретроградными реформами” (“<…> все восточные и славянские нации, которым необходимо будет <…> войти в состав <…> Великого Союза, принуждены будут <…> произвести у себя дома прогрессивнореакционные реформы <…>”) (38). По смыслу, идеи 1880 г. полностью аналогичны идеям 1882-1883 гг., но тон, которым высказываются последние, действительно, гораздо уверенней, автор более откровенен, раскован. Это особенно хорошо видно на сравнении следующих пассажей. 1880 г.: “Мы верим, мы имеем смелость верить, что Россия еще может отстраниться от западноевропейского русла…” 1883 и 1885 гг.: “<…> нам, русским, надо совершенно сорваться с европейских рельсов и, выбрав совсем новый путь, стать, наконец, во главе умственной и социальной жизни всечеловечества”; “<…> есть слишком много признаков тому, что мы, русские, хотя сколько-нибудь да изменим на время русло всемирной истории… хоть на короткое время — да!” Во втором случае утвердительные интонации явно преобладают, в первом — ощутима нота сомнения. Вопреки всем толкам о его тотальном пессимизме, мыслитель так объяснял свое кредо в 1888 г.: “Пессимист, так сказать, космический, в том общем смысле, что зло, пороки и страдания я считаю и неизбежными и косвенно полезными для людей “дондеже отъимется луна”, я в то же время оптимист для России, собственно для ее ближайшего будущего, оптимист национально-исторический <…>” (39). Неверно было бы делить Леонтьева на “подмораживателя” в 1870-х гг. и на “консервативного революционера” в 1880-х, как это делает А.Л. Янов. “<…> Леонтьевский византизм 70-х годов, — пишет он, — есть <…> одно обнаженное, неконструктивное отрицание, лишь нигилистическая реакция охранителя на демократический нигилизм 60-х годов, по сути — парадоксально перевернутый, поставленный с ног на голову нигилизм. <…> Между этим нигилистическим византизмом и позднейшим, утопическим византизмом 80-х годов существует огромная разница. <…> тот же самый Леонтьев, вся социальноэкономическая программа которого сводилась в 70-е годы к печально популярной формуле “тащить и не пущать”, к охранению самодержавия и отрицанию социального конструированию, теперь сам конструирует” (40). Из приведенных выше леонтьевских цитат становится ясно, что и в 70-е гг. программа Константина Николаевича отнюдь не сводилась к формуле “тащить и не пущать”, что уже тогда он размышлял о “социальном конструировании” (понятие “охранительные реформы” употреблено им еще в статье 1873 г. “Панславизм и греки” (41)), просто находил его тогда не вполне своевременным, а в 80-е гг. — выдвинул его на первый план. Точно так же очевидно, что в 80-х гг. он не снимал полностью и лозунг “подмораживания”, отмечая, что нужно и “действие административного жезла <…> и теперь нужно даже до крайности; но для векового бытия этого мало, очень мало…” (42) Так что Янов абсолютно не прав, когда утверждает, что, дескать, нельзя вообще говорить о леонтьевском учении как о чем-то цельном, едином, раз и навсегда определенном. Как раз наоборот: поразительно именно неизменность леонтьевского учения в 1870-1880-х гг. Более того, судя по письмам и беллетристике мыслителя, основы его мировоззрения сложились у него уже к середине 1860-х гг. В первой своей концептуальной статье “Грамотность и народность” (1870, но написана в 1868) Леонтьев уже выступает как последовательный творческий традиционалист: “Не обращаясь вспять, не упорствуя в неподвижности, принимая все то, что обстоятельства вынуждают нас принять <…> мы можем, если поймем вполне и сами себя и других, не только сохранить свою народную физиономию, но и довести ее до той степени самобытности и блеска, в которой стояли поочередно, в разные исторические эпохи, все великие нации прошедшего” (43). В “Записке об Афонской Горе и об отношениях ее к России” (1872) Константин Николаевич рассуждает в том же духе: “Обновление во всем неизбежно; от движения вперед, от изменений, к упадку ли они ведут или к развитию лучшего, устраниться нет возможности” (ср. с тезисом 1882 г.: “На месте стоять нельзя; нельзя и восстановлять, что раз по существу своему утрачено <…>”) (44). Тогда же в его творчестве появляется новая и важная тема — критика политического панславизма. Несколько ранее он переживает религиозный кризис, после чего становится приверженцем строгого, “византийского” Православия. Наконец, в 1875 г. выходит в свет главный историософский труд Леонтьева “Византизм и славянство”, где формулируется “теория триединого процесса развития”, после чего принципиальных изменений его мировоззрение не претерпевает. Конечно, время вносило в него и определенные коррективы, но никакой пропасти между взглядами мыслителя в 1870-х и 1880-х гг. — нет. Янов, уверяющий, что “различие между этими двумя взглядами столь велико и принципиально, что если оставить в стороне яркую художественную индивидуальность Леонтьева, можно было бы подумать, что высказаны они были разными людьми”, просто невнимательно читает леонтьевские тексты, где важен каждый абзац, каждая фраза. Невнимательность, порой, приводит его к прямо-таки анекдотическим умозаключениям. Например, он доказывает, что-де, если в 70-х гг. Леонтьев был врагом технического прогресса, то в 80-х -призывал “индустриализовать страну”, а в качестве аргумента приводит высказывание Константина Николаевича о необходимости экономических реформ (45). Т.е. исследователь явно не понимает разницы между экономическими реформами, о коих действительно писал его герой, и техническим прогрессом, о котором “ни при какой погоде” автор “Среднего европейца …” не сказал ни единого доброго слова. Неужели Янов не знаком с леонтьевскими письмами В.В. Розанову, где (30 июля 1891) недвусмысленно говорится: “<…> все усовершенствования новейшей техники ненавижу всею душою и бескорыстно мечтаю, что хоть лет через 25-50-75 после моей смерти истины новейшей социальной науки, сами потребности обществ потребуют, если не уничтожения, то строжайшего ограничения этих всех изобретений и открытий” (46)? Похожие высказывания есть и во многих леонтьевских статьях 80-х гг. Вполне вероятно, что мыслитель допускал неизбежность технического прогресса для усиления русского государства (по крайней мере, он не отрицал необходимости промышленного развития и выступал за “протекционную систему” (47)), но лозунгов “индустриализации страны” в его текстах нет, и незачем их ему приписывать. Итак, совершенно очевидно, что представление о Леонтьеве как о “подмораживателе”, т.е. апологете “застоя и стагнации”, основанных на насильственном подавлении всякого движения, вполне несостоятельно. Это именно мифологема, а не научно обоснованная концепция. Характерно, между прочим, что никто из “леонтьеведов” не заметил, что в том же абзаце, откуда взят афоризм о “подмораживании”, есть и недвусмысленное утверждение о “вреде застоя” (в другом месте говорится о том, что “государство есть своего рода организм, которому нельзя дышать исключительно ни азотом полного застоя, ни пожирающим кислородом движения <…>”) (48). Несправедливы и многие частные претензии к “византинисту-изуверу” (49). Не вполне корректно, скажем, обвинение в “крепостничестве”. Еще в 1880 г. Константин Николаевич характеризовал крестьянскую реформу 1861 г. как “самую, можно сказать нелиберальную (наивысшая похвала в его устах. — С.С.) из реформ нашего времени в России” и со значением подчеркивал, что “она-то и оказалась самою, так сказать счастливою” (50). В неопубликованной при жизни работе “Культурный идеал и племенная политика” (1890) мыслитель объяснял, что “без освобождения крестьян обойтись в половине XIX века было невозможно…” (51). Конечно, это не похоже на демократическую проповедь, но уж, во всяком случае, на пропаганду крепостничества — тоже. Также неверно видеть в Леонтьеве какого-то безусловного поклонника Николая I. Отзываясь об этом императоре с большим уважением, он, тем не менее, не признавал его политику “национальной” — “ни в обыкновенном смысле славянско-племенном, ни в моем, в смысле явного стремления обособить как можно более Россию от Запада в отношении духа цивилизации и в отношении нравов. Николай Павлович, видимо, довольствовался тем, чтобы Россия была самым сильным из европейских государств” (52). Неубедительной выглядит параллель, проведенная Ф.А. Степуном между Леонтьевым и Победоносцевым. Мы уже цитировали резкий и многозначительный отзыв первого о втором, но важно отметить и то, что афоризм Победоносцева о России как о “ледяной пустыне” нимало не сходен с леонтьевским призывом к “подмораживанию”. Для Константина Николаевича Россия отнюдь не “ледяная пустыня”, она наоборот слищком “тепла” и потому ее нужно “хоть немного” “подморозить”, укрепить ее, так сказать, форму, которую она может потерять при излишне высокой “температуре” (ср. например: “Нам нужно побольше церковности, побольше знания, чтобы придать больше ясности и твердости нашей разнузданной теплоте, нашей горячей, ноющей тоске” (53)). Там, где у Победоносцева — отсутствие жизни, у Леонтьева, пусть больная, но все же жизнь. Не следует преувеличивать и близость мыслителя с Катковым, она была скорее делового, чем идейного плана. В своих письмах Леонтьев говорит об издателе “Русского вестника” (журнале, где была опубликована большая часть его прозы) как о “гениальном и пока еще незаменимом подлеце”. Очень высоко оценивая деятельность Каткова (предлагая даже поставить ему при жизни памятник рядом с памятником Пушкину), Леонтьев, однако, подчеркивал, что у Михаила Никифоровича “и тени нет смелости в идеях, ни искры творческого гения, — он смел только в деле государственной практики и больше ничего”. Смерть Каткова Леонтьев воспринял как хороший знак: “<…> пуговку-то электрическую на Страстном бульваре (там располагалась редакция, издаваемых Катковым, “Московских ведомостей”. — С.С.) сам Господь вовремя прижал. Это предвещает присоединение Царьграда и сосредоточение там Церковного управления” (54). Для понимания мировоззрения Леонтьева важно уяснить: он никогда не выступал против развития как такового, но понимал его совершенно по-другому, нежели идеологи либерализма или социализма. Более того, по точному замечанию С.Л. Франка, с леонтьевской точки зрения, “так называемый прогресс <…> реакционен <…>” (55). Процесс развития, по мнению автора “Византизма и славянства”, есть “постепенное восхождение от простейшего к сложнейшему”, высшей точкой которого является “высшая степень сложности, объединенная неким внутренним деспотическим единством”. Поэтому “эгалитарно-либеральный процесс есть антитеза процессу развития”, ибо ведет как к ослаблению “деспотического единства”, так и к всеобщему уравниванию (социальному и цивилизационному), а в итоге — к “вторичному смесительному упрощению” и к гибели “всечеловечества” (“в однообразии — смерть”) (56). Следует отметить, что мыслитель не отказывался полностью от употребления в позитивном смысле понятия “прогресс”. Он различал прогресс “как развитие, <…> как дифференцирование в единстве” и прогресс “как уравнение и ассимиляция”. “Надо, — подчеркивал Леонтьев, — <…> отречься не от прогресса правильно понятого, т.е. не от сложного развития социальных групп и слоев в единстве мистической дисциплины, но от <…>либерально-эгалитарного понимания общественного прогресса; и заменить это детское мировоззрение философией, <…> которая учит, что все истинно великое, и высокое, и прочное вырабатывается никак не благодаря повальной свободе и равенству, а благодаря разнообразию положений, воспитания, впечатлений и прав, в среде, объединенной какой-нибудь высшей и священной властью” (57). Не нужно также забывать, что Константин Николаевич считал себя последователем учения Н.Я. Данилевского о “культурно-исторических типах”, которое отвергало идею единого общечеловеческого прогресса (где за общечеловеческое выдавалось европейское) и доказывало возможность прогресса каждой цивилизации на основе собственной исторической традиции. И “учитель”, и “ученик” надеялись на возникновение нового славяно-русского культурно-исторического типа, и потому их упования направлены прежде всего на будущее, а не на прошлое и настоящее. “<…> Данилевский стоит за движение вперед, за сильный и бесстрашный процесс развития, а не за одни данные современности. <…> Данилевский имел в виду преимущественно будущее и даже во многом небывалое <…>” (58) — сочувственно констатировал Леонтьев. Можно, конечно, не соглашаться с леонтьевской методологией, (хотя сегодня она вовсе не выглядит маргинальной — цивилизационный подход к истории изучают даже в школе), считать его идеалы вредной утопией, но нельзя не замечать творческого пафоса, пронизывающего сочинения мыслителя. “Отчего же и не мечтать нам, русским? Отчего не “фантазировать“ смелее? Необходимо нам дерзновение ума и полезен нам каприз фантазии… Нас теперь призывает история к очереди нашей! Ошибки в сфере искусства и мысли, даже самые грубые, если они являются рядом с живыми указаниями, и те гораздо плодотворнее вечной осторожности, вечного terre-a-terre, вечного какого-то озирательства” (59), — похожи ли эти революционные призывы на кредо консерватора–“подмораживателя”? Конечно, у фантазий самого Константина Николаевича были пределы, и он их четко обозначал: “ <…> Мечтать и надеяться мы все имеем право, но только о чем-нибудь таком, чему бывали сходные примеры, о чем-нибудь, что хотя бы и приблизительно, да бывало или где-нибудь есть. <…> Поэтому мечтать и заботиться об оригинальной русской, славянской или нововосточной культуре можно, и позволительно даже искать ее. <…> Но с точки зрения умственной непозволительно мечтать о всеобщей правде на земле, о какой-то всеобщей мистической любви, <…> о равномерном благоденствии” (60). Как верно заметил Р.В. Иванов-Разумник, Леонтьев проповедует “расцвет нового, но нового старого” (61). Мыслитель был убежден в том, что “какие бы революции ни происходили в обществах, какие бы реформы ни делали правительства — все остается; но является только в иных сочетаниях сил и перевеса; больше ничего” (62). Структуру любого общества, по его мнению, определяют некие постоянные элементы, которых “нельзя никак вытравить из социального организма дотла. Можно только доводить каждую из этих сил до наименьшего или наибольшего его проявления”. Такие элементы Леонтьев величает “реальными силами”, и считает, что к ним относятся : “религия или Церковь, с ее представителями; государь с войском и чиновниками; различные общины (города, села и т.п.); землевладение; подвижной капитал; труд и масса его представителей; наука с ее деятелями и учреждениями; искусство с его представителями” (63). Таким образом, общество в своем развитии неизбежно приобретает новые социально-политические формы, но его основы остаются неизменными. Это и есть главный тезис творческого традиционализма. Другое дело, что Леонтьев (да и другие традиционалисты) надеялись сохранить не только основы, но и, в модернизированном виде, некоторые формы Российской империи. История показала, что, насколько верным оказалось учение о “реальных силах”, настолько утопичной — надежда удержать их именно в той конфигурации, которая казалась традиционалистам идеальной. Мировоззрение К.Н. Леонтьева отличается исключительной сложностью, в нем поражает, по меткому замечанию В.В. Розанова, “разнопородность состава” (64). Действительно, трудно найти в истории русской культуры другого мыслителя (за исключением того же Розанова), в творчестве которого бы так причудливо соединялись консервативное и радикальное начала, представляя нам образец гармонии по-леонтьевски — “поэтического и взаимного восполнения противоположностей” (65). И это чувствовали даже некоторые внимательные наблюдатели, совсем не разделявшие его социально-политических упований. С.Л. Франк, например, называл автора “Среднего европейца…” “духовно прогрессивным реакционером” (66). В “ряду духовных революционеров” (вместе с М.А. Бакуниным) его упомянул М. Горький (67). Г.В. Адамович доказывал, что его место в соседстве не с Катковым и Победоносцевым, а — с Чаадаевым и Герценым (68). Такие оценки лишний раз подтверждают, что понимание Леонтьева исключительно как идеолога “подмораживания” России очень далеко от истины. 3.2 ИДЕИ К.Н. ЛЕОНТЬЕВА В КОНТЕКСТЕ ТВОРЧЕСКОГО ТРАДИЦИОНАЛИЗМА Теперь проверим леонтьевскую мысль на соответствие основным постулатам творческого традиционализма. 1. Как мы уже упоминали в предыдущем параграфе, Леонтьев считал себя учеником Н.Я. Данилевского, последователем его теории культурно-исторических типов. “Я боготворю и зову его Евангелие <…>” (69) — таков был отзыв Константина Николаевича на только что вышедшую в журнале “Заря” книгу "учителя" “Россия и Европа”. В той же “Заре”, в 1871 г., появилась и работа самого "ученика" (“Грамотность и народность”), написанная еще в 1868 г., т.е. за год до публикации “России и Европы”, где он с энтузиазмом декларирует свою веру в “великую, назревающую славяно-русскую культуру, которая одна только в силах обновить историю” (70). Этой же вере он присягает и в 1880-е гг.: “<…> Россия, имеющая стать во главе какой-то ново-восточной государственности, должна дать миру и новую культуру, заменить этой новой славяно-восточной цивилизацией отходящую цивилизацию романо-германской Европы” (1881). Россия противополагается “всей Европе, как особый мир, как новый культурный тип (только временно для целей быстрейшего развития впавший в чрезмерную подражательность)<…>” (71). Леонтьев постоянно подчеркивал, что “главная заслуга Данилевского<…> то, что он первый в печати смело поставил своеобразие культуры как цель” (72). Для него же самого “новая, независимая, оригинальная культура” была “общим и всеобъемлющим идеалом”, совокупно заключающим в себе “все частные, так сказать <…> идеалы, сохранение святыни Православия и даже дальнейшее правильное развитие его, богатство, слава, всемогущество в делах международных, новые пути в науке и философии, новые формы и искусства <…>” (73). Таким образом, идея культурного своеобразия России была центральной идеей мировоззрения Леонтьева, он даже характеризовал себя в одном из писем как “мономана и "психопата" этой особенной культуры”, опасающегося как бы задачи более злободневные не отодвинули на второй план “эту главную собственно-национальную цель” (74). Требования мыслителя к "славяно-восточной цивилизации" были немалыми. “<…> Мы желали бы, чтобы Россия ото всей Западной Европы отличалась настолько, насколько Греко-Римский мир отличался от азиатских и африканских государств древней истории или наоборот” (75), — писал он в 1870 г. В 1887 г. Леонтьев продолжает мечтать о создании и развитии “своей культуры на всех, по возможности, поприщах независимой от европейской, на нее непохожей, отличной от нее настолько, например, насколько Персия Камбиза и Ксеркса была не похожа на современные ей греческие республики, или настолько, насколько Рим был не похож на подчиненные ему впоследствии восточные царства, или, наконец, настолько, насколько романо-германский мир отличался и от предшест-вовавшего ему языческого Рима, и от современной ему вначале Византии” (76). Легко заметить, что Константин Николаевич говорит о будущей оригинальной "славяно-русской культуре", пока же, по его мнению, “Россия <…> это — целый мир особой жизни, <…> не нашедший еще себе своеобразного стиля”, “эклектический колосс, почти лишенный собственного стиля” (77). В последние годы жизни Леонтьев вообще стал сомневаться в способности России дать новый культурно-исторический тип. “<…> Если даже допустить , — писал он о.Иосифу Фуделю, — что романо-германский тип несомненно разлагаясь, уже не может в нынешнем состоянии удовлетворить все человечество, то из этого вовсе не следует, что мы, славяне, в течение 1000 лет не проявившие ни тени творчества, вдруг теперь под старость дадим полнейший 4-х основный культурный тип <…>”. Более того, мыслитель не исключал того, что “человечество легко может смешаться в один общий культурный тип. Пусть это будет перед смертью — все равно” (78). Однако, при всем при этом, он был уверен, что какая-то особая миссия у России все равно есть: “<…> в исполинском каком-то назначении нашем <…> сомневаться нельзя” (79). Леонтьев предполагал несколько сценариев ближайшего будущего: “Что-нибудь одно из трех: 1) Особая культура, особый строй, особый быт, подчинение своему Церковному Единству; или 2) Подчинение Славянской государственности Римскому Папству; или 3) Взять в руки крайнее революционное движение и, ставши во главе его — стереть с лица земли буржуазную культуру Европы. Недаром построилась и не достроилась еще эта великая государственная машина, которую зовут Россией… Нельзя же думать, что она до самой (до неизбежной во времени все-таки) до гибели и смерти своей доживет только как политическая, т.е. как механическая сила, без всякого идеального влияния на историю” (80). 2. Распространяться по этому пункту слишком подробно не имеет смысла, ибо Леонтьев давно имеет устойчивую и вполне заслуженную репутацию одного из самых красноречивых обличителей буржуазной цивилизации в русской мысли XIX в. Вл.С. Соловьев даже считал, что “у него не было одной господствующей и объединяющей любви, но была одна главная ненависть — к современной европейской цивилизации <…>” (81). С.Л. Франк говорил о его “фанатической ненависти <…> к "эгалитарному" прогрессу, к будничным, мещанским, прозаическим формам современной европейской цивилизации” (82). С.А. Левицкий утверждал, что “вряд ли во всей истории русской и мировой мысли найдем мы столь откровенную и пламенную ненависть к тому царству всеобщего мещанства, которое составляет, по убеждению Леонтьева, настоящий объективный смысл того, что он называл "эгалитарным процессом" <..> В своей ненависти к мировому мещанству Леонтьев как бы заключает союз с западником Герценом <…> Но даже герценовское отвращение от западного мещанства бледнеет по сравнению с леонтьевскими страстными признаниями в ненависти и апокалиптическими проклятиями” (83). Уже одно название незавершенного трактата Константина Николаевича — “Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения” вполне достаточно характеризует воззрения мыслителя по данному вопросу. Все же мы приведем несколько выразительных леонтьевских антиевропейских филиппик. “<…> Либерализм везде одинаково враждебен тем историческим началам, в дисциплине которых вырос тот или другой народ. Либерализм есть отрицание всякой крайности, даже и самой высокой, всякого стеснения, всякого стиля. Он везде один, везде одинаково отрицателен, везде одинаково разлагает нацию медленно и легально, но верно…”. “Для нас одинаковы чужды и даже отвратительны <…> — и свирепый коммунар, сжигающий тюильрийские сокровища, и неверующий охранитель капитала, республиканец-лавочник, одинаково враждебный и Церкви своей, и монарху, и народу…” “Теперь <…> европейская мысль поклоняется человеку, потому только, что он человек. <…> это-то и есть яд, самый тонкий и самый могучий из всех столь разнородных зараз, разлагающих постепенным действием своим все европейские общества.<…> Индивидуализм демократический <…> и есть в приложении к политическим партиям, то самое, что зовется обыкновенно либеральностью”. “<…>Разрушительные явлениясовременности: парламентаризм, демократизм, слишком свободный и подвижной капитализм и не менее его свободный и подвижной пролетаризм <…>”. “О, ненавистное равенство! О, подлое однообразие! О, треклятый прогресс! О, тучная, усыренная кровью, но живописная гора мировой истории. С конца прошлого века — ты мучаешься новыми родами. И из страдальческих недр твоих выползает мышь! Рождается самодовольная карикатура на прежних людей: средний рациональный европеец, в своей смешной одежде, не изобразимой даже в идеальном зеркале искусства; с умом мелким и самообольщенным, со своей ползучей по праху земному практической благонамеренностью! <…> Возможно ли любить такое человечество?!” (84) 3. Формулу "Православие, Самодержавие, Народность" Леонтьев, в принципе, принимал, но употреблял ее либо в усеченном, либо в несколько измененном виде. Например, в письме к о. Иосифу Фуделю от 10 июля 1891 г. он пишет: “<…> В термине моем "византизм" нет даже никакого нового содержания, а только новое освещение давно знакомых фактов русской жизни (Православие, Самодержавие и т.д.). Это видно, между прочим, и из того, что это слово "византизм" употреблено мною изо всех статей моих только в одной ("Византизм и славянство") <…> После этого я нигде ни разу не говорил "византизм" (поищите-ка!), а всегда уже говорил "Православие", "Самодержавие" и т.д., просто и как все” (85). В опубликованной уже после смерти мыслителя работе “Кто правее? Письма к Владимиру Сергеевичу Соловьеву” (1890-1891) — похожий пассаж о термине "византизм": “Почему я избрал это слово "византизм" <…> Отчего я не говорил просто, как говорят другие: "Православие, Самодержавие"… и т.д.?” (86) Это частое "и т.д." вместо "Народности" нас заинтересовало и мы провели специальное исследование, которое показало, что Константин Николаевич нигде в своих сочинениях и в тех письмах, которые нам доступны, не использует "уваровской" триады полностью. Единственное исключение (и то не стопроцентное) — в статье 1880 г. “г. Катков и его враги на празднике Пушкина”, в применении к М.Н. Каткову — “защитнику Церкви, Самодержавия и дворянства (отчасти и народности) <…>” (87). Не трудно здесь заметить и выделенное курсивом "отчасти", и "народность" с малой буквы. В статье “Г.Колюпанов, земский деятель” (1880) Леонтьев формулирует: “Главные исторические основы нашей русской жизни три: Православие, Самодержавие и поземельная община” (88). В работе “Владимир Соловьев против Данилевского” (1888) "основами" России названы только Православие и Самодержавие (89). В уже упомянутом трактате “Кто правее?” говорится о том, что “национальный русский идеал понимается всеми более или менее так. Православие и его усиление; Самодержавие и его незыблемость <…>”, а далее вместо ожидаемой "народности" перечисляются и "сословный строй", и "неотчуждаемость крестьянских земель", и "создание новых форм быта", и проч. (90) Совершенно очевидно, что для Леонтьева неупоминание "Народности" имеет принципиальный характер и, как нам кажется, причины этого легко установить. Вопервых, Константин Николаевич крайне подозрительно относится к "народности" как самодостаточному принципу. Хорошо известно его полемика против "политического", "племенного" "национализма", начатая им еще в “Византизме и славянстве”: “Что такое племя без системы своих религиозных идей? За что его любить? <…> Любить племя за племя — натяжка и ложь. <…> Идея национальностей чисто племенных в том виде, в каком она является в XIX веке, есть идея космополитическая, антигосударственная, противорелигиозная, имеющая в себе много разрушительной силы и ничего созидающего <…>” (91). Позднее он посвятил данной проблеме специальные работы “Национальная политика как орудие всемирной революции” (1888), “Плоды национальных движений на православном Востоке” (1888-1889), “Культурный идеал и племенная политика” (1890), в которых он противопоставил созидательный “культурный” национализм — национализму разрушительному “племенному”: “<…> когда национализм имел в виду не столько сам себя, сколько интересы религии, аристократии, монархии и т.д., тогда он сам-то и производил невольно. И целые нации, и отдельные люди <…> становились все разнообразнее, сильнее и самобытнее. <…> когда национализм ищет освободиться, сложиться, сгруппировать людей не во имя разнородных, но связанных внутренно интересов религии, монархии и привилегированных сословий, а во имя единства и свободы самого племени, результат выходит везде более или менее однородно-демократический. <…> Национализм политический, государст-венный становится в наше время губителем национализма культурного, бытового” (92). Подозрительность Леонтьева, в этом смысле, была оправдана еще и потому, что категория “Народности” была в свое время инкорпорирована С.С. Уваровым в “символ веры” Российской империи именно из либеральных источников (93). Во-вторых, как мы уже отмечали, в леонтьевском представлении, русский народ еще не обрел таких ярких, отчеканенных особенностей, чтобы можно было говорить о его культурном своеобразии, а без последнего, считал мыслитель, нация не имеет никакого исторического, да и политического значения: “Я не вижу еще того страстного и вместе с тем глубокомысленного руссизма, которого желал бы видеть в жизни своих сограждан” (94). “Православие” же и “Самодержавие” не есть собственно русское изобретение, они наследие “византизма”, но “в настоящем” именно “Православное Самодержавие есть главный отличительный признак русской национальности <…>” (95). Это не значит, что Леонтьев отрицает “Народность” напрочь, что он ставит знак равенства между “руссизмом” и “византизмом”. “Византизм” — это фундамент, на котором русские могут и должны строить что-то свое, новое и оригинальное. Умолчание “Народности” означает, что о ней еще рано говорить, что она пока потенциальна, что ее нужно созидать: “Я <…> жажду духовной и культурной независимости для русской национальности, но не такой бледной и слабой, какова эта независимость у нас теперь” (96). Поэтому на место “Народности” иногда ставится что-то более осязаемое, скажем, “поземельная община” — социальный институт, отличающийся вполне определенным своеобразием. Таким образом, у Леонтьева “заветная триада” сохраняется, но третий ее член пребывает в состоянии становления. Что же касается преобладания “Православия”, то оно утверждается мыслителем еще более недвусмысленно, чем славянофилами. “Православие — это нервная система нашего славянского организма <…>”; “Православие есть сущность русской народности” (97), — подчеркивал Леонтьев. “Человек, истинно верующий <…> не должен колебаться в выборе между верой и отчизной. Вера должна взять верх и отчизна должна быть принесена в жертву, уже по тому одному, что всякое государство земное есть явление преходящее, а душа моя и душа ближнего вечны, и Церковь тоже вечна <…>” (98). “Церковь Вечна, но Россия не вечна и, лишившись Православия, она погибнет. Не сила России нужна Церкви: сила Церкви необходима для России; Церковь Истинная, духовная — везде. Она может переселиться в Китай <…>” (99). “Если бы в каком-нибудь Тибете или Бенгалии существовали бы православные монголы или индусы с твердой и умной иерархией во главе, то мы эту монгольскую или индустанскую иерархию должны предпочесть даже целому миллиону славян с либеральной интеллигенцией a la Гамбетта или Тьер <…>” (100). 4. Леонтьев резко отрицательно относился к тому положению вещей, которое сложилось в России в результате Великих реформ, решительно отвергая “плоды 25-летнего либерального развинчивания России по европейским образцам, плоды, с одной стороны, ужасные, а с другой — столь презренные <…>” (101). По его мнению, “старая жизнь на началах 60-х годов оказалась непригодною; нужна жизнь новая <…>” (102). В представлении мыслителя Россия являет собой больной организм, нуждающийся в радикальном лечении: “”Северный исполин” заболел либеральной горячкой; он заразился “бактериями” западной демократии” (103). Отрицанию, в целом, подвергается и весь петербургский период русской истории. Леонтьев уповает на то, что “близится конец России собственно петровской и петербургской <…> Другими словами, <…> на началах исключительно европейских нам, русским, нельзя уже жить <…> Конец петровской Руси близок… И слава Богу. Ей надо воздвигнуть рукотворный памятник и еще скорее отойти от него, отрясая романо-германский прах с наших подошв! Надо, чтобы памятник “нерукотворный” в сердцах наших, т.е. идеалы петербургского периода поскорее в нас вымерли” (104). Нетрудно увидеть здесь родство с построениями славянофилов, но Константин Николаевич, в отличие от последних, признавал временную необходимость государственного западничества: “Было время, когда европеизм был нужен нам как дрожжи; теперь эти дрожжи превратились в гнилостные бактерии” (105).Позитивная программа Леонтьева включает в себя как консервацию старого, так и творчество нового: “<…> необходимо не только сохранить много из всего того нелиберального <…>, что осталось от нашей прежней <…> истории; но и создать кое-что небывалое в подробностях <…>” (106). Его Большой проект традиционалистской модернизации России был еще более глобальным, чем славянофильский, он подразумевал как цель — “культурное здание, еще небывалое по своей обширности, по роскошной пестроте своей и по сложной гармонии государственных линий <…>” (107). 5. Для Леонтьева “религия, преобладающая в каком-нибудь народе”, есть “краеугольный камень охранения прочного и действительного”, она “в общественной жизни подобна сердцу в организме животном” (108).Исходя из этого, он полагал, что “Русское государство <…> без постоянного возбуждения или подогревания, так сказать, церковных чувств” долго прожить не сможет и потому “усиление Церкви крайне нужно; проникновение мистико-христианскими идеями спасительно даже и для приблизительного, для временного, для относительного земного благоденствия нашего” (109). Его не удовлетворяло приниженное положение Русской Православной Церкви в Российской империи. Отзываясь на книгу Вл.С. Соловьева “Россия и Вселенская Церковь”, Константин Николаевич писал К.А. Губастову: “Его (Соловьева. — С.С.) критика наших “синодальных” порядков, к несчастию, очень похожа на истину. Религия православная в России держится только нашими искренними личными чувствами, а церковное устройство вовсе не таково, чтобы могло усиливать и утверждать эти личные чувства” (110). “<…> В том горе, что у нас Церковь слишком зависима от светской власти” (111), — отмечал он в другом месте. Леонтьев одобрял и поддерживал славянофильские церковно-политические идеи: “<…> когда дело касалось Церкви, то правее были и остаются до сих пор славянофилы, — они желали Церкви более сильной и более свободной, чем Церковь, реформированная Петром” (112). Митрополит Антоний (Храповицкий) вспоминал, что в беседе с ним мыслитель говорил о необходимости восстановления Патриаршества в России (113). Однако леонтьевские мечтания в этой области простирались гораздо дальше. В ряде статей и писем автор “Византизма и славянства” высказывал желание, “чтобы власть Русской Духовной Коллегии, Св. Синода, заменилась более и более канонической властью постоянного Вселенского Синода на Босфоре, с привилегированным Патриархом во главе” (114). Обновление Церкви виделось ему совершенно в духе творческого традиционализма: “Церковь может жить (т.е. меняться) в частностях, оставаясь неподвижной в основах; на жизнь ее (земную) имеет большое влияние положение духовенства <…> Православная восточная Церковь никогда еще не была централизована, а запрета ей быть таковою нигде нет. Взятие Царьграда даст возможность сосредоточить силу и власть иерархии, хотя бы и в форме менее единоличной, чем на Западе, а более соборной” (115). Это “небывалое еще соборно-патриаршеское устройство” не должно быть каким-нибудь “антипапством” или православным “папоцезаризмом”, а, “по всеобщему закону полярности”, в противоположность Западу (где Церковь “монархична”, а “государственное начало многовластно”), “на Востоке Царь будет один над всеми <…> , а развившаяся дальше Церковь станет многолична и многовластна, даже и при некоторой соборноаристократической централизации на Босфоре<…>” (116). Независимая централизованная Церковь, по Леонтьеву, есть необходимая “оппозиция <…> русскому государству: эта возможность оппозиции, эта сила и свобода Церкви и есть единственная годная для России конституция <…> Ибо только Церковь, сильная и смелая, <…> может в будущем в иные минуты спасать самую государственную власть от каких-нибудь анафемских новых либераль-ностей…” (117) Но проект “соборно-патриаршеской” централизации так и остался у Константина Николаевича в виде намеков и набросков. В письме Т.И. Филиппову от 3 сентября 1889 г. он объясняет, что “об организации Восточно-Церк[овного] Единства — теперь еще не годится слишком ясно писать”, но, когда начнется, в скором времени, война с Турцией, “то я тотчас же составлю об этом секретную записку, которую через Вас и представлю Государю Императору” (118). Леонтьев хотел и в самой Церкви пробудить более активный, наступательный дух, с тем, чтобы она эффективно могла воздействовать на общественные настроения. Он упрекал духовенство в том, что даже его “лучшие <…> представители <…> не ищут влиять на общество, не ведут упорной, горячей пропаганды в высших слоях русского общества. А умная, деятельная пропаганда <…> нужнее была бы, чем проповедь алеутам и борьба со староверами, представляющими для России очень полезный тормоз…” (119) Не вполне был доволен мыслитель и интеллектуальным, образовательным уровнем современного ему духовенства. “Как хотите, — писал он священнику о. Эрасту Выторпскому, — а привлечению мирян полуверующих много вредят биографии духовных лиц, тем что они какие-то, как бы это выразиться?… “Почтительные неразберихи”. — “Свят, свят, свят” — и только. “Нынешним” это внушает недоверие” (120). Вообще леонтьевское представление о церковной жизни отличается ярко выраженным динамизмом: “Ограничивать всю жизнь Церкви одним охранением того, что уже известно, понятно, общепринято и ясно, — было бы или равнодушием, или упорством не по разуму; это значило бы обрекать Церковь пожалуй что и на полное бессилие. <…> зачем же нам прежде времени опускать руки и лишать свою Церковь всех тех обновляющих реформ, которыми она обладала в ее лучшие времена от сошествия Св. Духа до великой победы иконопочитания над иконоборчеством и т.д., и т.д.” (121) 6. Исходя из своего понимания развития как “дифференцирования в единстве”, Леонтьев полагал, что самодержавие может сохранить прочность лишь при наличии сложного сословного деления общества. Поэтому он призывал “к новому горизонтальному расслоению и к новой вертикальной группировке общин, примеренных в высшем единстве безусловно монархической власти <…>”, к созданию “новых весьма принудительных общественных групп, <…> рабочих, весьма не эгалитарных республик, вроде мирских монастырей; <…> новых, личных, сословных и цеховых привилегий…; <…> вся земля будет разделена между подобными общинами и личная поземельная собственность будет <…> уничтожена <…>” (122). Т.е., говоря терминологией XX в. мыслитель проектировал утверждение в России корпоративного общественного строя. Важным пунктом этого проекта было улучшение экономического положения рабочего класса “настолько, чтобы при неизбежном (к несчастию) дальнейшем практическом общении с Западом русский простолюдин видел бы ясно, что его государственные, сословные и общинные “цепи” гораздо удобнее для материальной жизни, чем свобода западного пролетариата” (123). Решение рабочего вопроса путем “примирения капитала и труда”, по Леонтьеву, “тот путь, на котором мы должны опередить Европу и показать ей пример” (124). Параллельно с этим должно снова возрасти значение дворянства (“которое, что там ни говори, есть реальная вековая сила нашего общества”) в качестве своеобразного “наследственного чиновничества”, с помощью которого самодержавие сможет эффективно управлять страной (125). Не забывает мыслитель и интересы крестьянства, которому полагается “побольше “земли”, где можно и когда можно” и “побольше местного самоуправления с мужицким оттенком в уездах” (126). 7. Леонтьев хорошо понимал, что “человечество стало <…> несравненно самосознательнее против прошлого, и теории ему в наше время нужнее, чем когда-либо. <…> Без какого-нибудь, хотя бы и неясного, плана и в старину не действовали, тем более необходимы теперь эти планы, эти теории. Они должны быть в наше время даже много яснее прежних, избегая только, с одной стороны, излишнего предрешения подробностей, а с другой — не забывая силы сроков” (127). В политической жизни, по его мнению, “приходит время, когда одни эмпирические действия становятся недостаточны” и “надо тут два процесса: из жизни извлечь теорию и в жизнь же ее обратить” (128). В письме А.А. Фету от 3 февраля 1888 г., он возражал последнему на его критику “кабинетных измышлений”: “<…>есть различные “кабинетные” измышления. Есть, например, такие глубокие и светлые, что рано или поздно им придется перейти в сознательную, рациональную практику” (129). Леонтьев постоянно подчеркивал необходимость для русской мысли “умственной дерзости”, “свободы ума от европеизма (новейшего, современного)” в деле формирования национального “сознательного идеала” (130). Константин Николаевич был уверен, что если “высшие представители нации”, “люди практической власти и люди умственного влияния искренно, страстно и сознательно захотят развить и утвердить в самих себе и в своей нации и религиозность, и житейскую, так сказать, самобытность”, то “народ рано или поздно пошел бы за ними и в том случае, если бы в нем самом не было бы ни того, ни другого; а в русском народе и то и другое еще и без них имеется” (131). В конце 1880-х гг. он радовался тому, что “мысль наша теперь <…> становится все более и более независимою от западной мысли”, хотя и высказывал сомнение — сможет ли этот “синтез теоретический только <…> породить синтез практический и стойкий в самой жизни” (132). 8. Как уже, наверное, ясно из предыдущего изложения, в осуществлении своих проектов Леонтьев первостепенную роль отводил активизации российской внешней политики. Он думал, что благодаря успешной войне с Австрией или с Англией (при этом предполагалось, что Германия останется нейтральной, а во Франции будет царить анархия), Россия сумеет утвердиться на Босфоре. Разрешение Восточного вопроса, по его мнению, “даст нам сразу тот выход из нашего нравственного и экономического расстройства, который мы напрасно будем искать в одних внутренних переменах.<…> Нужен крутой поворот, нужна новая почва, новые перспективы и совершенно непривычные сочетания, а главное, необходим новый центр, новая культурная столица”. Таким центром станет Константинополь, который не будет ни административной столицей Российской империи (столица перенесется в Киев), ни, тем более, ее провинцией. “Великий мировой центр этот с прилегающими округами Фракии и Малой Азии <…> должен лично принадлежать Государю Императору <…> Там само собою <…> и начнутся <…> новые порядки <…>” (133). Эту идею А.Л.Янов остроумно сравнил с идеей опричнины Ивана Грозного (134). На развалинах Турции образуется Великий Восточный Союз со столицей в Константинополе, куда войдут на правах конфедерации с Россией- Греция, Сербия, Румыния и Болгария (легко заметить, что Союз строится не по племенному (славянскому) , а по конфессиональному (православному) принципу). В дальнейшем Леонтьев планировал присоединить к Союзу “остатки Турции и всю Персию” и, удалив англичан из Египта, отдать последний турецкому султану “как нашему подручнику, в непосредственную власть”. С приемом в конфедерацию австрийских славян Константин Николаевич хотел повременить (ибо они слишком заражены “европеизмом”): “<…> они могут и подождать до тех пор, пока мы не найдем их достойными и безвредными” (135). Предполагая, в перспективе, конфликт с остальным (и, возможно, объединенным) Западом, мыслитель искал для России союзников в исламском мире (136). В письме к о. Иосифу Фуделю от 6-23 июля 1888 г. Леонтьев рисовал такую впечатляющую картину будущего столкновения Востока и Запада: “<…> если мы будем сами собой, то мы в отпор (важно заметить, что речь идет именно об обороне. — С.С.) опрокинем со славой на них всю Азию, даже мусульманскую и языческую, и нам придется разве только памятники искусства там спасать” (137). Итак, Леонтьев — совершенно очевидный творческий традиционалист. 3.3 ЛЕОНТЬЕВ И СЛАВЯНОФИЛЬСТВО Естественно, что при рассмотрении мировоззрения К.Н. Леонтьева в контексте идеологии творческого традиционализма возникает вопрос о взаимоотношениях леонтьевских идей со славянофильской доктриной, и самого Константина Николаевича с кружком “московских славян”. Данная проблема неоднократно затрагивалась в литературе, но до сих пор однозначного решения не получила. Наиболее отчетливо были высказаны крайние точки зрения: 1) Леонтьев — славянофил и 2) Леонтьев — ничего (или почти ничего) общего со славянофилами не имеет. Еще при жизни мыслителя в “Московских ведомостях” от 16 августа 1891г. появилась статья В.В. Розанова “Европейская культура и наше отношение к ней”, где автор недвусмысленно утверждал, что “именно К. Леонтьев является одним из самых глубоких исполнителей славянофильской идеи”. В 1899 г. Розанов, развивая свой тезис, писал, что в лице Н.Я. Данилевского и Леонтьева “славянофильство выходит за пределы национальной значительности и получает смысл универсальный” (138). (Позднее, правда, переменчивый Василий Васильевич утверждал и нечто совершенно противоположное: Леонтьев “не имел предшественников (все славянофилы не суть его предшественники)<…>”) (139). Для либеральных идеологов С.Н. Трубецкого и П.Н. Милюкова Леонтьев был продуктом “саморазложения” или просто “разложения” славянофильства (140). А.В. Королев считал, что “культурно-историческую систему” автора “Византизма и славянства” “можно назвать славянофильскою, но без идеализации славян и всего славянского <…>” (141). В современной литературе этот взгляд имеет своих продолжателей. А.М. Салмин, например, сближает Леонтьева с ранним славянофильством. А.Л. Янов доказывает, что мировоззрение Константина Николаевича находится “в пределах славянофильской методологии мышления” (142). Ряд авторов относит мыслителя к “неославянофилам” или к “поздним славянофилам” (143). Немало сторонников и у противоположной точки зрения. Так С.Н. Булгаков резко возражал тем, кто называл Леонтьева “славянофилом, “разочарованным”, эпигонским”: “Плохо надетую личину принимают за живое лицо <…> Но нас теперь не обманут эти охранительные идеи <…> Леонтьев не только не славянофил <…>, он европеец <…> Леонтьев весь в Европе и об Европе <…>” (144). В том же духе высказывался и Н.А. Бердяев: Леонтьева “по недоразумению зачислили в славянофильский лагерь. Он, конечно, никогда не был славянофилом и во многом был антиподом славянофилов” (145). Чуть менее категоричен Ю.П. Иваск: “Леонтьев никогда славянофилом не был, но иногда славянофилам сочувствовал” (146). П.П. Гайденко, явно следуя за Булгаковым и Бердяевым, подчеркивает “огромное <…> отличие Леонтьева от славяно-филов”: “<…> у Леонтьева больше общего с европейскими романтиками, чем со славянофилами <…>” (147). Акцентирует “антиславянофильство” Константина Николаевича Н.А. Рабкина (148). “Леонтьев ни “поздним”, ни “правым” славяно-филом <…> не был, да и вообще быть им не мог”, — безапелляционно утверждает А.Ф. Сивак (149). При поверхностном рассмотрении, вторая точка зрения может показаться не просто более убедительной, но и вполне бесспорной. В самом деле, в 1880-х гг. Леонтьев и поздние славянофилы находились в состоянии жесткой и принципиальной полемики, особенно обострившейся после выхода в свет леонтьевской работы “Национальная политика как орудие всемирной революции”. В сочинениях и письмах того времени мыслитель неоднократно обличает даже и ранних славянофилов как “либералов” — аттестация прескверная в его устах. Он практически никогда не печатался в славянофильских изданиях. Единственное исключение — очерк “Пасха на Святой Горе”, опубликованный (под псевдонимом) в аксаковской “Руси” (1882, №22, 26). Но, во-первых, этот текст носит сугубо описательный, а не идеологический характер, а, во-вторых, и он прошел в “Руси” с трудом (и, возможно, с сокращениями), благодаря лишь протекции О.А. Новиковой (150). Отзывы же самих славянофилов о Леонтьеве почти сплошь критические. А.А. Киреев, отвечавший на “Национальную политику…” специальной брошюрой “Народная политика как основа порядка” (1889), в более поздней статье, споря с С.Н. Трубецким, писал, что не признает сочинения Константина Никлаевича “произведениями славянофильского пера” (151). Н.П. Аксаков трактовал идеи Леонтьева как “прямую и безусловную противоположность славянофильства” и даже как “доктрину чисто западническую” (152). С.Ф. Шарапов подчеркивал: “г. Леонтьев не наш. <…> И это не в оттенках только, а в главном” (153). В шараповском “Русском деле” был помещен прямо-таки развязный фельетон некоего П. Аристова “г. Леонтьев и его гадания”, где мыслитель именовался “старым честолюбцемнеудачником”, глядящим на историю сквозь “закоптелые очки старческого уныния” (154). Но, если мы тщательно проанализируем все высказывания Леонтьева о славянофильстве, то картина будет иной. При всех противоречиях, разделяющих его с приверженцами этого учения, мыслитель не хочет полностью выносить себя за пределы последнего. Более того, он пытается представить себя как подлинного наследника его классиков. Например, в работе 1887 г. “Записки отшельника” Леонтьев приводит остроту, греческого поэта Александра Суццо, говорившего про высокопоставленного родственника, чуждавшегося его: “Да, я ему родня; но он не родня мне!” и заявляет, что “в таком же точно отношении нахожусь и я к славянофилам аксаковского стиля; я их ценю; они меня чуждаются; я признаю их образ мыслей неизбежной ступенью настоящего (т.е. культурнообособляющего нас от Запада) мышления; они печатно отвергают мои выводы из общих с ними основ”. Но “в собственно-культурном смысле, — подчеркивает далее Константин Николаевич, — я славянофил; и даже имею дерзость считать себя более близким к исходным целям Хомякова и Данилевского, чем полулиберальных, эмансипационных, всепотворствующих славянофилов неподвижного аксаковского стиля”. В черновом автографе “Национальной политики…” есть похожие слова: “Я славянофил культурный, а не племенной <…>” (155). В письме А.А. Александрову от 12 мая 1888 г. Леонтьев отмечает: “<…> я славянофил на свой салтык <…>” (156). В письме о.Иосифу Фуделю от 6–23 июля того же года он говорит о пути, указываемому им России как о “пути, естественно вышедшему из прежнего славянофильства<…>” (157). О.А. Новиковой, родной сестре А.А. Киреева, мыслитель объясняет, что “возражать мне умному и добросовестному умом — славянофилу (т.е. Кирееву. — С.С.) — очень трудно <…> всякий видит, что я жажду настоящего, культурного славяноособия<…>возражать-то (серьезному и искреннему человеку, признающему учение Хомякова и Данилевского) — возражать-то нечего…” (158). Самому же Кирееву он доказывает, что “разница между нами во второстепенных оттенках: мы оба желаем одного и того же — осуществления новой славяно-восточной культуры на православных основах” (159). Далее нам представляется необходимым проследить историю отношений Леонтьева со славянофильством в 60-80-е гг. Интересно, что она действительно укладывается в формулу: “я ему родня, но он не родня мне”. Первое свидетельство интереса Леонтьева к “московским славянам” — письмо И.С. Аксакову от 7 марта 1862 г., где он предлагает себя издателю “Дня” в качестве “агента” или “корреспондента” “в славянских областях Австрии и Турции”. В письме отсутствует декларация о родственности убеждений его автора и адресата, мотивы предполагаемой поездки иные — отвращение к “петербургской пошлости” и “горячее желание ехать туда, где есть жизнь и поэзия” (160). Любопытно сравнить это послание со сценой из раннего леонтьевского романа “В своем краю” (вышел в свет в 1864 г., писался — в 1857-1863 гг.). Один из его персонажей, предводитель уездного дворянства Лихачов советует своему другу Милькееву (во многом alter ego автора, эстету, ищущему “жизни и поэзии”) ехать за острыми ощущениями не в Италию к Гарибальди, а в славянские земли: “Всякий дурак понимает Италию, Париж <…> Нет, ты пойми там, где чуть брезжится все: пойми там, где, как ты сам, Милькеев, раз сказал: краски пестры, да лаком сознания и свободы еще не покрыты!.. <…>Там всякому есть дело: учителю, попу-проповеднику, художнику, искателю приключений. Живописные места; Дунай; первобытные народы, которых даже западные путешественники ставят сердцем выше греков, а умом выше турок; монастыри в горах, где молятся за наше государство <…>; древние забавы, песни народные и эпическое время не прошло еще для них… Благодушны, гостеприимны, чисты нравами; за “честный крест”, по их словам, каждый мужик готов кровь отдать без приказания. Если южная пылкость у них слабее, чем в Италии, зато мудрой стойкости больше…” (161) Не исключено, что Константин Николаевич сам в 1862 г. представлял себе славянский мир в таком живописном и привлекательном виде. В письме к Аксакову от 16 июля 1863 г. Леонтьев уже представляется как его (пусть и не вполне ортодоксальный) единомышленник: “<…> Я знаю, что люди с крайним направлением часто предпочитают самых безличных союзников, но как я уже говорил Вам, едва ли теперь время быть слишком исключительным и строгим. Остатку моему я найду место, и остаток этот состоит не в равнодушии к национальной религии или к народному быту (избави меня Бог!), а в большем, нежели у Вас, расположении к пышной стороне жизни <…> Неужели из-за этого Вы отвергнете искреннего друга Вашего направления?” (162) Судя по тому, что имя Леонтьева не появилось тогда в аксаковских изданиях, а сам он не отправился “агентом” Ивана Сергеевича в славянские земли, “искренний друг” славянофильства был все же последним “отвергнут”. Однако нам важно зафиксировать, что в 1863 г. мыслитель испытывал несомненную симпатию к этому направлению общественной мысли и стремился к сотрудничеству с Аксаковым. Он видимо в то время разделял многие социальные идеи “славянофилов аксаковского стиля”: желал демократизации внутренней жизни страны, сближения дворянства и народа, надеялся на общественную инициативу как на главный фактор самобытного развития России и т.д. Именно в этом роде рассуждает его Лихачов. “Чем менее будет у нас власти, — разъясняет он уездным дворянам, — тем больше будет влияния”. Его лозунги: “Освобождение крестьян — каково бы оно ни было теперь! Широкие права! Образование переходных форм быта! (т.е. земств. — С.С.)”. Однако характерно, что Лихачов хвалил демократию “только тогда, когда она — архив народной старины, и <…> говорил <…>, что демократия Соединенных Штатов “выеденного яйца не стоит” <…>”. Он надеется на огромные силы, дремлющие в простом народе и требующие их выявления и оформления образованным слоем: “Не жду я ничего от общества, пока народ, верующий, грубый и самостоятельный не влияет на него <…> Все родное — спит; оно хранится у бедного народа, который тупо хранит, не развивая <…> Все эти народные искры надо раздуть, надо посеять пшеницу, которая тысячи лет спала в египетских гробах…” (163) О том, что автор был вполне солидарен со своим героем свидетельствуют его более поздние высказывания. В статье “Грамотность и народность” он выражает уверенность, что дворянство, “волей-неволей, встречаясь с крестьянами в [земских] собраниях, <…> должно стать более русским не только по государственному патриотизму <…>, но и вообще по духу и, Бог даст, по бытовым формам…” Даже новые либеральные суды одобряются Константином Николаевичем в конце 60-х гг., ибо “образованный класс наш в судах изучает быт и страсти нашего народа. Он и здесь учится более понимать родное, хотя бы и в грустных его проявлениях” (164). В конце 80-х гг. он так вспоминал время своей молодости: “В начале этих (1860-х. — С.С.) годов я был из числа тех немногих, которым уже не нравилось западное равенство и бездушное однообразие демократического идеала; но я, подобно людям славянофильского оттенка, воображал почему-то, что наша эмансипация совсем не то, что западная; я не мечтал, а непоколебимо почему-то верил, что она сделает нас сейчас или вскоре более национальными, гораздо более русскими, чем мы были при Николае Павловиче. Я думал, что мужики и мещане наши, теперь более свободные, научат нас жить хорошо по-русски, укажут нам, какими господами нам быть следует, — представляя нам живые образцы русских идей, русских вкусов, русских мод, даже русского хорошего хозяйства, наконец!” (165) Важно, однако, отметить, что уже в 60-е гг. Леонтьев не был вполне правоверным “славянофилом аксаковского стиля”. Ему гораздо более импонировало почвенничество, наиболее последовательным выразителем которого являлся известный литературный критик А.А. Григорьев (166). В отличие от славянофилов почвенники не отрицали полностью “петербургский период” и видели свою задачу в синтезе европейской образованности и русских исторических начал. Первая концептуальная статья Леонтьева “Грамотность и народность” появилась в журнале “Заря”, главным идеологом которого был непосредственный последователь Григорьева Н.Н. Страхов. Основной ее вывод звучал совершенно “по-почвеннически”: “<…> в гармоническом сочетании наших сознательных начал с нашими стихийными простонародными началами лежит спасение нашего народного своеобразия. Принимая европейское, надо употреблять все усилия, чтобы перерабатывать его в себе так, как перерабатывает пчела сок цветков в несуществующий вне тела ее воск”. Но мыслитель не проводил четкого разделения между славянофилами и почвенниками, по его мнению, славянофильство просто расширилось, стало существовать “в раздробленном виде” (167). В письме Страхову от 26 октября 1869 г. он так формулировал свое понимание данной проблемы: “По-моему, мы не должны даже стоять очень строго за оттенки; мы служим не какой-либо презренной практической партии <…>, мы Предтечи Великого Славянского Будущего; мы слуги учения столь широкого, что оно непременно должно распасться на ветви, но ветви этого учения должны обнять всю Россию и потом всех славян”. Напомним, что как раз в “Заре” впервые увидела свет “Россия и Европа” Н.Я. Данилевского, которая сыграла большую роль в конкретизации понимания Леонтьевым славянофильства. “Главная заслуга Данилевского, — писал он Страхову 12 марта 1870 г., — <…> что он первый в печати смело поставил своеобразие культуры как цель. Московские славянофилы все как-то не договаривались до этого <…> Раз поставив это учение на основании — “культура для культуры”, славянофилы будут впредь тверже на ногах <…>” (168). Отныне Константин Николаевич выразителем подлинного, “культурного” славянофильства будет считать именно Данилевского. Правда, надо сказать, что и в “Заре” Леонтьева не воспринимали как вполне “своего”. Судя по его письмам Страхову, “Грамотность и народность” проходила в печать без особого энтузиазма со стороны редакции, а воспоминания о Григорьеве она и вовсе забраковала (их публикация состоялась лишь в 1915 г.). Следующим этапом диалога мыслителя со славянофильством стала полемика вокруг так называемой “болгарской схизмы” (169) (когда Болгарская Церковь самовольно вышла из юрисдикции Константинопольского Патриархата). Леонтьев резко выступил на стороне греческого духовенства против болгар, а со временем перенес острие своей критики на политический панславизм вообще. Уже в 1873 г. в статье “Панславизм и греки” он доказывал, что “для России завоевание или вообще слишком тесное присоединение других славян было бы роковым часом ее разложения и государственной гибели” (170). Итогом размышлений на славянскую тему явился главный леонтьевский историософский трактат “Византизм и славянство” (написан в 1873-1874 гг., опубликован в 1875 г.), одним из важнейших тезисов которого было утверждение о культурной бессодержательности термина “славянство”: “Славянство есть <…> славизма нет <…>” (171). Приехав в 1874 г. из Турции в Москву, Константин Николаевич тщетно пытался пристроить свое детище в печать. Ему отказали и Катков, и Аксаков. Но отказ последнего был воспринят им гораздо болезненней: “Я готов был <…> сжаться перед Катковым, ибо считал его всегда чужим, перед которым надо по необходимости обрезывать себя, чтобы провести хоть часть своих идей… А на славянофилов я надеялся как на своих, как на отцов, на старших и благородных родственников, долженствующих радоваться, что младшие развивают дальше их учение, хотя бы даже естественный ход развития и привел бы этих младших к вовсе неожиданным выводам <…>” (172). В статье 1880 г. “г. Катков и его враги на празднике Пушкина” Леонтьев внешне весьма деликатно, но достаточно резко выступает против аксаковской трактовки славянофильства, а в адрес самого Ивана Сергеевича бросает упрек в том, что “в прежнее (несколько либеральное все-таки) учение славянофильства он не позволил себе внести ни малейшей ереси. Он — даровитый, верный и непреклонный хранитель завещанного ему сокровища; но само сокровище это, но самый этот клад отыскан не им, и он пускает его в оборот почти без процентов”. Аксакову недвусмысленно противопоставляется Данилевский как “настоящий истолкователь и независимый ученик Киреевского и Хомякова”, показавшего, что “настоящее славянофильство есть не простой панславизм и ни какая попало любовь к славянам, а стремление к оригинальной культуре <…>” (173). В конце 80-х гг. спор Леонтьева с “аксаковцами” обостряется: кроме политического панславизма, его предметом становится также неприятие младославянофилами вроде Н.П. Аксакова сословных “контрреформ” Д.А. Толстого. Но опять-таки, дискуссия ведется мыслителем с позиции более верного (как ему кажется) понимания сути славянофильской доктрины. В одной из своих последних статей “Славянофильство теории и славянофильство жизни” он декларирует: “Не просто продолжать надо дело старых славянофилов; а надо развивать их учение, оставаясь верными главной мысли их — о том, что нам по мере возможности необходимо остерегаться сходства с Западом; надо видоизменять учение там, где оно было ни с чем не сообразно. Надо уметь жертвовать частностями этого учения — для достижения главных целей — умственной и бытовой самобытности и государственной крепости” (174). Любопытно, что тут же Леонтьев подкрепляет свою мысль цитатой из И.С. Аксакова, в которой говорится о том, что славянофильство будет развиваться в дальнейшем, возможно, в новых, неожиданных формах. Таким образом, мы видим, что идейно Константин Николаевич до конца жизни продолжал ощущать себя (с известными оговорками) внутри, а не вне славянофильского лагеря, принадлежность к которому (тоже с оговорками) признавали за ним и некоторые славянофилы. Так А.А. Киреев робко допускал, что Леонтьев “до некоторой степени, в известном смысле, был даже славянофилом (курсив наш. — С.С.), ибо стоял за обособление славян <…> “Истинное славянофильство, говорит Леонтьев, должно вести к славяноособию, к духовной, умственной и бытовой самобытности”. Под таким определением и я готов подписаться; разница между Леонтьевым и мной в выборе средств для достижения этой цели <…>” (175). Не были полностью оборваны и личные связи автора “Византизма и славянства” с лидерами поздних славянофилов. В дружеских отношениях он, например, находился с влиятельной журналисткой О.А. Новиковой (родной сестрой А.А. Киреева), которой И.С. Аксаков выговаривал в одном из писем: “Вы уж — так мне кажется — слишком увлекаетесь Леонтьевым. Его <…> талант не искупает кривизны его мысли <…>” (176). Л.А. Тихомиров передавал Леонтьеву такое мнение о нем Новиковой: “”Правду сказать, он <…>дальше всех нас смотрит”, заметила она в разговоре о Вас, славянофилах и Каткове” (177). Приятельские отношения связывали мыслителя с С.Ф. Шараповым, о котором в его письмах — сплошь положительные отзывы: “Я <…> очень им доволен” (178); Шарапов “ко мне благоволит”; “вспоминаю <…> добродушного, но умного пустозвона нашего Шарапова”; хочется назвать “скотами” и предателями” всех редакторов традиционалистских изданий, “кроме бедного (видимо в связи с запретом “Русского дела”. — С.С.) С.Ф. Шарапова” (179) и т.д. “Русскому делу” Леонтьев, по его словам, “как изданию весьма живому, во многом сочувствовал” и жалел, “что оно прекратилось” (180). В другом месте он хвалит “уровень охранительных газет”, называя как “Гражданин” и “Московские ведомости” так и “Русское дело”: “<…> со стороны умственной, государственной, литературной все они ведутся не только недурно, но ив некоторых отношениях даже очень хорошо, дельно” (181). (А ранее Леонтьев ставил в один ряд с “Московскими ведомостями” и аксаковскую “Русь” как благонадежное монархическое издание (182)). С другой стороны и Шарапов в своих изданиях публиковал не только антилеонтьевские памфлеты, но и вполне объективные статьи вроде большой (в трех номерах газеты!) работы П. Волженского, подробно рассказывающей о мировоззрении автора “Византизма и славянства” (183). Утверждая, что “Леонтьев не наш”, Сергей Федорович тут же оговаривался: “Основы его покоятся в славянофильстве <…>” (184). В “Русском деле” доброжелательно пересказывались основные положения трактата Леонтьева “Владимир Соловьев против Данилевского” (185). В 1897 г. в новой шараповской газете “Русский труд” было напечатано письмо к издателю некоего Ка-ева, в котором, в частности, говорилось: “<…> напрасно относитесь Вы с пренебрежением к нам, последователям К.Н.Леонтьева. Придерживаясь учения этого величайшего мыслителя XIX века, мы стоим с Вами под одним стягом, на котором начертаны слова “православие, самодержавие, народность”, и расходимся только несколько в понимании их относительного значения. Мы защищаем вместе с Вами славяно-византийские принципы, независимой от европейского Запада, русской культуры, причем Вы придаете более значению славянскому, а мы византийскому элементу. Наконец, и Вы, и мы охранители, но, конечно, не охранители Пробирной Палатки или современного устройства Губернских Правлений, а охранители тех великих начал, которыми жива русская Земля”. Комментируя это письмо, Шарапов, признав в Леонтьеве “великого мыслителя” и упомянув о том, что он “был нашим личным другом”, упрекнул его, однако, в отсутствии “положительной программы”: “г. Леонтьев осмеял и разрушил гениальными ударами “европейскую культуру”, но византийскую на ее место в нашем сознании не поставил” (186). Неоднократно поднималось леонтьевская тема и в журнале “Благовест”, где печатались некоторые молодые друзья Константина Николаевича, поощрявшего их в этом сотрудничестве. Александрову он, скажем, писал: “Получаете ли Вы либерал-панславистический “Вой” под именем “Благовеста”?И сами приглашены ли в нем участвовать? Не брезгуйте, но и не уступайте. Фудель уже печатает там, и сразу сказал им, что настоящие продолжатели славянофильства — Вл. Соловьев и я” (187). Фудель действительно опубликовал в “Благовесте” статью “Преемство от “отцов””, где недвусмысленно заявил: “Беда наша <…>, что мы не замечаем или не хотим замечать того, что внесено в славянофильство в качестве существенных поправок”. Именно такие плодотворные “поправки”, по мнению автора, внесли в славянофильство Леонтьев и Владимир Соловьев, чьи идеи останутся “навсегда незыблемой частью русского народного направления мысли”. (“Кормчий” журнала А.В. Васильев, правда, весьма скептически прокомментировал эти “еретические” суждения Фуделя) (188). Как видим, для Леонтьева диалог со славянофильством (даже и с “либерально-панславистическим”) продолжал оставаться крайне важным. Мыслитель, по точному замечанию С.Г. Бочарова, “всю жизнь не переставал выяснять идейные отношения” с ним. Генетическая связь Леонтьева со славянофильством хорошо видна при детальном сопоставлении его текстов с текстами поздних славянофилов, прежде всего, И.С. Аксакова. Ход мысли и даже фразеология — удивительно схожи. Приведем несколько выразительных примеров. Леонтьев (1880): “Мы должны рассуждать так: “Русский Царь по существенному атрибуту Его власти, по основным законам государства имеет право на всякое действие, кроме одного — кроме действия самоограничения”. <…> Ибо пословица русская говорит: “Ум хорошо, а два лучше того”<…> Она не говорит, что две воли или двести волей лучше одной” (190). Аксаков (1884, 1883) : “<…> полновластный Царь не властен лишь в одном : в отречении от своего полновластия <…>”; “Ум хорошо, а два лучше, говорит русская пословица <…> Но никто, конечно, не скажет: одна воля хороша, а две лучше <…>” (191). (Между прочим, на эту перекличку в свое время обратила внимание О.А. Новикова. Озадаченный Иван Сергеевич отвечал ей в письме от 21 августа 1882 г.: “Выражение, которое Вы приписываете ему (Леонтьеву. — С.С.) (ум хорошо, а два лучше, но никто не говорит, что одна воля хороша, а две лучше, и пр.) помещено в “Руси” в 26 № в очень яркой форме; может быть, он заимствовал его оттуда, если же нет, то значит мы сошлись не только в мысли, но и в форме ее выражения” (192). Вероятно, память подвела Аксакова: в № 26 “Руси” и за 1881, и за 1882 гг. данное “выражение” отсутствует (в 1880 г. вышло только семь номеров газеты). Впрочем, даже если бы оно появилось и в самом первом номере, первенство Леонтьева все равно неоспоримо: он использовал “аксаковскую” метафору в статье “Как надо понимать сближение с народом?”, опубликованную в “Варшавском дневнике” в июне 1880 г., а “Русь” начала выходить лишь в ноябре того же года. Не исключено, конечно, что Аксаков употребил сей оборот еще раньше, но в любом случае, перекличка двух мыслителей (каждого из которых трудно заподозрить в сознательном плагиате) весьма знаменательна). Леонтьев (1880): “Идти скоро, идти вперед — не значит непременно к высшему и лучшему… Идти все вперед и все быстрее можно к старости и смерти, к бездне” (193). Аксаков (1882): “Вычеркнем слово прогресс, как не имеющее само по себе определенного смысла, ибо прогресс бывает и при дифтерии, при всякой болезни, при всяком зле <…>” (194). (См. также у А.А. Киреева (1893): “<…> прогресс может быть и в болезни; в разложении организма”) (195). Леонтьев (1882) :“Нужен крутой поворот, нужна новая почва,<…> новый центр, новая культурная столица” (196). Аксаков (1882): “Нужно <…> внутреннее обновление духа, которое может быть дано лишь каким-нибудь переворотом в роде перенесения столицы <…>” (197). Леонтьев (1875): “Моя гипотеза — единство в сложности.<…> Новое разнообразие в единстве, всеславянское цветение с отдельной Россией во главе…” (198) Аксаков (1884): “Основное историческое начало русской исторической жизни — это единство в разнообразии и разнообразие в единстве” (199). Леонтьев (1875, 1890): “<…> славяне <…> легко переходят из патриархального быта в буржуазно-либеральный, из героев Гомера и Купера в героев Теккерея, Поля де Кока и Гоголя”, “прямо из свинопасов в либеральных буржуа” (200). Аксаков (1882, 1881): болгары сделали “salto mortale из эпического периода прямехенько в Европу XIX века!”; а сербы “прямехенько из эпоса, из пастушеского периода, из “богоравных”, как Эвмей у Гомера, свинопасов <…> прыгнули в цивилизацию нашего столетия <…>” (201). Совершенно в леонтьевском духе Аксаков протестовал против “насильственного уничтожения во имя отвлеченной теории, бытовых различий, бытовых групп”, отвергая “путь нивелировки, внешнего уравнения и единообразия”; утверждал, что “прогрессисты” стремятся “убить <…> разнообразие жизни” (202). В одном из писем (1885) Иван Сергеевич сетует на то, что “мы не доросли до владения Константинополем даже в сознании. <…> Мы еще в периоде Петербургском, а Петербург и Константинополь, это — ни вещественно, ни духовно — несовместимо. <…> Лучше Турка, чем вся наша казенщина и пошлость. <…> Турок сам по себе <…> благороднее и симпатичнее всякого Немца <…> и мне приятнее чувствовать в своих жилах Турецкую кровь, чем если б, например, текла в моих жилах кровь Немецкая или Английская” (203). Константин Николаевич, тоже в частном письме (1878), восклицает: “Да! Царьград будет скоро, очень скоро наш, но что принесем мы туда? Это ужасно! Можно от стыда закрыть лицо руками <…> Каррикатура, каррикатура! О холопство ума и вкуса, о позор!” В другом месте (1871) он говорит, что турецкая кровь “право, симпатичнее европейской” (204). Для нас очевидно, что все эти поразительные текстуальные совпадения объясняются не маловероятными сознательными заимствованиями и даже не вполне естественными взаимовлияниями, а, прежде всего, общностью стереотипов мышления обоих авторов, обусловленной их принадлежностью к одному идейному направлению. Но почему же все-таки славянофилы не признали Леонтьева “родней”? Почему “своя своих не познаша”? Проще всего это было бы объяснить леонтьевскими антиславянскими эскападами и критикой в адрес политического панславизма. Но еще Ю.П. Иваск заметил, что отрицательная реакция И.С. Аксакова на “Византизм и славянство” никак не связана с трактовкой там славянского вопроса (205). Кроме того, следует заметить, что распространенное мнение, будто Леонтьев вовсе отвергал идею освобождения славян и объединения их вокруг России (206) не соответствует действительности и основано на невнимательном чтении его текстов. На самом деле, подход Константина Николаевича к данной проблеме был гораздо сложнее и диалектичнее. В “Письмах о восточных делах” он весьма отчетливо высказывает свою позицию, обращаясь к князю В.П. Мещерскому, издателю газеты “Гражданин”, где печаталась эта работа: “Прошу вас, однако, не ужасайтесь тому, что я говорю о славянах так сухо и неодобрительно. <…> В моем идеале или в пророчестве моем и для них отведено подобающее место. Я говорил уже, что их придется освободить и даже невольно быть может, объединить в союз, политически устроить. <…> И чем скорее мы развяжемся с этим необходимым и Бог даст последним эмансипационным делом, тем скорее можно будет приступить к действиям созидающим, устрояющим (т.е. к “ретроградным реформам”. — С.С.) <…>” (207). Похожие мысли встречаем и в письме О.А. Новиковой того же года: “<…> не смотря на некоторое кажущееся несогласие во взглядах наших, — в сущности, мы желаем одного и того же блага России (не в либеральном, а в ином, более идеальном духе); — вы — завтра, я послезавтра. — И то, и другое необходимо. — Я потому <…> и могу позволять себе писать так, как я пишу (напр. о Восточном вопросе), что существуют такие публицисты и политики как Вы, Ив. С. Аксаков, покойный Скобелев. Я не люблю Южных и Западных Славян; они мне основательно не нравятся; я справедливо ничего особенного не жду от них; но освободить их необходимо хотя бы для того, чтобы после стараться переделать их по своему. — А если так, то надо даже желать, чтобы публицисты Вашего и Аксаковского направления — имели бы больше успеха и популярности, чем люди более со мной согласные, чем с Вами. Без ваших предварительных действий мои мечты неосуществимы, мои пророчества лживы” (208). Позднее мыслитель определял южных и западных славян как “неизбежное политическое зло” для России, называл их “”крестом”, испытанием, ниспосланным нам суровой истории нашей” (209). Наиболее же подробно свою точку зрения в этом вопросе он изложил в опубликованном только недавно “Списке сочинений К.Н. Леонтьева с характеристикой” (1886): “Не отвергая никогда и нигде в своих сочинениях необходимости защищать и даже с оружием в руках освобождать Балканских единоплеменников наших <…> автор уже более десяти лет тому назад выражал только желание, чтобы мы сами себя не обманывали и не имели бы никаких иллюзий насчет “братьев-славян”. Овладение Царьградом и Проливами, утверждение Восточных Церквей и при этом как неизбежное бремя составление какого-нибудь сносного союза с освобожденными единоверцами — вот цель, которую должна преследовать Россия; эмансипационная же собственно политика <…> не должна быть сама по себе целью, а только временным и при этом довольно опасным средством” (210). Как видим, Леонтьев не против освобождения балканских славян, но оно для него лишь средство установления господства России на Босфоре и создания нового, “восточно-славянского” “культурноисторического типа”. Он также не против их конфедерации с Россией (но туда, наряду с ними, должны войти также греки, румыны и даже турки с персами). Однако, не отвергая идею православно-славянского союза во главе с Россией (а отвергая лишь “славизм” как культурно-исторический принцип), мыслитель предупреждал о возможных опасностях такого единства, ибо “строй психический и религиозно-политические идеалы славян, не только австрийских, но и восточных, — гораздо ближе к буржуазно-европейскому строю и к либерально-утилитарным идеалам, чем к тем, которые преобладают в нашем народе”, а потому “панславизм может стать безопасен для нас лишь в том случае, если современное нам, новое движение русских умов к “мистическому’ и “государственному” <…> — окажется не эфемерной реакцией, а плодом действительно глубокого разочарования в европеизме XIX века” (211). Важно также обратить внимание на то, что многие идеологи, близкие к славянофильскому лагерю (и даже, порой, прямо к нему принадлежавшие) подобно Леонтьеву, со скепсисом относились к панславистским мечтаниям и отнюдь не считали славянский вопрос первостепенным для России. А.А. Григорьев, например, в письме к А.И. Кошелеву от 25 марта 1856 г., определяя отличие убеждений своих и своего круга от классического славянофильства, первым пунктом поставил следующее: “Глубоко сочувствуя, как вы же, всему разноплеменному славянскому, мы убеждены только в особенном превосходстве начала великорусского перед прочими и, следственно, здесь более исключительны, чем вы, — исключительны даже до некоторой подозрительности, а особенно в отношении к началам ляхитскому и хохлацкому” (212). Равнодушен к славянскому вопросу был Н.Н. Страхов. Т.И. Филиппов занял в период греко-болгарской церковной распри позицию аналогичную леонтьевской. Как, кстати, и Ф.М. Достоевский, писавший М.П. Погодину 26 февраля 1873 г.: “В каноническом, или лучше сказать, в религиозном отношении я оправдываю греков. Для самых благородных целей и стремлений нельзя тоже и искажать христианство, то есть смотреть на православие, по крайней мере, как на второстепенную вещь, как у болгар в данном случае” (213). В 1877 г., в ноябрьском выпуске “Дневника писателя”, Федор Михайлович опубликовал весьма примечательную статью “Одно совсем особое словцо о славянах, которое мне давно хотелось сказать”, где рисовал будущие взаимоотношения освобожденных славян и России далеко не в радужных тонах, во многом совпадая с Леонтьевым: “<…> конечно, есть разные ученые и поэтические даже воззрения и теперь в среде многих русских. Эти русские ждут, что новые, освобожденные и воскресшие в новую жизнь славянские народности с того и начнут, что прильнут к России, как к родной матери и освободительнице, и что несомненно и в самом скором времени привнесут много новых и еще не слыханных элементов в русскую жизнь <…> Признаюсь, мне всегда казалось это у нас лишь учеными увлечениями; правда же в том, что, конечно, что-нибудь произойдет в этом роде несомненно, но не ранее ста, например, лет, а пока, и может быть, еще целый век, России вовсе нечего будет брать у славян ни из идей их, ни из литературы, и чтоб учить нас, все они страшно не доросли. Напротив, весь этот век, может быть, придется России бороться с ограниченностью и упорством славян, с их дурными привычками, с их несомненной и близкой изменой славянству ради европейских форм политического и социального устройства, на которые они жадно накинутся” (214). С еще большей резкостью высказывался по славянскому вопросу близкий друг многих старших славянофилов, постоянный автор славянофильских изданий от “Русской беседы” до “Руси” Н.П. Гиляров-Платонов. В письме О.А. Новиковой от 12 декабря 1885 г. он декларировал: “Я говорю: Россия и Русский народ или лучше Россия (страна) и Русь (народ). Я только их противопоставляю англосаксам и никак не славян. В этом отношении я расхожусь со своими старыми друзьями — славянофилами, и моей душе противна сентиментальность по отношению к нашим братьям. Русский народ имеет свои интересы, русские, и политика должна их преследовать. Прочие славянские народы- планеты перед Солнцем — Россиею, или луна пред Землею. Если хотят сохранить свое бытие, они должны тяготеть к России и держаться за нее, хотят вырваться, — пускай, на свою погибель. Сущность в том, что мы для этих своих деревенских родственников не должны тратить ни одной копейки и не единой капли крови. Мы должны иметь в виду одни свои стратегические интересы; они, правда, сходятся с интересами балканских народцев, но опять это должно быть их заботою самосохранения , а не нашею нежностью об них. Погибнут они — не наша вина и не наш убыток” (215). В письме Н.В. Шаховскому (1886) Никита Петрович констатировал, что “идеал славянского братства <…> разлетается, на распростертые объятия “братья” отвечают пренебрежением, завистью, коварством, зложелательством. <…>Р усское великодушие к славянам упраздняется самими обстоятельствами, самой историею” (216). Не менее жестокие утверждения Гиляров-Платонов допускал и в печати: “<…> для русского человека принадлежность к славянской семье имеет слишком второстепенное значение. Фактически такой семьи не существует: она значится только в науке. История разлучила эти племена, и они чужие духовно. <…> русский человек сознает себя русским и православным, допускает этнографическое родство свое с прочими славянами, но своего русского происхождения не подчиняет славянскому <…> Русский человек должен признать политическую выгоду внешнего союза со своими соплеменниками на западе и на юге. Но ничуть не обязан подчинять бытие свое интересам славянства как такового” (217). По его мнению, славяне выбросили “и православие и славянство <…> из своего народного исповедания <…> остались политические тела с исключительно политическим сознанием и похотением <…>”. Поэтому присоединять славянские земли к России бессмысленно и опасно: “будет с нас одной Финляндии, избави Бог от другой подобной!” (218) Откровенно выступал в шараповском “Русском деле” против племенного панславизма И.Ф. Романов (Рцы): “Вне православия, вне Церкви, славянской взаимности быть не может, — вот как рассуждали старые славянофилы <…> Славянофилы новейшей формации, которых справедливо было бы назвать славяноманами, несколько иного мнения. Для них религиозная, т.е. существеннейшая, основная сторона славянской проблемы даже вовсе, как будто не существует”. (Тут же Шараповым сделано примечание: “Да, поскольку это относится к Славянам западным” и выражена уверенность, что последние рано или поздно перейдут в Православие) (219). Наконец, даже такой столп славянофильства как В.И. Ламанский выступил 10 ноября 1894 г. в общем собрании членов Славянского Благотворительного Общества с речью, в которой, в сущности, отрекся от своего былого (и пылкого) панславизма и назвал освобождение русскими Болгарии “донкихотским подвигом” (220). Однако никто из вышецитированных нами авторов не подвергался в славянофильском лагере такому остракизму как Леонтьев, никто из них не оказывался по отношению к последнему в положении отверженного. Видимо дело в чем-то другом. А.Ф. Сивак полагает, что главная причина разногласий Леонтьева и славянофилов в том, что между ними “стояла система взглядов Данилевского” (221). В какой-то степени это справедливо, ибо, как мы уже отмечали, в позднем славянофильстве усвоение теории культурно-исторических типов было весьма поверхностным, Леонтьев же, напротив, взял ее как основу собственной историософии. Но нельзя не заметить, что это не мешало славянофилам относиться к Данилевскому в целом благожелательно, а порой и восторженно. Константин Николаевич же, при всем обожании “учителя”, упрекал его как и славянофилов в “либерализме”, в том, что он “увяз одной ногой в реформенной трясине” (222). Сами славянофилы выдвигали против своего “друга-врага” совсем иные аргументы. Во-первых, они никак не могли простить ему пресловутый “византизм”. И.С. Аксаков, скажем, считал, что “византизм” не является основой “культурного типа России”: “”Византизм” как явление историческое носит на себе печать односторонности, уже отжившей. Он призван к очищению в русском горниле: все, что было и есть истинного в византизме, то восприняла в себя, конечно, и Россия <…>; но все, что в нем было временного и национальноодностороннего должно раствориться, исчезнуть в большей многосторонности и широте русского духа” (223). Еще более определенно высказывался С.Ф. Шарапов: “<…> г. Леонтьев фантастический апостол Византизма, а Славянофилы стоят на чистой православной-славянской почве” (224). Леонтьев не сводил Россию полностью к “византизму”, но думал, что пока она еще ничего оригинального не создала, в то время как ее основы, духовная и государственная — Православие и Самодержавие — прямое воспроизведение основ Византии. Славянофилы же находили в обоих случаях своеобразное русское содержание. О славянофильской концепции идеального самодержавия, якобы отчасти реализованного в Московской Руси, мы говорили в II-ой главе. Что же до Православия, то вот достаточно выразительные слова Н.П. Гилярова-Платонова, в богословских вопросах во многом солидарного со славянофилами: “Христианство, известным образом, понятое усвоенное <…> составляет один из элементов русской народности. Без так называемого православия исчезает русская народность, как таковая; но и православие, в таком виде как усвоено русским народом, есть не то, что было и есть у греков” (225). Леонтьев бы явно не согласился с таким мнением (“все наши святые были только ученикам, подражателями, последователями — византийских святых”), более того он настаивал, что “не следует нам искать какой-то особой славянской Церкви; какого-то нового славянского Православия, а надо богобоязненно и покорно держаться старой — ГрекоРоссийской Церкви <…>”. Славянофильское богословие, казалось ему, “развивало Православие” в “какую-то национально-протестантскую сторону” (226). Надо сказать, что своего рода “протестантский” уклон у славянофилов действительно был, в том смысле, что на первом месте в их религиозном миросозерцании стояла этика, а не мистика и аскетика как у Константина Николаевича. Весьма характерны в этом плане рассуждения И.С. Аксакова в письме О.А. Новиковой от 24 апреля 1882 г. по поводу леонтьевского очерка “Пасха на Афоне”: “Все аскетические подвиги афонских монахов душеспасения ради не стоят для меня слов одной простой женщины, которые я слышал: она с удивительным самоотвержением ходила за одной отвратительной больной, полусумасшедшей, к которой была приставлена, с терпением, состраданием и верностью поистине ангельскими, и, только завидев монахов или монашенок, с некоторою даже завистью ворчала: “Господи! Некогда-то мне свей душой, своим спасением заняться!” <…> признаю всю законность явлений, подобных Афонскому монастырю, <…> но возводить аскетическое миросозерцание — как Леонтьев — в рецепт для общественной и государственной жизни не могу”. В другом письме Новиковой Аксаков говорит, что Леонтьев “не столько христианин, сколько церковник” (227). В письме К.П. Победоносцеву от 15 февраля 1884 г. Иван Сергеевич даже утверждает, что автор “Византизма и славянства” “своим фанариотством способен компрометировать и Бога, и Церковь, и веру” (228). Но, видимо, самое острое противоречие Леонтьева со славянофильским лагерем вытекало из противоположности их взглядов на возможности русского общества. Славянофилы были уверены в продуктивности общественной инициативы, отстаивали первостепенную важность местного самоуправления, уповали на рост земского движения, ратовали за ограничение бюрократического контроля над общественной жизнью и т.д. Леонтьев же полагал, что “общество русское истекшего 25-летия (написано в 1885 г. — С.С.) везде, где только ему давали волю, ничего самобытного и созидающего не сумело выдумать. — Ни в земстве, ни в судах, ни даже в печати!.. “Гнилой Запад” (да! — гнилой!) так и брызжет, так и смердит отовсюду, где только “интеллигенция“ наша пробовала воцаряться!” (229) Впрочем, и в адрес “простого народа” (которому славянофилы воистину поклонялись) он высказывал немало жестоких и нелицеприятных слов: “Народ наш пьян, лжив, нечестен и успел уже привыкнуть <…> к ненужному своеволию и вредным претензиям” (230). Да и в целом, подчеркивал мыслитель, “как племя, как мораль мы гораздо ниже европейцев, род наших пороков таков, что свобода нам вредна” (231). Не удивительно, что А.А. Киреев характеризовал Леонтьева как мыслителя, отрицающего “самые скромные требования свободы”, а его социально-политические рецепты как “аракчеевские” (232). И.С. Аксаков же находил в его взглядах “сладострастный культ палки” (233). Соответственно Леонтьев не только не критиковал бюрократическую систему империи, но, напротив, считал, что русским надо “иметь в себе <…>, более охоты повиноваться, даже уряднику” (234). Константин Николаевич в этой связи специально указывал (говоря о себе в 3-м лице): “Со стороны <…> веры в будущность России, равно как и по желанию видеть русскую нацию вполне независимой от Запада <…> г. Леонтьев сходен со Славянофилами, но в его сочинениях нет и тени того обыкновенного либерализма и того придирчиво-оппозиционного духа, которым отличались и отличаются до сих пор Славянофилы аксаковского стиля. <…> для него в самом деле “всякая власть от Бога” <…> его проповедь политической покорности не ограничивается (как у Славянофилов) только идеальной преданностью Самодержавию, но советует и второстепенным властям с любовью и охотой повиноваться даже и тогда, когда они кажутся несправедливыми” (235). Характерен и вывод цензорского доклада Леонтьева о брошюре И.С. Аксакова “Взгляд назад” (на основании этого доклада она была запрещена): “Вся книга написана <…> с целью доказать удивительную пользу уничтожения “сложной административной машины”. <…> Разбираемая книга должна возбудить сильнейшие сомнения. Что же может быть глубже такого переустройства всей русской жизни, при котором “атрофируется“ постепенно вся или почти вся администрация, так или иначе, но приучившая в течении веков народ наш к повиновению и к порядку” (236). Не мог не возмущать славянофилов и глубинный антидемократизм леонтьевского мышления, его проповедь социального неравенства и “новой сословности”. Осуждали они и эстетизм философа, так Н.П. Аксаков находил в его сочинениях “цинический культ красоты” (237). Леонтьев шокировал благопристойных “московских славян” экстравагантностью своей мысли и поведения. А.А. Киреев, например, недоумевал: “К.Н. Леонтьев пишет, что в сущности согласен с моей критикой на его брошюру (“Национальная политика…”. — С.С.), но выгораживает [Вл.С.] Соловьева и Папу (!), удивительно как все это у него укладывается в голове?! И за Патриарха стоит, за православие, и выгородить хочет Папу, т.е. злейшего врага и православия и России” (238). (Истовое православие у Константина Николаевича, действительно, сочеталось с католическими симпатиями). А вот возмущенное письмо И.С. Аксакова министру внутренних дел Н.П. Игнатьеву от 9 ноября 1881 г. (производящее, правда, несколько комическое впечатление), где он жалуется на то, что цензор Леонтьев, “очень талантливый беллетрист, но положительно полусумасшедший стал запрещать каррикатуры в юмористическом журнале на меня и Каткова! <…> Леонтьев требует от издателя <…>, чтобы помещал каррикатуры на Лапина и Скворцова (либеральные журналисты. — С.С.), иначе–де не допустит каррикатур на меня и Каткова!.. <…> я поставлен в неприятное положение, ослабляющее авторитет моей газеты, как органа вполне независимого и вполне искреннего” (239). Вообще, автор “Византизма и славянства” был слишком индивидуален (и как мыслитель, и как личность), чтобы гармонично вписаться в славянофильскую “общину”. Исходя из всего вышеизложенного, мы полагаем, что на вопрос о принадлежности К.Н. Леонтьева к славянофильству невозможно ответить однозначно. Если последнее воспринимать идейно — в “аксаковской редакции”, а организационно — как кружок единомышленников вокруг “Руси”, “Русского дела”, “Благовеста”, то, конечно, Константин Николаевич — не славянофил. Но, если расширить перспективу, то нельзя не заметить, что он не только субъективно, но и объективно продолжал славянофильскую традицию , будучи генетически связан с “классиками” (прежде всего с И.В. Киреевским (240)), восприняв от них и основные свои темы, и отчасти их трактовку. Но Леонтьев выступил как ревизионист старого славянофильства (241), причем, ревизионист настолько масштабный, что по ряду пунктов его учение есть прямой антитезис основам славянофильской теории. Говоря метафорически, спор Леонтьева с поздними славянофилами — это спор семейный, “спор славян между собою”, в котором, правда, с точки зрения устоявшихся семейных традиций, он выглядел пресловутым “уродом”. Безусловно, однако, что родство Киреева, Шарапова, а тем более И.С. Аксакова, с “отцами-основателями” более близкое и прямое, а леонтьевская ветвь, так сказать, боковая. Возвращаясь же к академическому стилю, можно сказать, что Леонтьев, подобно почвенникам и Н.Я. Данилевскому, представляет одно из направлений творческого традиционализма, возникшее под влиянием славянофильства, но не тождественное с ним. На это (используя, конечно, совсем иную терминологию) обратил внимание еще в 1894 г. Л.А. Тихомиров, отмечавший, что с одной стороны “было бы очень трудно отделить Леонтьева от старых славянофилов”, а с другой, что он не может быть причислен “к славянофилам в тесном смысле” (242). Константин Николаевич, хотя и говорил, что славянофильство — “трогательное и симпатическое ребячество” и “пережитый уже момент русской мысли” (243), но в то же время ревниво указывал: “ <…> я все-таки несравненно ближе к славянофилам, чем [Вл.С.] Соловьев” (244). Последнее, разумеется, совершенно справедливо. ПРИМЕЧАНИЯ 1 Трубецкой С.Н. Разочарованный славянофил // Константин Леонтьев: pro et contra. Кн. 1.- СПб., 1995.- С.138,147,153.(Далее — Proetcontra). 2 Милюков П.Н. Разложение славянофильства // Он же. Из истории русской интеллигенции. — СПб., 1903. 3 История философии в СССР. — Т. 3. — М., 1968. — С. 340. 4 Гальцева Р.А., Роднянская И.Б. Раскол в консерваторах (Ф.М.Достоевский, Вл.Соловьев, И.С.Аксаков, К.Н.Леонтьев, К.П.Победоносцев в споре об общественном идеале) // Неоконсерватизм в странах Запада. Ч.2. — М., 1982. — С. 248. 5 Цимбаев Н.И. Славянофильство. — М., 1986. — С. 110,181. 6 Авдеева Л.Р. Религиозно-консервативная социология К.Н.Леонтьева: Автореф. дис. … канд.философ.наук. — М., 1983. — С. 20. 7 Бажов С.И. Некоторые аспекты проблемы культурно-исторического самоопределения России в творчестве К.Н.Леонтьева // Актуальные проблемы русской философии XIX в. — М., 1987. — С. 146. 8 Русский консерватизм XIX столетия. — М., 2000. — С. 268. 9 Там же. — С. 295, 353. 10 Леонтьев К. Восток, Россия и Славянство. — М., 1996. — С. 246. (Далее — ВРС). 11 Милюков П.Н. Указ соч. — С. 285, 289-290. 12 Бердяев Н.А. К.Леонтьев — философ реакционной романтики // Proetcontra.- Кн. 1. — С. 208, 210. 13 Новгородцев П.И. Об общественном идеале. — М., 1991. — С. 98. 14 Степун Ф.А. Соч. — М., 2000. — С. 602. 15 Гайденко П.П. Наперекор историческому процессу. (Константин Леонтьев — литературный критик) // Вопросы литературы. — 1974. — № 5 — С. 176. 16 Чернавский М.Ю. Леонтьев К.Н. // Отечественная история. Энциклопедия. — Т. 3. — М., 2000. — С. 319. 17 Хлебников Велимир. Собр.соч. в 3-х т. — Т. 3. — СПб., 2001. — С. 174. 18 Садовской Борис. Лебединые клики. — М., 1990. — С. 435. 19 Горький М. Жизнь Клима Самгина. — Ч. 1. — М., 1988.- С. 212. 20 Тихомиров Л.А. Русские идеалы и К.Н.Леонтьев // Литературная учеба. — 1992. — № 1-2-3. — С. 158. 21 Бородаевский В.В. О религиозной правде Константина Леонтьева // Proetcontra. — Кн. 1. С. 260. 22 Янов А.Л. Славянофилы и Константин Леонтьев // Вопросы философии. — 1969. — № 8. — С.100. 23 Он же. Славянофилы и Константин Леонтьев. (Буржуазный миф о “пророчестве Константина Леонтьева” и русская консервативная мысль XIX столетия): Автореф. дис. … канд.философ. наук. — М., 1970. — С. 17. 24 Он же. Трагедия великого мыслителя. (По материалам дискуссии 1890-х гг.) // Вопросы философии. — 1992. — № 1.- С.77; Он же. Россия против России. Очерки истории русского национализма. 1825-1921. — Новосибирск, 1999. — С.227. 25 Лиливяли Н.В. К вопросу о сущности консервативного общественного идеала К.Н.Леонтьева // Актуальные проблемы русской философии XIX в. — С. 151,158. 26 Абрамов А.И. Культурно-историческая концепция русской цивилизации К.Н.Леонтьева // Цивилизация: прошлое, настоящее и будущее человека. — М., 1988. — С. 59. 27 Салмин А.М. Политическая историософия Константина Леонтьева // Русская политическая мысль вт. пол. XIX в. — М., 1989. — С. 118-119, 134-135. 28 Сивак А.Ф.Константин Леонтьев.-Л., 1991.-С. 13,16,22,28,46. 29 Игнатов А. Русская философия истории: романтический консерватизм // Вопросы философии. — 1999. — №11.- С. 118-119. 30 См.: ВРС. — С. 714. 31 Там же. — С. 344. 32 Там же. — С. 274. 33 Там же. — С. 278. 34 Там же. — С. 344. 35 Цит. по: Памяти К.Н.Леонтьева. Литературный сборник. — СПб., 1911. — С. 124. 36 Иваск Ю.П. Константин Леонтьев (1831-1891). Жизнь и творчество // Proetcontra.Кн.2. — СПб., 1995. — С. 484, 521 . 37 ВРС.- С. 235. 38 Там же. — С. 377,370,378. 39 Там же. — С. 224,379,297,483. 40 Янов А.Л. Трагедия великого мыслителя… — С. 75-76. 41 См. : ВРС. — С. 55. 42 Там же. — С. 358. 43 Леонтьев Константин. Записки отшельника. — М., 1992.- С. 361. (Далее — Записки). 44 ВРС. — С. 13, 391. 45 Янов А.Л. Указ. соч. — С. 77. 46 Леонтьев Константин. Письма к Василию Розанову. — Лондон, 1981. — С. 97.(Далее — Письма к Розанову). 47 См. : ВРС. — С. 393. 48 Там же. — С. 246, 240. 49 Федотов Г.В. Судьба и грехи России. — Т.1.- СПб., 1991. — С. 71. 50 ВРС. — С. 265. 51 Там же. — С. 621. 52 Там же. — С. 604. 53 Леонтьев К.Н. ВРС.- Т. 2.- М., 1886. — С. 221. 54 Леонтьев Константин. Избранные письма. — СПб., 1993. — С. 274,258,315. (ДалееИП). 55 Франк С.Л. Константин Леонтьев, русский Ницше // Он же. Русское мировоззрение. — СПб., 1996. — С. 412. 56 ВРС. — С. 125-126,130,129,636. 57 Там же. — С. 636,379. 58 Там же. — С. 482,485. 59 Леонтьев К.Н. Собр. соч. — Т.7. — СПб., 1913. — С. 457. 60 ВРС. — С. 426-427. 61 Достоевский и Леонтьев: Дискуссия в “Вольфиле”. (Публ. А.В.Лаврова) // Достоевский. Материалы и исследования. –Т.15.- СПб., 2000. — С. 451. 62 ВРС. — С. 418. 63 Там же. — С. 422, 421. 64Письма к Розанову- С. 31. 65 ВРС. — С. 323. 66 Франк С.Л. Миросозерцание Константина Леонтьева // Он же. Русское мировоззрение… — С. 403. 67 Литературное наследство. — Т.70.- М., 1963.- С. 346. 68 См.: Pro et contra. — Т.2.- С. 643. 69 ИП. — С. 79. 70 Записки.- С. 354. 71 ВРС. — С. 81,447. 72 ИП. — С. 73. 73 ВРС. — С. 434. 74 НИОР РГБ. Ф. 126. К. 3323. Ед. хр. 22. Л.17. 75 Записки.- С. 385. 76 ВРС. — С. 433. 77 Там же. — С. 353, 430. 78 ИП. — С. 553, 552. 79 Там же. — С. 466. 80 ГАРФ. Ф. 1099. Оп.1. Ед. хр. 2084. Л. 5об. — 6. 81 Соловьев Вл.С. Памяти К.Н.Леонтьева // Proetcontra. — Кн.1. — С. 21. 82 Франк С.Л. Миросозерцание Константина Леонтьева. — С. 401. 83 Левицкий С.А. Очерки по истории русской философии. –М.,1996. — С. 130. 84 ВРС. — С. 218, 222, 250-251, 502, 564. 85 Литературная учеба. — 1996. — Кн. 3. — С. 165. 86 ВРС. — С. 667. 87 Там же. — С. 284. 88 Там же. — С. 254. 89 Там же. — С. 472. 90 Там же. — С. 634. 91 Там же. — С. 108. 92 Там же. — С. 538. 93 См. подробнее: Зорин Андрей. Кормя двуглавого орла… Литература и государственная идеология в России посл. тр. XVIII — пер. тр. XIX в.- М., 2001. (Глава X. Заветная триада). 94 ВРС.- С. 674. 95 Там же. — С. 601. 96 Там же. — С. 674. 97 ИП.- С. 230; ВРС. — С. 605. 98 ВРС.- С. 340. 99 ГЛМ. Ф.196. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 5. 100 ВРС.- С. 166. 101 Там же. — С. 391. 102 Там же. — С. 362. 103 Там же. — С. 549. 104 Там же. — С. 431. 105 Цит. по: Pro et contra. Кн. 1. — С. 452. 106 Литературная учеба. — 1996. — Кн. 3. — С. 163. 107 ВРС. — С. 430-431. 108 Там же. — С. 222, 224. 109 Там же. — С. 454, 477. 110 ИП. — С. 469-470. 111 ВРС. — С. 697. 112 Там же. — С. 548. 113 См.: Архиепископ Антоний. Искренняя душа // Памяти К.Н.Леонтьева. — С. 315. 114 Литературная учеба. — 1996. — Кн. 3. — С. 161. 115 ИП. — С. 317. 116 ВРС. — С. 477. 117 ИП. — С. 281. 118 ГАРФ. Ф. 1099. Оп. 1. Ед. хр. 2084. Л. 6. 119 ВРС.- С. 211. 120 РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 25. Л. 4. 121 ВРС. — С. 700. 122 Там же. — С. 379, 427. 123 Там же. — С. 624. 124 Там же. — С. 392. 125 Там же. — С. 623. 126 Там же. — С. 484. 127 Там же. — С. 484. 128 Там же. — С. 623. 129 ИП. — С. 335. 130 ВРС. — С. 163, 615, 353. 131 Там же. — С. 615. 132 Там же. — С. 736. 133 Там же. — С. 371. 134 Янов А.Л. Россия против России. — С. 228. 135 ВРС.- С. 657. 136 Там же. — С. 49, 55. 137 Цит. по: Proetcontra. — Кн. 1. — С. 453. 138 Розанов В.В. Легенда о Великом инквизиторе Ф.М.Достоевского. — М., 1996. — С. 181, 255. 139 Письма к Розанову. — С. 27. 140 Трубецкой С.Н. Указ. соч. — С. 126,134; Милюков П.Н. Указ. соч. 141 Королев А.В. Культурно-исторические воззрения К.Н.Леонтьева // Памяти К.Н.Леонтьева. — С. 331-332. 142 Салмин А.М. Указ. соч. — С. 141-142; Янов А.Л. Россия против России. — С. 320. 143 См.: Пеунова М.Н. Указ. соч. — С. 338; Голосенко И.А. Социальная философия неославянофильства // Социологическая мысль в России. — Л., 1978. — С. 245; Дамье Н.В. К.Н.Леонтьев и классическое славянофильство // Кентавр. — 1994. — № 1. — С. 35; Авдеева Л.Р. Социально-философские идеи поздних славянофилов // Введение в русскую философию. — М., 1995. — С. 49; Хевролина В.М. Идея славянского единства во внешнеполитических представлениях поздних славянофилов // Славянский вопрос: вехи истории. — М., 1997. — С. 92. 144 Булгаков С.Н. Победитель — побежденный. (Судьба К.Н.Леонтьева) // Он же. Соч. в двух т. — Т.2. — М., 1993. — С. 548-549. 145 Бердяев Н.А. Константин Леонтьев. Очерк из истории русской религиозной мысли // Proetcontra. — Кн. 2. — С. 30-31. 146 Иваск Ю.П. Указ. соч. — С. 455. 147 Гайденко П.П. Указ. соч. — С. 173,166. 148 См.: Рабкина Н.А. Исторические взгляды К.Н.Леонтьева // Вопросы истории. — 1982. -№ 6. — С. 58; Она же. “Византизм” Константина Леонтьева // История СССР. — 1991. — №6. — С. 38. 149 Сивак А.Ф. Указ. соч. — С. 25. 150 См. письмо И.С.Аксакова О.А.Новиковой от 24 апреля 1882 г., опубликованное Г.Б.Кремневым (ВРС. — С. 720). 151 Киреев А.А. Соч.- Ч. 2. — СПб., 1912.- С. 160. 152 Аксаков Н.П. О народности вообще и русской народности по преимуществу // Благовест. — 1892. — Вып.41. –С. 1439-1440; Вып. 44. — С. 1595. 153 Русское дело. — 1887. — № 19. — С. 12. 154 Там же. — 1888.- № 2.- С. 14. 155 ВРС. — С. 445- 446, 734. 156 ИП. — С. 362. 157 Цит. по: Pro et contra. — Кн. 1. — С. 453. 158 НИОР РГБ. Ф. 126. К. 3323. Ед. хр.22. Л. 16 об. 159 Цит. по: Киреев А.А. Соч. — Ч.2. — С. 195. 160 ИП. — С. 38-39. 161 Леонтьев К.Н. Полн. собр. соч. и писем в 12 т. — Т.2. — СПб., 2000. — С. 269. 162 ИП. — С. 43. 163 Леонтьев К.Н. Полн. собр. соч. — Т. 2. — С. 149, 157-159. 164 Записки. — С. 366-367. 165 ВРС. — С. 554. 166 См.: Леонтьев К.Н. Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве // Григорьев Аполлон. Одиссея последнего романтика. — М., 1988. — С. 444-446; Записки. — С. 364-365. 167 Записки. — С. 398, 366. 168 ИП. — С. 67,73. 169 См. подробнее о ней: Косик В.И., Кремнев Г.Б. Греко-болгарский вопрос // ВРС. — С. 793-794. 170 Там же. — С. 43. 171 Там же. — С. 117. 172 Леонтьев К.Н. Моя литературная судьба // Литературное наследство. — Т. 22-24. М., 1935. — С. 451. 173 ВРС. — С. 286. 174 Там же. — С. 688. 175 Киреев А.А. Указ. соч.- С. 191. 176 НИОР РГБ. Ф. 126. К. 8337а. Ед. хр. 8. Л. 16 об. 177 РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 51. Л.10. 178 Русское обозрение. — 1897.- № 3.– С.459. (Далее — РО). 179 ИП. — С. 513, 532, 441. 180 ВРС.- С. 687. 181 РО. — 1897. — № 5. — С. 399. 182 ВРС. — С. 391. 183 Волженский П. Еще русский мыслитель // Русское дело. — 1887. — № 19-21. 184 Там же. — № 19. — С. 21. 185 См.: Там же. — 1888. — № 17. — С. 22-23. 186 Русский труд. — 1897. — № 10-11. — С. 11-12. 187 Александров А. I Памяти К.Н.Леонтьева. А.Александрову. — Сергиев Посад. — 1915. — С. 110. II Письма К.Н.Леонтьева к 188 Благовест. — 1890. — Вып. 5. — С. 157-158. 190 ВРС.- С. 291. 191 Аксаков И.С. Полн. собр. соч. — Т. 5. — М., 1887. — С.183; — Т. 2.- М.,1886. — С. 704. 192 НИОР РГБ. Ф. 126. К. 8337а. Ед. хр. 8. Л. 16 об. 193 ВРС. — С. 223. 194 Аксаков И.С. Указ. соч. — Т. 2. — С. 555. 195 Киреев А.А. Указ. соч. — С. 151. 196 ВРС. — С. 371. 197 Исторический вестник. — 1916.- № 9. — С. 702. 198 ВРС. –С. 153. 199 Аксаков И.С. Указ. соч. — Т. 5. — С. 559. 200 ВРС. — С. 121; ИП.- С. 501. 201 Аксаков И.С. Указ. соч. — Т. 1.- М., 1886. — С. 456; Русь. — 1881. — № 25. — С. 2. 202 Аксаков И.С. Указ. соч. — Т. 5. — С. 558; Т. 4. –М., 1886. — С. 195. 203 Русский архив. — 1907. — Кн. 3.- С. 142. 204 ИП. — С. 204-205; Российский архив. — Т. 9.- М., 1999. — С. 211. 205 Иваск Ю.П. Указ. соч. — С. 457. 206 См. напр.: Трубецкой С.Н. Указ. соч. — С. 138, 142-143; Бердяев Н.А. Константин Леонтьев. — С. 63-64, 136, 140. 207 ВРС.- С. 358. 208 НИОР РГБ. Ф. 126. К. 3323. Ед. хр. 21. Л. 32-32об. 209 ВРС. — С. 81, 535. 210 Русская литература. — 2001.- № 2. — С. 158. 211 ВРС. — С. 628. 212 Григорьев Аполлон. Письма. — М., 1999. — С. 106. 213 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. — Т. 29.– Кн. 1.Л., 1986. — С. 263. 214 Там же. — Т. 26.-Л., 1984. — С. 81. 215 НИОР РГБ. Ф. 126. К. 3323. Ед. хр. 9. Л. 10-10 об. 216 Гиляров-Платонов Н.П. Сборник соч. — Т. 2. — М., 1899. — С. 518. 217 Современные известия. — 1886.- № 36.- С. 2. 218 Цит. по: Неопознанный гений. Памяти Никиты Петровича Гилярова-Платонова. – М., 1903. — С. 81-82. 219 Русское дело.- 1887. -№ 10. — С. 3. См. также: Рцы. Философия дойной коровы // Русское дело. — 1886. — № 24-25. — С. 4-6. 220 См. о ней: Русское слово. — 1895.- № 94.- С. 3. 221 Сивак А.Ф. Указ. соч. — С. 25. 222 ВРС. — С. 485. См. также: ИП.- С. 362. 223 Аксаков И.С. Указ. соч.- Т. 1.- С. 678 — 679. 224 Русское дело. — 1887.- № 19.- С. 12. 225 РО.- 1897.- № 10.- С. 725. 226 ВРС.- С. 666, 672, 673. 227 НИОР РГБ. Ф.126. К. 8337а. Ед. хр. 8. Л. 7об.-8, 16 об. 228 Русский архив. — 1907.- № 3.- С. 176. 229 Записки. — С. 366-367. 230 ВРС. — С. 683. 231 ИП.- С. 505, 400. 232 Киреев А.А. Указ. соч. — С. 159, 191. 233 См.: Соловьев В.С. Леонтьев // Он же. Соч. в 2-х т. 2-е изд. — М., 1990. — С. 415. 234 Цит. по: Киреев А.А. Указ. соч.- С. 196. 235 Русская литература. — 2001.- № 2. — С. 158. 236 ВРС.- С.761. 237 Аксаков Н.П. Указ. соч.- С. 1589. 238 НИОР РГБ. Ф. 224. К. 1. Ед. хр. 64. Л. 6. 239 ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Ед. хр. 2258. Л. 13об.-14. 240 См.: Керимов В. Хомяков против Киреевского // Наука и религия. — 1989.- № 1.- С. 14; см. также: Салмин А.М. Указ. соч. — С. 141-142. 241 См.: Янов А.Л. Славянофилы и Константин Леонтьев.- С. 102. 242 Тихомиров Л.А. Указ. соч. — С. 153,155; см. также: Свящ. Иосиф Фудель. Культурный идеал К.Н.Леонтьева // Там же. — С. 160-161. 243 ИП.- С. 379. 244 Литературная учеба.- 1996.- Кн. 3.- С. 161. 3.4 ОСОБЕННОСТИ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ТРАДИЦИОНАЛИЗМА Своеобразие мышления К.Н.Леонтьева во многом уже ясно из предыдущего изложения. Однако попробуем описать это своеобразие более систематически. а) Самой важной и определяющей чертой социально-политического мировоззрения философа является его последовательный аристократический иерархизм (“К. Леонтьев был аристократ по природе, по складу характера, по чувству жизни и по убеждению” (245)), который непосредственно вытекает из леонтьевской онтологии. Существование жизни на земле, по мнению Константина Николаевича, возможно лишь при разнообразии (дифференциации) составляющих ее элементов. Разнообразие подразумевает различие, различие — неравенство, а неравенство — иерархию. Идейная связка “разнообразиенеравенство-иерархия” — ключевая в творчестве мыслителя (246). Ее он считает “древним, исконным, непобедимым” законом “социальной жизни”. Противопоставляя чуждые и близкие ему идеалы, Леонтьев относил к первым — “безверие, безвластие и <…> равенство”, а ко вторым — “веру, власть и неравенство прав”. Он полагал, что “сословный строй, неравноправность граждан, разделение их на неравноправные слои и общественные группы есть нормальное состояние человечества” и “именно в этой-то социальной видимой неправде и таится невидимая социальная истина; глубокая и таинственная органическая истина общественного здравия, которой безнаказанно нельзя противоречить даже во имя самых добрых и сострадательных чувств” (247). Любое прочное социальное “устройство <…> есть не что иное, как <…> организованное неравенство”, а “созидание и утверждение государств есть всегда расслоение<…>,т.е. усиление разницы или разнообразия в положениях”, что “подразумевает неравноправность лиц, классов, областей, вероисповеданий, полов и т.д.” (248) Отсюда становится ясным, что нормальное общество для Леонтьева — общество сословное. Без сословий, оказывается, невозможно даже создание нового “культурногосударственного типа”, ибо “сословия суть признак силы и необходимое условие культурного цветения”, а потому, “если новая сословность у нас утвердится хоть на 100 лет, то прав до известной степени Данилевский: будет своя цивилизация” (249). Сословность необходима и для формирования ярких, оригинальных человеческих индивидуальностей, т.к. “чем отдельнее будут социальные слои и группы, чем их обособленные цвета гуще или ярче, чем их психический строй тверже (т.е. обособленнее), чем неподатливее на чужое влияние, — тем и выше, и больше будет случайный, вырвавшийся из этих групп и прорвавший эти слои, сложный психический или вообще исторический продукт” (250). Наконец, сословный строй обеспечивает прочность монархии: “Для того <…>, чтобы <…> Царская власть была долго сильна, не только не нужно, чтобы она опиралась прямо и непосредственно на простонародные толпы, своекорыстные, страстные, глупые, легко развратимые; но — напротив того — необходимо, чтобы между этими толпами и Престолом Царским возвышались прочные сословные ступени; необходимы боковые опоры для здания долговечного Монархизма”. И более того (интересный поворот мысли для правоверного монархиста!): “Сами сословия или, точнее, сама неравноправность людей и классов важнее для государства, чем монархия. <…>Сословная монархия, конечно, лучше и тверже аристократической республики, но аристократическая республика все-таки надежнее эгалитарной монархии, воздвигнутой на смешанной, зыбкой общественной почве” (251). Характерно, что о сущности монархического принципа Константин Николаевич рассуждал куда меньше, нежели о сословности, иерархии, аристократии и проч. Леонтьев — типичный “элитист” (252), ход истории, с его точки зрения, всегда определяет привилегированное (более знатное, богатое, образованное) меньшинство: “Охранение <…> от неразвитости, от отсталости ненадежно; надежно только созидание чего-либо нового или полунового высшими, более развитыми классами, за которыми рано или поздно, хотя и нехотя, идет народ”. Что же касается “средних и низших классов”, то они назначены “самой природой для повиновения, а не для господства и необузданного рассуждения”. Вообще большинство (здесь Леонтьев сочувственно цитирует Д.С. Милля) — “собирательная бездарность” (253). В отличие от славянофилов, автор “Византизма и славянства” — ни в каком смысле слова не демократ. Он уверен, что “нужен для России особый высший класс людей. А кто говорит особый класс, этим самым говорит, что необходимы такие или иные юридические ограды. <…> Нужны привилегии, необходимы и особые права на власть” (254). Иными словами, мыслитель полагал, что дворянство должно сохранить за собой первенствующее положение в государственной, общественной и культурной жизни страны. В этом он солидарен с такими продворянскими публицистами как А.Д. Пазухин и Р.А. Фадеев (255). Но ни они, ни тем более Леонтьев не выступали за некий возврат к дореформенным порядкам. “Дворянские привилегии в прежней их форме” безвозвратно утрачены — неоднократно подчеркивал Константин Николаевич. Речь шла о восстановлении сословий в “новой форме”, о том, чтобы снова “закрепостить” крестьянство, “но уже не лично отдельным членам высшего сословия, а целому государству — через посредство новых властей, из среды того же старого дворянства русского <…>”. Т.е. дворянство превратилось бы в “наследственное чиновничество”, управляющее крестьянством, объединенным в крупные, замкнутые в себе общины — “сытые, богатые, сильные и внутренно (наподобие монастырей) весьма неравноправно устроенные”. Причем, и общинные земли, и крупные помещичьи имения предполагалось сделать неотчуждаемыми (256). Впрочем, предлагая “утвердить глубокую сословную разницу”, Леонтьев не выступал как сторонник полной “непроницаемости” сословий, настаивая на “сохранении доступности высшего слоя” “для натур особенных”: “Нужно, конечно, некоторое общение, некоторая возможность перехода из группы в группу, и из слоя в слой <…>” (257). Сословное устройство будущей России, по Леонтьеву, не должно было ограничиваться дворянством и крестьянством, но об устройстве других “горизонтальных слоев” он написал очень мало. б) Следующей особенностью социально-политической доктрины Леонтьева нужно назвать ее жесткий этатизм, который, с формальной точки зрения, вроде бы плохо вяжется с проповедью восстановления сословий. Но в координатах леонтьевской логики никакого противоречия здесь нет. Идея сильной центральной власти также вытекает из онтологии философа, одной из важнейших категорий которой является форма. Вне строгой, определенной формы никакое явление существовать не может, она “есть деспотизм внутренней идеи, не дающий материи разбегаться”. Без организующего внутреннего единства — нет разнообразия, его элементы неизбежно сольются в предсмертном упрощенном однообразии. Впрочем, и единство без внутреннего разнообразия непрочно и недолговечно. Следовательно, “форма глубже расслоенная и разгруппированная и в то же время достаточно сосредоточенная в чем-нибудь общем и высшем, — есть самая прочная и духовно производительная <…>” (258). Но необходимость активно действующего государства диктуется и чисто политическими соображениями, прежде всего, слабостью общественной инициативы в России, вернее, ее деструктивной и антинациональной направленностью: “<…> одним “чиновником” дышать и развиваться нельзя нигде; но что же делать с неофициальною Россией, когда она слабее, глупее, бесчестнее и несогласнее, пьянее, ленивее и бесплоднее “казенной“? <…> Что ж делать, если из двух русских Европ, так сказать, наша “казенная” Европа охранительнее, сильнее, надежнее, государственнее и даже национальнее Европы либерально-русской. Государственность наша, даже и полуевропейская, несравненно резче отделяет нас от Запада, чем наша общественность, в которой за последние 30 лет ничего бы уже не осталось своего, если бы не сильное правительство…” (259) Но не только “общество”, но и сам русский народ склонен к социальной анархии, поэтому “в России там, где не начальствует строгий чиновник, всегда можно ожидать беспорядка” (260). По обстоятельствам отечественной истории, “государство у нас всегда было сильнее, глубже, выработаннее не только аристократии, но и самой семьи”; “родовой наследственный Царизм был так крепок, что и аристократическое начало у нас приняло под его влиянием служебный, полуродовой; <…> несравненно более государственный, чем лично феодальный, <…> характер”; поэтому “монархическое начало является у нас единственным организующим началом, главным орудием дисциплины <…>” (261) Вслед за Карамзиным, Пушкиным, М.П. Погодиным и “государственной школой” в русской историографии (С.М. Соловьев, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин) и явно в противовес славянофилам, Леонтьев признает государство главной творческой силой в истории России: “Все великое и прочное в жизни русского народа было сделано почти искусственно и более или менее принудительно по почину правительства. <…> Крещение Руси было дело правительства. Собирание Руси — тоже; правительством было постепенно утверждено крепостное право <…> Создавши привилегированный культурный слой, т.е. дворянство, правительство исполнило великую и историческую обязанность свою. <…> Эта особого рода искусственность естественна для России” (262). Важно, однако, отметить, что этатизм мыслителя не носил абсолютного характера, государство не было для него некоей высшей ценностью, а государственное вмешательство в общественную жизнь, с его точки зрения, могло бы быть и меньшим, если бы последняя носила более национально своеобразный (а не “европейски-разрушительный”) характер: “Дайте нам могучесословное, малоподвижное земство, дайте нам общество религиозное <…>, распространите некоторый фанатизм русских вкусов, и тогда само собою охранение станет меньше нуждаться в официальной помощи. Но где это теперь? Есть только мечты, надежды, начинания” (263). Таким образом, Константин Николаевич полагал, что государство само должно создать для себя необходимую социальную опору — дифференцированный сословный слой, без которого нет ни культурной самобытности, ни долговечности государства. Сама по себе “Петербургская централизация” не есть какой-то идеал (ведь она тоже вносит “в нашу жизнь слишком много европейского”), но, за неимением лучшего, она “спасительнее”, чем “вполне по внутренним вкусам европейское общество”. Пока же в обществе господствуют либеральные настроения, ни о каких Земских Соборах и говорить нечего, ибо “революция посредством Земского Собора станет на легальную почву. И тогда-то прощай Россия!..” (264) Леонтьев, кажется, не был противником местного самоуправления, более того, утверждал, что нужно “побольше местного самоуправления с мужицким оттенком в уездах” (265), но ничего конкретного по этому вопросу не написал. В отличие от славянофилов, самодержавие для него есть просто единовластие, не нуждающееся в каком-либо “совете с землею”. Не совсем, правда, ясно, как видел Константин Николаевич сочетание сильной центральной власти с новым сословным строем в будущем: останется ли последний под тотальной государственной опекой, или, наоборот, сам начнет как-то влиять на ход внутренней и внешней политики? И вообще, предполагал ли он, что государство так и останется единственной творческой силой в стране? Судя по его отношению к церковной самостоятельности, нет. А, если так, то ясно, что бюрократия каким-то образом должна будет отдать часть своих полномочий Церкви и сословиям. К сожалению, эти важные вопросы остались у Леонтьева без рассмотрения. Повидимому, он пока не считал нужным обдумывать столь далекую (и во многом еще призрачную) перспективу. в) Как справедливо отмечает Н.В. Лиливяли, леонтьевская “общественная модель мыслилась <…> как результат соединения двух элементов различных типов политической организации общества: восточного деспотизма и сословной иерархии западноевропейского образца” (266). С ней вполне согласны А.И. Абрамов и А.С. Карцов (последний более точно говорит об “автократии”, а не о “деспотизме”) (267). Здесь перед нами вырисовывается еще одна своеобразная черта мировоззрения автора “Среднего европейца…” — его парадоксальное “восточничество/западничество”, как это ни странно звучит. Полемизируя со славянофилами — панславистами, Леонтьев доказывал, что “нужна вера” не в славянство как таковое (не имеющее культурного своеобразия), “а в счастливое сочетание с ним всего того получужого, преимущественно восточного (а кое в чем и западного), которое заметнее в России, чем у других славян. Нужна вера в дальнейшее и новое развитие византийского (Восточного) христианства (Православия), в плодотворность туранской примеси в нашу русскую кровь, отчасти и intussusceptio [всасывание] властной и твердой немецкой крови и т.д.” (268) Поскольку собственно славянское начало, в представлении мыслителя, бессодержательно, для создания нового “культурного типа” необходимо привлечение инородных элементов. Россия в этом смысле “повезло”, ибо она испытала на себе существенное азиатское влияние, а “только из более восточной, из наиболее, так сказать, азиатской — туранской нации в среде славянских наций может выйти нечто от Европы духовно независимое; без этого азиатизма влияющей на них России все остальные славяне очень скоро стали бы самыми плохими из континентальных европейцев и больше ничего” (269). Отношение Константина Николаевича к азиатским народам самое теплое. Во-первых, “в деле творчества национального” у них “все почти свое”, во-вторых, у них преобладает “наклонность к религиозному мистицизму”, а в-третьих, к ним “либерализм прививается трудно” (270). Леонтьев полагал, что “сходство <…> в чем-нибудь с Азией не погубит нашей оригинальности, а только сохранит ее надолго <…>”. Недаром чаемый им новый “культурный тип” он именовал иногда “славяно-азиатским”, недаром в будущий Восточный союз хотел включить остатки Турции и Персию (271). В первую очередь внимание мыслителя было устремлено на исламский мир, в котором он видел естественного союзника в политической и духовной борьбе с Западом. Но в конце жизни его также стали интересовать “свирепо-государственный исполин Китая и глубоко мистическое чудище Индии”. “Заразимся ли мы столь несокрушимой в духе своем китайской государственностью и могучим, мистическим настроением Индии?” — с надеждой вопрошал он (272). Речь, разумеется, шла не о каких-то конкретных заимствованиях, а о такой же сильной приверженности к собственной государственности и религии как в Китае и Индии. Не образу жизни азиатов надо подражать, а самой воле к творчеству и охранению своего. Что же касается леонтьевского “западничества”, то Константина Николаевича и в европейцах привлекала ярко выраженная способность к созданию оригинальных национальных форм, будь то государственность, религия или культура. Например, он весьма симпатизировал католичеству, “не в смысле догматическом, конечно, не смысле чисто религиозном, но, так сказать, в культурно-историческом”, ибо в его истории “что ни шаг, то творчество, своеобразие, независимость, сила” (273). Вообще докапиталистической Европе Леонтьев вполне сочувствовал и даже восхищался ею, ненависть его вызывала только Европа “среднего буржуа”. Сословный строй средневекового Запада казался ему хорошим образцом для подражания. Леонтьеву нравилась европейская организованность в противоположность русской расхлябанности, поэтому он желал совместить “западную выдержку и восточные (т.е. православные. — С.С.) идеалы” (274). “Да здравствуют Православные Немцы! — восклицал философ в письме к о. Иосифу Фуделю (немцу по происхождению), — <…> Любви у нас не мало, но и в ней, как и во всем много лени, небрежности, неустойчивости, и мало внимания, твердости и порядка” (275). Таким образом, польза западных и восточных влияний виделась Леонтьеву в том, что они могут способствовать структуризации и большей оформленности русской жизни. г) Но, пожалуй, самой интересной и неоднозначной, вызывающей различные толкования, особенностью леонтьевских социально-политических воззрений является идея “социалистической монархии” (Ю.П. Иваск). В связи с ней неизбежно приходится говорить об отношении Константина Николаевича к социализму/коммунизму (эти термины у него взаимозаменяемы) вообще. Этот вопрос так или иначе затрагивали почти все писавшие о творчестве мыслителя. Л.А. Тихомиров еще в 1892 г. обращал внимание на то, что он “имел своеобразную “социалистическую” окраску” (276). Однако специальные работы по данной теме практически отсутствуют. В виде исключения можно назвать лишь небольшую статью И.А. Воронина, которая во многом верно ставит проблему, но заканчивается чересчур прямолинейным выводом: “В своем неприятии либерализма Константин Николаевич приходит к примирению социализма и консерватизма в борьбе против общего врага” (277). Но гораздо большая прямолинейность присуща представлению о Леонтьеве как критике социалистического тоталитаризма. Когда К.М. Долгов пишет, что мыслитель усматривал “движение человечества к катастрофе <…> в попытке построения социализма как новой формы рабства общества, основанного на насилии” (278), сразу становится ясно — исследователь весьма поверхностно знает свой предмет, ибо ему неведомо, что понятия “рабство” и “насилие” для автора “Византизма и славянства” имеют скорее позитивный, чем негативный смысл. Едва ли можно согласиться и с Н.А. Бердяевым, полагавшим, что Леонтьев “хватается за своеобразный консервативно-монархический “социализм” от отчаяния, от безнадежности” (279). Ту же мысль в еще более неприемлемой форме повторяет А.Ф. Сивак: “В отчаянии Леонтьева неожиданно посещает фантастическая мысль: нельзя ли объединить социализм с принципом монархии, чтобы спасти Россию от гибели” (280). Не точен и И.А.Воронин, утверждая, что философ принял социализм лишь “незадолго до смерти” (281). Различные, порой противоположные друг другу трактовки данной проблемы связаны прежде всего с нечеткостью понятия социализм/коммунизм у самого Леонтьева, использующего его не менее, чем в трех значениях. Первое — социализм как теория. В этом смысле социализм Константином Николаевичем решительно отвергается. Ведь “социализм со всеми его разветвлениями есть не что иное, как вполне законное по логике происхождения детище тех прогрессивно-эвдемонических идей, тех верований в благо земное от равенства и свободы, которые Франция объявила в 89-м году <…>” (282). В социалистическом учении “объявляется недостаточность <…> политического равенства (упрощения) и требуется равенство всякое, полное, экономическое, умственное, половое <…>”. Таким образом, предел коммунистических мечтаний (наиболее ярким примером коих Леонтьев считал построения П.Ж. Прудона и Э. Кабе) — “окончательное, упростительное смешение”, “обращение людей в среднего европейца” (283).А это и есть идеал “революции”, “ассимиляции”, ведущей в итоге к “всеобщему разрушению жизни на этой земле” (284). Но мыслитель предполагал и другой возможный (и даже, как ему казалось, гораздо более вероятный) исход коммунистического движения — социализм как феодализм будущего: “Коммунизм в своих буйных устремлениях к идеалу неподвижного равенства должен <…> привести постепенно, с одной стороны, к меньшей подвижности капитала и собственности, с другой — к новому юридическому неравенству, к новым привилегиям, к стеснениям личной свободы и принудительным корпоративным группам, законам, резко очерченным; вероятно даже и к новым формам личного рабства или закрепощения (хотя бы и косвенного, иначе названного <…>). <…> Если же анархисты и либеральные коммунисты, стремясь к собственному идеалу крайнего равенства (который невозможен (т.е. невозможно практическое воплощение “теоретического социализма”! — С.С.) своими собственными методами необузданной свободы личных посягательств, должны рядом антитез привести общества, имеющие еще жить и развиваться, к большей неподвижности и к весьма значительной неравноправности, то можно себе сказать вообще, что социализм, понятый как следует, есть не что иное как новый феодализм уже вовсе недалекого будущего” (285). (Легко заметить почти дословное совпадение данной характеристики с изложением идеи “новой сословности”, разобранной нами выше). И, наконец, третий вариант реализации социалистической идеи, собственно социалистическая монархия (или, говоря словами самого автора, — “охранительный социализм”), где происходит соединение самодержавия и Православия с “феодализмом будущего”: “Чувство мое пророчит мне, что славянский православный царь возьмет когда-нибудь в руки социалистическое движение ( так, как Константин Византийский взял в руки движение религиозное) и с благословения Церкви учредит социалистическую форму жизни на место буржуазно-либеральной. И будет этот социализм новым и суровым трояким рабством: общинам, Церкви и Царю” (286). Конечно, все эти “социализмы” представлены нами, так сказать, в “идеально-типическом” виде (так же как весьма условно даны им названия), у самого автора таких строгих разграничений нет, а при крайней расплывчатости его понятийного аппарата они (кроме, разве первого) часто сливаются друг с другом. Повторимся лишний раз: леонтьевские тексты нужно читать очень внимательно! Впрочем, и при самом внимательном чтении, некоторые места в них не поддаются однозначному толкованию. Вот, скажем, размышления философа из статьи 1880 г. “Чем и как либерализм наш вреден?”, где говорится, что “тот слишком подвижный строй, который придал всему человечеству эгалитарный и эмансипационный прогресс XIX века, очень непрочен, и, несмотря на все временные и благотворные усилия консервативной реакции, должен привести или ко всеобщей катастрофе, или к более медленному, но глубокому перерождению человеческих обществ на совершенно новых и вовсе уж не либеральных, а, напротив того, крайне стеснительных и принудительных началах. Быть может, явится рабство своего рода, рабство в новой форме, вероятно, — в виде жесточайшего подчинения лиц мелким и крупным общинам, а общин государству. Будет новый феодализм — феодализм общин, в разнообразные и неравноправные отношения между собой и ко власти общегосударственной поставленных. <…> Эта новая культура будет очень тяжела для многих и замесят ее люди столь близкого уже ХХ века никак не на сахаре и розовой воде равномерной свободы и гуманности, а на чем-то ином, даже страшном для непривычных…” (287) О чем здесь идет речь? Ясно, что под “всеобщей катастрофой” подразумевается победа “теоретического социализма”, но, что автор имеет в виду, говоря о “новой культуре” — социализм, перерождающийся в “феодализм будущего”, или “социалистическую монархию”? Похоже — и то, и другое, строгое их расчленение тут невозможно. Но из того, что образы обоих социальных устройств видятся Леонтьеву почти одинаково, никак не следует, будто он видел в социалистическом движении “союзника” в борьбе с либерализмом. Социалисты, конечно, предпочтительнее для мыслителя, чем либералы, но они хороши лишь как предвозвестники движения человечества к “меньшей подвижности”, “в этом <…> их косвенная польза даже и великая. Я говорю только польза, а никак, конечно, не заслуга. Заслуга должна быть сознательная; польза бывает часто нечаянная и вполне бессознательная. Пожар может иногда принести ту пользу, что новое здание будет лучше и красивее прежнего: но нельзя же ставить это в заслугу ни неосторожному жильцу, ни злонамеренному поджигателю. Поджигателя можно повесить; неосторожному жильцу можно сделать выговор <…>, но хвалить и награждать их не за что” (288). Сказано достаточно определенно, чтобы понять: социализм для Константина Николаевича остается врагом, но врагом полезным, у которого можно многое перенять. Важно отметить, что, по Леонтьеву, социализм (либо в первом, либо во втором смысле) обязательно победит в Западной Европе (раньше всего, во Франции): “<…> все государства Европы <…> стремятся к одной и той же форме эгалитарно-либеральной республики. Надолго ли эти буржуазные республики могут отстоять себя от напора все возрастающего социализма — это еще в наше время невозможно решить. <…> Социализм так или иначе восторжествовать должен. Что он такое будет <…> — орудием ли только всеобщей анархии или залогом и основой нового неравенства и деспотической организации — это еще загадка. Но сообразивши <…>, что то полнейшее равенство прав, положения, обеспеченности и воспитания, которого требуют социалисты эгалитарные, — физиологически невозможно, надо думать, что социализм может переродиться на практике и принять организующее направление. <…> Если эта организация будет снабжена достаточною неравноправностью, — то она может держаться не век, а целые века, подобно феодализму; если эта власть и эта неравноправность будут слабо выражены, то и эта форма будет непрочна: ее господство будет считаться только годами <…>, и весь Запад будет еще как-нибудь перебиваться изо дня в день, подобно республикам Южной Америки или греческим республикам перед македонским нашествием, — в ожидании какой-нибудь чужой и сильной руки” (289). Как видим, будущее социализма в Европе для Леонтьева многовариантно. Тем любопытнее, что в России он предполагал лишь катастрофический исход социалистического переворота (вне “социалистической монархии”); именно русские могут “всех смешать и всех скорей погубить в общей равноправной свободе и в общем неосуществимом идеале всеобщего благоденствия <…>” (290). По крайней мере, возможность социализма в России без самодержавия, но деспотически организованного и неравноправного, Константин Николаевич нигде специально не рассматривал, хотя намек на это, кажется, в одном месте у него есть: “<…> если бы русский народ доведен был <…> до состояния временного безначалия, то именно те крайности и те ужасы, до которых он дошел бы со свойственным ему молодечеством, духом разрушения и страстью к безумному пьянству, разрешились бы опять по его же собственной воле такими суровыми порядками, каких мы еще и не видывали, может быть!” (291) Но, конечно, данное высказывание может иметь и другие толкования. Вообще же говоря, у Леонтьева нет систематического учения о социализме, есть лишь догадки, наброски (порой гениальные), привести которые в логически строгую, непротиворечивую систему чрезвычайно трудно, если вообще возможно. Теперь рассмотрим развитие идеи “охранительного социализма” в творчестве Леонтьева 60-90-х гг. Вопреки утверждениям иных исследователей, эта идея возникла у него отнюдь не “неожиданно”, не “от отчаяния” и не “незадолго до смерти”. О социализме и его возможном сочетании с самодержавием Константин Николаевич начал размышлять еще в конце 1860-х гг., свидетельством чему- статья “Грамотность и народность”, написанная в 1868 г. В ней уже содержатся некоторые элементы его будущей концепции. Например, мыслитель, говоря о крестьянской общине, допускает следующий пассаж: “Европейцы, чуя в нас для них что-то неведомое, приходят в ужас при виде этого грозного, как они говорят, “соединения самодержавия с коммунизмом”, который на Западе есть кровавая революция, а у нас монархия и вера отцов” (292). (Ср. окончание фразы с высказыванием 1882 г. о решении рабочего вопроса: “Пусть то, что на Западе значит разрушение, — у славян будет творческим созиданием…” (293)). Не менее интересно и мнение Леонтьева о русских “нигилистах”, которые “принесли <…> прямую пользу, поддерживая учреждение земской общины; конечно, они ожидали не того, что случилось; <…> они спешили только опередить коммунизмом Европу на пути ее же мечтаний; они не предвидели, что земская община будет у нас в высшей степени охранительным началом и предупредит развитие буйного пролетариат: ибо в ней некоторого рода коммунизм существует уже “de facto”, а не в виде идеала, к коему следует рваться, ломая преграды” (294). Не трудно заметить, что здесь логика рассуждения во многом предвосхищает позднейшие, цитировавшиеся выше соображения Леонтьева о “пользе” европейских коммунистов. Любопытно и то, что, рассказывая в той же статье об образе жизни симпатичного старика-старообрядца, возглавлявшего большую рыбачью артель, поившего и кормившего ее на свой счет всю зиму, противопоставляя его скопидому-болгарину, автор именует первого “седым “коммунистом“” (295) (В “Записке об Афонской горе и об отношениях ее к России” (1872) Леонтьев утверждает, что “экономическая жесткость”, “скупость”, “дух мелкого торгашества” противоречат “гораздо более, чем настоящее барство тому духу щедрости и общительности, который составляет, может быть, единственную добрую сторону социалистических стремлений”) (296). Таким образом, используя (и переиначивая) идеи европейских либералов (“коммунистическим” считал, в частности, русское самодержавие знаменитый французский историк Жюль Мишле (297)) и русских революционеровдемократов (прежде всего, А.И. Герцена), Константин Николаевич приходит к выводу, что “земская община” — “коммунистична”, но “коммунизм” ее носит охранительный характер. Позднее он будет неоднократно писать про “нашу почти коммунистическую и вместе с тем — глубоко консервативную крестьянскую общину”, о том, что “уж если приравнивать к чему-нибудь западному наших простолюдинов, то мы их <…> осмелились бы назвать какими-то мирными, умеренными и монархическими социалистами <…> Такой оригинальный дух русского народа не имеет в себе ничего революционного, напротив, в нем таится, быть может, нечто зиждущее”(1880) (298). В черновых набросках 1888 г. к работе “Владимир Соловьев против Данилевского” мыслитель говорит о “развитии общинного начала” как “о чем-то вроде охранительного социализма”; именно поэтому “надежда на общину — есть надежда на Россию; ибо все то, что людей к чему-нибудь и к кому-нибудь прикрепляет, противоборствует прямо тому мелкому индивидуализму, той чрезмерной подвижности строя, которой страдает с 89-го года XVIII столетия вся Европа <…>” (299). Итак, главная основа “охранительного социализма” — община. С 1872 г. в леонтьевские размышления о социализме входит еще одна тема — сравнение его с устройством киновийного (общежительного) монастыря. (Очевидно, это было навеяно пребыванием Константина Николаевича на Афоне в 1871-1872 гг. после болезни и духовного переворота, приведшего его к строгому православию). В “Четырех письмах с Афона”, например, читаем: “Киновии могут служить прекрасным предметом изучения для самих коммунистов. Изучая киновии, можно допустить, что коммунизм, не как всеобщий закон, а как частное проявление общественной жизни, возможен, но лишь под условием величайшей дисциплины и даже <…> страха”. Или: “Коммунистами можно назвать и монахов общежительных монастырей; но они коммунисты для отречения, для аскетизма, а не для земной чувственной эвдемонии <…>” (300). С этих пор монастырь становится для Леонтьева еще одним образом (наряду с общиной) “реального” социализма, причем не обязательно “монархического”. Скажем, в статье “О всемирной любви” (1880), мыслитель, говоря о неотвратимости социализма “для некоторой части человечества” (видимо, для Западной Европы), предполагает, что жизнь “новых людей должна быть гораздо тяжелее, болезненнее жизни хороших, добросовестных монахов в строгих монастырях <…>” (301). Но наиболее развернуто параллель между монастырским и социалистическим устройствами проводится Леонтьевым в поздней (и не опубликованной при его жизни) работе “Культурный идеал и племенная политика”: “Монастыри процветают не от жертв одних, это не надежно и не равно; они процветают хозяйственно потому, вопервых, что недвижимость их неотчуждаема; во-вторых, потому что внутри нет ни свободы, ни равенства (власть игумена; привилегии иеромонахов, иеродиаконов, мантийных и т.д.); втретьих, потому что движущее ими начало не чисто хозяйственное, не рационалистическое, а супернатуральное, религиозное. Монастыри суть, таким образом, готовые образцы реального (т.е. возможного), но не рационалистического социализма” (302). Обратим внимание на то, что образы, через которые предстает леонтьевский “реальный социализм”, в системе взглядов автора смотрятся как сугубо положительные и даже лично симпатичные для него: община, барство, монастырь. Сам Константин Николаевич был урожденным, настоящим барином, любившим широкую, расточительную жизнь; общинный быт ему, безусловно, нравился; а умер он монахом Троице-Сергиевой Лавры. Поэтому нам представляется, что Леонтьев лукавил, когда в письме к Александрову от 3 мая 1890 г., рассуждая о грядущей “социалистической монархии”, делал оговорку, что он-де о ней совсем не мечтает, а лишь беспристрастно ее предчувствует, ибо его вкусам “это чуждо” (303). Думается, оговорка была сделана для того, чтобы не слишком испугать корреспондента, которому философ впервые излагал свою заветную идею. Нам представляется, что окончательно концепция “охранительного социализма” оформилась уже в конце 1870-х гг. Это хорошо видно по леонтьевской публицистике 1880 г. в “Варшавском дневнике”: “По нашему мнению, одним из главных призваний славянства должно быть <…> постепенное уничтожение в среде своей того свободного индивидуализма, которые губят все современные общества…”; “<…> социализм, понятый только с экономической стороны, может принять и охранительный характер <…>”; “<…> если бы общества человеческие и люди науки придумали такое устройство, при котором труд, хотя бы и несколько принудительный, был умереннее и обеспеченнее, а свобода подвижного капитала ограниченнее (как она и была прежде, при сословном строе всех обществ), то у разрушителей вырвано было бы из рук самое сильное их орудие в ближайшем будущем” (304). Но все это разбросано в виде намеков и полунамеков по разным статьям и не дает целостной картины. С началом царствования Александра III “”политический” Леонтьев очень ожил” (305) и стал высказывать свои экстравагантные мысли более развернуто. Скажем, в цикле статей “Письма о восточных делах” (1882-1883) он неоднократно касается темы “нового феодализма”: “<…> если человечество еще не утратило способности организоваться, если оно еще не осуждено на медленное вымирание и самоуничтожение <…>, то для дальнейшего, более прочного, менее подвижного своего устройства оно вынуждено будет прийти к новым формам юридического неравенства, к новому и сознательному поколению хроническому, так сказать, деспотизму новых отношений. <…> назревает что-то новое, по мысли отходящему веку враждебное, хотя из него же органически истекшее”; в России “индивидуально-буржуазный дух так не серьезен, что не выдержал и 20 лет либерального режима” и следовательно, “если мир должен скоро отказаться от “буржуазной” цивилизации”, то она окажется “ближе к новому идеалу”; “<…> дальнейшее развитие человечества <…> должно привести народы к новому горизонтальному расслоению и к новой вертикальной группировке общин, примиренных в высшем единстве безусловно монархической власти <…>” (306) Наиболее концентрировано идея “охранительного социализма” изложена в “Записке о необходимости новой большой газеты в С.-Петербурге”(1882), при жизни автора не публиковавшейся. Леонтьев здесь провозглашает, что “высший русский идеал” “должен быть <…> прогрессивноохранительный”, что русской мысли “нужно быть реакционно-двигающей, т.е. проповедовать движение вперед на некоторых пунктах исторической жизни, но не иначе как посредством сильной власти <…>”. Главный “пункт”, на котором планируется “движение вперед” — “экономические, хозяйственные реформы”: “необходимо опередить в этом отношении изношенную духом Европу, стать во главе движения…из “последних стать первыми” в мире!” Далее конкретизируется, что “путь, на котором мы должны опередить Европу” — это “рабочий вопрос”: “Надо стоять на уровне событий, надо понять, что организация отношений между трудом и капиталом в том или другом виде есть историческая неизбежность и что мы должны не обманывать себя, отвращая лицо от опасности, а, взглянув ей прямо в глаза, не смущаясь, понять всю силу ее неотвратимости, в том случае, если мы сами не поспешим изменить радикально историческое русло народной жизни”. Более того, “если социализм — не как нигилистический бунт и бред отрицания, а как законная организация труда и капитала, как новое корпоративное принудительное закрепощение человеческих обществ, имеет будущее, то в России создать и этот новый порядок, не вредящий ни Церкви, ни семье, ни высшей цивилизации, — не может никто, кроме Монархического правительства” (307). Размышления о социализме — центральная тема неоконченного трактата “Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения” (начатого еще в 1872 г.). “Соединим ли мы <…> китайскую государственность с индийской религиозностью и, подчиняя им европейский социализм, сумеем ли мы постепенно образовать новые общественные прочные группы и расслоить общество на новые горизонтальные слои — или нет?” (308) — вопрошает Леонтьев. В работе “Владимир Соловьев против Данилевского” он высказывает надежду на то, что “Россия (или всеславянство) решит со временем наилучшим образом собственно экономический вопрос<…> Решение это может приобрести позднее и всемирное значение <…>”. А в черновых материалах поясняет, что это “решение” “может быть <…> куплено <…> ценою порабощения лиц общинам сытым, богатым, сильным и внутренно (наподобие монастырей) весьма неравноправно устроенным” (309). В рукописи “Культурный идеал и племенная политика” Константин Николаевич называет “наделение крестьян землею и сохранение земельной общины” “мерой государственно-социалистической” и просит “не пугаться слова “жупела””. Там же излагаются и некоторые конкретные внутриполитические предложения мыслителя, в частности, по его мнению, необходимо “улучшить вещественное экономическое положение рабочего класса настолько, чтобы при неизбежном (к несчастию) дальнейшем практическом общении с Западом русский простолюдин видел бы ясно, что его государственные, сословные и общинные “цепи” гораздо удобнее для материальной жизни, чем свобода западного пролетариата” (310). В 1880-е гг. Леонтьев часто обращается к теме “охранительного социализма” и в переписке (в 70-х гг. он этой темы там избегал). Наиболее раннее ее упоминание — видимо письмо к Н.Н. Страхову от 26 октября 1888 г.: “К сожалению, цензурные условия <…> не позволяют мне высказаться до конца. Сущность моего общего взгляда такова: либерализм есть революция; социализм — <…> создание будущего, “грядущее рабство” <…> Не мы ли ответим на этот вопрос?” (311) “<…> Либерализм есть, несомненно разрушение, а социализм может стать и созиданием”, — пишет мыслитель К.А. Губастову 15 марта 1889 г. и тут же высказывает опасение, что работу о социализме (“Средний европеец…”) из-за необычности ее идей “как бы не пришлось <…> за границей печатать” (312). “<…> Итак, да здравствует “грядущее рабство”, если оно, разумно развитое Россией, ответит на очередные запросы истории и поставит нас, наконец, и умственно, духовно, культурно, а не политически только во главе человечества” (313) (О.А. Новиковой 30 мая 1889 г.). И незадолго до смерти Константин Николаевич не теряет надежды на “союз социализма (“грядущее рабство”, по мнению либерала Спенсера) с русским Самодержавием и пламенной мистикой”, “а иначе все будет либо кисель, либо анархия…” (314) (В.В. Розанову 13 июня 1891 г.). По эпистолярию Леонтьева видно, что он интересовался социалистической литературой, читал Л. Блана. М. Нордау, пытался изучать Ф. Лассаля и К.Маркса (Прудона и Кабе он “освоил” еще в 70-е г.). Характерен, однако, так сказать, вектор его интересов. “У Луи Блана, — сообщает он К.А. Губастову 5 июля 1889 г., — я искал специально только одной его мысли о том, что нужна крупная земельная собственность, но что она должна быть общинная, а не личная (значит неотчуждаемая, в роде земли монастырской)” (315). Теперь попытаемся, по возможности, обобщить изученный материал и дать более или менее систематическое изложение концепции “охранительного социализма”, которое у самого автора все-таки отсутствует. Социализм, который неизбежно победит в скором времени на Западе, есть прямая антитеза либерализму, и, следовательно, явится не иначе как в виде “нового феодализма”, а потому будет “новым созиданием”. Чтобы не оказаться на периферии магистрального движения истории, Россия должна возглавить его, перехватив инициативу у коммунизма, говоря словами Ю. Эволы, “оседлать тигра”. И она, благодаря свойствам русского народа, способна опередить в этом Европу. Отсекая разрушительные крайности социализма, нужно ввести его в “охранительное” русло, для чего во внутреннюю политику самодержавия следует инкорпорировать часть экономической программы “нового феодализма”. Государство берет на себя функцию арбитра в отношениях “труда и капитала” и следит за материальной обеспеченностью рабочего класса, выбивая тем самым, козыри из рук революционеров. Для ликвидации “экономического индивидуализма” строго ограничивается частная собственность на землю. Последняя находится во владении либо крестьянских общин, либо крупных помещичьих хозяйств, но и там, и там — она неотчуждаема. Важнейшими элементами “социалистической монархии” являются и новый сословный строй, и сильная, неограниченная центральная власть. И крестьянство, и дворянство организовываются в замкнутые корпорации с иерархическим управлением. Вероятно, по этому же образцу предполагалось объединить и рабочий класс, и другие группы населения империи. Неравенство определяет как отношения между сословиями, так и внутри их. Общество должно быть проникнуто строгим религиозным духом, который воспитывает в нем независимая от светской власти (но союзная с ней) Церковь. Итак: неограниченная монархия; служилая аристократия, обладающая широкими привилегиями; сословнокорпоративный строй; неотчуждаемая от владельцев земля; государственное вмешательство в хозяйственную жизнь для обеспечения относительной социальной справедливости — вот в общих чертах “социалистическая монархия” Леонтьева, его общественно-экономический и общественно-политический идеал. Мыслитель увидел в “реальном социализме” соответствие своему иерархически-авторитарному традиционализму и попытался совместить их. К социалистической теории леонтьевские построения, конечно, не имеют никакого отношения (они более напоминают идеологию итальянского фашизма), но практику “реального социализма” Константин Николаевич предсказал довольно точно. Любопытно еще отметить несомненное родство самой логики мышления Леонтьева и его старших современников — П.Я. Чаадаева и А.И. Герцена. Как и они, автор “Среднего европейца…” уверен, что Россия опередит Европу в осуществлении ее же собственных передовых идей, поскольку более им адекватна, нежели “загнивающий” “романо-германский мир”. Особенно очевидно сходство с Герценым, который также был уверен в социалистическом будущем России, но чей социализм при этом являл собой абсолютную противоположность леонтьевскому. Вспомним также, что и у славянофилов имелись социалистические тенденции, но как мало они похожи на идею “социалистической монархии”! Подводя итог разговору об особенностях традиционализма К.Н. Леонтьева, нужно прежде всего отметить, что перед нами безусловно традиционализм творческий, но принципиально отличающийся от традиционализма славянофилов. Славянофилы были выразителями демократического варианта этой идеологии, Леонтьев — иерархически (аристократически) — авторитарного. Почти все элементы обоих вариантов одинаковы, но трактуются совершенно по-разному. Но, ведь и в любой другой идеологии разница между направлениями внутри нее чрезвычайно велика, достаточно вспомнить борьбу различных течений внутри социалистического лагеря: Бакунин и Маркс, Маркс и Лассаль, “лавристы” и “ткачевисты”, большевики и меньшевики и т.д. Не менее пеструю картину представляет и либерализм. Общность цели не исключает разницы представлений о ней и о путях к ее достижению. Мировоззрение Леонтьева, несомненно, более оригинально, чем взгляды поздних славянофилов-эпигонов, но он не сумел выразить его в виде четкой, ясной и разработанной доктрины, подобной славянофильской. Можно даже сказать, что Константина Николаевича погубила собственная оригинальность. Сам способ изложения им своих идей — несистематический, порой полухудожественный, иногда эпатажно-парадоксальный — не способствовал их однозначному толкованию, отсюда и возникло мнение С.Ф. Шарапова и А.А. Киреева об отсутствии у мыслителя положительной программы. Как мы показали, последняя все же имелась, но ее приходится реконструировать. Верную характеристику леонтьевскому стилю мышления дал в свое время о. Иосиф Фудель: “К. Леонтьев не принадлежит к числу тех писателей, которые легко усваиваются. Он не публицист в прямом смысле этого слова, ни тем менее философ; напрасно мы стали бы искать в его сочинениях какой-либо системы, облегчающей понимание, или точно выраженных посылок, объясняющих неожиданный вывод. К. Леонтьев есть прежде всего художник мысли, как он сам часто любил называть себя. Он мыслит образами, и яркие картины, которые могли бы служить хорошей иллюстрацией доказанной мысли, очень часто заменяют ему всякие логические доказательства. В этом и сила, и слабость К. Леонтьева; сила — потому что художественное чутье вводит его на ту высоту познания, которая недоступна логическому анализу; слабость же заключается в том, что эта особенность К. Леонтьева мешает правильному пониманию его мыслей. Для того, чтобы уяснить себе точку зрения этого “художника мысли” и увидеть в его писаниях не одно только собрание парадоксов, а глубокое и цельное мировоззрение, необходимо, изучив все написанное К.Леонтьевым, перевести на логический язык его художественную мозаику и сложить в своем уме все это в некоторую систему. Но такая работа мысли, конечно, не по плечу не только среднему читателю, но и среднему критику <…>” (316). Добавим, однако, от себя, что при подобной операции от Леонтьева останется лишь скелет его мысли, а не ее плоть. С тем же успехом можно пересказывать прозой стихи Тютчева или излагать в силлогизмах смысл “Братьев Карамазовых”. Вполне адекватное понимание леонтьевских идей возможно только в системе координат самого Константина Николаевича. (Кстати, и данная диссертация в этом смысле не может претендовать на некую бесспорную познавательную полноту). Понятно, что такая манера изложения социально-политических проектов не может способствовать их практическому успеху. Сам Леонтьев был уверен в синтетическом характере своего мировоззрения: “<…> во мне <…> примирены славянофилы, Данилевский с Катковым и Герценым и даже отчасти с Соловьевым” (317). М.Б. Смолин считает, что в его творчестве началось объединение “разных консервативных течений русской мысли — традиции славянофильской и карамзинско-катковской” (т.е. в нашей терминологии — творческого и консервативного традиционализма), что “в нем причудливо совмещались славянофильство в области культуры и карамзинско-катковское отношение к государству” (318). Последнее утверждение абсолютно справедливо, но следует заметить, что именно “причудливость” данного “совмещения” предопределило его неудачу. Для синтеза нужно сглаживать углы и противоречия, чего Леонтьев не умел делать органически, напротив, он их обострял, в этомглавный нерв его философии. Синтез ему не удался и не мог удастся, ибо он мыслил антиномиями, не находившими у него примирения. Леонтьев интересен прежде всего поставленными им вопросами, а не ответами на них. Но именно потому он и оказал такое огромное и разнообразное влияние на русскую мысль начала XX в., которое испытали на себе и отдельные философы (Розанов, Флоренский, Бердяев и др.), и целые направления: евразийцы, сменовеховцы, младороссы. По мнению П.Б.Струве, “Леонтьев — самый острый ум, рожденный русской культурой в XIX веке” (319). Попытки создания некой “леонтьевской школы” в традиционалистской публицистике предпринимались молодыми друзьями Константина Николаевича (Фудель, Александров, Розанов, Тихомиров и др.) в 1890-е гг. Так, Розанов писал Александрову в 1892 г.: “<…> сплотиться нам нужно, бывшим друзьям его (Леонтьева. — С.С.), сообщникам по убеждению, раскиданным здесь и там <…>”. В другом письме тому же адресату Василий Васильевич, узнав, что тот сделался издателем журнала “Русское обозрение”, радуется: можно теперь “многое сделать <…> между прочим и в память Леонтьева, для развития его идей” (320). В РО действительно было напечатано много материалов о мыслителе: его письма к разным лицам, статьи о нем Тихомирова, Фуделя и др. Но назвать этот журнал “леонтьевским” все же нельзя — в нем участвовали представители практически всех направлений традиционализма: от Победоносцева и Грингмута до Шарапова и Н. Аксакова. Сам Александров на страницах журнала как публицист не выступал и очертить его взгляды довольно сложно. Фудель, хотя и популяризировал идеи своего наставника, но по свидетельству сына, “до конца жизни оставался больше “ранним славянофилом”, чем “леонтьевцем”” (321). Тихомиров, критически переосмыслив леонтьевское наследие, создал свой вариант творческого традиционализма. Некоторые взгляды старшего друга вызвали отталкивание у Розанова, писавшего Александрову: “Леонтьев — велик, но он требует поправки <…> Эстетика его жестоковыйна, а предпочтение Алкивиада Акакию Акакиевичу <…> вызвало бы протест во всем христианском мире, и больше всего — в Апостолах (которые <…> ближе были к Акакию Акакиевичу, чем к Алкивиаду). Если Вы вспомните “повести Белкина” Пушкина и также “смирного типа” у Ап.Григорьева, восстающего против “хищного типа” <…> — Вы поймете мотивы, меня заставившие пересмотреть весь вопрос о Леонтьеве” (322). Константин Николаевич остался “вечным спутником” Василия Васильевича, но последний сам был слишком своеобразным мыслителем, чтобы сделаться чьим-то учеником–продолжателем. Голос автора “Византизма и славянства” слышался со страниц газеты “Русское слово”, издававшейся тем же Александровым. Так, например, она следующим образом отреагировала на выход в свет первого номера шараповского “Русского труда”: “Приветствуя нового собрата и желая ему успеха, мы не можем не заметить одного. Судя по статьям первого №, газета стремится быть продолжателем славянофильских изданий И.С. Аксакова. Стремление похвальное — но принести существенную пользу оно может только тогда, когда будут раскрыты глаза на все ошибки и недочеты славянофильского движения. Надо взять из него все хорошее, что оно в себе, бесспорно, заключало. Повторять же его ошибки было бы в настоящее время даже странно” (323). А вот характерное высказывание одного из основных авторов газеты А.А. Шевелева (псевдоним — А. Скопинский): “<…> мы должны все заботиться об одном: о сохранении наших идеалов в той чистоте, в какой мы их восприняли из Византии, и затем о возможно-широком и вполне самостоятельном развитии наших культурных начал, чтобы период нашего “цветущего усложнения” <…> не оказался пустоцветом” (324). Но в целом, “леонтьевской школы” в традиционализме так и не сложилось. ПРИМЕЧАНИЯ 245 Бердяев Н.А. Константин Леонтьев.- С. 30. 246 См. об этом, напр.: Адрианов Б. Иерархия — вечный закон человеческой жизни // К.Леонтьев, наш современник.- СПб., 1993; Булычев Ю. Вольнолюбивый певец деспотизма // Там же; Репников А.В. Консервативная концепция российской государственности.- М., 1999.- С. 79-96. 247 ВРС. — С. 552, 511, 438. 248 Там же. — С. 440, 548. 249 ИП.- С. 362, 444. 250 ВРС.- С. 414. 251 Там же. — С. 682. 252 См.: Карцов А.С. Правовая идеология русского консерватизма. — М., 1999.- С. 16. 253 ВРС.- С. 514, 474, 221. 254 Там же. — С. 693. 255 См.: там же. — С. 549, 763. 256 Там же. — С. 391, 687, 623, 729. 257 Там же. — С. 623, 421, 420. 258 Там же. — С. 129, 418. 259 ИП. — С. 383-384. 260 РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 11. 261 ВРС. — С. 100, 102, 105. 262 Там же. — С. 394. 263 ИП. — С. 384. 264 Pro et contra.- С. 449-450; Записки. — С. 366. 265 ВРС.- С. 393. 266 Лиливяли Н.В. Указ. соч. — С. 158. 267 См.: Абрамов А.И. Указ. соч. — С. 59; Карцов А.С. Указ. соч. — С. 190. 268 ВРС.- С. 483. 269 Там же. — С. 356. 270 Там же. — С. 289, 356, 342. 271 Там же. — С. 490, 370. 272 Там же. — С. 418. 273 Там же. — С. 208, 699. 274 ИП. — С. 330 275 РГАЛИ. Ф.290. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 67 об. 276 Тихомиров Л.А. Славянофилы и западники в современных отголосках // РО.- 1892. — № 10. — С. 917. 277 Воронин И.А. Константин Леонтьев: реакция, революция, социализм (к постановке проблемы) // Научные труды МПГУ. Сер.: соц.- ист. науки. — М., 2000. — С. 80. 278 Долгов К.М. Восхождение на Афон. Жизнь и миросозерцание Константина Леонтьева. — М., 1997. — С. 279. 279 Бердяев Н.А. Константин Леонтьев. — С. 151. 280 Сивак А.Ф. Указ. соч. — С. 54. 281 Воронин И.А. Указ. соч. — С.77. 282 ВРС. — С. 384. 283 Там же. — С. 140-141, 618. 284 Там же. — С. 636. 285 Там же.- С. 423-424. 286 ИП. — С. 473. 287 ВРС. — С. 273-274. 288 Там же. — С. 424. 289 Там же. — С. 695. 290 Там же. — С. 431. 291 Там же. — С. 281. 292 Записки. — С. 362. 293 ВРС. — С. 392. 294 Записки. — С. 386-387. 295 Там же. — С. 392. 296 ВРС. — С. 15. 297 См. об этом: Струве П.Б. Мысли Мишле о русском коммунизме и в чем была их ошибка? // Политическая история русской эмиграции. Материалы и документы. — М., 1999. — С. 101. 298 ВРС. — С. 253-254. 299 Там же. — С. 728. 300 Там же. — С. 23, 28. 301 Там же. — С. 318. 302 Там же. — С. 616. 303 ИП. — С. 502. 304 ВРС. — С. 266, 289, 308. 305 Иваск Ю.П. Указ. соч. — С. 509. 306 ВРС.- С. 354-355, 368, 378-379. 307 Там же. — С. 391-393, 395. 308 Там же. — С. 418. 309 Там же. — С. 483, 729. 310 Там же. — С. 611, 624. 311 ИП. — С. 407. 312 Там же. — С. 437, 439. 313 Литературная учеба. — 1996. — Кн. 3. — С. 146. 314 Письма к Розанову.- С. 77. 315 РО. — 1897. — № 5.- С. 404. 316 Свящ. И.Фудель. Указ. соч. — С. 160-161. 317 ИП. — С. 385. 318 Смолин Михаил. От Бога все его труды // Тихомиров Л.А. Тени прошлого. — М., 2000. — С. 11. 319 Pro et contra. — Кн. 2. — С. 181. 320 РГАЛИ. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 15. Л. 7,10. 321 Фудель Сергей. Воспоминания // Новый мир. — 1991. — № 3.- С. 194. 322 РГАЛИ. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 15. Л. 53-53 об. 323 Русское слово. — 1897. — № 21, 22 января. — С. 3. 324 Там же. –1896. — № 39, 10 февраля. — С. 1. 4. Творческий традиционализм Л.А. Тихомирова 4.1 ГЕНЕЗИС ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ Фигура Льва Александровича Тихомирова сравнительно недавно стала предметом специальных исследований, и потому литература о его жизни и творчестве сравнительно не велика, причем она носит скорее описательный, чем аналитический характер. Именно последним обстоятельством можно объяснить путаницу в представлениях об идейнополитической принадлежности мыслителя. Так, например, крупнейший отечественный специалист по Тихомирову, защитивший в 1987 г. первую в СССР диссертацию о нем, к сожалению ныне покойный, В.Н. Костылев, правильно противопоставляя своего героя как «консерватора-реформиста» (наряду с Ф.Д. Самариным, А.А. Киреевым, С.Ф.Шараповым) «сугубо-охранительному» консерватизму В.А. Грингмута, В.П.Мещерского и К.П. Победоносцева, тут же неожиданно выводит генеологию его мировоззрения от С.С. Уварова, М.Н. Каткова и К.П. Победоносцева (1). В другой работе ученый утверждает, что Тихомиров развивал «в новых условиях линию Каткова и Победоносцева» (2). Как нам представляется, куда более точен американец Э. Таден, цитируемый Костылевым, характеризующий Льва Александровича как «продолжателя традиций славянофилов и почвенников» (3). В новейшем обобщающем труде о русском «консерватизме» тихомировскую тему затрагивают сразу два автора — В.А. Твардовская и К.Ф. Шацилло, трактующие ее по-разному. Твардовская, категорично (и бездоказательно) заявляя, что «оригинальным мыслителем Тихомиров не был», относит его к числу «крайних консерваторов» (4). Более вдумчивый и объективный Шацилло, наоборот отмечает, что мыслитель внес в развитие «консервативнореакционной мысли» «немало новых идей», и делает вывод, будто он «предвосхитил политику и поведение тоталитарных режимов ХХ в.» (5), неожиданно здесь совпадая с русскими эмигрантскими авторами (В.А. Маевский, К.В. Родзаевский), провозглашавшими некогда Тихомирова «отцом русского фашизма» (6). А.В. Репников относит его к «консерваторам-государственникам» (7). Нам же представляется, что Лев Александрович — типичный, наиболее ярко выраженный идеолог творческого традиционализма, о чем мы уже неоднократно печатно высказывались (8). Тихомиров проделал крайне сложную и даже где-то фантастическую идейную эволюцию, обратившись из главного теоретика «Народной воли» в автора наиболее фундаментального теоретического обоснования «идеального самодержавия» — книги «Монархическая государственность» (1905). Впрочем, нужно отметить, что Лев Александрович, и будучи народником, являлся убежденным государственником. В своей знаменитой покаянной брошюре он писал: «<…> В мечтах о революции есть две стороны. Одного прельщает сторона разрушительная, другого — построение нового. Эта вторая задача издавна преобладала во мне над первою. <…> Вполне сложившиеся идеи общественного порядка и твердой государственной власти издавна отличали меня в революционной среде; никогда я не забывал русских национальных интересов и всегда бы сложил голову за единство и целость России». Более того, Тихомиров настаивал на том, что «не отказался от своих идеалов общественной справедливости. Они стали только стройней, ясней» (9). Конечно, можно было бы и не поверить ему на слово, но некоторые исследователи подтверждают искренность этих признаний. Так американский историк К. Тидмарш доказывает, что в сущности, Тихомиров никогда не менял своих взглядов: его идеалом всегда (и в революционный период, и позднее) была «сплоченная, сильная и независимая Россия, базирующаяся на национальных традициях, идеях социальной стабильности и справедливости» (10). К близкому выводу приходит и лучший зарубежный знаток тихомировского наследия японец Вада Харуки (11). В этом есть много справедливого, но все же не следует делать из Льва Александровича некоего адепта чисто политического патриотизма, для коего государство — высшая ценность. Не нужно забывать о его глубокой и выстраданной религиозности, и о том, что культурно-историческое начало было для него первичнее и важнее государственного. Когда Тихомирова называют преемником Каткова, то имеют в виду прежде всего тот факт, что покаявшийся «нигилист» с сентября 1890 г. работал штатным сотрудником «Московских ведомостей», проводивших четкую и недвусмысленную катковскую линию, а в 1909–1913 — сам был издателем этой старейшей монархической газеты. Но здесь как раз и стоит рассмотреть вопрос: насколько собственно тихомировское мировоззрение укладывалось в идеологию «Московских ведомостей» 1880–1890-х гг. (их издавали тогда верные оруженосцы Каткова С.А. Петровский, а с декабря 1896 г. — В.А. Грингмут). Легко заметить, что мыслитель публиковал «по месту службы» преимущественно свои антиреволюционные статьи, а те сочинения, где выражалась его позитивная программа (за исключением «Борьбы века») появлялись в основном в александровском «Русском обозрении». По дневникам и письмам Льва Александровича легко установить, почему так происходило. Уже первая его статья, опубликованная в «Московских ведомостях» «Очередной вопрос» (1889. № 124, 4 мая) вызвала редакционное вмешательство в ее текст (правил лично Грингмут). Тихомиров сетовал на это О.А. Новиковой в письме от 10 мая 1889 г.: «<…> Редакция внесла в статью несколько резких выражений, несколько банально благонамеренных выражений, наконец, выкинула решительно повсюду несколько раз повторяющееся имя И.С. Аксакова, выкинула имя Данилевского, вообще все имена, кроме М.Н. Каткова <…> Все это, во-первых, партийно, и даже не партийно, а слишком кружковисто». Чуть ниже мыслитель предельно ясно формулирует суть своих разногласий с «катковцами»: «Дело не в одной преданности государству, а в преданности вообще русскому типу национальной жизни. Я этого оттенка не желаю терять <…>» (12). Правда, тогда Лев Александрович еще не входил в состав редакции газеты, но и после того как это произошло положение принципиально не изменилось. 21 ноября 1890 г. он жалуется К.Н. Леонтьеву: «<…> еще хорошо Вам, по крайней мере, пишете, что хотите. А мне, напр[имер], даже и развернуться нельзя. Везде рамки, и как дошел до этой рамки — стукнулся и молчи. Какая же это работа мысли» (13). Еще более конкретно о своих отношениях с членами редакции Тихомиров рассказывает Новиковой (6 декабря 1890 г.): «Правда, что я еще не совсем спелся с ними, а сутью своею я не люблю поступаться. Они же тоже очень традиционны и не любят ни на волосок сходить со своего» (14). Перед нами несомненный и типичный конфликт творческого традиционалиста с консервативными «братьями по оружию». До конца 90-х гг. мыслитель так и не «спелся» с «катковцами». «Кн[язь] [Д.Н.]Цертелев ( в то время редактор газеты. — С.С.) окончательно не пустил мое “Монархическое начало власти” (т.е. работу “Единоличная власть как принцип государственного строения”, которая будет в следующем году напечатана в “Русском обозрении”. — С.С.) <…> Вот вам наше просвещенное сословие! Цензура — ничто в сравнении с этим неуважением к правам мысли» (15). Тихомиров надеялся, что с приходом на место издателя Грингмута, называвшего Льва Александровича — «мой alter ego», ситуация изменится. Но этого не случилось. Уже 31 декабря 1897 г. мы находим в тихомировском дневнике запись: «У Грингмута не дают много писать <…>». В январе 1898 г. то же самое: «У Владимира Андреевича [Грингмута] далеко не пойдешь <…>, он мне почти ничего не дает писать, <…> потому, что я не люблю уступать и писать совсем в его духе» (16). В конце года опять: «Решительно невозможно ничего печатать в “Московских ведомостях”» (17). О том, что Тихомиров никак не подпадает под определение «последователь Каткова» свидетельствует и его позиция в земском вопросе, противоречившая грингмутовской: «”Моск[овские] Вед[омости]” наверное втянутся в антиземское движение, а между тем, как ни глупо земство — а ужасно будет замена его чиновничеством. Мы тогда вступим на тот путь, который погубил Византию, да и вообще фатален для монархии. А что мне делать? Влад[имир] Андр[еевич] меня не слушает, и такой чистокровный бюрократ в душе, что его невозможно было бы переубедить, если бы даже он и хотел обсуждать вопросы» (февраль 1899 г.) (18). На Каткова Лев Александрович весьма часто и почтительно ссылался, но, во-первых, этого требовала его принадлежность к «фирме», а, во-вторых, сходство идей обоих мыслителей — лишь в признании необходимости сильной монархической власти, само же устройство монархического правления Тихомиров понимал прямо противоположно Каткову. Что же касается К.П. Победоносцева, то отношения бывшего народовольца с могущественным обер-прокурором Св. Синода были довольно противоречивы. Константин Петрович протежировал новообратившемуся традиционалисту, вел с ним оживленную переписку, часто приглашал для конфиденциальных бесед, внимательно следил за его выступлениями в печати, помогал советами и разнообразными материалами для работы. В свою очередь, Тихомиров высоко ценил свое общение с «тайным властителем России» и внимательно прислушивался к его мнению по тем или иным вопросам (19). В печати Лев Александрович защищал от либеральных критиков победоносцевский «Московский сборник» (20). Горячо симпатизировал он обер-прокурору и как человеку. Но при всем при том, этих двух незаурядных людей разделяли существенные идейные разногласия. Двойственность тихомировского отношения к Победоносцеву выражена в дневниковой записи автора «Монархической государственности» (1899 г.): «Я неистребимо люблю этого человека, несмотря на то, что чаще и чаще недоволен его политикой. Практик и — все-таки архичиновник, может быть именно потому чиновник, что практик» (21). Главным образом, в политике обер-прокурора Тихомирова не устраивала его боязнь всякого движения общественной жизни, даже, если оно исходит из традиционалистских кругов. Например, Константин Петрович не одобрял теоретических изысканий Льва Александровича, пытавшегося найти новое социально-политическое обоснование для русской монархии: «Победоносцев <…> не особенно доволен моей публицистикой за то, что касаюсь идеалов Монархии. Он этого всегда боится» (декабрь 1896) (22). Кроме того, Победоносцев был принципиальным противником освобождения Церкви от синодальной опеки, за что активно ратовал Тихомиров. В конечном итоге, и тот, и другой более сходились в критике западной цивилизации и русского либерального и социалистического движения, нежели в положительных установках. Расхождения их весьма характерны для представителей двух направлений в традиционалистском лагере. Так что мы не видим никаких оснований для утверждения, будто бы Тихомиров «развивал линию Каткова и Победоносцева». Гораздо более существенной была связь мыслителя со славянофильством, которое им определялось как первая попытка «русской мысли формулировать что такое русский человек» (23). Во-первых, он находился в дружеских отношениях с семейством КиреевыхНовиковых. О.А. Новикова, заочная восприемница при крещении старшего сына Тихомирова — Александра, сыграла большую роль в возвращении Льва Александровича в Россию и в его судьбе после приезда на родину. Во многом благодаря обширным связям и энергии этой незаурядной женщины бывший идеолог «Народной воли» сумел получить Высочайшее прощение, право на проживание в Москве, постоянный заработок в «Московских ведомостях». Немалую помощь ему оказывал и А.А. Киреев, благодаря его протекции Тихомиров начал печататься в «Русском обозрении». Киреев безуспешно пытался пристроить своего протеже на государственную службу, чтобы избавить его от газетной поденщины. В частности, он просил в этом содействия товарища министра внутренних дел В.К. Плеве: «Неужели нельзя “утилизировать” эту, мне кажется, большую консервативную силу? (консервативную и православную). Пером, конечно, можно прокормиться, но для этого должно или быть исключительно сильным и авторитетным человеком и иметь свой орган <…> или писать сенсационные и, если можно, скабрезные фельетоны. Поэтому вот Тихомиров и желал бы иметь бесконечную корку хлеба для своего семейства в виде службы (хотя бы самой скромной), дабы иметь возможность писать. Тем более, что Тихомиров пишет не скоро и не плодовит. Так вот, уважаемый Вячеслав Константинович, нельзя ли подумать о помощи Тихомирову» (24). (Хлопоты Александра Алексеевича, впрочем, последствий не имели). Во-вторых, автор «Монархической государственности» тщательно изучал труды классиков славянофильства, несомненно, имевшие на него немалое воздействие. Еще находясь в эмиграции, он писал Новиковой (26 октября 1888 г.), что у него «давно явилось убеждение в безусловной справедливости некоторых основ славянофильства», правда, при этом оговариваясь, что хотя и «без сомнения близок к славянофильству», но не может «себя зачислить совершенно ни в какое отделение», ибо «есть вещи на которые [И.С.]Аксаков не обращал внимания (тем более Хомяков) и которые очень важны…» (25) Это высказывание очень четко формулирует суть тихомировского отношения к славянофильству, почти не изменившегося затем с течением времени. Лев Александрович — наследник классического славянофильства, но — не славянофил в узкопартийном смысле слова. Особенно большой интерес вызывали у него труды И.С. Аксакова: «В практическом отношении есть вещи, которые только можно повторять за Аксаковым (как его организация уезда) <…>» (26); читая Аксакова, «я часто встречаюсь с мыслями, которые считаю своими, очевидно даже позабыв их происхождение», «я прямо таки учусь» у Аксакова (27). Славянофильскую составляющую мировоззрения Тихомирова заметить не трудно — это идея сочетания самодержавия и местного самоуправления. Но, повторяем еще раз, славянофилом в духе того же Киреева мыслитель не был. Его почти совсем не занимал славянский вопрос («в <…> славянофильстве наиболее типична <…> русская идея, а не славянская, пристегнутая к ней довольно искусственно. Судьбы этой русской идеи только и могут интересовать нас в славянофильстве» (28)), Православие им понималось скорее в леонтьевской, чем в хомяковско-аксаковской интерпретации, политическая программа «московских славян» казалась ему расплывчатой. В своих воспоминаниях о Кирееве он характеризовал взгляды последнего довольно иронически: «<…> Его политические идеалы сводились к самым общим формулам: должен быть Царь, должен быть и народ; народу принадлежит мнение и совет, Царю — решение; для их соединения должен быть Земский собор. Как это организовать конкретно? Он не думал. О том, что в народе существуют очень разнообразные интересы и мнения, он тоже мало думал. <…> У него было такое убеждение: если будут судить по совести, то столкуются. Ну, а если будут судить не по совести? Тогда все равно ничего не выйдет, как ни устраивай» (29). Так или иначе, Тихомиров видел в славянофильстве некий фундамент, на котором только и можно строить здание традиционалистской идеологии: «славянофильство, в основной идее своей (самобытность исторического пути России. — С.С.) <…> не умирало и не умерло», но «национальное самоопределение не застыло на славянофилах. Многое, что у них было смутно, осложнено “западническими” влияниями, уясняется после них» (30). Он никогда не стремился называться славянофилом, противопоставляя «старому славянофильству» Киреева «направление русско-национальное и православное», к коему причислял себя (31). Также никогда Лев Александрович не печатался в позднеславянофильских изданиях вроде «Русского труда» или «Благовеста», о последнем он, кстати, отзывался весьма скептически: « <…> Благовест ни с какой стороны не есть компетентный орган, а просто сумбурный» (32). Впрочем, и большинство поздних славянофилов его «своим» не считало и вело с ним, порой, довольно резкую полемику. Так, Н.П. Аксаков, споря с тихомировской статьей «Духовенство и общество в современном религиозном движении», высказывался в таком нелицеприятном тоне: «Не рано ли учительствовать и обличать г. Тихомирову?.. Кающиеся грешники шли в пустыни, замаливали грехи свои в монастырях, приносили покаяние перед народом или годами выстаивали у преддверия храмов, ..а не начинали тотчас же торжествующего проповедничества в предположении, что вся прежняя жизнь, все прежние заблуждения сбегают с них, как с гуся вода» (33). Славянофил — полонофил С.Ф. Шарапов отозвался на антипольскую статью Тихомирова «Варшава и Вильна в 1863 г.» прямо-таки доносительской передовицей в «Русском труде» (1897, № 44), что вызвало крайне болезненную реакцию мыслителя, записавшего в дневнике (2 ноября 1897 г.): «Шарапов <…> написал обо мне <…> статью такой бессовестной подлости, как я еще и не слыхивал. Очень грубо передергивая <…> он заявляет, что я — революционер, втершийся в среду консерваторов, чтобы подрывать государственную власть. <…> Я пишу 10 лет за монархию, во всей русской литературе, могу сказать без ложной скромности, нет ничего лучше и полезнее в защиту монархии — и я теперь должен говорить, что я не Валленрод? И перед кем же я должен объясняться? Перед фигляром и шарлатаном — Шараповым?» (34) Тихомиров тщательно изучал и «Россию и Европу» Н.Я. Данилевского, делясь впечатлениями с Новиковой: «Я бы сделал к Данилевскому множество поправок и оговорок, но это не уничтожает того верного, что у него есть» (35). Лев Александрович причислял Данилевского к числу авторов, внесших «в неопределенное понятие “народного”<…>понятие “культурно-исторического”», называл его теорию «стройной» (36). Но, пожалуй, из всех его старших современников на Тихомирова наиболее сильное воздействие оказал К.Н. Леонтьев, и своими сочинениями, и самой своей личностью. Первое упоминание его имени содержится в письме Новиковой от 27 октября 1889 г.: «Читаю <…> Леонтьева. Это очень оригинальная голова <…>» (37). Тихомиров читал «Восток, Россию и славянство» (по совету Грингмута) и «не мог не признать» эту книгу «одним из замечательнейших произведений русского ума» (38). Тот же Грингмут и познакомил обоих мыслителей, не позднее 12 сентября 1890 г., именно этим числом помечено тихомировское письмо Новиковой, где сообщается: «Из знакомых единственный новый и очень интересный К.Н. Леонтьев» (39). В письме ей же от 21 сентября 1891 г. читаем такую любопытную характеристику Константина Николаевича: «У меня идет переписка с Леонтьевым. Он меня очень привлекает. Это личность совсем иная: грешная, ломаная, в которой, однако, есть и великие силы добра. Он очень умен. Я бы очень желал, чтобы он прожил еще десяток лет. Может быть он сделается очень нужным, необходимым человеком. <…> Он из тех, у которых ангел и чорт вечно сцепившись в отчаянной борьбе. Но у него этот ангел не изгнан, не уступает. Он меня глубоко привлекает двойным чувством уважения и жалости. Сверх того он глубоко сведующий православный» (40). Знакомство двух столпов русского традиционализма продолжалась недолго, но качество здесь было важнее количества. Позднее Лев Александрович так вспоминал о встречах с Леонтьевым: «В общей сложности за краткое время нашего знакомства я видел его очень часто, сидя подолгу, беседуя большею частью наедине, серьезно и сердечно. Мы сошлись очень быстро, сообщая друг другу и интимные подробности жизни, и свои духовные запросы, делясь мыслями о будущем» (41). Тихомиров легко признавал интеллектуальное превосходство автора «Византизма и славянства»: «<…> Я ему в подметки не гожусь по талантам и силам» (42). Узнав о его кончине, он с горечью записал в дневнике (12 ноября 1891 г.): «У меня не умирало человека, так близкого мне не внешне, а по моей привязанности к нему. Судьба! Мне должно быть одиноким, по видимому. Он мне был еще очень нужен. Только на днях предложил учить меня, быть моим катехизатором» (43). Для Тихомирова Леонтьев оказался человеком, многое определившим в его духовном развитии. Пояснения и советы такого знатока Православия как Константин Николаевич очень помогли возвращению раскаявшегося «нигилиста» в лоно Церкви. С восторгом, например, прочитал Лев Александрович леонтьевский очерк «Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной Пустыни», по поводу коего он писал автору 21 ноября 1890 г.: «<…> Вы объясняете, как никто, православие и монашество. <…> У Вас <…> все приспособлено именно к русскому интеллигентному уму». В том же письме Тихомиров обсуждал необходимость «миссионерской деятельности» среди молодежи («нужно идти в те самые слои, откуда вербуются революционеры») и призывал адресата возглавить эту деятельность: «С Вами, под Вашим влиянием или руководством пойдет не обижаясь каждый, так как каждый найдет естественным, что первая роль принадлежит именно Вам, а не ему» (44). Интересно, что оба мыслителя всерьез обсуждали между собой проект некоего тайного общества (по образцу масонской ложи) для более эффективной борьбы с революционным движением (45). Смерть Леонтьева помешала осуществлению этого замысла. В 90-х гг. Тихомиров опубликовал несколько работ, в которых разъяснял леонтьевские идеи и защищал их от превратных толкований либеральных публицистов. Особенно важна статья «Русские идеалы и К.Н. Леонтьев», где подчеркивается творческий характер традиционализма Константина Николаевича и дается последнему такая лестная характеристика: «В Леонтьеве — русский человек резче, яснее, отчетливее, чем в ком бы то ни было сознал свое культурно-историческое отличие от европейца <…> Сознание высоты своего русского типа у Леонтьева дозрело до полной ясности. <…> по отчетливости своего русского сознания, — Леонтьев также отметит собою второй фазис его развития, как славянофилы отметили первый фазис его пробуждения» (46). В 1893 г. Лев Александрович пытался привлечь интерес к Леонтьеву в Англии и подарил некоему англичанину его сочинения. «Мне кажется, — писал Тихомиров Новиковой, — ему было бы выгодно познакомить Европу с Леонтьевым. А нам было бы выгодно, если бы в Англии что-нибудь заговорили о нем, это обратило бы здесь новое внимание на Леонтьева. <…> Я бы особенно рекомендовал отзывы Леонтьева о Достоевском и Толстом (которых англичане, вероятно, хоть немножко знают). Любопытно было бы тоже изложить “Византизм и славянство”» (47). Видимо, этот проект не воплотился в жизнь. Сложным и спорным является вопрос о леонтьевском идейном влиянии на автора «Монархической государственности». В своих позднейших воспоминаниях он это влияние, по сути, полностью отрицает: «Сам я в это время был уже человеком вполне сложившимся, выработавшим все основы своего миросозерцания [так что он не оказал вообще никакого влияния на мои взгляды]. Мы встретились, как люди умственно равноправные, и то, что оказалось у нас сходным и родственным, — было каждым выработано самостоятельно и различными путями» (48). Нам представляется, что мемуарист несколько искажает реальную картину, судя по вышеприведенным фрагментам из его дневника и писем, он вовсе не чувствовал себя «умственно равноправным» Леонтьеву при жизни последнего, видны скорее увлеченность им, даже преклонение. Однако, есть здесь и свой резон — основы тихомировского мировоззрения действительно сложились без прямого воздействия Константина Николаевича. Еще в 1888 г. Тихомиров, сравнивая две социологические концепции (общество как «социальный организм» и общество как «социальный аморфизм») и отдавая предпочтение первой из них, отмечал, что «прогресс» «совершается» и «развивается общество», благодаря тому, что оно «постоянно <…> усложняется»: «<…> для меня общество, как некоторый процесс органический, создающий нечто целое, все усложняющееся в своей организованности, — это не есть идеал, это просто факт» (49). Рассуждение весьма созвучное Леонтьеву, но его Лев Александрович тогда еще не читал. Другой пример. В статье «Социальные миражи современности» (1891) Тихомиров предсказывал: «Аристократическая республика с разнообразно-закрепощенною массой населения: это единственный исход социально-демократического коммунизма <…>» (50). Опять-таки, это очень похоже на леонтьевское видение будущего социализма. Но сам же автор «Византизма и славянства» зафиксировал самостоятельность выводов своего младшего друга. «Приятно видеть, как другой человек и другим путем <…> приходит почти к тому же, о чем мы сами давно думали», — писал он ему и даже предлагал создать совместный труд о социализме (51). Важно, однако, отметить, что оценка «нового феодализма» у мыслителей была различной. Леонтьев, как мы помним, видел в нем позитивную в целом реакцию на ненавистный ему либерально-буржуазный порядок, Тихомиров же относился к социализму как к безусловно «рабскому, антихристианскому строю» (52). Но при всем, при том, нельзя не заметить, что знакомство с идеями автора «Среднего европейца…» сильно способствовало конкретизации его социально-политической доктрины. В той или иной степени, леонтьевские интуиции помогли оформлению тихомировской теории корпоративной организации общества. По крайней мере, до знакомства с ними у Тихомирова не было таких четких формулировок, подобных, например, этой: «Общество, в действительности, всегда было, есть и будет построено на расслоении людей, на присутствии авторитета, власти и подчинения, на известной системе уравновешивающих неравенств» (53). Вообще, он очень высоко ставил социологические «наброски мыслей» Константина Николаевича, находившиеся, по его мнению, «на почве крупнейшей работы европейской мысли» (54). И уж совершенно очевидно непосредственное влияние Леонтьева на становление религиозных воззрений Льва Александровича. Оно весьма отчетливо проявляется в тихомировской статье 1892 г. «Духовенство и общество в современном религиозном движении», направленной против интеллигентских умствований в религиозных вопросах и ратующей за «скромное, бесхитростное подчинение» «общества» «авторитету Церкви». Там же обличается «популярная идея русского “всечеловечества”» и содержится призыв «просто позаботиться о своем спасении» (55). Это, конечно, вполне отчетливые леонтьевские мотивы. Рискнем предположить, что и равнодушие Тихомирова к славянскому вопросу имеет тот же источник, косвенным подтверждением чего служат его похвалы «достоинствам» «анализа России и славянства» у Леонтьева (56). А в том, что последний буквально открыл для него тему «византизма», он признается сам: «<…> Для меня были новы его взгляды на Византийский элемент в России, так как я в то время был довольно поверхностно знаком с византизмом» (57). Впрочем, различий во взглядах двух крупнейших идеологов творческого традиционализма куда больше, чем сходства. Пока же подчеркнем главный вывод данного раздела: Тихомиров явился преемником одновременно двух враждующих вариантов творческого традиционализма — и славянофильского, и леонтьевского. 4.2 ИДЕИ ТИХОМИРОВА В КОНТЕКСТЕ ТВОРЧЕСКОГО ТРАДИЦИОНАЛИЗМА Теперь выясним, насколько тихомировское мировоззрение вписывается в рамки творческого традиционализма. 1. Вслед за своими предшественниками (прежде всего, Данилевским и Леонтьевым) Тихомиров полагал, что «основы русской жизни, характера, миросозерцания — дают обещание особого культурного типа <…> Только создавая конкретные применения своего к культурным запросам страны, давая свое, не худшее, а лучшее, нежели предметы иностранного ввоза — мы постепенно излечиваем страну, изуродованную подражательностью, и если не можем исправить поколения старшие, духовно иссякшие, то даем почву для более богатого национального развития новых поколений, выходящих из недр народа» (58). По мнению мыслителя, «Россия — это целый мир нового будущего, мир еще довольно хаотический, еще не сознавший вполне идеи своего развития, мир, полный борьбы противоположных стихий, однако все-таки обещающий для человечества нечто новое, своеобразное» (59). «<…> Россия есть и не Азия и не Европа, — подчеркивал он, — а Россия. Это, конечно, результат своеобразного смещения европейских и азиатских элементов на границах их соприкосновения. От этого у нас есть родство и с Европой и с Азией. Но как результат простого смешения, Россия не вышла бы Россией, а только некоторым материалом для превращения в Европу или Азию <…> У нас, к счастью, было нечто иное. Русская национальность <…> имела полную возможность быстро сложиться в некоторый определенный тип, который не просто смешивался с элементами европейскими и азиатскими, а органически уподоблял их себе как материал, а не источник своего развития. <…> Только это присутствие своего собственного органического типа создало Россию, только его развитие может дать ей и в будущем мировую роль» (60). Лев Александрович определяет Россию как «величайшую Империю огромной мощи и уже с явными надеждами на совершенно свою самобытную культуру, которой быть может, принадлежит в будущем даже всемирная миссия» (61). В другом месте он высказывается еще более оптимистично: «Перед нами <…> будущее, которое переживет, вероятно, европейскую цивилизацию и сменит ее» (62). «Прогресс» видится ему в том, чтобы «повысить русского человека и русскую жизнь путем развития тех самых основ мысли и жизни, на которых Россия выросла и существует» (63). «Россия уже давно есть, существует, имеет свой план развития. Дело государственного человека — только в том, чтобы понимать этот план и помогать его развитию. Российский человек — не творец России, а только один из органов ее развития. <…> Самостоятельные начала, сложившиеся в общем строе страны, сами дают тон ее политике <…>» (64). 2. По собственному признанию Тихомирова, разочарование в европейской цивилизации XIX в. (прежде всего, в ее политических формах) явилось одной из важнейших причин пересмотра им собственных убеждений: «<…> особенно решающее значение имело для меня то обстоятельство, что я имел случай ознакомиться на практике во Франции, какие результаты дает приложение к политике <…> принципа народной воли, который дотоле составлял основание моих политических идеалов. Зрелище это настолько поразило меня, что я решился подвергнуть радикальному пересмотру свои старые взгляды, или, точнее, привитые ко мне идеи французской революции» (65) (из письма к В.К. Плеве, 1888). Современная западная цивилизация, основанная на «принципах 89-го года», нарушила «духовное равновесие» европейских народов и тем поставила их «на путь ложный, на путь бесплодных химер, которые неосуществимы, а если бы были осуществимы, то сулят человечеству либо невыносимо деспотический строй, либо возвращение к диким временам». Более того, «новое общество живет и держится только потому, что не осуществляет своих иллюзорных основ, а действует вопреки им, и в новой форме воспроизводит лишь основы старого общества». Либеральная свобода «в области умственной <…> создала подчинение авторитетам крайне посредственным», а «в области экономической <…> создает неслыханное господство капитализма и подчинение пролетария», наконец, «в области политической, вместо ожидаемого народоправления — порождается лишь новое правящее сословие с учреждениями, необходимыми для его существования» (66). Парламентаризм «в государственном отношении превращает “нацию” в “толпу”, обезглавливает ее и отдает повсюду во власть краснобаям и софистам» (67). Вообще, либерализм мыслитель считал «больным» принципом (68). По его мнению, «идея всеуравнения охватывает весь Запад», которому поэтому грозит «культурная смерть» (69) ( явная перекличка с Леонтьевым). 3. Мировоззрение Тихомирова достаточно легко укладывается в формулу «Православие, Самодержавие, Народность», но саму ее он использовал крайне редко, возможно думая, что ее официальный статус может отпугнуть потенциальных сторонников творческого традиционализма, которых он надеялся обрести в широких слоях интеллигенции. Лишь однажды он дал развернутую характеристику «заветной триады», в передовой статье первого номера газеты «Русское слово» (она опубликована без подписи, но авторство Льва Александровича не подлежит сомнению). «<…> Мы верим в три краеугольные основы русской жизни, и наше мировоззрение может быть выражено <…> тремя словами: Православие, Самодержавие, Народность. <…> Конечно, если отождествлять Православие с духовной консисторией, Самодержавие с полицейским участком, а в народе видеть только «платежную единицу», как это делают и враги, и не по разуму усердные приверженцы этой формулы, то она станет мертвенною и формальною, вредною своим омертвляющим формализмом. Но истинный патриотизм смотрит иначе. Истинный патриотизм видит в Православии великое религиозное и культурное начало, которое воспитало народ наш, которое освещало вековой исторический путь его, и будет его освещать всегда. <…> Точно так же истинный патриотизм смотрит на Самодержавие как на особый выработанный нашей историей тип единодержавной власти, ни чего общего не имеющий с идеей европейского монархизма и абсолютизма — как на особый тип власти, развивающийся в процессе истории и в свете Православия. Именно в развитии идеи Самодержавия мы видим залог той истинной свободы, которую европейское человечество так тщетно ищет среди кровавых революций с помощью гильотины, с одной стороны, и динамитных бомб, с другой. Наконец, в народе истинный патриотизм видит ту нравственную стихию, в которой реально выражена великая идея Православия, и в которой находит себе живую опору и живой приток живых сил для своего развития идея Самодержавия» (70). Перед нами ярко выраженное творческое толкование уваровской триады. Мыслитель неоднократно подчеркивал в ней безусловный приоритет Православия. Например: «Либо православие, как определяющее начало нашего собственного национального существования и нашего собирания племен — либо Россия есть историческое недоразумение <…>»; судьба страны зависит «от того, удержится ли господствующим истинное понимание веры и Церкви» (71). Или: Россия должна быть «православной страной, т.е. страной, направляемою духом православия в культуре, в учреждениях, в исторической роли своей» (72). 4. Тихомиров считал, что «пореформенная Россия почти во всех отношениях, до сих пор не может установиться, найти тот тип равновесия, который дает возможность безостановочного развития. Мы несем, в этом отношении, наказание за ту поспешность, с которой ломали старое, с отрицанием его недостатков, но без положительного понимания его достоинств» (73). Главная беда страны в отсутствии четкой линии государственнообщественного развития, в постоянной опасности погибнуть между Сциллой либерализма и Харибдой бюрократизма: «”Чужеземная ложь” висит над Россией истинно роковым проклятием, потому что, мешая ее устроению, вгоняет ее в бюрократизм, которым невозможно жить и который, однако, поневоле приходится понимать как “временный” modus vivendi <…>» (74). Особенно обострилось беспокойство мыслителя относительно российского status quo в конце 90-х гг. В 1898 г. он писал: «Когда жизнь стоит на правильном пути — медленность развития не может возбуждать тревоги. Но мы находимся вовсе не в таком положении. Нам нельзя безнаказанно тратить времени. Нам нужна положительная работа в таком направлении, чтобы здоровые исторические начала наши не только “держались на позициях”, но получили поступательное движение. Нам нужна положительная работа в том направлении, чтобы умственный и нравственный авторитет, проникнутый этими здоровыми началами, становился над ничтожностью…<…> в настоящее время застой исторической России сам по себе есть средство ее крушения. Она должна подняться во весь рост — если не хочет совсем упасть» (75). В противоположность такому аморфному положению дел Лев Александрович выдвигал свой проект «перестройки общества по “старому“ историческому типу» (76). 5. По Тихомирову, зависимость Церкви от государства — «это <…> язва наша» (77). Он резко критиковал церковную реформу Петра I, ибо «в своем отношении к Церкви Петр подрывал самое основание монархической власти, ее нравственно-религиозную основу» (78). «При нормальном состоянии Церкви и государства — порабощения ни с той, ни с другой стороны быть не может, — подчеркивал мыслитель, — <…> необходимо соблюдение и охрана прав Церкви, ее самостоятельное существование. Только такая Церковь есть действительная, и стало быть, полезная с точки зрения верующего, ибо при самовольном искажении Церкви ничего нельзя ждать от Бога, кроме наказания. <…> Церковь должна быть самостоятельною и влиятельною силой нации. Только как таковая она и может быть нужна для государства, а, стало быть, государство, желая пользоваться благами, создаваемыми Церковью, принуждена по необходимости сообразоваться с ее советами, а не пытается переделать ее по своему, ибо из этой попытки, при успехе ее, никакой пользы получить не может, и все усилия, направленные в эту сторону, в лучшем случае, — составляют даром потраченное время и средства, а в худшем, т.е. в случае “успеха”, грозит уничтожить самый источник нравственного бытия нации» (79). По цензурным условиям, Лев Александрович не мог тогда прямо высказаться о конкретных мерах по ликвидации «вавилонского пленения» Православной Церкви в России, но как только это стало возможным, он явился одним из первых инициаторов изменения неканонической системы церковного управления и сторонником восстановления Патриаршества (см. его брошюру 1903 г. «Запросы жизни и наше церковное управление»). Но этот сюжет выходит за хронологические рамки нашего исследования. 6. «Сила всякой верховной власти требует связи с нацией, — отмечал Тихомиров. — Монархия отличается от аристократии и демократии не отсутствием этой связи, а лишь особым ее построением: через посредство нравственного идеала. <…> Монархическое начало власти, будучи высшим проявлением здорового состояния нации, особенно требует здорового состояния социального строя. Монархия не может действовать одними политическими комбинациями, не приводя к искажению собственной идеи. Все существеннейшие ее потребности, как общение власти с нацией, воздействие на национальную жизнь, и самое сохранение в нации господства нравственного идеала, — удовлетворяются главнее всего соответственным состоянием социального строя. В нем монархия находит свои главные средства действия. Это всегда сознавалось монархической властью, когда она не становилась бесповоротно на точку зрения абсолютизма. Забота о социальном строе характеризует все эпохи процветания монархий, которые всегда относятся к нему крайне бережно, стараются не ломать его, а именно на нем воздвигать свои государственные построения. <…> Для единоличной власти необходим развитой социальный строй. Он составляет естественное дополнение монархии и даже ее необходимое условие, точно так же, как сама монархия является естественным дополнением развитого социального строя, настоящим “увенчанием здания” его» (80). Таким образом, мыслитель выступал за такое строение общества, при котором власть могла бы напрямую взаимодействовать с нацией и опираться на ее лучшие силы. 7. О необходимости серьезной теоретической работы Тихомиров писал, пожалуй, больше, чем кто-либо вообще из русских традиционалистов. Еще до возвращения на родину, в письме П.И. Рачковскому (1888) он подчеркивал, что «меры надзора, репрессий и т.п. совершенно недостаточно в борьбе с идеями», что «против идеи и практики разрушения можно и должно выдвигать идеи и практику созидания, усовершенствования» (81). В 1892 г. он вопрошал: «Разработаем ли мы, наконец, сознательно те основы, какие надломаны в Европе, сумеем ли дать им сознательное употребление для избежания роковых “социальных противоречий” Европы?» (82) В 1893 г. — настаивал на том, что «нам нужна проверка и разработка самых принципов, которая бы дала более сознательное руководство в выработке мер практических», надеясь в области теории (а за ней и на практике) на целую революцию «против идей XVIII века» (83). В 1895 г. — спорил: «<…> Деятельность полезная возможна лишь при ясном сознании действительности. Точка зрения, которая видит основу общественного спокойствия в общественной бессознательности (такой точки зрения, в частности, придерживался Победоносцев. — С.С.), — мною поэтому нисколько не разделяется» (84). В 1897 г., — сетовал: «<…> как много нам еще нужно <…> мирной, спокойной разработки наших идеалов, прежде чем приступить к общественному строению, их достойному» (85). В том же году — объяснял: «<…> Понять <…> внутреннее свое существо — составляет для каждой страны вопрос величайшей важности. Для России он едва ли не важнее, чем для большинства других стран, — уже хотя бы потому, что он у нас постоянно возникает, а стало быть доселе остается неясным, спорным, нерешенным для русского национального самосознания. <…> Этот, по-видимому, столь отвлеченный вопрос имеет совершенно очевидное практическое значение, ибо мы постоянно наблюдаем, что различные его решения дают совершенно различные направления и внешней и внутренней политики нашей. Постоянные же колебания русского правящего слоя в понимании того, что такое Россия приводит к таким же колебаниям в направлении политики <…> твердое решение вопроса что такое Россия сразу открывало бы перед нами ясную и постоянную линию внешнего и внутреннего действия, систематического, сегодня осуществляющего то, что подготавливалось нами вчера, и закладывающего заранее предусмотренные цели на завтра и послезавтра» (86). Наконец, весьма любопытная запись в тихомировском дневнике от 24 января 1899 г.: «<…> Все (т.е. традиционалисты консервативного толка вроде Грингмута. — С.С.) мечтают действовать, хотя сами не знают ясно, что нужно делать. В этом и вся беда. Это стремление действовать производит пренебрежение к теоретической работе, которая в настоящее время единственно важна, а действия разумного, конечно, нет и быть не может, кроме чисто отрицательного, т.е. кроме борьбы против несомненно вредных либеральных или социалистических стремлений. Я боюсь, что это стремление действовать производится — если оставить в стороне простое честолюбие — также непониманием всех громадных размеров нашего незнания, а это непонимание возможно объяснить только тем, что они не сознают и самого принципа. Если бы они сколько-нибудь ясно представляли сам монархический принцип, то немедленно бы почувствовали, что мы не умеем связать его ни с Церковью, ни с социальным строем, а между тем, эту связь необходимо отыскать. Но им все представляется чересчур просто. Плохой признак! В конце концов — один Победоносцев понимает это, и потому-то он сочувствует теоретической работе. Но, к сожалению, он ей не помогает, не умеет и не хочет поддерживать людей, к ней способных <…> вроде хотя бы меня, или покойных [Ю.Н.]Говорухи[-Отрока], [П.Е.]Астафьева. Может быть, конечно, <…> что он понимает малые формы размера способностей этих людей <…> Но это еще не оправдание. Что же делать, коли ничего лучшего нет. <…> Во всяком случае, получая средства руководительного действия, мы бы сделались центрами возбуждения этой теоретической работы. Пример представляет даже такая тупица и нечестный сверх того человек как [A.A.] Александров. <…> Возникли бы со временем и лучшие силы. <…> А со стремлением действовать ничего, кроме глупости не выходит <…>» (87). 8. О внешней политике в 80-90-е гг. Тихомиров писал сравнительно мало. Но все же свое видение самих принципов участия России в международных делах он изложил весьма четко. Настаивая на «необходимости деятельного участия в международной жизни для возможности правильного внутреннего развития страны», мыслитель рисует, прямо скажем, головокружительные перспективы российского вмешательства в мировую политику: «<…> мы не можем и не должны ставить заранее никаких границ участию в мировой жизни и своему на нее влиянию. Эти границы, конечно, есть, они будут со временем показаны историей. Но собственно мы, заранее, их не можем сами ставить даже и в территориальном отношении. <…> Мы <…> не можем отказаться от задачи устроения хотя бы и всего земного шара, если бы к этому повела судьба, т.е., если хватит сил и если окажется необходимость. Мы не можем знать, не для нашей ли будущей культурной миссии приготовила Европа земной шар, подчинив его себе, подобно тому как Рим подготовил древний мир к появлению христианства. Нация, имеющая мировую культурную роль, не может в этом отношении предназначать заранее никаких границ своего воздействия. Они определяются только размерами ее сил и широтой ее миссии» (88). В начале ХХ в. Лев Александрович будет активно выступать в поддержку дальневосточной политики империи. Итак, как нам представляется, Тихомиров очень ярко выразил в своем творчестве главные установки творческого традиционализма. 4.3 ТИХОМИРОВСКИЙ «СИНТЕЗ» Именно Тихомиров явился тем мыслителем, которому удалось осуществить идеологический синтез разных направлений творческого традиционализма, по крайней мере, в социально-политическом аспекте. Можно, конечно, спорить, насколько сей синтез оказался удачным, но, нужно признать, что тихомировская доктрина отличалась известной стройностью, целостностью, внутренней непротиворечивостью и систематичностью. Видимо, по самому складу своего ума Лев Александрович оказался идеально подходящим для роли систематизатора, завершителя развивавшейся более полувека определенной линии русской мысли. Обладая острым и сильным интеллектом, он в то же время не отличался излишней оригинальностью воззрений, которая для завершителя скорее минус, нежели плюс. В сущности, почти ничего нового в традиционалистское учение он не внес (тут В.А. Твардовская отчасти права), но для данной идеологии как раз требовались уже не новации, а упорядочивание. И Тихомиров эту задачу, с той или иной степенью успешности, решил, соединяя вроде бы противоположные друг другу идеи, путем отсечения их крайностей, в нечто единое. В этом ему помогало еще и то, что он пришел в традиционалистский лагерь «со стороны», будучи совершенно не связан (по крайней мере, внутренне) с какой-либо из его «партий». И это изначальное положение «надпартийного» идеолога способствовало большей объективности его взгляда на своих соратников разных убеждений. С другой стороны, такая позиция неизбежно обрекала ее носителя на идейное и политическое одиночество, о коем Тихомиров поведал в письме А.Л. Волынскому от 11 февраля 1894 г.: «Ни с каким органом печати я безусловно не связан. При современном разброде мысли, органы для нового еще даже и невозможны. Новые элементы недостаточно определились, чтобы слиться в некоторые коллективности. В сущности, не будь денежного вопроса, мне следовало бы писать не в журналах, а брошюрами, совершенно на свой личный страх. Я в жизни ничуть не одинок, но, если бы имел даже собственный журнал, то не мог бы считать его своим органом, п[отому] ч[то] не нашел достаточного числа действительно единомыслящих сотрудников. Тем менее возможно нынче связывать свою мысль с каким- либо чужим органом. Я говорю там, где могу, где есть слушатели, не имея ни малейшей возможности разбирать в хорошем или плохом месте приходится говорить, а тем более, кому оно принадлежит. <…> В журналистике вполне могу сказать: града зде пребывающа не имам, но грядущего взыскую» (89). Характерно, что при жизни Лев Александрович так и не был признан идейным вождем традиционализма, хотя к этому были все основания. Он пал жертвой своего стремления к «надпартийности», подобно тому, как Леонтьев пал жертвой своей экстравагантности. Окончательное выражение тихомировский «синтез» получил в фундаментальном трактате «Монархическая государственность» (1905), выпадающего по условиям времени из нашего рассмотрения, но главные положения этого труда были разработаны мыслителем еще в 1880-1890-х гг. Тихомиров дал наиболее четкую формулировку сочетания творчества и традиции, которое собственно и есть основа творческого традиционализма. И славянофилы, и Леонтьев писали об этом, но разбросано, без должной концентрации. Еще в 1894 г. мыслитель декларировал: «<…> Если цивилизация, среди которой я живу, уже пошла на упадок, то я не посвящу своих сил на простое замедление ее упадка. Я буду искать ее возрождения, буду искать нового центра, около которого вечные основы культуры могут быть снова приведены в состояние активное. Простое задержание смерти того, что несомненно уже гибнет, помоему не есть задача серьезной общественной политики» (90). Но по-настоящему полно данный вопрос Лев Александрович осветил в работе «Борьба века» (1894), выдвинув учение о «жизнедеятельности». Тихомиров (близко к леонтьевской идее о «реальных силах» общества») говорит о том, что «ни при какой страсти к новизне люди не могут направлять развития своего общества иначе, как в рамках вечно одинаковых, неизменных по существу основ. <…> Мы не знаем в обществах других изменений, кроме эволюции одних и тех же основных форм и различия их комбинаций. <…> В социальной жизни <…> мы постоянно находим одни и те же основные элементы: семья, собственность, право личности, власть общественная, объединение по специальным интересам, распадение на сословия, вечный их антагонизм, вечное их примирение властью целого, для которого они все одинаково нужны. Повсюду мы видим как необходимую скрепу социальной жизни обычай, традицию, привычку, дисциплину. <…> Люди могут делать сколько им угодно революций, могут рубить миллионы голов, и истощая свои силы, но они так же бессильны выйти из социальной неизбежности, как из-под действия законов тяжести. Что бы они ни хотели сделать, но могут воспроизвести в своем строе лишь те основные формы, какие даны самой природой социальной жизни. <…> Якобинцы, социалисты, анархисты или толстовцы могут фантазировать что угодно, но когда придется жить, будут жить в тех же основных формах, как и все прочие люди» (91). Далее Тихомиров уточняет понятие прогресса: «<…> идея прогресса в том смысле, какой она получила в нашу эпоху, — то есть идея достижения сразу или постепенно общественного строя, отрешенного от его исторических основ, и дающего для личности среду, способную удовлетворить ее стремления к свободе и счастью, — это идея безусловно нелепая. Стремление воздействовать на общество в направлении этого прогресса — только вредно, потому что с ним мы можем лишь разрушать действительность, то есть подрывать способность социальной среды давать нам даже и то, на что она по природе своей годится. <…> Нашему времени предстоит понять, что цели прогресса XVIII– XIX века ошибочны не крайностями, но по существу» (92). Истинный же прогресс, по Тихомирову, в эволюционном развитии исторических основ данного общества. В связи с этим, он резко критикует «малодушный», «ложный», «отрицательный» консерватизм, «который из боязни поколебать основы общества, скрывает их, не дает им возможности расти и развиваться». А «истинный консерватизм <…> совершенно совпадает с истинным прогрессом, в одной и той же задаче: поддержание жизнедеятельности общественных основ, охранение свободы их развития, поощрение их роста». Консерватизм вреден, «когда ограничивается одним <…> отрицанием и не видит перед обществом положительной работы, движения вперед, то есть тоже прогресса, но в эволюционном смысле. Жизнь действительная не знает революции как творческого начала. Но она также не знает ни неподвижности, ни движения назад» (93). В конце концов, мыслитель предлагает вовсе отказаться от понятий «прогресс» и «консерватизм»: «Сохранение органической силы и развитие ее это одно и то же, ибо органические силы только и существуют в состоянии деятельности, в состоянии развития, точно также как нельзя развиваться, не сохраняясь в типе. Новая точка зрения, громко подсказываемая всем пережитым и передуманным нами, упраздняет эти ложные разделения, порожденные социальным мистицизмом и изменяет их одним понятием жизнедеятельности. Мы должны совершенно отбросить мысль о прогрессе или консерватизме, а думать о жизнедеятельности. <…> Разрушительной работе века расстройства будет положен конец только пришествием века созидания, которое бы восстановило единство действия бессознательных органических сил общества и сознательных усилий государственного деятеля» (94) (т.е. правители страны должны сознательно взять, в качестве руководящей, идею эволюционного развития общества на исторических основах, идею «жизнедеятельности»). По мнению Тихомирова, монархия — не преходящий фазис «развития идеи власти», а — одна из вечных «основных форм ее» (95). Более того, эта форма власти наиболее оптимальна, ибо «сущность монархии <…> состоит в примиряющей силе высшей правды» (96). По своим свойствам, «монархическое начало <…> является орудием, помогающим нации не впадать в застой, но и не забывать основ своего развития, т.е. именно оставаться в состоянии жизнедеятельности, здорового развития своих сил и обдуманного приспособления к новым условиям. Консерватизм и прогрессивность наиболее уравновешены в этом начале власти. Ни демократическое, ни аристократическое начало не могут даже приблизительно заменить монархию в обеспечении стране правильной и спокойной эволюции. <…> Монархическое начало <…> в отношении движения страны вперед представляет орудие наиболее тонкое и надежное» (97). Вслед за славянофилами, мыслитель разделяет самодержавие как наивысшее выражение монархического принципа и абсолютизм как наибольшее его искажение. «Европейский абсолютизм, — отмечал он, — <…> все свел на безусловность власти и организацию учреждений, при помощи которых, эта безусловная власть могла бы брать на себя отправления всех жизненных функций нации. Идея <…> эта демократического происхождения и способна снова привести только к демократии же». Таким же «извращенным побегом монархической идеи» является и «восточный тип самовластительства», отличающийся «произвольностью власти, зависимостью ее от личности правителя <…>». В своей же норме «монархическое начало власти <…> есть господство нравственного начала <…>, которому народное миросозерцание присвояет значение верховной силы. Только оставаясь этим выражением, единоличная власть может получить значение верховной и создать монархию». Исходя из такого понимания монархии, Тихомиров утверждает, что «истинная монархическая — самодержавная идея» осуществилась только в Византии и России, хотя и там, и там она подверглась искажениям, благодаря влиянию в Византии «восточной идеи» власти, а в России — западного абсолютизма (начиная с Петра I) (98). Следовательно, если русское самодержавие очистится от элементов абсолютизма, то оно будет являть пример самого передового государственного устройства в мире и даст «целое указание пути, который еще не закрыт перед современным культурным миром» (99). Лев Александрович даже предполагает, что «монархическое начало, по всей вероятности, будет наукой снова выдвинуто как орудие спасения и развития современной культуры, подобно тому, как это уже было в античном мире после такого же период господства демократической идеи» (100). Как видим, тихомировский пафос скорее футуристический, нежели ретроспективный. Тот государственный строй, который мыслитель считает наиболее совершенным, собственно нигде и никогда не существовал, его всегда извращали чуждые ему элементы. Монархическая государственность, таким образом, не дана в готовом виде — существует лишь фундамент (заложенный в средневековье), на котором еще строить и строить. Истинная самодержавная монархия — дело будущего, ее нужно творить. Тихомиров был солидарен со славянофилами в их требовании сочетания самодержавия с местным самоуправлением (см. выше его высказывание о земстве), но считал это благое пожелание (как и многие другие славянофильские проекты) не вполне конкретным: «[И.С.] Аксаков был недалек от истины, когда говорил, что наша главная задача устроить не государство, а уезд. Только дело не собственно в “уезде”, а в социальном внутреннем строе вообще, то есть в семье, общине, приходе, корпорации, земстве и в многоразличных сословиях, которых ныне гораздо больше в действительности, нежели числится по старинному бумажному счету и которые остаются без всякого устройства. Вот что требует укрепления, организации, переустройства, а подчас и постройки заново. Это задача, важнее и жизненнее у нас нет никакой» (101). Поэтому А.В. Репников не совсем точен, когда утверждает, что автор «Единоличной власти…» пытался «совместить славянофильство и идею сильной монархической государственности <…>» (102). Во-первых, славянофилы тоже не были противниками «сильной монархической государственности». А, во-вторых, социально-политические построения Тихомирова далеко не укладываются в славянофильские схемы. Его основная идея — идея корпоративной монархии нимало не была свойственна славянофилам. Ее источником скорее нужно признать отчасти публицистику катковского круга (например, статью А.Д. Пазухина «Современное состояние России и сословный вопрос»), но, главным образом, «социологические наброски» Леонтьева. Собственно из славянофильства была взята только мысль о необходимости «общения» монарха и народа посредством некоего представительства (Леонтьеву и «катковцам», конечно, чуждая), да критика бюрократизма. Но и проблему «общения» Лев Александрович трактовал по-своему. Соглашаясь с тем, что «никакие совещательные собрания, созванные, выбранные или назначенные, не противоречат монархической идее», он, однако, вполне резонно замечал: собрания сами по себе «ничуть не обеспечивают общения монарха с нацией. Весь вопрос в том, каковы эти собрания, из кого они состоят. <…> Иной раз, может быть, знакомство с одним, никем не избранным и не назначенным человеком способно более послужить общению монарха с народом, нежели присутствие среди целой тысячи депутатов земского собора». Общение с нацией, полагает Тихомиров, вводя в демократическую доктрину славянофилов аристократический компонент, — «есть общение с национальным гением», «следовательно монарху нужны и важны люди <…> созидательного и охранительного слоя, цвет нации, ее живая сила. <…> В них верховная власть видит и слышит не то, что говорит толпа, но то, что масса народа говорила бы, если бы умела сама в себе разобраться, умела найти и формулировать свою мысль» (103). От понятия «народное представительство» мыслитель всячески открещивался, но, видимо, по цензурным соображениям, ибо позднее в своем главном труде он поместил целую главу о монархической системе народного представительства (104). Но как выявить «цвет нации», с коим нужно «общаться» монарху? Это возможно, доказывает Тихомиров, только при наличии корпоративного строения общества: «Задачи осведомления и общения с нацией — достигаются для верховной власти тем легче, чем более находятся на виду все наиболее деятельные силы и люди нации, а это <…> лучше всего там, где энергичнее и свободнее происходит группировка нации на слои, корпорации, общества, в центре которых сами собою обозначаются наиболее способные и типичные представители национальной работы» (105). Лучшие люди «давно в каждой группе выбраны, проверены, давно привыкли практиковать свое право и исполнять свои обязанности. Они же и не “политиканы”, их не соблазнит легкая карьера парламентского болтуна. Таких людей есть о чем спросить и притом с уверенностью получить от них только “дело”, а не интриги. Когда страна так сложена, то возможны и земские соборы, а когда она дезорганизована внутренно, тогда все попытки выделить “лучших людей” в одно собрание — есть вредная и опасная мечта, которая действительно может создать только политиканский парламент, а никак не собрание нравственных представителей нации» (106). Вообще, как мы уже упоминали, для Тихомирова развитый социальный строй есть лучшая опора монархии. Такой строй может быть только сословным. «Нация, — писал мыслитель, — <…> всегда распадается на слои, не одинаковые по условиям жизни, а потому представляющие известные различия и в своем быте, в своих привычках <…> Это распадение на слои не есть какое-либо “исчезающее” явление, <…> а явление всегдашнее, вечное. Никогда это расслоение не было сильнее, нежели в настоящее время, когда культура значительно усложнилась в сравнении с предшествующими веками. <…> Прежде всякий социальный слой, как только он обозначался в своей отдельности и особенности, становился основой государственного строения. Он привлекался к служению государству на основании тех своих свойств, которыми мог быть государству полезен. С другой стороны, он, именно как слой, получал государственное о себе попечение. <…> Таким то образом “класс” — социальный слой — становился сословием. Сословие есть ничто иное, как государственно признанный и в связь с государством поставленный социальный слой». Беда современного состояния общества, по мнению Льва Александровича, в «разрыве государства и общественных слоев»: «Если теперь говорят о бессословности <…>, то это не значит, что государство не дает этому расслоению своей санкции, игнорирует его в своих политических настроениях». Это происходит потому, что «абсолютистская идея разобщила государство и общество. При своей претензии вобрать нацию в себя, новое государство в действительности стало лишь вне нации. <…> идея бессословности государства в обществе все сильнее расслаивающемся — принадлежит к числу больших опасностей современной жизни. <…> Последствие мы уже видим в том, что ныне уже классовые интересы становятся живее и упорнее, нежели не только государственные, но даже национальные» (107). Тихомиров подчеркивает, что возвращение государства к сословности «непременно произойдет», но «к сожалению, пока это намечается лишь только борьбой бунтом, партиями, рабочими союзами и т.п., вообще путем истощающих столкновений классов <…> народы, путем революции и борьбы, — сами ощупью сложатся в новый сословный строй. Это, конечно, весьма печально, потому что не дешево обойдется народам такое строение ощупью…» При государственном же направляющем руководстве процесс общественного расслоения сможет пройти мирно и без потерь, и здесь монархия должна преуспеть более других типов государственной власти. В свою очередь развитый «социальный строй» мог бы излечить монархию от абсолютистских искажений и прежде всего от гипертрофии бюрократии: «<…> идея сословного государства <…> состоит в том, чтобы естественные классы, естественные группы нации получили от государства делегацию его управительных функций во всех пределах компетенций этих групп; государство же при этом может и должно войти в свою нормальную роль верховного направления и согласования этих естественных групп, покинуть мелочную регламентацию их жизни, а тем избавившись тоже от бюрократического характера, столь невыгодно отличающего “общегражданский” строй повсюду, где он, на несчастье народов, пытается возникнуть» (108). Мыслитель даже полагал, что сословный строй будет способствовать более правильному и гармоничному развитию личности, ее более прочному общественному статусу (о чем, кстати, неоднократно говорил и Леонтьев): «Когда мы признаем <…> расслоение, то мы обязываем сословия известными службами, мы заботимся о целесообразном составе, развиваем нравственное сословное чувство. Когда мы признаем неравенство, мы придаем ему для всех полезный характер патронажа. Не признавая ничего такого, мы достигаем лишь того, что сильный давит слабого совершенно необузданно и бессовестно. <…> В обществе разумно расслоенном <…> каждый человек составляет частицу известной группы. <…> Посему каждый человек получает известное руководство от людей наиболее уважаемых. Мысль людей более выдающихся освещает мысль более слабых, менее развитых. <…> Общественное мнение направляется на обсуждение действительных потребностей личности» (109). Много писал Тихомиров и об устройстве отдельных сословий. В частности, он считал необходимым сохранение, или в случае его вырождения — воссоздание, дворянства: «Если бы России оказалось нужным сословие служебное, а дворянство не могло им быть, или сословие землевладельческое, а дворянство и тут не проявляло бы должного умения, — то очевидно, что эти сословия могли бы сформироваться и заново, из других элементов» (110). Но в центре внимания мыслителя находились прежде всего новообразованные «классы», незамеченные государством, а потому не получившие статуса «сословий». Например, его сильно интересовал «рабочий вопрос». В одной из своих первых программных статей «Нужна ли нам фабрика?», отстаивая мысль, что «без капитализма не обойдешься», Лев Александрович одновременно выступал и за «государственное упорядочение частной промышленности», предполагающее улучшение условий жизни фабричных рабочих: «Государственный надзор и вмешательство может обеспечить рабочих от эксплуатации, то есть несправедливых притязаний хозяина, может создать надлежащее посредничество в спорных случаях, может предписать обязательную обстановку труда и т.д. Государство может систематическими мерами достигать обеспеченности фабричного населения посредством развития в нем собственности, поддержания прочных семей, учреждения пенсионов старикам и т.п. Все это, и многое другое, направленное к той же цели, не представляется даже особенно трудным, но лишь при том условии, чтобы государство имело дело с крупной промышленностью» (111). По сути, перед нами конкретизация одного из аспектов идеи Леонтьева о «законной организации труда и капитала». Тихомиров в 80-90-х гг. еще не дал своего развернутого толкования данной проблемы, но в начале ХХ в. она уже занимала в его публицистике одно из первых мест. Достаточно назвать такие его работы как «Рабочий вопрос и русские идеалы» (1902), «Рабочие и государство» (1908), «Рабочий вопрос.(Практические способы его решения)» (1909) и др. Рассмотрение этого пласта тихомировского наследия выходит за хронологические рамки нашего исследования, но все же, хотя бы в двух словах, основную его идею очертить нужно, ибо она непосредственно вытекает из корпоративистских построений мыслителя конца XIX в. Тихомиров активно пропагандировал необходимость государственного регулирования стихийного рабочего движения и создания рабочих профсоюзов в духе бисмаркова «государственного социализма», деятельность которых бы носила национально-созидательный, а не классоворазобщающий характер. Несомненно, что автор «Монархической государственности» являлся главным идеологом так называемой «зубатовщины». С самим С.В. Зубатовым он был знаком, по крайней мере, с 1896 г. (запись в дневнике от 15 декабря: «Был утром неожиданно Сергей Васильевич Зубатов» (112)), в архивном фонде Зубатова хранится тихомировская записка 1901 г. «О задачах русских рабочих союзов и началах их организации» (113). Позднее Лев Александрович консультировал по той же проблеме П.А. Столыпина, которому в одном из писем так излагал излюбленные свои мнения: «В политике и общественной жизни — все опасно <…> Понятно, что бывает <…> опасна и рабочая организация. Но разве не опасны были организации дворянская, крестьянская и всякие другие? <…> Вопрос об опасности организации для меня ничего не решает. Вопрос может быть лишь в том: вызывается ли организация потребностями жизни? Если да, то значит ее нужно вести, так как, если ее не будет вести Власть и закон, то поведут другие — противники власти и закона. Если государственная власть не исполняет того, что вызывается потребностями жизни, — она погрешает против своего долга, и за это наказуется революционными движениями. <…> благодаря возне с корпорациями — средние века п р о ж и л и (разрядка здесь и далее автора. — С.С.) целую тысячу лет. Это значит, что труд был окуплен. <…> Раз навсегда, на веки вечные, ничего нельзя устроить. <…> Живут вечно только з а к о н ы жизни, а формы постоянно изменяются» (114). В этом письме очень хорошо выражен сам пафос творческого традиционализма. Более всего в 90-е г.г. Тихомирова занимали проекты корпоративной организации интеллигенции. Он считал нездоровым явлением ее существование в виде некоего идейного «ордена», не связанного с реальной общественной жизнью. Образованный слой, по его словам, «не должен быть изолированным и замкнутым в себе, а разлит повсюду, как составная часть всех слоев и сословий, тесно с ними связанная. Его социальная роль — освещать жизнь, опыт, интересы всех социальных слоев и способствовать приведению их к единству. Он в каждом слое должен учиться у народа, должен представлять лишь высшее выражение сознания каждого слоя, и только этим путем способен выражать имеющееся в них национальное сознание. Для развития народной жизни нужна самостоятельная работа ума, чувства и опыта всей массы народа разных слоев и положений» (115). Исходя из собственного призыва к русским людям — «устраиваться в своем круге, в семье, общине, приходе, сословии» с тем, чтобы «высшие надстройки» формировались «при помощи сил, вырабатывающихся на нашей мелкой работе» (116), Лев Александрович в 1894 г. выступил с предложением о создании «сословия журналистов»: «<…> необходима организация журнального сословия, точное определение принадлежности к нему, установление соответственных прав и обязанностей» (117). По его мысли, такое сословие должно служить не «партиям», а «всей стране, всей нации». Оно обязано выражать не «интересы того или иного направления», а «интересы профессии», «поддерживать свое сословие на высоте его общественных задач в отношении умственном и нравственном» (118). Выборные органы «корпорации людей пера» ведали бы приемом в нее новых членов, отсеивая недостойных, распределением средств из ее денежного фонда и т.д. Надо заметить, что данный проект не встретил симпатий не только в либеральной среде, но и у таких близких Тихомирову людей как А.А. Киреев (119). Синтетический характер мировоззрения автора «Монархической государственности» совершенно очевиден. Если процесс формирования идеологии творческого традиционализма иллюстрировать знаменитой гегелевской триадой, то его можно представить так: тезис — славянофилы, антитезис — Леонтьев, синтез — Тихомиров. Последний попытался соединить славянофильскую ставку на общественную инициативу (недаром так часты у него призывы к «самодеятельности» (120)) с леонтьевским корпоративизмом. Кроме того, он считал, что истинная монархия (самодержавие) не только допускает, но даже предполагает «комбинацию в управлении элементов аристократического и демократического». «Демократический элемент, столь ничтожный в роли верховной власти, мало способен и в роли высшего управления. Но он имеет свои незаменимые достоинства в деле управления низшего», ибо народные массы — «лучший судья» последствий применения той или другой государственной меры. Но «при господстве монархии <…> демократия допускается к управлению <…> не в состоянии толпы, а в состоянии организованных групп. Демократия при этом по возможности аристократизируется. Ее выразителями являются “лучшие люди”, представители социальных групп, а не простого численного большинства». Аристократия же «во многих отношениях <…> незаменима в области высшего управления», ибо она «представляет наиболее зрелую политическую и социальную мысль страны, ее опыт, ее традицию». Вместе оба эти начала, «демократия снизу, <…> аристократия сверху не допускают до узурпации правительственных органов» (121). Таким образом, мыслитель соединил в своей социально-политической теории и демократический, и аристократический варианты творческого традиционализма. Как мы уже отмечали, в традиционалистском лагере при жизни Тихомирова не было в должной мере понято, что его доктрина имеет «завершающий» характер и наиболее подходит в качестве общей платформы для разных его направлений. Но в русском послереволюционном Зарубежье он уже воспринимался как главный теоретик монархической идеи. Даже весьма далекий от тихомировских идеалов Н.А. Бердяев признавал труды Льва Александровича «лучшим обоснованием идеи самодержавной монархии» (122). На них опирался и И.А. Солоневич в своей широко известной ныне «Народной монархии», и другие, менее знаменитые авторы (123). ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Костылев В.Н. Лев Тихомиров на службе царизма: (Из истории общественноидейной борьбы в России в кон. XIX — нач. XX вв.): Автореф. … канд. ист. наук. М.,1986. С. 17, 22-23. 2. Он же. Выбор Льва Тихомирова // Вопросы истории. 1992. № 6-7. С. 44. 3. Цит. по: Он же. Лев Тихомиров на службе… С. 8. 4. Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. М., 2000. С. 288, 340. 5. Там же. С. 387-388. 6. См.: Костылев В.Н. Лев Тихомиров на службе… С. 7. 7. Репников А.В. Консервативная концепция российской государственности. М., 1999. С. 44. 8. См.: Сергеев С.М. «Мои идеалы в вечном…» (Творческий традиционализм Льва Тихомирова) // Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. М., 1998; Он же. Л.А.Тихомиров и лагерь русских традиционалистов в 90-е гг. XIX в. // Тихомиров Л.А. Христианство и политика. М., 1999. (Далее — Христианство и политика). 9. Тихомиров Л. Почему я перестал быть революционером. М., 1895. С. 27, 37. 10. См.: Костылев В.Н. Лев Тихомиров на службе… С. 8. 11. См.: Харуки Вада. Лев Тихомиров: его духовный мир в последние годы жизни (1913-1923). // Он же. Россия как проблема всемирной истории. М.,1999. 12. РГАЛИ. Ф.345. Оп.1. Ед. хр. 747. Л. 50-50 об., 51. 13. Там же. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 51. Л. 4 об. 14. Там же. Ф. 345. Оп. 1. Ед. хр. 748. Л. 60 об. 15. Там же. Ед. хр. 750. Л. 39 об. 16. ГАРФ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 118 об., 119-119 об.,120. 17. Там же. Л. 176 об. 18. Там же. Л. 200 об.-201. 19. Это хорошо видно по письмам Тихомирова к Победоносцеву, недавно опубликованных нами. См.: Христианство и политика. С. 595-601. 20. См., напр.: Тихомиров Л.А. Петербургские адвокаты великой лжи // Русское обозрение (далее РО. — С.С.). 1896. №. 11 (Републикация: Христианство и политика). 21. ГАРФ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 190. 22. Там же. Л. 80 об. 23. Тихомиров Л.А. Русские идеалы и К.Н. Леонтьев //Литературная учеба. 1992. № 12-3. С.155. 24. ГАРФ. Ф. 586. Оп. 1. Ед. хр. 101. Л. 44 об. — 45 об. 25. РГАЛИ. Ф. 345. Оп. 1. Ед. хр. 746. Л. 5-5об. 26. Там же. Л. 5. 27. Там же. Ед. хр. 747. Л. 47- 47 об. 28. Тихомиров Л.А. Русские идеалы… С. 155. 29. Он же. Тени прошлого. М., 2000. С. 660. 30. Он же. Славянофилы и западники в современных отголосках // РО. 1892. № 10. С. 919-920. 31. Он же. Новое заявление славянофилов // РО. 1894. № 4. С. 917. 32. РГАЛИ. Ф. 95. Оп. 1. Ед. хр. 837. Л. 3 об. 33. Аксаков Н.П. Духа не угашайте! СПб., 1894. С. 2-3. 34. ГАРФ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 105 об. — 106. 35. РГАЛИ. Ф.345. Оп.1. Ед. хр.747. Л. 50 об. 36. Тихомиров Л.А. Русские идеалы… С.155. 37. РГАЛИ. Ф. 345. Оп. 1. Ед. хр. 747. Л. 64 об. 38. Тихомиров Л.А. Тени прошлого. К.Н. Леонтьев // Литературная учеба. 1992. № 1-23. С.140. 39. РГАЛИ. Ф. 345. Оп. 1. Ед. хр. 748. Л. 41 об. 40. Там же. Ед. хр. 749. Л. 23-23 об. 41. Тихомиров Л.А. Тени прошлого. К.Н.Леонтьев. С. 140. 42. Воспоминания Льва Тихомирова. М-Л., 1927. С. 371. 43. Там же. С. 397. 44. РГАЛИ. Ф. 290. Оп.1. Ед. хр. 51. Л. 3-4 об. 45. См.: Тихомиров Л.А. Тени прошлого. К.Н.Леонтьев. С. 149-150. 46. Он же. Русские идеалы… С. 153, 158. 47. РГАЛИ. Ф.345. Оп. 1. Ед. хр. 750. Л. 13-13 об. 48. Тихомиров Л.А. Тени прошлого. К.Н. Леонтьев. С. 140. 49. Он же. Почему я перестал быть революционером. С. 68-69. 50. Он же. Демократия либеральная и социальная. М., 1896. С. 89. 51. См.: он же. Тени прошлого. К.Н.Леонтьев. С. 140, 147. 52. Он же. Славянофилы и западники… С. 917. 53. Он же. К вопросу о свободе // РО. 1893. № 12. С. 958. 54. Он же. Славянофилы и западники… С. 917. 55. Христианство и политика. С. 34-35. 56. Тихомиров Л.А. Русские идеалы… С. 156. 57. Он же. Тени прошлого. К.Н. Леонтьев. С. 140. 58. Он же. Памяти Ю.Н. Говорухи-Отрока // РО. 1896. № 9. С. 357. 59. Христианство и политика. С. 308. 60. Там же. С. 313-314. 61. Тихомиров Л.А. Русское дело и обрусение // РО. 1895. № 4. С. 930. 62. Он же. Современные направления // РО. 1897. № 2. С. 1035. 63. Он же. Молодежь и ее учителя // РО. 1895. № 12. С. 979. 64. Он же. К вопросу о терпимости // РО. 1893. № 7. С. 381. 65. Воспоминания Льва Тихомирова. С. 232. 66. Он же. Демократия либеральная и социальная. С. 101, 21, 46-47. 67. Христианство и политика. С. 262. 68. Тихомиров Л.А. Что такое либерализм? // РО. 1894. № 7. С. 365. 69. Он же. Знамение времени. Носитель идеала. М.,1895. С.13. 70. Русское слово. 1895. № 1, 1 января. С. 1-2. 71. Тихомиров Л.А. Что такое Россия? // РО. 1897. № 4. С. 894, 900. 72. Христианство и политика. С. 33. 73. Тихомиров Л.А. Экономические задачи России // РО. 1894. № 1. С. 367. 74. Христианство и политика. С. 263. 75. Там же. С. 324-325. 76. Тихомиров Л.А. К вопросу о свободе. С. 965. 77. ГАРФ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 104. 78. Тихомиров Л.А. Единоличная власть как принцип государственного строения. НьюЙорк, 1943. С. 74. (Далее — Единоличная власть). 79. Там же. С. 99, 102-103. 80. Там же. С. 83, 104, 109. 81. Воспоминания Льва Тихомирова. С. 268-269. 82. Тихомиров Л.А. Демократия либеральная и социальная. С. 188. 83. Он же. Искания свободы // РО. 1893. № 3. С. 430, 438. 84. Он же. Конституционалисты в эпоху 1881 года. 3-е пересм. изд. М., 1895. С. 3. 85. Он же. Современные направления. С. 1035. 86. Он же. Что такое Россия? С. 891-892. 87. ГАРФ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 192-194. 88. Христианство и политика. С. 302, 308-309. 89. РГАЛИ. Ф. 95. Оп. 1. Ед. хр. 837. Л. 6-6 об. 90. Тихомиров Л.А. Русские идеалы… С. 157. 91. Он же. Борьба века. 2-е изд. М., 1896. С. 30-32. 92. Там же. С. 49 -50, 52. 93. Там же. С. 28, 38, 50. 94. Там же. С.53, 38. 95. Христианство и политика. С. 297. 96. Тихомиров Л.А. Знамение времени… С. 14. 97. Единоличная власть. С. 126. 98. Там же. С. 81-83, 85-86. 99. Тихомиров Л.А. Знамение времени… С. 7. 100. Единоличная власть. С. 130. 101. Тихомиров Л.А. Из современных задач // РО. 1895. № 3. С. 445. 102. Репников А.В. Указ. соч. С. 50. 103. Единоличная власть. С. 95-96. 104. См.: Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. С. 541-548. 105. Единоличная власть. С. 108. 106. Тихомиров Л.А. Из современных задач. С. 443-444. 107. Единоличная власть. С. 105-107. 108. Тихомиров Л.А. Государственность и сословность // РО. 1897. № 5. С. 436. 109. Он же. К вопросу о свободе. С. 958-959. 110. Он же. Государственность и сословность. С. 430. 111. Он же. Нужна ли нам фабрика? // РО. 1891. № 1. С. 298, 307. 112. ГАРФ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 68. 113. Там же. Ф. 1695. Оп. 1. Ед. хр. 19. 114. Там же. Ф. 102. Оп. Д-4, 1908. Ед. хр. 251. Л. 1об.- 2об. 115. Тихомиров Л.А. К вопросу об интеллигенции // РО. 1896. № 2. С. 993. 116. Он же. Задачи публицистики // Там же. 1897. № 3. С. 465. 117. Он же. Сословие журналистов // Там же. 1894. № 4. С. 951-952. 118. Он же. Еще об организации нашего сословия // Там же. 1894. № 12. С. 1049. 119. См.: ГАРФ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 101. Л. 35-36об. 120. Тихомиров Л.А. Задачи публицистики. С. 465. 121. Единоличная власть. С. 109-110. 122. Бердяев Н.А. Царство Божие и царство Кесаря // Путь. Париж, 1925. № 1. С. 33. 123. См., напр.: Попандопуло В. Монархия и демократия // Русский временник. Париж, 1939. № 3. С.23-51. 5. Творческий традиционализм и власть В какой степени творческий традиционализм был востребован российским самодержавием, чьим идейным фундаментом он претендовал быть? Как оценивали традиционалисты политику царского правительства в 1880-1890-е гг.? При ответе на эти вопросы уместно будет в первую очередь обратиться к переписке, дневникам и мемуарам наших героев. Начнем со славянофилов. Бытует мнение, что правление Александра III имело ярко выраженную славянофильскую окраску. Например, А.Л. Янов считает, что “славянофильство, вполне к 90-м годам выродившееся и адаптированное к нуждам поднявшей голову реакции, стало в последний период царствования Александра III идеологией господствующей, официозной” (1). Это утверждение показывает полную неосведомленность его автора в истории позднего славянофильства. Как раз существенное воздействие на политику славянофилы оказывали только в начальный период правления “императора-миротворца”, а конкретнее, с мая 1881 г. по май 1882 г., т.е. в то время, когда министерство внутренних дел возглавлял граф Н.П. Игнатьев, при котором, по свидетельству А.А. Киреева, “сильное влияние оказывал [И.С.]Аксаков <…>” (2). Иван Сергеевич воспринимал первые шаги нового государя в целом положительно и относился к нему с симпатией. 6 апреля 1881 г. он писал Н.С. Соханской (Кохановской): “Молодой царь чист душой и жизнью, честен, мыслью, — тверд и строг. <…> Помоги ему Бог стать в уровень с высотой и трудностью своего положения” (3). Он вполне одобрил казнь “первомартовцев”: “Я не считаю Государя даже в праве прощать; его правосудие не личная месть, не личные счеты. Россия не позволяет ему прощать. Я о судьбе этих животных никогда и не задумывался” (А.С. Суворину, 31 марта 1881 г.). Вообще “настоящее царствование” ему казалось “честнее прошлого” (4). Но, конечно, для издателя “Руси” репрессии не являлись общественной панацеей, в августе 1881 г. он жалуется Д.Ф. Самарину: “По правде сказать, только на запрещении газет и сказывается энергия власти. Бодрой, крупной умственной силы не чувствуется, не слышится” (5). Он полагал, что “нужно <…> внутреннее обновление духа, которое может быть дано лишь каким-нибудь переворотом в роде перенесения столицы, или созвания земского собора, волею государя, в Москве, не в виде постоянного учреждения, или же нужно, чтобы возникла и закипела жизнь местная, областная, чтоб там произошло первое единение государства с землей” (6) (Д.В. Аверкиеву, 22 августа 1881 г.). С назначением Н.П. Игнатьева (имевшего репутацию человека славянофильских убеждений) на ключевой пост в государстве, мечты Аксакова стали принимать более осязаемый характер. Здесь не место давать оценку Игнатьеву, но большинство современников в один голос отмечало необычайную противоречивость натуры этого незаурядного политического деятеля. Так Е.М. Феоктистов, начальник Главного управления по делам печати в 1883-1896 гг., говорил в своих воспоминаниях о его родственности Ноздреву: “Кому в России неизвестна была печальная черта его характера, а именно необузданная, какая-то ненасытная наклонность ко лжи? Он лгал вследствие потребности своей природы, лгал как птица поет, собака лает, лгал на каждом шагу, без малейшей нужды и расчета, даже во вред самому себе. <…> Никакой программы у него не было и ничего близко не принимал он к сердцу. <…> Людям, известным своим консервативным образом мыслей, он толковал, что надо раз навсегда положить конец всяким поползновениям к правовому порядку, а либералам делал достаточно ясные намеки на свою готовность идти по следам Лорис-Меликова. <…> В одно прекрасное утро пришла ему мысль причислить себя к славянофилам, то есть он нашел гдето на полу славянофильский ярлык и приклеил его себе ко лбу <…>” (7). Можно было бы посчитать эту характеристику пристрастной, но А.А. Киреев, симпатизировавший Игнатьеву (“он <…> очень умный, очень русский человек”) тоже вынужден был признать “страсть Игнатьева врать (иногда бесшабашно)” (8). Близкая к славянофильским кругам Е.Ф. Тютчева (дочь поэта) также отзывалась о нем далеко не лестно: “<…> Игнатьев, только и имел достоинства — что он русский человек — впрочем ничего в нем нет — ложь он с головы до ног” (9). Не лишним здесь будет и отзыв о Николае Павловиче К.Н. Леонтьева, долгие годы служившего под непосредственным началом графа: “В этом человеке какое-то непостижимое сочетание ума и пустоты, искреннего патриотизма и самой бессовестной подлости, достоинства и шутовства, малодушия и отваги, любезности, доходящей до доброты, и зловредности самой несносной! Я всегда говорил, что его можно изобразить, описать, но объяснить невозможно” (10). Косвенным подтверждением вышеприведенных суждений является то, что Игнатьев в своих мемуарах приписывает инициативу созыва Земского Собора исключительно себе: “<…> посыпавшиеся в Министерство Внутренних Дел заявления разных Земств и сообщаемые мне либеральные проекты некоторых Земцев разочаровали меня на счет практической Государственной пользы прибегнуть к сотрудничеству Земцев современного состава, а потому я пришел к убеждению, что влить живую струю в бюрократическое управление надо другим путем, вернувшись к прежней основе Русского Самодержавия — к Земскому Собору <…> Я считал, что единственным средством сблизить Царя с народом, узнать действительное настроение <…> последнего вне теоретических увлечений интеллигенции, дать народный отпор крамольникам и прекратить нигилистическую пропаганду в народе, а главное, поставить непреодолимую препону конституционным вожделениям либералов и Европейничанью высшего Петербургского Общества, указав, что существует самобытная Русская конституция и что мы не нуждаемся в подражании формам управления, выработанным в чужой нам среде, при совершенно ином историческом прошлом; при других нравах и привычках общественных” (11). Однако мы располагаем совершенно неопровержимыми доказательствами того, что идея созыва Земского Собора была внушена славянофильствующему министру непосредственно Аксаковым. Вот строки из его письма Игнатьеву от 10 января 1882 г.: “Есть выход из положения, способный посрамить все конституции в мире, нечто шире и либеральнее их и в то же время удерживающее Россию на ее исторической, политической и вместе национальной основе. Этот выход — Земский Собор с прямыми выборами от сословий: крестьян, землевладельцев, купцов, духовенства. Теперь представляется к этому и повод: коронация. Присутствие тысячи выборных от крестьян заставит, без всякого иного понуждения, смолкнуть всякие конституционные вожделения и послужит лишь к всенародному, пред всем светом, утверждению самодержавной власти — в настоящем, народном историческом смысле. Как воск от лица огня, растают от лица народного все иностранные, либеральные, аристократические, нигилистические и тому подобные замышления. <…> Тогда и печать стеснять не нужно: ибо ни у кого не хватит духа пойти явно против народа <…> Но что такое Земский Собор? Как его устроить?.. Вот для этого и послан к Вам П.Д. Голохвастов, уже 15 лет лелеющий в себе эту мысль и разработавший ее во всех подробностях <…> Граф! Вам дается в руки оружие: не пренебрегайте им. На Вас лежит нравственная ответственность, если Вы им не воспользуетесь, другого спасения для Царя и для России я не вижу” (12). Как видим, Аксаков вдохновляет, убеждает и даже инструктирует Игнатьева, направляет к нему знатока истории Земских Соборов П.Д. Голохвастова, который и составил проект, известный под названием “проекта Игнатьева”. Сохранилась (и опубликована) переписка Аксакова и Голохвастова, показывающая разочарование последнего в министре внутренних дел (“<…> цель Игнатьева — премьерство” (13)), передавшееся и Ивану Сергеевичу: “Думаю, что ничего не выйдет, и может быть к лучшему на сей раз: нельзя пьесы Шекспира разыгрывать на театре марионеток, а Игн[атьев] не более как директор кукольного театра” (14) (Д.Ф. Самарину). Тем не менее провал замысла Земского Собора был воспринят издателем “Руси” крайне болезненно: “Победоносцев и Катков погубят Россию. У меня руки опускаются. <…> В России распоряжается Катков с сумасшедшим Победоносцевым”; “Победоносцев с Катковым торжествуют и ополчаются на “Русь”” (15). Мы не будем останавливаться на перипетиях неудачной попытки осуществления “игнатьевского” (а на самом деле аксаковско-голохвастовского) проекта, благо они подробнейшим образом проанализированы в специальной работе П.А. Зайончковского (16). Для нас важно другое: отставка Игнатьева (а также произошедшая месяцем позже смерть еще одного идейного “подопечного” Аксакова — М.Д. Скобелева) кардинально подорвала позиции славянофилов в правительственных сферах, и восстановить их им уже никогда не удастся. По верному замечанию Ивана Сергеевича вдохновителями нового правительственного курса, проводимого графом Д.А. Толстым, были Победоносцев и Катков. Именно их построения и стали “официозной идеологией” правления Александра III, и только в той степени, в какой в последние были инкорпорированы идеи славянофилов, можно ее считать “славянофильской”, не более. А степень эта не являлась уж очень большой: сходясь со славянофилами в критике либеральной цивилизации и в формуле “Православие, Самодержавие, Народность”, и Катков, и Победоносцев резко отвергали их политическую теорию, считая ее либеральной, по сути. Победоносцев в одном из писем осуждал Аксакова как “бессмысленного мечтателя”: “<…> сам он кто же, как не либерал по тому же западному типу, которого только в своем либерализме не узнает, потому что одел его по своей фантазии в русское платье” (17). Общественное положение Ивана Сергеевича совсем не напоминало статус “официозного” публициста. В декабре 1885 г. над “Русью” нависала реальная угроза запрещения (18), причем газету обвиняли в “недостатке патриотизма”. Так что не приходится сомневаться в искренности Аксакова, когда он пишет, что славянофилы “не в авантаже <…> обретаются” (А.С. Суворину, 17 февраля 1884 г.) (19). Интересно проследить взаимоотношения славянофилов и власти в 1880-1890-х гг. по дневникам этого времени генерала А.А. Киреева, который состоял придворным великого князя Константина Николаевича и его семьи, был вхож в самые высшие правительственные и придворные сферы. Киреев одобряет манифест 29 апреля 1881 г. о незыблемости самодержавия, считая, что “явился он очень кстати, ибо идеи конституционные и раздражающие о них толки слишком начали укореняться” (20). В целом он доволен правительственным курсом: “<…> ощущается твердость, которой мы давно не видали” (21). Александра III он характеризует как “человека честного и чистого”, считает, что у него (в отличие от отца) “цельности гораздо больше”, однако видит у него “недостаток идеи и убеждений” (22), что сказывается и на правительственной политике, лишенной идеологического обоснования, а потому не имеющей серьезной перспективы. Таким обоснованием, по мнению Александра Алексеевича, может быть только славянофильство, и он с грустью отмечает, что оно не имеет никакого веса в верхах, более того, считается опасным учением. Большинство чиновников “не понимает разницы между нигилизмом и славянофильством” (23). Киреев передает слова А.Ф. Аксаковой (также близкой ко двору) о том, что “за исключением Государя, все мужчины импер[аторского] семейства враждебны направлению “Руси”, т.е. конституционалисты!??! Кругозор их узок, не выходит из цикла идей–привычек” (24). Киреев неоднократно вынужден фиксировать либеральные настроения членов царской фамилии. “Победоносцев сказал мне чудовищную вещь — [великий князь] Михаил Николаевич, принимая [И.Д.] Делянова, сказал ему, что единственный исход из настоящего положения — дать конституцию!!! <…> Если уж Дядя, председатель Госуд[арственного] Совета сдается, то где же ожидать, что другие “чиновники” будут стойче!” (25) Великий князь Константин Николаевич до такой степени ненавидел Каткова, что одобрил студенческую антикатковскую демонстрацию, в которой участвовали люди с револьверами: “Да что же делать <…> коли иначе нельзя избавиться от этого негодяя как застрелив его!” — это говорит Великий Князь, бывший председатель Государственного Совета. Как же Рысаковых и Перовских <…> осуждать!!?” (26). “Самый надежный все-таки Государь, — пишет Киреев, — Все остальные, я говорю об имеющих голос в Правлении, склоняются к конституции… Слепцы” (27). То же касается и верхушки чиновничества: “[От веры в монархию] не остается и следа в высших слоях администрации <…>” (28). Александр Алексеевич часто жалуется на цензурные притеснения славянофильских изданий. Так в августе 1887 г. Е.М. Феоктистов лично вычеркнул из киреевской статьи “Катков и Аксаков” абзац, где просто упоминалось, о том, что в отличие от Каткова Аксаков был сторонником возвращения “к тем совещаниям между верховной властью и землею, которые были в употреблении во второй половине московского периода Русской истории, и к которым зачастую прибегали Цари, не утрачивая при этом ни своей власти, ни своего обаяния” (29). В декабре 1890 г. он снова возмущенно говорит “о нашей глупой цензуре”: “<…> Государю напели, что славянофильские теории крайне вредны, в особенности опасно говорить о земском соборе. Государь, действительно теперь верит, что славянофильство опасно! Недавно еще он это подтвердил в очень резкой форме. Книгу Конст[антина] Аксакова запретили! <…> Бедный Царь! Как его обманывают и сбивают с толку” (30). Как бы обращаясь к высшим чиновникам правительства, Киреев восклицает: “<…> кого вы ловите, славянофилов, да разве Вы не видите, что мы Ваши лучшие союзники, что мы можем быть очень неприятны, но никогда не можем быть вредны, и можем быть очень полезны, что именно правда на нашей стороне, и именно в области мысли — разве не мы славянофилы первые выяснили значение православия как нормирующего культурного фактора нашей духовной жизни, разве не мы выяснили первые значение народности, наконец, разве мы уступаем кому бы то ни было в преданности самодержавию? <…> “своя своих не познаша”” (31). 5 января 1891 г. он возражает на слова В.К. Плеве, что-де славянофилов “съедят конституционалисты”: “Нет, наоборот, они съедят Вас (абсолютистов). <…> За меня говорит история. <…> Абсолютизм не держится” (32). Особо нужно отметить, что генерал не одобрял политику Александра III за ее излишнее миролюбие (33). Первые впечатления о Николае II у Киреева противоречивы: с одной стороны, при личной встрече император произвел на него “прекрасное впечатление” (“ему бесконечно хочется добра!”), с другой, он с тревогой отмечает “полную неустойчивость во взглядах Государя. Неустойчивы его принципы, или вернее, слишком общи, и не применяются к жизни” (34). При новом монархе сохраняются цензурные запреты на пропаганду славянофильского учения. Д.А. Хомякову отказано в издании журнала на том основании, что “и так много журналов и в новых — нужды не ощущается <…>?! — возмущен Александр Алексеевич. — Да как же это нелепое правительство не видит, что общественное мнение у него уходит из рук! Правда, крайние шестидесятники, резкие материалисты, вообще “революция” потеряли свой “престиж”, но не много выиграло правительство. Оно старается подобрать себе слуг, но все одевает их в ливрею, а от ливреи порядочные люди отказываются. Запрещая говорить не лакеям желающим поддержать православ[ие], самодерж[авие] и народность, вот как Хомякову — зажимают рот” (35). Снова и снова Киреев настаивает на том, “чтобы была в правительстве руководящая идея, оно не должно страдать идеебоязнью, идеофобия эта и сделала, что Александр III никого не дал своему сыну” (36). В марте 1899 г. он сетует: “<…> государственных людей совсем нет, какие-то людишки без идеи.Победоносцев один, но и он совершенно бесплоден, и физически, и нравственно, а не для созидания. [С.Ю.]Витте умен, но какие же у него идеи?! <…> Нет государственной идеи ясно очерченной, ни славянофильской, ни катковской, ни конституционной” (37). По его мнению, Николаю II “нужно <…> повторять, выяснять, что мы находимся на распутье, что жизнь народная от того так нервна, что она сорвана со старых своих устоев (николаевских) и брошена реформами Александра II именно на перепутье, без указания того, куда ей идти? Но ведь просто так, без цели и системы, двигаться нельзя, а двигаться нужно! Все двигается фатально, необходимо, стало быть, направить это движение куда следует, но ведь есть два дальнейших пути. Так как административно Государство не может при данных условиях времени устоять, оно падет непременно, но пасть оно может или в конституционализм или в славянофильство <…>” (38). В связи с сильными студенческими волнениями 1899 г., пессимизм Киреева резко возрос: “Мы никогда не переживали еще (насколько я себя помню) такого странного времени (да и страшного). Никто не хочет повиноваться и никто не умеет повелевать!” (39) Сознание близящейся катастрофы пронизывают страницы киреевского дневника за 1900 г. Например, Александр Алексеевич передает следующий свой разговор с Победоносцевым, который жаловался, что “вообще все молодое поколение, все мыслящее становится враждебным правительству, число его сторонников уменьшается. Да, отвечал я Победоносцеву грустно; но “на век государя хватит?” “Хватит ли?”- отвечал мне Поб[едоносцев]. Да и действительно, хватит ли? Вопрос о будущности России ставится грозно, он настоятельно требует решения и этого не видят “на верху” <…>” (40). “Современный государственный строй отживает свой век, мы идем — к конституции. Это яснее дня (и не пасмурного Петербуржск[ого], а ясного Кутаисского).Возвращаюсь из города с Победоносцевым и он то же самое повторяет: “идем на всех парах к конституции, и ничего; никакого противовеса, какой-либо мысли, какого-либо культурного принципа нет <…>” Но хотя П[обедоносце] в все это и сознает, но не он ли сам во многом виноват в том, что не давая никакого свежего воздуха, никакого света, он превращал умеренных либералов бледнорозовых в красных, белых в радужных хамелеонов, а консерваторов в обскурантов, дураков” (41). “Мы идем навстречу сериозным, очень сериозным смутным временам. Идем с открытыми глазами, ничего не видя, и не понимая. <…> Снизу идет революционная работа, сверху делаются глупости <…>, а где опора? Ведь мысль разрушающую можно побороть только мыслью созидающую, консервативною. Но где же органы такой мысли? Их нет, и их не будет, пока ценсура будет стеснять выражение этой мысли. <…> На консервативную мысль накладываются путы; с первого шага консервативную мысль заставляют молчать. <…> Как же помогать, при таких условиях! Как вытащить из воды утопающего, когда он отталкивает шест, который ему подаешь!” (42) Правда, у Киреева еще оставалась надежда, что возможен поворот “в сторону Монархии славянофильского типа. <…> У нас есть коекакие шансы” (43). Но ему было суждено дожить до революции 1905 г. и убедиться, что сбываются самые худшие его опасения” (44). Неоднократно страдал от цензуры и другой лидер позднего славянофильства — С.Ф. Шарапов (45). Его газета “Русское дело”, получившая два предупреждения, и временно приостановленная, была вынуждена из-за убытков издателя прекратить свой выход. В своем письме Н.П. Игнатьеву от 23 октября 1888 г. Сергей Федорович рисует весьма мрачную картину окружающей действительности: “Каким образом может происходить то ужасное явление, что при Государе, по общему всенародному убеждению, быть может, наиболее близком к идеалу Монарха и Самодержца <…> проявляется такое ужасное разложение всей общественной и государственной жизни России, такое падение престижа власти, такое несоответствие издаваемых законов с потребностями жизни, такое отсутствие прочности и нравственности в общественном строе, такая зияющая нищета в области творческой мысли, такое страшное отсутствие людей дела, государственных сил, дающее полный простор только посредственностям? <…> откуда этот мертвый сон всего общества, эта дряблость, измельчалость, трусость, подлость, эта всеобщая апатия, фальшь и лицемерие, это поникновение духа, делающие наше время едва ли не самым тяжелым, самым гнетущим <…> ответ на этот вопрос один: оттого, что бюрократия отрезала сплошной стеной живую Россию от живого Царя, оттого, что монополизировала она и мысль, и чувства, и жизнь России и самый ее патриотизм, и самую любовь, и преданность Царю. <…> Все горькое и жесткое, высказанное выше представляется чуть не ангельски-незлобным сравнительно с тем, что говорится <…> повсюду, и не враждебными государству элементами, а истинными патриотами, теми людьми, которые за Царя и родину положат не только свое достояние, но и свои головы. <…> теперь именно царство бюрократии, которая в слепом самомнении готова совсем упразднить живую Россию” (46). Еще более жесткую оценку царствованию Александру III дает в письмах В.В. Розанову (1892) друг Шарапова и постоянный автор его изданий И.Ф. Романов (Рцы), который уже предъявляет претензии самому императору: “Чиновники идиоты и в этом никто не виноват. А где Самодержец? В чем проявляется его индивидуальность, его инициатива, его творчество. Говорят, она отдыхает в Гатчине, прохлаждается в финляндских шхерах, благодушествует в Дании…<…> Власти нет. В “нетях власть””. По мнению Романова, господствующая в России “система белого нигилизма полагает, что благонамеренность проявляется исключительно либо в доносах, либо в раболепной лести, а что сверх сего, то уже почитается крамолою, изменою… Последнее десятилетие есть самая гибельная, ПОЗОРНАЯ страница нашей истории. ПО ПЛОДАМ УЗНАЕТЕ ЕЁ… Се наперед рек Вам” (47). Нам представляется, что вышеприведенные тексты и факты достаточно убедительно свидетельствуют, что славянофильство в 1880-1890х гг. не только не было “у власти”, но, напротив, скорее находилось к ней в умеренной, скажем так, оппозиции. Повторяем, “официозом” являлись передовицы Каткова и “Московский сборник” (1896) Победоносцева. Катков находился настолько в исключительном положении (даже после смерти), что в декабре 1887 г. по докладу Феоктистова, Д.А. Толстой приказал вырезать из январского номера “Русского архива” за 1888 г. статью вполне благо-намеренного Д.И. Иловайского “Историческая поминка о Каткове”, где среди множества похвал покойному автор допустил и несколько критических замечаний в его адрес, которые были названы в Запрещении “странными” и “неуместными”. В том же году Иловайскому отказали в издании своего журнала, “в виду многочисленности существующих уже в Москве периодических изданий и ограниченности личного состава Московского Цензурного Комитета” (48). Как мы уже отмечали, К.Н. Леонтьев крайне отрицательно относился к правительственному курсу в период правления Александра II. В письме К.П.Победоносцеву от 27 мая 1880 г. он, например, восклицал: “<…> надо волосы и одежду на себе рвать и сокрушаться о том, зачем родился русским в такое время!” (49) Зато “реакционные реформы” Александра III вызывали у него самую горячую симпатию: “<…> дух текущих 80х годов национальным зовут все, и приверженцы национализма, и враги его. И чувствуется, что это верно” (50) (при этом он отказывал в подлинно национальном духе не только политике Александра II, но и — Николая I). Особое одобрение вызывали у него сословные реформы Д.А. Толстого, который “не будучи ничуть славянофилом в теории, на практике <…> оказался истинным славянофилом — в смысле не племенном, конечно, акультурногосударственном <…> Он дал первый толчок к восстановлению русского дворянства <…>” (51). Но сила и глубина “реакционных реформ” не удовлетворяли Константина Николаевича: “Не фанатично, не круто, не шумно, не выразительно, не резко… Слабо как будто… Так ли “делали” реакцию в других местах и в иные времена!… И страшно, и отрадно — вспомнить… <…> когда в реакции этой живешь — и видишь все-таки, до чего она неглубока и нерешительна, поневоле усомнишься и скажешь себе: “Только-то?”” (52) Были у Леонтьева и конкретные претензии к правительственной политике. Например, ему не нравилась “русификация” окраин, в реальности, по его мнению, становившаяся орудием их “европеизации”: “<…> хлопоча усердно и основательно о православии для эстов и латышей (это нужное единство)” не нужно вводить “французских судов на русском языке в Остзейском крае (это вредное однообразие, смешение) <…> Поймите, прошу вас, разницу: русское царство, населенное православными немцами, православными поляками, православными татарами и даже отчасти православными евреями, при численном преобладании православных русских, и русское царство, состоящее сверх коренных русских, из множества обруселых татар и евреев. Первое — созидание, второе — разрушение. А этой простой и ужасной вещи до сих пор никто ясно не понимает… Мне же, наконец, надоело быть гласом вопиющего в пустыне! И если Россия осуждена после короткой и слабой реакции вернуться на путь саморазрушения, что “сотворит” один и одинокий пророк?” (53) Но, в отличие от славянофилов, автор “Византизма и славянства” никогда открыто не оппозиционировал “верхам”, будучи им принципиально лояльным. Более того, у него складывались неплохие личные отношения со многими министрами. Скажем, министр внутренних дел Д.А. Толстой, хлопоча о предоставлении ему повышенной пенсии, давал мыслителю в письме министру финансов Н.Х. Бунге (25 октября 1886 г.) следующую лестную характеристику: “Леонтьев имеет <…> особое право на поддержку и внимание Правительства. По справедливости, может быть он причислен к числу писателей, которые не ища популярности и минутного успеха, твердые сознанием долга, приносят значительную пользу своими произведениями. <…> Зная основательно жизнь Балканского полуострова <…> Леонтьев ясно и откровенно высказывал свои, отличающиеся замечательною меткостью, суждения о политическом и нравственном характере наших единоверцев <…> По вопросам внутренним является он энергическим поборником основных начал духовной и государственной жизни русского народа, Церкви и Самодержавия <…>” (54). По словам самого Леонтьева, министр просвещения И.Д. Делянов выражал пожелание, чтобы он жил в Сергиевом Посаде, “поближе к Академии и к Москве, где вы имеете такое полезное влияние <…> надеюсь, что вы будете еще и писать и действовать” (55). В 1881 г. Победоносцев предлагал Константину Николаевичу проект совместного издания их статей под одной обложкой (56). Не говорим уже о том, что близким другом Леонтьева был начальник Государственного контроля Т.И. Филиппов. Удостаивался философ и августейшего внимания. В 1886 г. “Восток, Россия и славянство” “была переплетена в дорогой переплет на казенный счет <…> и представлена государю Деляновым, который предварительно просил Филиппова заложить бумажками все страницы и места, для прочтения государем особенные пригодные” (57). Книга удостоилась “Высочайшей благодарности”, 60 ее экземпляров Победоносцев закупил для рассылки по духовным училищам (58). 17 августа 1889 г. Мыслитель с гордостью сообщает К.А. Губастову, что “получил от [А.А.]Фета (Шеншина) известие, что Государь во время путешествия на “шхеры” взял по чьей-то рекомендации мою “Национальную политику [как орудие всемирной революции]”, чтобы прочесть ее на досуге, с вниманием” (59). Министр внутренних дел И.Н. Дурново обращал “особое внимание государя” на статью “Над могилой Пазухина” “как на статью, имеющую государственное значение” (60). Но, при всем при том, по настоящему Леонтьев не был востребован режимом; как он сам грустно шутил: литературным генералом я не стал, “а разве, <…> непопулярным полковником” (61). Основные его идеи не были замечены правительством Александра III. Как верно заметил один из первых биографов Константина Николаевича А.М. Коноплянцев, “изменение в направлении нашей внутренней политики в царствование Александра III совершилось без всякого влияния со стороны Леонтьева, да и после того он никогда не был влиятелен в правящих сферах: там имели вес практические и близко осуществимые идеи, но кто из государственных людей того времени мог взяться за проведение в жизнь, например, мысли и мечты Леонтьева о взятии Константинополя и устроения там патриаршего престола над всеми православными странами, независимого ни от какой светской власти?” (62) Так же как, добавим мы, “за проведение в жизнь” идеи “социалистической монархии”, общие контуры коей философ изложил еще в 1882 г. в “Записке о необходимости новой большой газеты в С.-Петербурге”, направленной и Победоносцеву, и Филиппову. Но даже и сам “проект большой газеты”, вроде бы поддерживаемый Победоносцевым (63), в которой Леонтьев мог бы обрести достойную его постоянную трибуну, не был осуществлен. Конечно, идеи автора “Византизма и славянства” не могли не казаться чиновникам-прагматикам чересчур фантастичными. Могли бы они вообще быть осуществимы? Конечно, бессмысленно рассуждать о прошлом в сослагательном наклонении, но отрицать саму возможность реализации леонтьевской программы, нам кажется, не стоит, тем более, что некоторые ее элементы (правда без всякого непосредственного влияния их автора) нашли свое воплощение в практике так называемых тоталитарных режимов в Европе и СССР. Ю.П. Иваск, скажем, полагает, что проект “социалистической монархии”, в принципе “мог бы быть осуществлен, но — императором- преобразователем ростом с Петра Великого! Новые великие реформы могли бы предотвратить революцию; и для этого не нужно было бы созывать Думы; такая контрреволюция сверху вырвала бы инициативу у интеллигенции” (64). Так или иначе, но, безусловно прав В.В. Бородаевский, отмечавший, что “в громоздкой колеснице русской реакции Леонтьев был, в сущности, пятым колесом” (65). Можно также согласиться и с А.Л. Яновым в том, что “ярчайший из интеллектов, которым когда-либо располагало среди своих адептов русское самодержавие оказался ему не нужен” (66). В заключении леонтьевской темы хотелось бы отметить, что распространенное представление о том, что Константин Николаевич в последние годы жизни впал в полнейший пессимизм на счет будущего России (см., например, у Н.А. Бердяева: “<…> в последний период <…> он потерял веру в будущее России <…>” (67)) не соответствует действительности. Леонтьев сомневался в будущем России, это так. “Прочно ли все это только? — писал он о. Иосифу Фуделю 6 сентября 1888 г. о “реакционном” курсе правительства. — В отдельных лицах, вкусивших отраду веры, — да; — в обществе — не знаю. Сильно все-таки и прежнее противоположное течение. <…> Они (либеральные идеи. — С.С.) еще сильны сами по себе, а наши начала держатся только тем, что Правительство теперь за нас” (68). Но однозначного неверия в возможность победы “охранительных начал” у него все-таки не было. Л.А. Тихомиров вспоминает, что мыслитель рассчитывал (в 1890-1891 гг.) на, “по крайней мере, лет 25” “национальной “реакции”” и спорил со Львом Александровичем, определявшим ее срок в “лет пять-шесть” (69). А в одном из поздних писем (Розанову, 13 июня 1891 г.) Леонтьев уверенно утверждает: “Ну, а ряд блестящих торжеств еще будет у России бесспорно в ближайшем будущем” (70). Другое дело, что Константин Николаевич предполагал и другие, катастрофические варианты будущего, но на их скорой неизбежности он не настаивал никогда. Если уж кто и отличался среди традиционалистов действительно устойчивым и, порой, беспросветным пессимизмом, так это Л.А. Тихомиров. Оптимистический настрой держался у него только в период царствования Александра III, которое он даже и незадолго до смерти вспоминал как эпоху, “когда вспыхнуло национальное чувство, которое указывало прогресс и благо в укреплении и развитии <…> исторических основ. Остатки прежнего, антинационального, европейского, каким оно себя считало, были еще очень могущественны, но, казалось, шаг за шагом отступали перед новым, национальным” (71). Но уже смерть Александра III повергла Льва Александровича прямо-таки в панику. “Тоска ужасная…записал он в дневнике 11 октября 1894 г. — В какую переломную, ни на чем не утвердившуюся минуту отнимает у нас Господь эту твердую руку. За 13 лет все успокоилось, т. е. затихло, все прониклось доверием к прочности существующего порядка. <…> В таком спокойствии за последние 5-6 лет начинало уже кое-что и расти, но это самые ничтожные ростки. Уничтожить их легко. <…> Ничего хорошего не чувствуется мне. Россия очень мало воспользовалась временем. <…> Это время <…> было ужасно коротко <…>остатки прошлого либерально-революционного пережили 13 лет, тихо и без успехов, но в строжайшей замкнутости и дисциплине сохранили все позиции <…> Теперь все зависит от наследника. Положит ему Бог взять верный тон, — может все хорошо сложиться. Но малейший ложный шаг, с самого начала, может воскресить 70-80-е годы” (72). Дальнейшие события, однако, давали Тихомирову в основном поводы для жалоб: “какое печальное положение России. Мы (журналисты. — С.С.) только отражаем как солнце в малой капле вод общую роковую черту. Как бы она, действительно, не оказалась роковою: неспособность правительства отличить умного от глупого, или даже какая-то склонность к глупому. Ни одного удачного назначения. <…> Раздолье при том всем <…> интригам. Не худо и врагам правительства!.” (73) Мыслитель горько сетует на свою невостребованность государством: “<…> Вне интересов отечества именно те, кто только и служит Государю и отечеству. <…> Будь ты хоть великим публицистом <…> все останешься вне государства, вне его внимания. Это очень обидно, и не за себя, а за государство. Так оно само разводит нигилистов.<…> Служба вольная, добровольная, бескорыстная — не понимается у нас. <…> Моя писательская судьба будет служить упеком современной России — не умела она мною воспользоваться” (74). Уже 28 февраля 1897 г. Тихомиров констатирует начало контрнаступления либералов: “В России происходит какая-то чепуха. Все либеральные точки зрения не то, что зашевелились, а прямо-таки объявились целиком, как трава из-под снега. Царствования Александра III совершенно будто не бывало”. А 10 октября того же года он даже доходит до утверждения, что “по здравому рассуждению, Россия как страна Православная и Самодержавная, — почти уже упразднена” (75). Отношение к Николаю II у него в это время пока, в целом, положительное, но при этом он отмечает, что, “если Государь лично стоит на почве старой формулы “самодержавие, православие и народность” <…>, то в министерствах <…> хаос и чисто личные мелкие интриги. <…> обступили чиновники трон и делают, что угодно” (76). В 1899 г. Лев Александрович фиксирует свои контакты с новым министром внутренних дел Д.С. Сипягиным, читавшим и одобрившем тихомировскую статью “Царский суд в России”, и просившим выслать ему “Единоличную власть…” (77) Но в большинстве случаев министры удостаиваются со стороны мыслителя весьма нелицеприятной критики, а то и попросту ругани. Скажем, к С.Ю. Витте применены следующие эпитеты: “одесский разночинец”, “позор правительства”, “похуже дурака” (78). Подобно А.А. Кирееву, Тихомиров был поражен силой и успехом студенческих волнений 1899 г.: “<…> Изумительно как Правительство ухитрилось расшатать Россию в какиенибудь 4 года. <…> Теперь я бы кажется не удивился никакому перевороту. Нигде не видно ни искры движения к силе и прочности власти. Эта студенческая история обнаружила такое невероятное анархическое состояние правительства и такую энергию <…> заговорщиков, что страх берет за будущее. <…> Это такая “проба пера”, это такое торжество их и такое поражение Правительства, что, конечно, дело скоро возобновится. Интересно знать, что будет через 3-4 года? Прямо плакать хочется, глядя на все это. И не единого крупного человека в лагере монархии. Победоносцев — стар как дуб Мамврийский… И больше — хоть шаром покати. Что такое Витте, Знает ли он и сам то? Ему лишь бы роль играть, а <…> совершенно безразлично — при каком строе. Но только принципов у него не видно и на грош медный” (79). 25 июня 1899 г. у Льва Александровича исторгается настоящий вопль отчаяния: “Ни успеха, ни борьбы, ни развития, ни даже просто людей. Стоило сойти со сцены 5-и человекам — и все прахом пошло. Кончина Александра Третьего было кончиной всего движения, хотя ведь, в сущности, он ему ничем особенно не способствовал, кроме того, что при нем все противное чувствовало себя обескураженным, а все православнорусское знало, что Царь ему сочувствует. <…> И вот через 4-5 лет России снова узнать нельзя. Полезла из щелей какая-то тля, гниль. <…> Мы никогда не были господствующими, мы были меньшинством, но мы гордились своими людьми, мы работали… Ведь у нас был цвет. Император Александр Александрович, Победоносцев, Епископ Никанор [(Бровкович)], Епископ Феофан [(Говоров) (Затворник Вышенский)] , К.Н. Леонтьев, Говоруха-[Отрок], Астафьев и цела куча возбуждающих ожиданий и надежд… Теперь ничего, все вымерло, вся работа прекратилась и стала даже невозможной. Даже литературные органы исчезли” (80). В июле того же года в том же духе: “Тяжело служить безнадежному делу, а его безнадежность мне становится все очевиднее. Православие тает как свечка. <…> О монархии — трудно даже говорить. Одна форма, которой дух и содержание все более затемняется для всех. О народности уж и вовсе невозможно упомянуть. Где она? <…> А между тем — не могу же я потерять знание. Не могу я не видеть, что монархия (как она должна быть) есть высшая форма государственности. Не могу я не верить в Бога…” (81) Все самые худшие прогнозы автора “Монархической государственности” полностью подтвердились и 31 декабря 1904 г. он был вынужден зафиксировать, что “монархия, соорганизованная Александром III, распалась вдребезги и обнаружила свою полную несостоятельность” (82). А 13 января 1914 г. мыслитель признал, что “было бы стыдно поддерживать власть, явно ничтожную, чуждую мельчайших признаков идеального, а потому способную только гнить и развращать народ” (83). Впрочем, Тихомиров разочаровался не только во власти, но и в русском обществе. В письме Ф.Д. Самарину от 9 августа 1911 г. он с горечью констатирует, что “победа <…> революции была совершенно неизбежна с той минуты, когда исчезла крепкая рука, ей не дозволявшая подняться, ибо в самом русском обществе все принципиальные и идеальные основы православной монархии — так бледны, что оно не в состоянии дать отпора никакому врагу” (84). Довольно много на разбираемую нами ему писал и В.В. Розанов, в 1890-е гг. постоянный автор большинства традиционалистских изданий, от “Московских ведомостей” до “Русского труда”. В 1896 г. Василий Васильевич, со свойственной ему резкостью, печатно заявил: “Быть предателем в России — это значит всего достигнуть, во всем успеть; быть православным не по метрике только, монархистом — и притом вслух, это значит быть выброшенным за борт текущей жизни, остаться без приюта, в нужде и чуть не на голодную смерть <…> “Монархия”, православие…это — тайна, которую их прозелиты в России могут передавать друг другу только шопотом <…>” (85). Слова мыслителя основывались в том числе на его личном горьком опыте. В 1895 г. из июльской книжки “Русского вестника” была вырезана вполне благонамеренная розановская статья “О подразумеваемом смысле нашей монархии”, содержавшая, правда, критику российской бюрократии. Переиздавая ее в 1912 г. Василий Васильевич привел слова Победоносцева по поводу этого инцидента: “Все рассуждения ваши правы, — но вы знаете наше общество, готовое все поднять на зубок. Что вы говорите серьезно и с желанием принести пользу — того не заметят, а что вы приводите как примеры смешного и глупого — подхватят, разнесут, и предадут смеху то самое, что вы чтите”… “механизм падения монархии вы правильно указываете, но не берите наши дела в пример, а объясняйте этот механизм этого падения на западных государствах” (86). Ноты пессимизма также не редки у Розанова: “Милый друг, я думаю — нам остается только умереть. России, которую мы защищаем, которую любим, ради которой “боролись с Западом” — ей остается только умереть” (87). Весьма характерно его письмо Тихомирову, написанное незадолго до разрыва будущего автора “Опавших листьев” с традиционалистским лагерем (дата точно не определена, скорее всего — 1897 г.): “<…> Консервативные идеи запакощены, и кто им хочет служить — должен их реабилитировать. <…> свободный, не связанный, не обязательный консерватизм есть последняя почти карта, которая ему остается почти в проигранной исторической игре. Если найдутся 2-1 [нрзб.], которые остаются православные, остаются монархисты и преданы “свято-отеческой” старине” по неоспоримо свободному соизволению сердца — еще значит игра не кончена, карты нечего бросать<…> Вот почему, думается, мы должны сражаться совершенно в разброде, в одиночку; даже замешиваясь в ряды противников; и образовать за невозможностью стоять “стенкой” — так сказать бродячие консервативные идеи, блуждающие мысли, — которые теперь или позже, в том или ином чутком человеке заронят семя консервативного созерцания. Администрация — сплошь вся либеральна или радикальна; пресса — тоже. Вы ругаете Влад[имира] Соловьева: но ведь он еще верует в Бога <…>; а между тем, в 99% общества и прессы и самое имя Божие есть [нрзб.] Положение гораздо худшее, чем <…> было в 70-х годах; тогда и в радикализме было что-то русское. <…> те хоть литературу русскую любили, хоть уголки русской действительности… теперь — ничего русского. Просто (иногда думается) — Россия проваливается как какое-то пустое место <…> И значит — тут Бог <…> Администрация, Победоносцев, [С.А.]Рачинский — но где же тут жизнь? <…> Их бездеятельность, их апатия — поразительны. После Государя, Победоносцев был первым человеком в империи и не сказал, не указал тому же Фуделю: “соберите все напечатанное К.Леонтьевым — и представьте мне”, — “напечатайте”, ”вот 2000 на типографические расходы”. Это чорт знает, что за консерваторы <…> консерватизм (не в идеях, а в людях) опостылел мне: переболела моя душа от них, возненавидел я их за <…> их способы служить консерватизму” (88). Уже отойдя от традиционалистских кругов, Розанов в 1900 г. абсолютно точно констатировал: “<…> умер наш журнальный консерватизм” (89). Действительно, к этому времени перестал выходить (последний номер — № 5 за 1897г.), без сомнения, лучший традиционалистский журнал “Русское обозрение”, по словам Тихомирова, “первый в России журнал, поставивший себе задачу быть органом “русского православного общества”” (90). В РО писали практически все “золотые перья” всех направлений православно-монархического лагеря: Победоносцев и Шарапов, Грингмут и Страхов, Рачинский и Киреев, но ядром его были молодые друзья Леонтьева — Александров (издатель-редактор), Фудель, Розанов, а главным идеологом являлся, безусловно, Тихомиров. Поэтому традиционализм РО носил преимущественно творческий характер. В том же духе велось и другое александровское издание — газета “Русское слово”. Однако, будучи хорошим редактором, Александров оказался никудышным издателем и, кроме того, не вполне чистоплотным дельцом, присвоившим казенные деньги, что оттолкнуло от него таких высокопоставленных покровителей, как Победоносцев и Филиппов. Цензор М.П. Соловьев писал 6 апреля 1898 г. Розанову, пытавшемуся выгородить Анатолия Александровича: “Этот нечесаный и грязный господин воспользовался 35 т[ысячами] царских денег <…> Жалею, если по недобросовестности и неспособности А[лександро]ва прекратится Р.О., но помогать царскими деньгами такому субъекту нельзя <…>” (91). И вместо того, чтобы постараться найти для РО нового издателя, правительство вовсе перестало финансировать журнал, который без субсидии “сверху” (как и большинство традиционалистских изданий, не пользовавшихся особой популярностью у читательской публики) не мог существовать и был продан за долги за 13 рублей. Такая же участь, но годом раньше постигла и “Русское слово”. По иронии судьбы, Победоносцев настоял на передаче газеты И.Д. Сытину (92), сделавшему из нее в начале ХХ в. передовой орган русского либерализма, где не раз крепким словом будет помянут Константин Петрович. Самодержавию в конце XIX в. творческий традиционализм оказался не нужен ни в каком из его вариантов: ни в позднеславянофильском, ни в леонтьевском, ни в тихомировском. Ему вообще не нужна была какая-то “заумная” теория, он вполне удовлетворялся оппортунистическим эмпиризмом Каткова и апологией застоя Победоносцева. Последний, как уже не раз отмечалось, на дух не переносил всяких умствований по поводу принципов Православия и монархии. В одном из писем Александрову он резко осуждал московских традиционалистов: “Москва — город идеалистов, не знающих жизни и людей, и метающих свои отвлеченные мысли в ту или другую сторону. Смешно бывает, что таким же отвлечением судят они о Петербурге, об его учреждениях и людях. <…> И от московских консерваторов, иной раз, горше приходится, чем от либералов” (93). Именно по личной инициативе обер-прокурора были прекращены чересчур смелые, на его взгляд, традиционалистские газеты “Русский курьер” и “Восток”, а “Современным известиям” Н.П. Гилярова-Платонова запретили розничную продажу (94). Как точно заметил в 1898 г. Тихомиров, высшие чиновники империи “боятся обрезаться “острыми бритвами”, боятся таланта и “слишком горячего” убеждения. Они сами подрывают все плоды своей личной деятельности, прибегая чуть не систематически к более, как им кажется, безопасным “тупым бритвам”. В результате, умный постепенно заменяется бездарностью” (95). Считая себя единственными полномочными хранителями традиции, консерваторы, стоявшие у власти, возможно сами не заметили, как убивали дух творчества, без которого традиция превращается в мертвую форму. В конечном счете, самодержавие оказалось к началу ХХ в. без продуманной для себя и привлекательной для общества идеологии, что не в последнюю очередь способствовало его крушению. Список литературы 1. Янов А.Л. Трагедия великого мыслителя // Вопросы философии. 1992. № 1. С. 87. 2. НИОР РГБ. Ф. 126. К. 8. Л. 91об. 3. РО. 1897. № 12. С. 473. 4. Письма русских писателей к А.С. Суворину. Л., 1927. С. 13,19. 5. НИОР РГБ. Ф. 265. К. 181. Ед. хр. 14. Л. 98об. 6. Исторический вестник. 1916. № 9. С. 702. 7. Феоктистов Е.М. За кулисами политики и литературы. М., 1991. С. 197-199, 201. 8. НИОР РГБ. Ф. 126. К. 10. Л. 211об. 9. Там же. Ф. 230. К. 4407. Ед. хр. 4. Л. 6-6 об. 10. ИП. С. 260. 11. ГАРФ. Ф. 730. Оп.1.Ед.хр.161. Л. 5. 12. Там же. Ед. хр. 2258. Л. 17-18. 13. Русский архив. 1913. Кн. 1.(1-2). С. 104. 14. НИОР РГБ. Ф. 265. К. 181. Ед. хр. 14. Л. 118. 15. Русский архив… С. 188; НИОР РГБ. К. 8337а. Ед. хр. 8. Л. 11. 16. Зайончковский П.А. Попытка созыва Земского собора и падение министерства Н.П. Игнатьева // История СССР. 1960. № 5. С. 43-61. 17. НИОР РГБ. Ф. 230. К. 4410. Ед. хр. 1. Л.133. 18. См.: Цимбаев Н.И. И.С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России. М., 1978. С. 255. 19. Письма русских писателей к А.С. Суворину… С. 17. 20. НИОР РГБ. Ф. 126. К. 8. Л.235. 21. Там же. К. 9. Л.171. 22. Там же. К. 11. Л. 330об.; К. 9. Л. 280об. 23. Там же. К. 9. Л. 141. 24. Там же. Л. 165об. 25. Там же. Л. 143. 26. Там же. К. 10. Л. 66. 27. Там же. К. 9. Л. 221об. 28. Там же. Л. 281об. 29. Там же. К. 11. Л. 12а. 30. Там же. Л. 190об., 192. 31. Там же. Л. 193-193об. 32. Там же. Л. 195. 33. Там же. Л. 330об. 34. Там же. К. 12. Л. 25, 226, 73-73об. 35. Там же. Л. 73об.-74. 36. Там же. Л. 99об. 37. Там же. Л. 230об. 38. Там же. Л. 236-236 об. 39. Там же. Л. 248об. 40. Там же. К. 13. Л. 49об.-50. 41. Там же. Л. 51-51об. 42. Там же. Л. 58об.-60. 43. Там же. Л. 52об. 44. См. нашу публикацию фрагментов дневника Киреева за 1901-1907 гг.: “Впереди — еще много порубленных саблями…” Закат империи: взгляд “справа” // Хранить вечно. Спец. приложение к “НГ”. № 1(11), 29 апреля 2001 г. С. 13. 45. См. его записку на имя Александра III “О положении русской печати вообще и “Русского дела”, в частности” // РГАЛИ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 2. 46. ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Ед. хр. 4180. Л. 14-15, 20-21. 47. Литературная учеба. 2000. Кн. 4. С. 127, 133. 48. ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Ед. хр. 1511. Л. 1об. 49. “Звезды у меня нет”. Константин Леонтьев и его покровители. (Публикация С.М. Сергеева) // Хранить вечно. № 2(10), 1 декабря 2000. С. 2. 50. ВРС. С. 620. 51. Там же. С. 622. 52. Там же. С. 566, 675. 53. Письма к Розанову. С. 76-77. 54. Русская литература. 2001. № 2. С. 151. 55. РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 25. Л.1. 56. Там же. Оп.3. Ед. хр. 5. Л.1. 57. ИП. С. 460. 58. Русская литература. С. 157. 59. РО. 1897. № 5. С. 420. 60. ИП. С. 561. 61. Там же. С. 299. 62. Коноплянцев А. Жизнь К.Н. Леонтьева в связи с развитием его миросозерцания // Памяти К.Н. Леонтьева. СПб., 1911. С. 125. 63. НИОР РГБ. Ф. 126. К. 3323. Ед. хр. 21. Л. 21об. 64. Иваск Ю.П. Константин Леонтьев // Proetcontra. Кн. 2. СПб., 1995. С. 520. 65. Бородаевский В. О религиозной правде Константина Леонтьева // Там же. Кн.1. С. 261. 66. Янов А.Л. Славянофилы и Константин Леонтьев // Вопросы философии. 1969. № 8. С. 106. 67. Бердяев Н.А. Константин Леонтьев // Proetcontra. Кн. 2. С. 178. 68. РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 50об. 69. Тихомиров Л.А. Тени прошлого. К.Н. Леонтьев // Литературная учеба. 1992. № 1-23. С. 141. 70. Письма к Розанову. С. 77. 71. Тихомиров Л.А. Тени прошлого… С. 141. 72. Воспоминания Льва Тихомирова. М.-Л., 1927. С. 424-425. 73. ГАРФ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 24об.-25. 74. Там же. Л. 47-48, 81. 75. Там же. Л. 89об.- 90,101. 76. Там же. Л. 114,151. 77. Там же. Л. 186 –186об., 209об. 78. Там же. Л. 215. 79. Там же. Л. 229-230. 80. Там же. Ед.хр.7. Л. 26об.-28. 81. Там же. Л. 37-37об. 82. Цит. по: Костылев В.Н. Лев Тихомиров на службе царизма: Автореф. …канд. ист. наук. М., 1986. С. 19. 83. Там же. С. 25. 84. Христианство и политика. С. 604. 85. Розанов В.В. Кто истинный виновник этого? // РО. 1896. № 8. С. 652-653. 86. Он же. О подразумеваемом смысле нашей монархии. СПб., 1912. С. 15. 87. Он же. Кому “горе от ума” в действительной жизни? // Русское слово. 1896. № 48, 19 февраля. С.1. 88. Христианство и политика. С. 613-614. 89. Розанов В.В. Судьбы нашего журнального консерватизма // Новое время. 1900, 30 июня (13 июля). С. 2. 90. ГАРФ. Ф. 1099. Оп. 1. Ед. хр. 2725. Л. 3. 91. НИОР РГБ. Ф. 249. К. 4208. Ед. хр. 3. Л. 3об.- 4. 92. ГАРФ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 20-20об.; Ед. хр. 6. Л. 110об. 93. РГАЛИ. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 5. Л. 19. 94. Литературное наследство. Т. 22-24. М., 1935. С. 503. 95. Христианство и политика. С. 325.