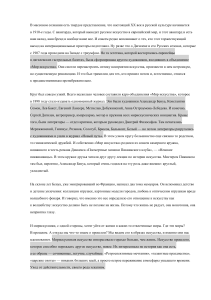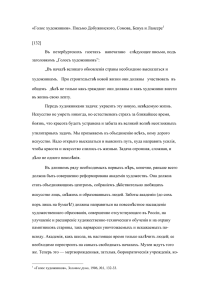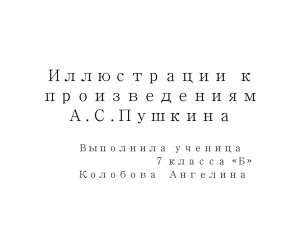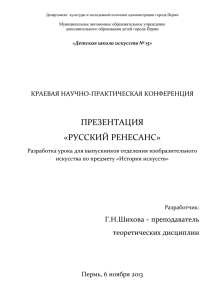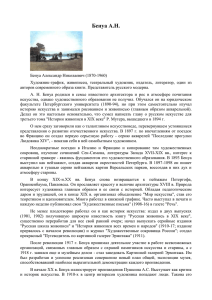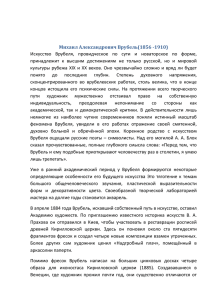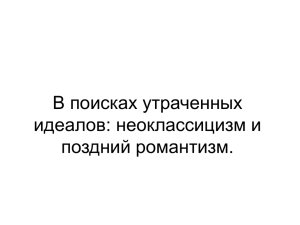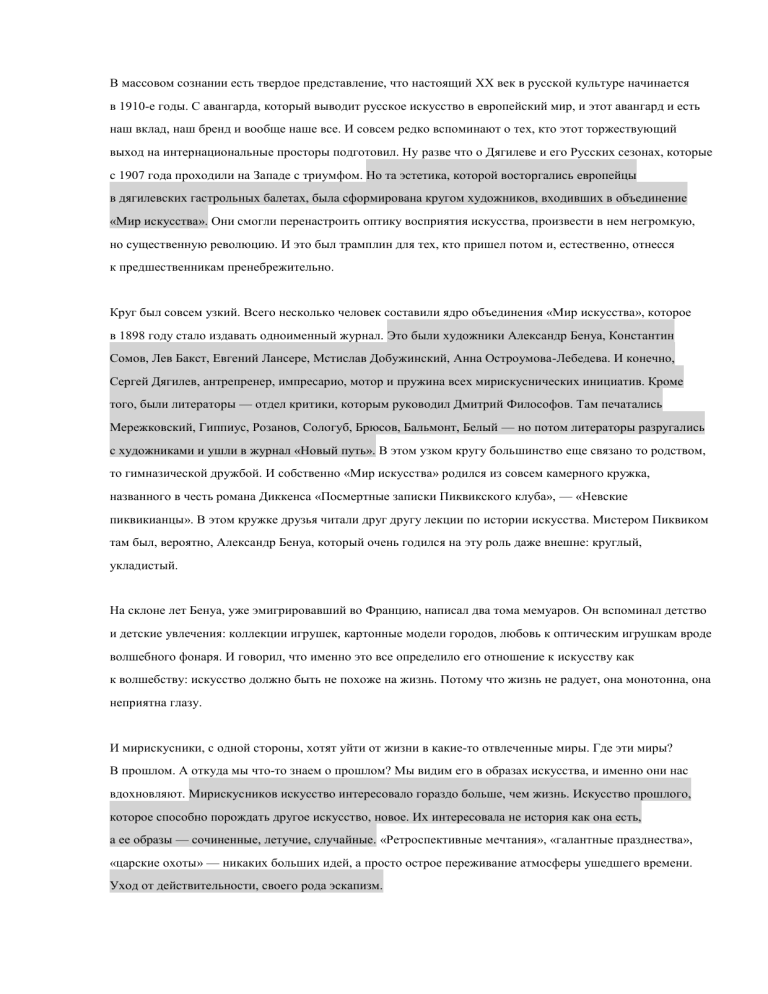
В массовом сознании есть твердое представление, что настоящий ХХ век в русской культуре начинается в 1910-е годы. С авангарда, который выводит русское искусство в европейский мир, и этот авангард и есть наш вклад, наш бренд и вообще наше все. И совсем редко вспоминают о тех, кто этот торжествующий выход на интернациональные просторы подготовил. Ну разве что о Дягилеве и его Русских сезонах, которые с 1907 года проходили на Западе с триумфом. Но та эстетика, которой восторгались европейцы в дягилевских гастрольных балетах, была сформирована кругом художников, входивших в объединение «Мир искусства». Они смогли перенастроить оптику восприятия искусства, произвести в нем негромкую, но существенную революцию. И это был трамплин для тех, кто пришел потом и, естественно, отнесся к предшественникам пренебрежительно. Круг был совсем узкий. Всего несколько человек составили ядро объединения «Мир искусства», которое в 1898 году стало издавать одноименный журнал. Это были художники Александр Бенуа, Константин Сомов, Лев Бакст, Евгений Лансере, Мстислав Добужинский, Анна Остроумова-Лебедева. И конечно, Сергей Дягилев, антрепренер, импресарио, мотор и пружина всех мирискуснических инициатив. Кроме того, были литераторы — отдел критики, которым руководил Дмитрий Философов. Там печатались Мережковский, Гиппиус, Розанов, Сологуб, Брюсов, Бальмонт, Белый — но потом литераторы разругались с художниками и ушли в журнал «Новый путь». В этом узком кругу большинство еще связано то родством, то гимназической дружбой. И собственно «Мир искусства» родился из совсем камерного кружка, названного в честь романа Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба», — «Невские пиквикианцы». В этом кружке друзья читали друг другу лекции по истории искусства. Мистером Пиквиком там был, вероятно, Александр Бенуа, который очень годился на эту роль даже внешне: круглый, укладистый. На склоне лет Бенуа, уже эмигрировавший во Францию, написал два тома мемуаров. Он вспоминал детство и детские увлечения: коллекции игрушек, картонные модели городов, любовь к оптическим игрушкам вроде волшебного фонаря. И говорил, что именно это все определило его отношение к искусству как к волшебству: искусство должно быть не похоже на жизнь. Потому что жизнь не радует, она монотонна, она неприятна глазу. И мирискусники, с одной стороны, хотят уйти от жизни в какие-то отвлеченные миры. Где эти миры? В прошлом. А откуда мы что-то знаем о прошлом? Мы видим его в образах искусства, и именно они нас вдохновляют. Мирискусников искусство интересовало гораздо больше, чем жизнь. Искусство прошлого, которое способно порождать другое искусство, новое. Их интересовала не история как она есть, а ее образы — сочиненные, летучие, случайные. «Ретроспективные мечтания», «галантные празднества», «царские охоты» — никаких больших идей, а просто острое переживание атмосферы ушедшего времени. Уход от действительности, своего рода эскапизм. Но, с другой стороны, этот непривлекательный, рутинный современный мир можно ведь и переделать, переформатировать, сделать его иным для глаза, для визуального восприятия. Спасти красотой: то есть изменить интерьеры, книги, здания, одежду. Чтобы не только искусство, но и повседневный быт стал другим. Такая получается парадоксальная комбинация эскапизма с реформаторством и дизайнерством. И надо сказать, что эта грандиозная задача — ни много ни мало как изменить вкус целой эпохи — этим нескольким людям во многом удалась. Буквально через 10 лет русская публика, до того воспитанная на повествовательных картинах с внятным сюжетом — передвижнических или академических, — оказалась готова принять русский авангард. Теперь поговорим о том, в каких областях мирискусники особенно преуспели. Они, например, совершенно изменили облик театра, особенно музыкального. До них художнику в русском театре делать было просто нечего: все декорации брались, что называется, «из подбора», то есть из числа заранее готовых стандартных декораций: вот это для любого спектакля из средневековой жизни, а это — для любого из египетской. Мирискусники работали с каждым спектаклем индивидуально, с реставраторской точностью. Благодаря им художник в театре сделался фигурой, равной режиссеру, — Бенуа даже сам писал либретто. А еще они полностью изменили облик иллюстрированной книги. Раньше в таких книгах иллюстрации заказывались разным художникам и стилистически спорили друг с другом внутри книжного блока. Мирискусники выдвинули и воплотили идею книги как единого целого: изображение должно быть увязано с текстом, все виньетки и заставки должны работать на общую стилистику, художник выступает как режиссер и декоратор целостного зрелища. Впервые эта идея синтеза была осуществлена в издаваемом ими журнале «Мир искусства», речь о котором впереди. Всего сделанного мирискусниками не перечислить: там было много «микрореволюций». Но еще об одном интересно напомнить: ведь это они определили наше сегодняшнее восприятие Петербурга; в 1903 году праздновалось его двухсотлетие, и стилистика праздника во многом была подготовлена мирискусническими усилиями по изменению имиджа столицы. До них Петербург вообще не считался красивым городом. У него было два публичных образа — один неприятнее другого. С одной стороны, это был образ города казенного, чиновного — в противовес живой, фрондирующей, более разнообразной и свободной Москве. С другой стороны, это был город Достоевского: город дворов-колодцев и вечных сумерек. Все это изменилось усилиями мирискусников — отчасти Мстислава Добужинского и главным образом Анны ОстроумовойЛебедевой. Есть такая расхожая фраза, что русскую природу придумали Саврасов, а потом Левитан: до них ее не существовало как объекта для зрения. Так вот, можно сказать, что Петербург придумала ОстроумоваЛебедева. » И характерно, что она сделала это в гравюрах. Мирискусники еще и возродили графику как самостоятельное искусство. В России графика была подсобной: сводилась к этюдам и эскизам для картин, а на выставочную самостоятельность почти не претендовала. И графика, печатавшаяся в журналах, часто не была сделана специально, а сводилась к репродукциям живописных картин. А мирискусники возродили не только уникальную графику, авторский рисунок, но и графику тиражную, в частности ОстроумоваЛебедева занималась цветной гравюрой на дереве и отталкивалась от японских гравюр, которые в России мало кто знал. Ядро «Мира искусства» составляли, конечно, разные художники. Но какая-тообщая поэтика, их объединяющая, тем не менее была. Квинтэссенция этой поэтики — в творчестве Александра Бенуа и Константина Сомова. Любимые эпохи Бенуа — это в основном Франция XVII века, царствование Людовика XIV и Россия екатерининского и павловского времени. «Версальская серия» и цикл «Последние прогулки Людовика XIV» Бенуа — это сочиненный, хрупкий марионеточный мир. Важно, что это и не масляная живопись, а гуаши на бумаге: нет живописной плотности, беспрекословности, натурной обязательности. Это не исторические картины, а исторические картинки. Что такое историческая картина, например, в духе Сурикова? Это какаято идея о смысле истории, спрессованном в конкретном событии. А если бы художник «Мира искусства» писал «Утро стрелецкой казни», он, вполне возможно, смотрел бы не на стрельцов или на Петра, а на пролетающую мимо сороку. Исторические жанры у Бенуа — это всегда случайно выхваченный фрагмент, в котором нет главного события, а вместо него только воздух истории. Та же острота и случайность ракурсов есть в «Царских охотах» Валентина Серова и в его гуаши «Петр I». Здесь гротескные фигуры огромного Петра и скорчившихся придворных на фоне условных «пустынных волн» сочетают иронию с чувством исторического масштаба. Серов не случайно входил в правление «Мира искусства» — единственный из москвичей: они хорошо понимали друг друга. В отличие от Бенуа, который вдохновлялся конкретной историей, Сомов в своих стилизациях воспроизводил некий условный галантный век — XVII или XVIII, неважно. Маркизы с кавалерами, арлекины и другие герои итальянской комедии дель арте, маскарады, спящие или грезящие «дамы прошедшего времени». Насмешки здесь больше, чем растроганности или печали по утраченному. Но печаль тоже есть — только это печаль не по утраченному, а по недостижимому: по тому, что принадлежит не жизни, а искусству. И постоянная его тема — тема того, что вспыхнет и сейчас же исчезнет: радуга, фейерверк, костер. Конец праздника, всегда краткого, как вспышка. Современники считали главной картиной Сомова «Даму в голубом» — портрет художницы Елизаветы Мартыновой, написанный незадолго до ее смерти от чахотки. Печальная девушка в муаровом платье по моде сороковых годов XIX века стоит с книгой, за ее спиной в сильном удалении — книжное видение: кавалер и дама флиртуют на скамейке, а мимо проходит фланер с тросточкой, похожий на самого художника. Картина о тщетности романтических порывов в прозаическом мире: именно так ее восприняли первые зрители. Среди мирискусников были и вовсе чуждые ностальгии. Например, Леон Бакст — он главным образом реализовался как художник дягилевских Русских сезонов. От его костюмов для балетных спектаклей потом отталкивались кутюрье всех модных домов Парижа — Пакен, Пуаре, Ворт, далее везде. Или Добужинский — он, в отличие от товарищей, станет работать не в музыкальном, а в драматическом театре, в МХТ со Станиславским. И сделает там несколько спектаклей, из которых особенно замечательны два. Один, «Месяц в деревне» по Тургеневу, — спектакль мирискуснический, антикварский. Другой, «Николай Ставрогин» по Достоевскому, — спектакль мрачный и вполне символистский. Вообще Добужинскому не чужд символистский вкус, а среди его поздних работ есть даже абстракции. Гуаши Добужинского и ксилографии Остроумовой с видами Петербурга распространялись в открытках, выпускаемых Общиной святой Евгении. Выпуск открыток — еще одна важная часть мирискуснической программы. Открытки — искусство массовое, многотиражное, сувенирное. А мирискусники принципиально не устанавливали дистанции между искусством массовым и искусством высоким. Вообще в мирискусниках реализовался совершенно новый для России тип художников. Во-первых, они дилетанты. Кто-то не доучился в Академии художеств, кто-то немного походил вольнослушателем по парижским частным студиям. Но практически все и отовсюду сбегали, потому что им было скучно нормативное рисование и нормативное образование. Во-вторых, все они интеллектуалы — что тоже русским художникам в массе тогда было совершенно не свойственно. Они читающие люди, они знают языки, они космополиты по устремлениям, они меломаны и устраивают вечера современной музыки при журнале «Мир искусства». В-третьих, они все буржуа. Вообще традиционно буржуазный образ жизни противопоставлялся образу художника — романтическому образу, — а мирискусники на нем настаивают. Притом что все они разного происхождения: Бенуа из дворянской семьи с французскими корнями, Сомов — сын главного хранителя Эрмитажа, то есть из интеллигентной профессорской семьи. А, скажем, Бакст — еврей из Гродно, и это совершенно никому не мешает: они все говорят на одном языке, и манера поведения у них общая. И в этой манере поведения есть один очень важный оттенок. Вся вторая половина XIX века в русском искусстве, условно передвижническая половина, основывается на пафосе долга. Художник всегда оказывается обязан: народу, обществу, культуре — кому и чему угодно. Мирискусники — это первые люди в русском искусстве, которые утверждают, что художник никому и ничего не должен. Лейтмотив их жизни, их творчества — это ода капризу и прихоти, вольному артистическому жесту. Отсюда уже совсем недалеко до вольного жеста в авангарде, но начало — здесь. Любимое слово мирискусников — «скурильность». Они любят в искусстве все скурильное и собирают скурильное. Что это такое? Это вещи, которые не обладают качеством значимости, фундаментальности. Это что-то смешное, одинокое, уязвимое, это может быть игрушка, это может быть какой-нибудь мещанский коврик. Этот культ необязательности — тоже важный оттенок в их коллективной программе. Художник Игорь Грабарь писал Александру Бенуа: «Вы слишком влюблены в прошлое, чтобы хоть чтонибудь современное ценить» — и это абсолютно справедливо. Прошлое, в которое они влюблены, — это прошлое выдуманное, это мечта, это некий образ красоты, на который мы можем смотреть, как из зрительного зала в перевернутый бинокль. И в этом есть и любование, и ирония, и горечь, и жалость. И вот эти люди — с этой системой ценностей, совершенно камерного склада люди, — хотят перенаправить русскую культуру в сторону Запада и изменить устоявшиеся общественные вкусы. Для этого они издают журнал, который делается по образцу европейских журналов, пропагандирующих стиль модерн. Потому что эстетика «Мира искусства» — это именно вариант модерна. В каждой из стран этот стиль назывался по-своему: модерн, сецессион, либерти, ар-нуво, югендстиль. Проще говоря, «новый стиль». Слово «стиль» само по себе важно — оно означает озабоченность формой. В каждой стране модерн существует в собственных формах, но есть общее: формы берутся из всего культурного запаса человечества, из общей памяти. Это общее служит опорой для индивидуального, прошлое порождает настоящее. В русском искусстве, да и не только в русском, до мирискусников никакой озабоченности формой не было, только содержанием, — и стиля не было. Модерн — придуманный стиль, он не вырастает сам собой. Если говорить совсем грубо — он порожден промышленной революцией. Машинное производство одинаковых вещей и одинаковых образов жизни вызывает психологическое и эстетическое отторжение. И первая идея модерна — это идея ручного труда. Сначала в Англии возникло так называемое Движение искусств и ремесел под началом литератора, издателя и художника Уильяма Морриса. А затем в разных странах появились его филиалы. У них была двойная идея. Во-первых, сделать вещи красивыми, индивидуальные вещи, а не конвейерные. А во-вторых, объединить ремесленников в деле производства этих вещей. Ранний модерн вообще очень связан с социалистическими идеями. Таким образом, ранний европейский модерн был двунаправленным. С одной стороны — архаический, реставрационный вектор: вокруг строят гигантские фабрики, а мы вернемся назад, к ремеслу, к средневековым цехам. И одновременно он же является вектором футуристическим, потому что все это делается во имя утопического будущего. В перспективе весь мир должен быть спасен красотой и превратиться в сплошной город-солнце. Но вернемся к мирискусникам. Чтобы издавать журнал, нужны спонсоры. Кто дает им деньги? Неожиданная деталь: значительную сумму дал Николай II — потому что его попросил Валентин Серов, писавший портрет императора. Но были и два постоянных спонсора. Первый — предприниматель и меценат Савва Мамонтов, который, впрочем, к 1899 году разорился. Второй — княгиня Мария Тенишева, она будет субсидировать издание до финала. И Мамонтов, и Тенишева были инициаторами российской программы, аналогичной Движению искусств и ремесел. В своих имениях — один в Абрамцево, вторая в Талашкино — они создавали художественные мастерские. Известно, что у Мамонтова Врубель расписывал балалайки и камины — но это не было никаким неуважением к художнику, ровно наоборот. И неудивительно, что именно эти два человека поддерживают Бенуа и Дягилева. Журнал издавался шесть лет, с 1898-го по 1904-й. Среди дочерних его предприятий были и салон «Современное искусство», где торговали мебелью, фарфором и так далее, и кружок «Вечера современной музыки», и еще один журнал, «Художественные сокровища России», с тем же Бенуа в роли редактора. Устраивались выставки российского и зарубежного искусства — их было пять, а еще три устроил Дягилев до выхода журнала. Дягилев вообще был движущей силой всех инициатив — человек неуемной энергии и выдающихся организационных талантов. Среди самых громких его проектов — историческая выставка русского портрета, на которой он практически открывает публике отечественное искусство XVIII — первой половины XIX века. Дягилев сам собирал на эту выставку работы, объезжая усадьбы и буквально обольщая владельцев. В 1907 году он проводит в парижской Гранд-опера серию концертов русской музыки, и отсюда начинается история последующей более чем двадцатилетней антрепризы — знаменитых Русских сезонов. Дягилев уезжает за границу, и практическая деятельность объединения остается на Александре Бенуа, а он идеолог, но не организатор. И в «Мире искусства» наступают не лучшие времена. Но парадоксальным образом вероятность быстрого заката была заложена в самой программе сообщества. Потому что эти люди, дорожащие дружбой в собственном узком кругу, в художественной политике исповедовали предельную широту и толерантность. Они готовы были сотрудничать со всеми и привлекать в свои проекты всех. Всех, в ком видно хоть что-то живое — даже если это живое видно едва и самим мирискусникам чуждо. В первом номере журнала было много репродукций картин Васнецова, хотя среди издателей не было его поклонников и вообще «Мир искусства» выступал против передвижничества. Они были уверены, что Репин устарел, но публиковали репродукции его картин, признавая их значение. А ведь уже начинается эпоха манифестных войн, когда принято размежевываться, воевать за свой взгляд на мир и творческую оригинальность. В этих условиях идея всеобщего объединения во имя эстетической утопии становится очень уязвимой. Но в 1904 году во имя этой идеи объединения мирискусники совершают сильный жест — они отказываются от собственного бренда и входят в московский Союз русских художников. Там солируют пейзажисты саврасовско-левитановской линии, там в моде импрессионизм, петербургским художникам чуждый, — и, конечно, никакого объединения не получается. В 1910 году «Мир искусства» восстанавливает собственное имя. Но мирискусники не отказываются от идеи самого широкого сотрудничества, и теперь на их выставках можно встретить и символистов из «Голубой розы», и фрондеров из «Бубнового валета», и вообще кого угодно — вплоть до Малевича. Бенуа избегает властных полномочий, поэтому в 1910 году главой «Мира искусства» становится Николай Рерих, человек и художник совершенно иного, практически враждебного истинным мирискусникам склада. А в 1921 году объединение и вовсе возглавит Илья Машков, самый беспардонный из «бубновых валетов» — он просто узурпирует бренд. Но это будет уже посмертное существование, хотя формально «Мир искусства» будет распущен лишь в 1924 году. К тому времени из его основателей никого уже не останется в России, кроме Бенуа (он тоже вскоре эмигрирует), Лансере и Остроумовой-Лебедевой. Надо сказать, что идеологи и создатели «Мира искусства» отчасти осознавали эфемерность своей затеи. Они чувствовали наступление другой жизни и появление других людей, которые вытеснят их самих с культурного поля. Это чувство было ясно сформулировано в речи Дягилева, произнесенной еще в 1905 году. И эту вполне пророческую речь стоит привести: «Не чувствуете ли вы, что длинная галерея портретов великих и малых людей, которыми я постарался заселить великолепные залы Таврического дворца, есть лишь грандиозный и убедительный итог, подводимый блестящему, но, увы, и омертвевшему периоду нашей истории? <…> Я заслужил право сказать это громко и определенно, так как с последним дуновением летнего ветра я закончил свои долгие объезды вдоль и поперек необъятной России. И именно после этих жадных странствий я особенно убедился в том, что наступила пора итогов. Это я наблюдал не только в блестящих образах предков, так явно далеких от нас, но главным образом в доживающих свой век потомках. Конец быта здесь налицо. Глухие заколоченные майораты, страшные своим умершим великолепием дворцы, странно обитаемые сегодняшними милыми, средними, не выносящими тяжести прежних парадов людьми. Здесь доживают не люди, а доживает быт. И вот когда я совершенно убедился, что мы живем в страшную пору перелома; мы осуждены умереть, чтобы дать воскреснуть новой культуре, которая возьмет от нас то, что останется от нашей усталой мудрости. Это говорит история, то же подтверждает эстетика. И теперь, окунувшись в глубь истории художественных образов и тем став неуязвимым для упреков в крайнем художественном радикализме, я могу смело и убежденно сказать, что не ошибается тот, кто уверен, что мы — свидетели величайшего исторического момента итогов и концов во имя новой неведомой культуры, которая нами возникает, но и нас же отметет. А потому, без страха и неверия, я подымаю бокал за разрушенные стены прекрасных дворцов, так же как и за новые заветы новой эстетики». Первый манифест Филиппо Маринетти Манифест футуризма Из Италии мы провозглашаем всему миру этот наш яростный, разрушительный, зажигающий манифест. Этим манифестом мы учреждаем сегодня Футуризм, потому что хотим освободить нашу землю от зловонной гангрены профессоров, археологов, краснобаев и антикваров. Слишком долго Италия была страной старьевщиков. Мы намереваемся освободить ее от бесчисленных музеев, которые, словно множество кладбищ, покрывают ее. Музеи - кладбища!.. Музеи: абсурдные скотобойни художников и скульпторов, беспощадно убивающих друг друга ударами цвета и линии на арене стен! Раз в год паломничество в музей, подобно посещению кладбища в День поминовения усопших, - с этим можно согласиться. Положить раз в год букет цветов у портрета Джоконды - с этим я согласен… Но я против того, чтобы наши печали, наше хрупкое мужество, наша болезненная неугомонность ежедневно выводились на экскурсию по музеям. Зачем травить себя? Зачем гнить? Да и что можно увидеть в старой картине кроме вымученных потуг художника, бросающегося на барьеры, которые не позволяют ему до конца выразить свои фантазии? Млеть перед старой картиной - то же самое, что выливать эмоции в погребальную урну вместо того, чтобы дать выпустить их на простор в бешеном порыве действия и созидания. Неужели вы хотите растратить все свои лучшие силы на это вечное и пустое почитание прошлого, из которого выходишь фатально обессиленным, приниженным, побитым? Уверяю вас, что каждодневные посещения музеев, библиотек и учебных заведений (кладбищ пустых усилий, голгоф распятых мечтаний, реестров неудавшихся начинаний!) для людей искусства так же вредны, как затянувшийся надзор со стороны родителей над некоторыми молодыми людьми, опьяненными талантом и честолюбивыми желаниями. Когда будущее для них закрыто, замечательное прошлое может стать утешением для умирающего больного, слабого, пленника… Но мы не желаем иметь с прошлым ничего общего, мы, молодые и сильные футуристы! Пусть же они придут, веселые поджигатели с испачканными сажей пальцами! Вот они! Вот они!.. Давайте же, поджигайте библиотечные полки! Поверните каналы, чтобы они затопили музеи!.. Какой восторг видеть, как плывут, покачиваясь, знаменитые старые полотна, потерявшие цвет и расползшиеся!.. Берите кирки, топоры и молотки и крушите, крушите без жалости седые почтенные города! Самому старшему из нас 30 лет, так что у нас есть еще, по крайней мере, 10 лет, чтобы завершить свое дело. Когда нам будет 40, другие, более молодые и сильные, может быть, выбросят нас, как ненужные рукописи, в мусорную корзину - мы хотим, чтобы так оно и было! Они, наши преемники, выступят против нас, они придут издалека, отовсюду, пританцовывая под крылатый ритм своих первых песен, поигрывая мышцами кривых хищных лап, принюхиваясь у дверей учебных заведений, как собаки, к едкому запаху наших разлагающихся мозгов, обреченных на вечное небытие в литературных катакомбах. Но нас там не будет… Наконец они найдут нас, однажды зимней ночью, в открытом поле, под печальной крышей, по которой стучит монотонный дождь. Они увидят нас, съежившихся возле своих трясущихся аэропланов, согревающих руки у жалких маленьких костров, сложенных из наших сегодняшних книг, когда те загорятся от взлета наших фантазий. Они будут бесноваться вокруг нас, задыхаясь от презрения и тоски, а затем они все, взбешенные нашим гордым бесстрашием, набросятся, чтобы убить нас; их ненависть будут тем сильнее, чем более их сердца будут опьянены любовью к нам и восхищением. Несправедливость, сильная и здоровая, загорится в их глазах. Искусство, по существу, не может быть ничем иным, кроме как насилием, жестокостью и несправедливостью. Самому старшему из нас 30 лет. Но мы уже разбросали сокровища, тысячу сокровищ силы, любви, мужества, прозорливости и необузданной силы воли; выбросили их без сожаления, яростно, беспечно, без колебаний, не переводя дыхания и не останавливаясь… Посмотрите на нас! Мы еще полны сил! Наши сердца не знают усталости, потому что они наполнены огнем, ненавистью и скоростью!.. Вы удивлены? Это и понятно, поскольку вы даже не можете вспомнить, что когда-либо жили! Гордо расправив плечи, мы стоим на вершине мира и вновь бросаем вызов звездам! У вас есть возражения?.. Полно, мы знаем их… Мы все поняли!.. Наш тонкий коварный ум подсказывает нам, что мы - перевоплощение и продолжение наших предков. Может быть!.. Если бы это было так! Но не все ли равно? Мы не хотим понимать!.. Горе тому, кто еще хоть раз скажет нам эти постыдные слова! Манифест футуризма 1. Мы намерены воспеть любовь к опасности, привычку к энергии и бесстрашию. 2. Мужество, отвага и бунт будут основными чертами нашей поэзии. 3. До сих пор литература восхваляла задумчивую неподвижность, экстаз и сон. Мы намерены воспеть агрессивное действие, лихорадочную бессонницу, бег гонщика, смертельный прыжок, удар кулаком и пощечину. 4. Мы утверждаем, что великолепие мира обогатилось новой красотой красотой скорости. Гоночная машина, капот которой, как огнедышащие змеи, украшают большие трубы; ревущая машина, мотор которой работает как на крупной картечи, - она прекраснее, чем статуя Ники Самофракийской. 5. Мы хотим воспеть человека у руля машины, который метает копье своего духа над Землей, по ее орбите. 6. Поэт должен тратить себя без остатка, с блеском и щедростью, чтобы наполнить восторженную страсть первобытных стихий. 7. Красота может быть только в борьбе. Никакое произведение, лишенное агрессивного характера, не может быть шедевром. Поэзию надо рассматривать как яростную атаку против неведомых сил, чтобы покорить их и заставить склониться перед человеком. 8. Мы стоим на последнем рубеже столетий!.. Зачем оглядываться назад, если мы хотим сокрушить таинственные двери Невозможного? Время и Пространство умерли вчера. Мы уже живем в абсолюте, потому что мы создали вечную, вездесущую скорость. 9. Мы будем восхвалять войну - единственную гигиену мира, милитаризм, патриотизм, разрушительные действия освободителей, прекрасные идеи, за которые не жалко умереть, и презрение к женщине. 10. Мы разрушим музеи, библиотеки, учебные заведения всех типов, мы будем бороться против морализма, феминизма, против всякой оппортунистической или утилитарной трусости. 11. Мы будем воспевать огромные толпы, возбужденные работой, удовольствием и бунтом; мы будем воспевать многоцветные, многозвучные приливы революции в современных столицах;