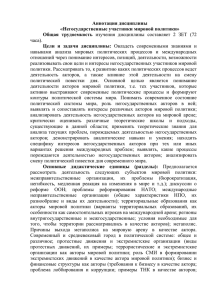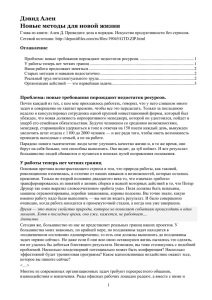Труд и классовое самосознание
реклама
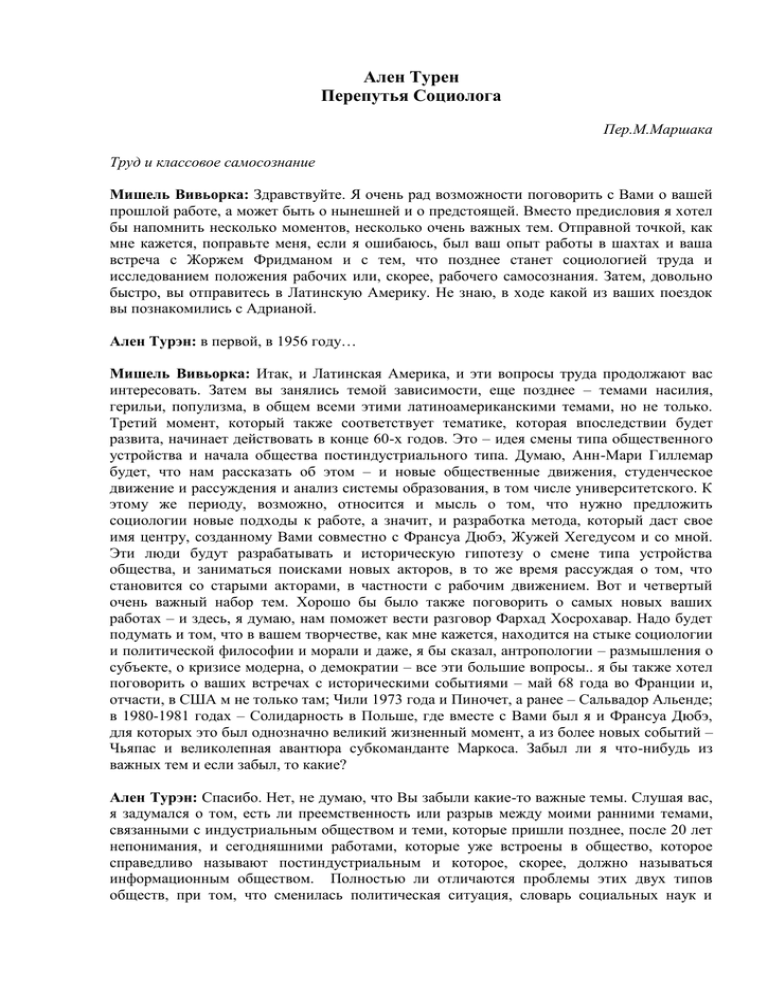
Ален Турен Перепутья Социолога Пер.М.Маршака Труд и классовое самосознание Мишель Вивьорка: Здравствуйте. Я очень рад возможности поговорить с Вами о вашей прошлой работе, а может быть о нынешней и о предстоящей. Вместо предисловия я хотел бы напомнить несколько моментов, несколько очень важных тем. Отправной точкой, как мне кажется, поправьте меня, если я ошибаюсь, был ваш опыт работы в шахтах и ваша встреча с Жоржем Фридманом и с тем, что позднее станет социологией труда и исследованием положения рабочих или, скорее, рабочего самосознания. Затем, довольно быстро, вы отправитесь в Латинскую Америку. Не знаю, в ходе какой из ваших поездок вы познакомились с Адрианой. Ален Турэн: в первой, в 1956 году… Мишель Вивьорка: Итак, и Латинская Америка, и эти вопросы труда продолжают вас интересовать. Затем вы занялись темой зависимости, еще позднее – темами насилия, герильи, популизма, в общем всеми этими латиноамериканскими темами, но не только. Третий момент, который также соответствует тематике, которая впоследствии будет развита, начинает действовать в конце 60-х годов. Это – идея смены типа общественного устройства и начала общества постиндустриального типа. Думаю, Анн-Мари Гиллемар будет, что нам рассказать об этом – и новые общественные движения, студенческое движение и рассуждения и анализ системы образования, в том числе университетского. К этому же периоду, возможно, относится и мысль о том, что нужно предложить социологии новые подходы к работе, а значит, и разработка метода, который даст свое имя центру, созданному Вами совместно с Франсуа Дюбэ, Жужей Хегедусом и со мной. Эти люди будут разрабатывать и историческую гипотезу о смене типа устройства общества, и заниматься поисками новых акторов, в то же время рассуждая о том, что становится со старыми акторами, в частности с рабочим движением. Вот и четвертый очень важный набор тем. Хорошо бы было также поговорить о самых новых ваших работах – и здесь, я думаю, нам поможет вести разговор Фархад Хосрохавар. Надо будет подумать и том, что в вашем творчестве, как мне кажется, находится на стыке социологии и политической философии и морали и даже, я бы сказал, антропологии – размышления о субъекте, о кризисе модерна, о демократии – все эти большие вопросы.. я бы также хотел поговорить о ваших встречах с историческими событиями – май 68 года во Франции и, отчасти, в США м не только там; Чили 1973 года и Пиночет, а ранее – Сальвадор Альенде; в 1980-1981 годах – Солидарность в Польше, где вместе с Вами был я и Франсуа Дюбэ, для которых это был однозначно великий жизненный момент, а из более новых событий – Чьяпас и великолепная авантюра субкоманданте Маркоса. Забыл ли я что-нибудь из важных тем и если забыл, то какие? Ален Турэн: Спасибо. Нет, не думаю, что Вы забыли какие-то важные темы. Слушая вас, я задумался о том, есть ли преемственность или разрыв между моими ранними темами, связанными с индустриальным обществом и теми, которые пришли позднее, после 20 лет непонимания, и сегодняшними работами, которые уже встроены в общество, которое справедливо называют постиндустриальным и которое, скорее, должно называться информационным обществом. Полностью ли отличаются проблемы этих двух типов обществ, при том, что сменилась политическая ситуация, словарь социальных наук и идеологии? Каждый раз, когда мне приходится возвращаться к этой истории объективно, смотря на нее со стороны, меня удивляет именно преемственность. Я хочу сказать, что начал я с вопросов труда, как вы и сказали, вместе с Жоржем Фридманом. Я совершенно не задавался вопросами, как функционирует капитализм, что означают общеэкономические кризисы и т.д. Я задавал себе вопрос: откуда происходит самосознание рабочего класса и как его объяснить. Это – то, что занимало меня в первые годы работы. Итак, если хотите, я уже тогда интересовался вопросами актора – субъекта больше, чем социальной или экономической системой. Затем, как вы уже заметили, был Чили 1956-1957 года, затем Солидарность – это были счастливые моменты. А в жизни исследователя не так много счастливых моментов… Солидарность – это, пожалуй, лучшее. Были еще моменты в 1968 году и два периода, в которые я был знаком с Маркосом. У меня было такое чувство, что я не наблюдаю за тем, как происходят исторические события, а вижу, как появляются субъекты, которые наделяют историю смыслом. И затем, начиная с 1990-х годов, я уже в большей степени сосредотачивался на философии истории или даже, если говорить, как Хосрохавар, на социальном акторе, но на личном субъекте. Книга, которая мне очень дорога – это «Сможем ли мы жить вместе?». Эта книга, которую мы создали вместе с Хосрохаваром, была трудной и важной, следующая книга, если я успею ее написать, будет посвящена женщинам. В целом, я одержим идеей, что в мире, на который чрезвычайно большое влияние, в том числе интеллектуальное, оказывают структуры и системы, - а не следует забывать, что это было в 60-х и 70-х годах, в период структурализма и постструктурализма, для которых субъект был мертв – (как) говорить о субъектах и об акторах. Итак, я вижу преемственность тем, но также, к сожалению, и преемственность в сопротивлении доминирующим направлениям, а значит и преемственность в маргинальности. В годы, когда царствовал чистый марксизм, я говорил о рабочем самосознании, а когда царствовал постструктурализм, я говорил о рождении субъектов в истории той или иной части света. И я склонен думать, что в последние несколько лет тот тип рефлексии, которым мы занимаемся, лучше подходит к духу времени и что те термины, которые я употребляю, уже не воспринимают как архаичные, неудобные или морализирующие. Я склонен думать, что все недоразумения, противостояния, сопротивления, скорее всего, постепенно и последовательно отпали. Мишель Вивьорка: я бы хотел, чтобы вы чуть более точно определили эти сопротивления, поскольку сейчас мы о них говорим достаточно спокойно, в то время как в 60-х – 70-х годах общественный климат был для вас просто ужасен. Есть еще и несколько политический вопрос, который я бы хотел вам задать, а именно: в такие моменты сильного напряжения, которые вам пришлось пережить, по-настоящему важна была интеллектуальная конъюнктура или же политическая конъюнктура, ваша интеллектуальная или профессиональная среда, с которой отношения были простыми или сложными… Короче говоря, поставьте в общий контекст ваши работы, ваши подходы, в которых, мне тоже кажется, есть большая преемственность, ведь в конце концов вы скорее на стороне Сартра, чем, например, Леви-Стросса… Ален Турэн: когда человек не играет какой-либо политической или общественной роли важна как раз та интеллектуальная среда, в которой он обитает, то есть люди, с которыми он встречается, студенты, которые соглашаются или спорят с ним, реакция на книги и статьи, которые он пишет. Здесь я несколько даю себе волю и, может быть, несколько опережаю собственную мысль. Но я думаю, что в такой стране, как Франция, те люди, которых принято называть интеллектуалами, при всей давней традиции, связанной с этим словом, все больше ассоциируются с чем-то невозможным, невыносимым. Они постепенно начали играть роль не критиков, а обвинителей. Совершенно случайно вчера я услышал, думаю, что на канале Франс-Кюльтюр, когда я ехал из аэропорта, передачу с Роланом Бартом, с которым мы были хорошо знакомы. Тон Ролана Барта, у которого всегда были твердые убеждения, был не просто вежливым тоном, но и тоном, открытым для дискуссии. Я бы сказал, что даже у Фуко, который производит впечатление еще более жесткого человека, в последних работах появились тысячи признаков этой открытости. В то время, как впоследствии складывается впечатление, - но это связано с причинами из сферы международной экономической политики периода, который называют глобализацией, или, если хотите, с конца 70-х годов, - что усиливается напряжение и что возникает своего рода разрыв, о котором, в конечном счете, я не слишком жалею, поскольку пространство этого разрыва нуждается в объяснении. Самым трудным для меня моментом был период после 68 года. Деятели 68 года, с которыми я был хорошо знаком, а с некоторыми и дружил и продолжаю дружить, ушли из Университета и после этого наступил этап, который был и этапом Альтуссера, и этапом распада. Меня поразило то, что после 68 года движение распалось. То же самое произошло и в интеллектуальной среде, то есть идеи, заимствованные у Народного фронта, антифашистского комитета 34 года, Освобождения, начали устаревать. Этот период распада был болезненным для меня. Мы все знаем по собственному опыту, что когда дела идут плохо, наступает распад, движения становятся иррациональными, агрессивными, а значит климат, в котором происходит дискуссия, становится тяжелым. К счастью, я всегда был предусмотрителен и работал не один, и всю свою жизнь я создавал исследовательские центры. Последний центр, который я основал вместе с Дюбе и с Вами – это центр мысли, в котором я всегда был счастлив, но ранее я создал другой центр, который был бункером, в котором мы защищались от нападок. Там, между прочим, собрались представители всех направлений, которые разделили со мной это тяжелое время. Теперь вернемся к моей работе. Мне трудно называть эти даты, но я стал членом CNRS в 1950 году, в тот же год, что и Эдгар Морен, а изменения произошли в 68-м. Итак, до мая 68-го года и до начала постиндустриального общества у меня было почти 20 лет работы. В этот период мы и познакомились. Анн-Мари, я не знаю, что Вы обо всем этом думаете. Анн-Мари Гиллемар: То, что оказало наибольшее влияние лично на меня – это ваши разработки теории постиндустриального общества. Как раз в это время я стала участвовать в работе вашего семинара, и для меня была даже шокирована тем, как вы понимали изменения в обществе, потому что это была все же совершенно новая разработка. Вы первым начали говорить о постиндустриальном обществе… Ален Турен: Это было достаточно ново. Не стоит забывать, что это было почти тридцать лет назад – моя книга вышла в 1969 году, а книга Дэниэла Белла – в 1972 году, но Белл к тому времени уже издал статью, в котором говорил о постиндустриальном обществе. Анн-Мари Гиллемар: итак, вы возвещали новое общество, систему действия, – такова была в то время ваша мысль – которая была чем-то совершенно новым и в основе которой лежали уже не инвестиции и не сбережения, но знание. Было уже… вы возвещали начало общества знания, что сейчас представляется совершенно банальным… Общество знания и коммуникации. Это было в 1969 году, то есть в 1969 Вы об этом написали, но задолго до этого вы говорили об этом на ваших семинарах. Итак, я бы сказала, что это новый способ и, - что оказало на меня сильное влияние, - очень отличный от других способ заниматься социологией, в котором социолог позиционирует себя, как разведчик, высматривающий все новое в происходящем. Ален Турен: видите ли, в то время дискуссия о постиндустриальном обществе была достаточно интересна, поскольку Дэниэл Белл, который проделал проделал куда больший объем статистических исследований, чем я, хотел дать определение гипериндустриальному обществу: развитие сферы услуг, увеличение численности технически квалифицированной рабочей силы и т.д., и все это без всякого сомнения верно. Я же скорее попытался понять новых акторов с обеих сторон: как в оппозиционных движениях, так и в новых формах управления, - а все сильно изменилось, так в то время управление было сосредоточено в руках руководства предприятий, управленцев, или, как говорил Гэлбрейт, техно-структуры. Сейчас, 20 лет спустя, власть захватили акционеры. Но как с точки зрения природы этого общества, так и с точки зрения его акторов, думаю, что мы тогда все достаточно правильно поняли. По случайности, как раз вчера и позавчера в Испании я участвовал в очень долгом коллоквиуме для узкого круга с участием Мануэла Кастеллса. Так вот, в основных книгах Кастеллса, и он сам это признает, информационное общество или информационалистское общество, как он говорит, продолжает программируемое общество. Между нашими идеями есть преемственность. Анн-Мари Гиллемар: … программируемое общество… может быть как раз этот ярлык программируемого общества и не сработал… Ален Турен: Да. Мне он нравился, потому что для меня было важно то, кто заказывает, кто навязывает решения, не обязательно в авторитарной манере, это может происходить и с помощью рыночных механизмов, финансового рынка, - в конечном итоге, было важно, кто разрабатывает модели действия. Затем, действительно, я отбросил этот термин, отчасти потому, что мы занялись совсем другими событиями и в последующие 15 лет я мало что писал в духе этой модели. Затем, начиная с того момента, когда стала актуальной тема информации и, в меньшей степени, тема коммуникации, я отбросил и выражение «постиндустриальное общество». Анн-Мари Гиллемар: Но над новыми общественными движениями вы продолжали много работать. Уже в 69 вы заметили в этом рождающемся постиндустриальном обществе студенческое движение как новое движение, целью которого является знание. На меня тоже это произвело сильное впечатление – то, что вы теоретически вывели этот новый очаг социальной борьбы и что в 68 году он взорвался, что в действии, таком, как майское движение, есть своего рода теория и что Вы диагностировали его как своего рода антиутопию, которая подвергает сомнению одновременно и общество потребления, и производство. Ален Турен: Скажу вам честно, я сам достаточно критичен по отношению к этому. Я говорил о новых общественных движениях в 1974 или в 1975 году, и затем это выражение получило распространение. Но спустя уже 4 или 5 лет все говорили мне и Вивьорке: и где они, ваши общественные движения? Они потерпели поражения. И мы задумались над этой неудачей, относительно неудачей. Я написал книгу «Возвращение актора», где анализировал то, что уже очень хорошо было видно в 68 году. Эти новые общественные движения были не вполне новыми. Для описания этого я использовал евангельское выражение: молодое вино в старых мехах. В 68 году дискурс был троцкистским, маоистским, пролетарским, и т.д. историческое же содержание было новым, это было то, что называют культурной революцией, вхождением проблем частной жизни в жизнь общественную, как в 1848 году, когда в политическую жизнь Франции и Великобритании внезапно вошли проблемы труда. Моя книга о 68 годе, написанная в том же 68 году, полностью основана именно на этом: на противоречии между старым дискурсом, дискурсом троцкистов, который и по сей день не претерпел изменений, насколько я могу судить по нападкам на меня троцкистов, которые остались такими же, как и в 68 году, - а с другой стороны содержание удивительно ново, хотя иногда оно быстро воспламеняется и длится недолго, как в случае движений 68 года. Всегда происходит именно так. Мы, социологи, занимающиеся настоящим моментом, редко встречаем события, о которых можно сказать, что они во всем хороши или во всем плохи. И, что особенно интересно, несмотря на эту амбивалентность, я должен высказать о них суждение. Я видел в университетских кругах множество людей, которые не воспринимали это историческое событие. В случае 68 года, я вменяю себе в заслугу то, что я подчеркнул позитивное значение движения, потому что в отличие от помоев, вылитых на Рикера, я получил лишь несколько ведер грязи. Я постоянно поддерживал это движение, в том числе и в судах, в зависимости от того, что я видел. Нужно сказать, что мне повезло в том, что моим студентом и моим другом был Кон-Бенди, который был наиболее умным человеком и в наибольшей степени новатором в движении. Я помню, что первым движением, которое изучала наша группа, было студенческое движение 76 или 78 года. Это движение было абсолютно провальным. Я очень сильно старался найти что-нибудь, что можно было бы у этих студентов назвать движением, но на самом деле это было крушение иллюзии. В случае окситанского движения – здесь работой руководил в большей степени Дюбе – мы так и остались со своими сомнениями. Я говорю это, потому что нас часто упрекали в том, что метод социологического вмешательства работает везде. Это не так. Он сработал несколько раз, а в других случаях не срабатывал, то есть он давал иногда положительные, иногда отрицательные, иногда смешанные результаты. Затем, в случае Солидарности, это было уже нечто большее, чем новое общественное движение, это было также и демократическое, и профсоюзное, и национальное движение. Мне и вправду кажется, что это исследование в Польше было для нас троих самым счастливым моментом. Я помню, как я заканчивал мое собственное исследование во Вроцлаве, в Силезии. Мы закончили дискуссию, что-то выпили, и я спросил у одного из рабочих-металлургов: «как Вы думаете, какой в будущем должна быть Польша?» Он ответил: «Такой, как рабочая группа, в которой мы только что работали». Я был на седьмом небе. Анн-Мари Гиллемар: Больше, чем май 68-го…? Все же исследователю должно доставлять удовлетворение, когда то, что он вывел теоретически, воплощается в действии, в движении, которое исследователь интерпретирует, и подтверждает сразу несколько гипотез. Ален Турен: Это было еще более приятно, если учесть, что в начале года, кажется в феврале, я опубликовал две длинных статьи в «Le Monde», в которых говорил о том, что должно произойти. Все друзья тогда сказали мне: «Ты с ума сошел, ничего такого не произойдет». Естественно, никто из них понятия не имел о том, что происходило в университетах. В заключение я хочу сказать, что поражение этих то ли старых, то ли новых общественных движений привело меня и нашу группу к тому, что в 80-х годах мы сказали сами себе, что в нашем анализе что-то не так и что мы больше не можем влачить дальше понятия индустриального общества. Это был момент, в который для меня лично все очень глубоко изменилось, в основном потому, что в это время болела моя жена, а также потому, что я много времени провел тогда в Латинской Америке. Я вышел из этого периода моей жизни с решением сосредоточиться на новых явлениях и на необходимых для их понимания исследовательских инструментах. В синхронии с историей? Мишель Вивьорка: Франсуа, в 74 году мы оба были студентами и не были знакомы друг с другом. Мы оба, и ты, и я, решили пойти учиться к Турэну, и он нас вовлек, хотя мы поначалу, конечно, этого не знали, в то, что позже оказалось захватывающим приключением, долгой работой в поле, работой с этим методом социологического вмешательства, о котором мы уже немного говорили. Я бы хотел, чтобы ты поговорил об этом с Турэном. Франсуа Дюбэ: Для начала напомню, что это были самые увлекательные годы в моей жизни. Вы уже упомянули только что польское приключение, в котором мы в первый, а может, и в единственный, раз почувствовали себя полностью внутри истории, причем настолько, что иногда задавались вопросом, а есть ли у нас что сказать, ведь сама история в каком-то смысле производила социологическое вмешательство. У меня есть такое чувство, что с Вами мы постигаем искусство, которое по сути своей есть искусство разлада. Мы изучаем новые общественные движения, а нас обвиняют в том, что мы их убиваем – убиваем студентов, окситанцев, экологистов, рабочее движение и так далее. За год-два до избрания Миттерана вы написали «После социализма» и, как показывает история, попали в точку. Ален Турэн: … социалистическая пресса … Франсуа Дюбэ: Когда Вы написали «Возвращение актора», Вас обвинили в субъективизме. Три года спустя практически все обратились к некой сентиментальной социологии. Мне кажется, что мы вместе с Вами всегда шли немного впереди и несколько в стороне, никогда не в центре событий / всегда не к месту. Мы сами себя считали левыми, а нас обвиняли в том, что мы правые. Нас обвиняли в идеологизме, а мы, возможно, были единственными, кто занимался эмпирическим, кропотливым, методичным исследованием акторов, с которыми мы работали. Я бы хотел немного узнать о том, как вы переживали то, что с Вами происходило на протяжении практически всей Вашей жизни, кроме, возможно, первого периода Вашей работы, как вы переживали это своего рода искусство, как бы это сказать, искусство всегда быть внутри движения, но всегда быть в стороне. Сейчас мы уже к этому привыкли, но тогда, должен Вам признаться, меня это слегка выводило из равновесия … для меня это было нелегко. Ален Турэн: Есть, конечно, первый ответ. Мне бы точно не удалось соблюсти дистанцию, если бы я работал один. Я говорю не в каком-то конкретном смысле, поскольку, в конце концов, на рынке труда есть исследователи, но очевидно, что задолго до того, как мы основали CADIS, мы работали вместе, и для меня это было очень важно. К тому же, будучи человеком одиноким по характеру, будучи холодным, неприветливым, – так обо мне все говорят и в этом наверняка есть доля правды, – то, что я работал с вами обоими, а в начале этого периода еще и с Жужей Эгедус, это было очень важно, в том числе и то, что мы работали в трудных условиях, когда мы спали где придется и бегали на пляж между двумя периодами работы. Для меня этот опыт был чрезвычайно важен. По сути же того, что Вы сказали, я не могу понять, как может интеллектуал быть партийным / ангажированным, как он может быть согласен с политическими и идеологическими интерпретациями, которые доминируют в данную эпоху. Наша роль социологов и вообще интеллектуалов – это вычленить ядро эпохи, то в чем акторы часто не отдают себе отчета, и сказать: лично я считаю основным вот это, а затем вытерпеть ругань политиков. Именно в этом смысле я думаю, что немного опережал свою эпоху. Лично я, да и вы тоже, мы не хотели, чтобы политическое играло первую роль в интерпретации, может быть потому, что в течение столь долгого времени коммунистическая партия играла ведущую роль благодаря своему влиянию на интеллектуалов, а ни Вы, ни Вивьорка, ни я, хотя и участвовали во множестве вещей, организованных этими группами, никогда никоим образом не принадлежали к этому движению. В конечном счете, мне кажется, что Вы с этим справляетесь примерно, с чем вас и поздравляю. Франсуа Дюбэ: Благодаря Вам… Ален Турэн: и нет никакого мазохизма когда я говорю, что надо принимать ругань и осознавать себя в меньшинстве. У меня были моменты слабости и горечи, но в окружении Мишеля Рокара я обрел и личное, и интеллектуальное удовлетворение, особенно удовлетворение человека, который говорит то, что думает. Однако, поразмыслив, я бы сказал – Вы уже говорили это Солидарности – когда все слишком гладко, меня это беспокоит. Еще пару слов скажу про Солидарность. У нас нет никаких поводов менять тот анализ, который мы тогда провели, который был очень политическим. В тоже время я помню, как уже много лет тому назад Адам Мишник, один из лидеров Солидарности, в интервью для своей Газеты – ныне одного из крупнейших изданий в Польше – попросил меня охарактеризовать Солидарность до 81 и после 89 года. А в результате ряда событий Солидарностью ныне называется одна из правых, если не ультраправых групп в польском парламенте. Я высказал идею о том, что имеет место полное отсутствие преемственности. В Солидарности, которая полностью противостояла коммунистическому режиму, уже были девиантные элементы… Вы прекрасно помните, что были, например, студенты, которые по определению не входили в Солидарность, поскольку не участвовали в профсоюзах, и они высказывались совсем не так, как рабочие и служащие. У Вивьорка есть некоторые причины вспоминать, что, к сожалению, в конце профсоюзного периода, проявился, вышел на поверхность и некий антисемитизм. То же самое я могу сказать и о сегодняшних сапатистах. Если можно было бы посмотреть, что думают все эти люди, мы бы обнаружили, что мы несколько передергиваем, но это необходимо делать. Интересно как раз найти во всех событиях красную нить, тот подход, который для них наиболее важен. С этой точки зрения, не скрою, я считаю, что за двадцать лет исследований тех и иных типов, а то и за тридцать – тридцать пять лет, если прибавить те исследования, которые вы вели без меня, мы не допустили ни одной серьезной ошибки. Мы иногда придавали слишком много значения действиям, которые на самом деле были не столь важны. Наиболее серьезную ошибку допустил именно я. Это было наше первое исследование, и я со слишком большим энтузиазмом взялся за это студенческое движение, которое на самом деле того не заслуживало. Мы быстро увидели, как быстро оно разлагалось. Но думаю, что в общем и целом, и за счет идеологических установок, и за счет метода, мы все же сказали правильные вещи. Франсуа Дюбэ: я хотел бы вернуться к вопросам метода, потому что только что вы вскользь сказали « я человек холодный, плохо общаюсь, мне непросто с людьми». И при этом вы разработали метод, который прямо противоположен этой холодности. Ален Турэн: Именно так… Франсуа Дюбэ: Я читал очень сложные книги, которые завораживали в первую очередь потому, что были сложны для меня в то время, надо это признать. Это – Социология действия и производство общества. И в них я открыл для себя социолога, который говорит: мы покажем чувства и эмоции, у нас будет аффективное отношение к предмету. Я помню, как Турэн каждую неделю садился на поезд и ехал в Каркассон, что все-таки не так уж легко. В конце концов, не впадая в излишние упрощения, ваша практика социологии, напротив, чрезвычайно тепла и эмоциональна… Ален Турэн: совершенно верно… Франсуа Дюбэ: и при этом вы все время говорите, что вам от всего этого скучно. Но вы наверное как раз тот социолог, который, не поддаваясь соблазну слияния, выбрал работу, в которой он наиболее непосредственно контактирует с людьми, ближе всего к пространству их опыта и так далее. И это тоже создает ощущение разлада и противоречивые представления о Вас. Люди не ожидают, что человек, который интерпретирует социальную историю и основные тенденции целого века, человек, который без большого труда пишет социологическую теорию этого века, окажется способным провести четыре часа с молодыми идеологами, переживающими кризис переходного возраста одновременно с распадом левого движения. Пожалуйста, расскажите нам об этом методе, который все же довольно парадоксален, если учитывать то, что Вы сами о себе говорите. Ален Турэн: Безусловно, нужно сначала говорить не о себе, а о методе. Вы знаете не хуже меня, что этот метод состоит в анализе и в разделении смешанных в любой реальности значений. Мы говорим: попробуем понять, до какой степени эта забастовка является критикой капитализма, и в какой степени она всего лишь является борьбой за чистоту туалетов в таком-то цеху. Так вот мой метод состоял в том, что после долгого периода наблюдений и встреч с людьми я говорил: я, исследователь, по своей инициативе говорю вам, как далеко может пойти ваше движение. И в этот момент, простите мне спорное выражение, нужно обратить группу в свою веру, и она идет на это достаточно легко, поскольку ей говорят, что эта гипотеза очень хороша и очень важна. И тем не менее, исследователь разбивается в лепешку, пытаясь убедить группу. Я помню встречу, которая оказалась действительно очень драматичной, но мне удалось убедить группу. Мне запал в душу этот момент. Возвращаясь к личному, вы же знаете, что и у холодных людей все же есть какой-то запас тепла. Но особенно верно, что после всех этих опытов я себя ощущаю немного менее холодным и сдержанным, чем полвека назад. Мишель Вивьорка: Я задаюсь вопросом, не является ли эта Ваша теплая сторона чем-то латиноамериканским. Наверное, стоит ввести в дискуссию латиноамериканку. Анжелин Перальва: Люди, которые хорошо Вас знают, иногда говорят, что Вы – два разных человека по ту и по эту сторону Атлантики, что во Франции Вы скорее холодны, а в Латинской Америке гораздо теплее. Ален Турэн: Это не вполне верно, потому что когда я начал работать в Латинской Америке, у меня был идефикс – не входить в тропический мир. Я жил в Сантьяго, в Сан Паулу, а не в Рио, не на Карибах или где-то еще. Несколько недель назад я участвовал в предпремьерном просмотре фильма нашего друга Уго Сантьяго, аргентинца, о великой бразильской певице Марии Бетаниа. Всего за пять минут я почувствовал Бразилию на ощупь, ощутил ее запахи. И все же, я всегда чувствовал себя жителем Сан Паулу. Бразильский феномен существует. Мексику я очень люблю, и часто там происходят более интересные вещи, но там нет такого физического обаяния. Все сразу подумают о мулатках, но я говорю не об этом. Это – страна, которая проникает в тебя через все пять чувств. Но, конечно, я больше всего связан с Чили, страной, совсем не похожей на другие, потому что в Чили есть гораздо более европейские категории. По другим причинам мне трудно объективно говорить о Чили. То, что меня всегда поражало в этой стране – это то, что Чили, а может быть и вся южная часть этого континента, – это мир женщин, а Мексика – это мир мужчин. В Чили, Бразилии и Аргентине во мне что-то глубоко изменилось, и не только потому, что я прожил большую часть своей жизни с чилийкой. Именно через Латинскую Америку, как это ни кажется странным в этом континенте, который всегда называют континентом-мачо, я, француз, который всегда учился в классах, в которых не было девочек, и так далее, начал входить в этот женский мир, в который я сегодня хочу нырнуть с головой и закончить там свою жизнь. Началом этой истории была моя поездка в Чили в 1956 году. Я должен был открыть там исследовательский институт. Затем я сделал то же самое в Бразилии, в университете Сан Паулу, лучшем университете континента, с которым я сегодня снова очень тесно связан. Анжелин Перальва: У меня как раз такое впечатление, что в вашей работе было много очень разных латиноамериканских этапов. Первый этап связан с темой Вашей работы. И тем не менее, уже в это время у вас есть радикальное признание инаковости по отношению к тому, что очень похоже на то, что происходит в Европе. Мне так кажется. У меня такое чувство, что с одной стороны это – лучшее, что Вы смогли привнести в латиноамериканскую социологию, вы как будто сказали латиноамериканским социологам: «Будьте сами собой». Но это – и то, что вы довольно часто говорите о признании инаковости в самом глубоком и самом интеллектуальном смысле слова. У меня такое впечатление, что история любви между Вами и Латинской Америкой завязана именно на этом, мне так кажется. Я не знаю, были ли бы возможны такие работы 90-х годов о Франции, как «Можем ли мы жить вместе?», если бы в Вашей жизни не было этого латиноамериканского периода. И, что меня некоторым образом волнует, это то, что этот период мог пройти в другом месте. Вы побывали в Северной Америке до того, как приехали в Латинскую. Для других социологов – я говорю, например, о Крозье, для которого опыт США стал основополагающим. Да, Вы писали о США. Но мне кажется, что есть что-то радикальное. Ален Турэн: Если бы по случайному стечению обстоятельств я поехал в какую-то другую страну, я думаю, что меня вдохновила бы, например, Корея, которая мне очень понравилась, или Япония. Я не представляю себе такой любви к Скандинавии, кроме Исландии, которую я считаю очень теплой страной, если можно так выразиться. Еще раз повторюсь. Латинская Америка – это континент, на котором нет акторов. А я как раз пытался анализировать в терминах акторов то, что большинство латиноамериканских социологов анализировали как зависимость, внутренний колониализм, и т.д. Латинская Америка была увлечена одним из главных интеллектуальных споров нашего времени, до которого европейцам из-за их невежества не было дела, а именно: можно ли объяснить жизнь в этих странах, которые, конечно же, являются зависимыми, только лишь в терминах этой зависимости, или же существует некоторая внутренняя автономная проблема классов, национальные, политические проблемы. Иначе говоря – нужно ли обязательно начинать герилью или же можно надеяться на демократию? И это не праздный вопрос. За этот вопрос отдали жизнь тысячи людей, и в этом споре, который называли дебатом о зависимости, я на стороне тех, кто говорил: «да, есть зависимости, но есть и социальные конфликты, и национальные проблемы». Из этих людей наиболее известным был и остался бразилец Фернандо Энрике Кардозо. И именно поэтому много лет спустя, в 1996, я с энтузиазмом воспринял сапатистское движение. Я присутствовал на их общем собрании, по колено в грязи, в которой приходилось и спать, и у меня было впечатление, что вот наконец-то пришел реванш, закончилась герилья и наконец-то речь зашла об объединении социального прогресса и культурного выживания, скажем так, не с помощью революции, а с помощью демократии. Когда я сказал об этом Маркосу, он был очень доволен, и мы встретились с ним еще раз. Мы сейчас говорим об этом в тот момент, когда, вполне возможно, сапатистское движение задыхается и скоро будет подавлено, но я остаюсь при том же мнении, я вижу в сапатистах рождающееся социальное движение. Если бы я был в Эквадоре, думаю, мнение мое было бы тем же. Скажу только, что на протяжении всего прошедшего года я искал в Южной Америке – в Чили, особенно в Аргентине, – зарождение актора. Думаю, я его нашел, и это не менее важный актор, чем индейцы на севере континента. Это – погибшие и пропавшие без вести. Я участвовал во многих встречах, в том числе в одной очень интересной встрече в Мадриде, организованной аргентинцами, и я сам занимаюсь этой темой, темой, которую называют «архивы террора», то есть документы плана Кондора, заказные убийства, Пиночет. Я вижу, как в Аргентине и в гораздо меньшей степени в Чили, возрождается сознание общественного действия через погибших и пропавших людей. В конечном итоге в этом возвращении памяти есть не только политическая ценность: я бы сказал, что Латинская Америка немного проснулась и как раз в тот момент, когда дела ее плохи. Она просыпается с индейцами на севере и с погибшими на юге. Интеллектуалы, наука и политика Мишель Вивьорка: В перерыве Марк Ферро обратил мое внимание на то, что Вы часто нормативны в суждениях, то есть часто говорите: «это важно», «это неважно», «это позитивно», «это не позитивно». Отсюда вопрос: такие суждения, являются ли они частью роли социолога и если «да», то на чем он основывается, что делает такие оценки легитимными? Ален Турен: Такие суждения не относятся к типу исторических суждений. Я хочу сказать, что историк стремится показать, что роль той или иной группы более важна, чем роль другой группы, и при этом историк не может обойтись без более детальных суждений. В моем случае это совсем не так. Я формулирую своего рода гипотезу, я формулирую свою задачу как поиск того типа исторического актора, который поставил бы под сомнение наибольшее количество вещей. Кстати, я всегда подчеркивал, что когда мы говорим «вот наиболее важный исторический актор», мы совершенно не подразумеваем, что этот актор играет наиболее важную историческую роль. Обязательно нужно понять необходимость разграничить эти два суждения. Кстати, мы это увидели в случае окситанцев, у которых исторически значимая роль принадлежала скорее регионалистам, которые стремились к развитию своего региона путем давления на политическую власть, но тем не менее нас больше интересовали люди, часто достаточно маргинальные, которые пытались, точно так же, как сегодня в других частях света и даже в других регионах Франции, придать смысл или наделить более возвышенным смыслом свое движение, которое было бы способно противостоять вторжениям акторов, которые ставят под сомнение фундаментальные основы движения. Я еще раз повторяю, что это не значит, что они наиболее значимы с исторической точки зрения. Мы вполне вправе говорить, что Мендес-Франс более важный политик, чем Миттеран. С исторической точки зрения это неправильно: Миттеран был гораздо важнее, поскольку дважды избирался на пост президента. Но с точки зрения трансформации политической мысли, я бы сказал, что Мендес-Франс сыграл более значительную роль. Мишель Вивьорка: Вы упоминаете Мендес-Франса, но можно вспомнить и Мишеля Рокара, о котором, кстати, вы недавно упоминали. В какой-то мере это суждение является не столько историческим и не столько социологическим, сколько моральным и политическим. В конце концов ваши взгляды, если охарактеризовать их кратко, всегда были близки к Новым Левым. Ваши суждения о важности или неважности, о позитивности или негативности того или иного аспекта, когда они проявляются в политической борьбе или в исследовании, не зависят ли они от более общих соображений, связанных не столько со знанием, которое вы производите, сколько со взглядами, которые можно назвать политическими? Ален Турен: Я чувствую себя вправе сказать, что проблема Франции и других европейских стран состоит в том, чтобы найти социальные силы, которые были бы способны давать жизнь, вызывать конфликты, и т.д. в экономической ситуации, которая невероятно сильно изменилась. Другими словами, если оставаться с тем, что принято называть старым левым движением, то есть со сторонниками государственного вмешательства, мы приговорим сами себя к очень медленным темпам изменений французского общества. Если же, напротив, мы живем в обществе, которое принимает изменения и отбрасывает некоторые вещи из прошлого, мы сильно рискуем снова оказаться в либеральном капитализме, если не будем заниматься поиском новых возможных акторов. В этом отношении мы не так уж далеко продвинулись. Например, нам необходимы новые формы профсоюзного и рабочего движения. Это не более. Чем гипотеза, я не утверждаю, что оно возродится, поскольку это было бы историческим суждением. И я могу привести множество других примеров. В этом также причина того, что я высказываю лишь очень общие предложения, как например предложение перейти к индивидуалистскому взгляду. Я даже иногда говорю, что сегодняшние левые индивидуалисты, а правые – коллективисты, поскольку они верят в рынок… Сюда же я добавил бы и тему женщин, которой я уделяю все больше внимания. Я не могу утверждать, что общество строится на противостоянии и конфликте из-за контроля над культурными моделями и ресурсами, пока не попытаюсь придать этим словам содержание. Верно ли мое суждение с исторической точки зрения? Теперь вернемся к исходной точке, то есть к методу социологического вмешательства, которая для этого и предназначена. Если мы ошибемся и предложим ложную гипотезу, мы создаем путаницу и отбрасываем гипотезу. Нам уже приходилось отбрасывать гипотезу и выдвигать новую, более скромную. Я настаиваю, даже если это звучит несколько скандально, что если, например, вы верите в социологию актора, то в мире, который, как сказал бы Жорж Гурвич, стал холоднее, вы вынуждены говорить, что в конце концов мы наблюдаем появление и действие акторов, роль которых является основной. Понимаете, это не оценочное суждение, это суждение о центральном положении, о значимости. Есть люди, которые мало значимы, и есть люди, которые очень значимы. При этом есть люди, которые при том, что они очень малозначимы, играют определяющую историческую роль. Франсуа Дюбе: Нам может быть трудно понять, как работает эта машина. С одной стороны, можно сказать, что роль интеллектуала, в частности Турена, состоит в том, что у него есть теория, которая в конце концов поглощает как можно больше вещей и т.д., а с другой стороны, когда вы говорите о себе, вы придаете основное значение тем историческим событиям, в которых вы участвовали. Так каким же образом вы строите свою мысль, как вы строите собственную жизнь, говоря: я строю вещи рационально и научно, но в то же время май 68 года все меняет, Польша все меняет, Чили все меняет, распад левых, который можно было предвидеть в 70-х годах, все меняет. Это все же то, что делает вас, и это не просто игра слов, мало читаемым, потому что складывается образ одного интеллектуала, который строит машину, или же другого интеллектуала, который реагирует на происходящие события. А вы переходите от одного образа к другому, для себя считая этот переход преемственным, но люди устают поспевать за вашими изменениями. Ален Турен: Я отвечу Вам, бередя некоторые раны, которые причинили много боли и мне, и Вам, и Вивьорке. Я, конечно же, думаю о забастовке 1995 года. Я все еще чувствую боль от того, как нас травили в 95 году. Могу сказать, что сегодня, шесть лет спустя, я остаюсь при той же самой интерпретации, которую мы дали тогда, и которая не касается исторической значимости события, которую мы и тогда никто не отрицал. Речь идет об анализе смысле этого движения и моей интерпретации, в которой об этом движении было высказано крайне негативное суждение. Думаю, что мы должны брать на себя смелость, выдвигать гипотезы, о которых известно, что спустя сравнительно короткий промежуток времени их признают ложными. При социологическом анализе такого суждения нельзя избежать. Макс Вебер только об этом и говорит. Не буду вспоминать о безобразных событиях, например о защите одной диссертации в Сорбонне, но в социологии, как и в любой другой деятельности, нужны механизмы доказательства и верификации. Эти требования применяются как к «негативным», так и к позитивным действиям, и можно вспомнить много случаев, когда те или другие из нас занимали как раз негативную позицию. Вы сам, вероятно, можете об этом судить лучше всех, потому что Вивьорка изначально занимался очевидно негативными темами – расизмом, насилием, и т.д. В этих случаях от вас мало кто ждет реабилитации этих явлений. Но Вы изучали каторгу, искали актора и выработали понятие бешенства, а затем наступил такой момент, когда вы сказали, что уже и бешенства нет. Итак, вам пришлось в какой-то момент заключить, что более нет ничего, что говорило бы о существовании общественного движения. У всех нас был такой опыт, в том числе и в тех диссертациях, которыми мы руководили, и это приводит нас к поиску нового определению способности быть актором. Но, повторюсь, речь идет не о исторической важности. Речь идет о критериях оценки, то есть о том, до какого уровня – организационного, институционального, уровня общественного движения, - коллективное действие ставит под сомнение порядок вещей. Я хочу привести совершенно немодные примеры, если можно так сказать, примеры, изгладившиеся из нашей памяти. В начале моей жизни мне много приходилось заниматься изменениями наемного труда рабочих, а значит мне пришлось кое-что узнать и о забастовке рабочих Рено в 1913 году. Это была важнейшая забастовка, первая, в которой разрушение труда фордовскими методами была подвергнута прямому осуждению, но это осуждение было смешано со многими другими вещами. Мишель Вивьорка: В вопросе Франсуа был еще один аспект, как мне кажется. В какой степени исследование, которое вы ведете или событие, с которым вы сталкиваетесь, изменяет Вас самого, изменяет ваши гипотезы и, осмелюсь сказать, изменяет и Вас самого? Иначе говоря, вы не начинаете заниматься той или иной проблемой с окончательной уверенностью в чем-либо. Во всяком случае, таков мой опыт работы с вами. Вы способны меняться, отношения с людьми, с которыми Вы работаете, Вас меняют. Ален Турен: Никто из нас не начинает чем-то заниматься с уверенностью в чем-либо, но с достаточно устойчивым мнением о природе проблемы, которой занимаемся. Ответа в начале у нас нет. Чтобы было яснее, нам доводилось заблуждаться и от этого расстраиваться. Я помню этих студентов во время забастовки 1976 года: я ошибся в определении смысла их движения, и они заметили, что они обманывались, от чего некоторые из них были на грани самоубийства. Вы мне говорите: в какой степени нас меняет наше исследование? У меня на этот счет достаточно узкая позиция. Думаю, что всегда есть риск того, о чем Вы говорите, то есть завести себе собственную мельницу и перемалывать на ней историю. Этот риск привести в движение маленькую машинку – это одна из самых важных причин того, что я говорю, что удельный вес «поля» в вашей жизни должен быть разумно ограничен. Я провел в поле десять лет, а потом еще десять лет, а мой друг Хосрохавар хотел бы, чтобы я еще несколько лет провел в поле. Нужно быть очень внимательным к эмпирике, но при очень сильных теоретических гипотезах и, в то же время, быть способным дать наблюдаемым явлениям проникнуть в вас. Исследователь в нашей социологии вмешательства – это человек, который приносит гипотезы. Следовательно, его роль чрезвычайно активна. Он не безразличен к тому, сработало это или нет. Но мы также знаем, вы знаете не хуже, чем я, исследователей, которые так сильно идентифицируют себя с объектом, что возникает своего рода любовная связь между исследователем и объектом. В этих случаях неудача вполне предсказуема. Мишель Вивьорка: У меня есть ощущение, что Анжелина Перальва не вполне удовлетворена ответами, которые Вы дали на ее вопросы. Анжелина Перальва: У меня есть ощущение, что сегодня в Латинской Америке мы сталкиваемся с такой большой проблемой, как строительство демократии. Конечно, когда Вы говорите о мертвых, это входит в эту проблематику, когда говорите о Чьяпасе, это тоже входит в нее, но есть и другое, то, что не связано с акторами снизу, с памятью. Я бы хотела, чтобы Вы сказали об этом пару слов. Ален Турен: Я вынужден отвечать Вам в исторических терминах, потому что все достаточно прозрачно. Я воспринимаю ситуацию в Латинской Америке как катастрофическую. Я считаю, что больше почти нет никакой возможности для политического действия. Думаю, что почти все эти страны будут без всяких затруднений голосовать так, как предложат США, и единственным опытом сопротивления останется опыт Бразилии, у которой нет совершенно никаких сил, если она не опирается на Аргентину и на Западную Европу. То, что меня всегда заботит в Латинской Америке – это слабость акторов. Латинская Америка всегда была полна революционных ситуаций, но было не так много революций. Была мексиканская революция, крестьянская революция 1952 года в Боливии и, рискуя неудовольствием слушателей, скажу, что было еще Сандинистское движение в Никарагуа, которое было по сути революцией. На Кубе, конечно же, не было революции: Фидель никогда этой революции не хотел. На Кубе происходила жесткая герилья, в которой власть захватил один из «фоко», а это совсем другая историческая реальность. В остальном акторы мягкотелы, перемешаны друг с другом, и совсем не трудно их изолировать. Мне приходилось говорить об этих проблемах несколько недель тому назад, когда я вспоминал недавно покойного друга Виниция Калдейра Бранта. Этот бразилец, житель Сан-Паулу, был подвергнут жестоким пыткам в Сан Паулу, а затем перевезен в Рио, где я его несколько раз навещал в тюрьме. Он был очень радикальным католиком. Люди этого типа не оставляют никаких следов, но думаю, что через свои страдания и свое слово они сделали возможным появление одного из фундаментальных элементов военных диктатур, поскольку драма его жизни происходила в 1970-1972 годах, то есть в самый жесткий период военной диктатуры в Бразилии. Я даже скажу, при том что я резко против герильи, что значение внутренней герильи, которую я оцениваю резко негативно, такой, как герилья Монтенеро или Тупамаро, состояло в том, что появился некий сущностный уровень ситуации, уровень, который не управляется политическими средствами. А здесь вы как раз и намекаете на нечто сущностное. Политическая система не может нормально функционировать, когда в ее тени остается 50, 60, 70 % населения, которые находятся вне игры. Наш друг Серменьо всегда напоминает нам о том, что в Мексике 50% населения находится вне игры, вне партий. Бразильский случай впечатляет еще больше, потому что в Бразилии больше почти нет деревенской нищеты, потому что ее сменила нищета городская, потому что Сан Паулу, который Вы знаете лучше меня, это невиданный пример города, который ускользает сам от себя. Когда мы видим такой явный дефицит акторов, мы задаемся вопросом, как нам вести исследование при гипотезе, что акторы вмешиваются в данную им ситуацию, а не просто плывут по течению. Это и объясняет то, что столько людей любят объяснять явления извне, опираясь на экономическую конъюнктуру. Я не говорю, что всегда все решают акторы, но я хочу сначала выяснить, каковы акторы, даже если придется признать, что их нет. От социального актора к субъекту Мишель Вивьорка: Фархад, недавно вы с Туреном опубликовали диалог на тему субъекта. Этот диалог, возможно, анонсирует новые работы. Но важнее то, что он подводит итоги двенадцати лет работы и публикаций Турена. Критика современности, Что такое демократия, Сможем ли мы жить вместе? – эти работы ставят вопросы, которые не совсем привычны для нас как вопросы, с которыми работает Турен. Мне кажется важным, чтобы сейчас высказался ты. Фархад Хосрохавар: На самом деле эта работа, которую я вел вместе с Туреном, растянулась почти на два года, с 1999 по 2000, и была опубликована под заголовком «Поиск себя», и этот заголовок, который сам по себе очень о многом говорит, выражает одновременно и некую преемственность, как только что говорил Турен, но в то же время и некий разрыв. Я бы хотел задать ему об этом несколько вопросов, например, как он воспринимает этот разрыв, потому что раньше когда он говорил или когда мы говорили о социальном акторе, речь всегда шла об акторе в общественном движении. А субъект, очевидно, может быть актором того, что мы могли бы назвать культурным движением, иногда общественным движением, но тем не менее его связь с движением уже не столь тесная. Между прочим, такие выражения, как «сможем ли мы жить вместе?» или «Поиск себя» хорошо показывают то измерение субъекта по отношению к социальному актору, которое можно назвать экзистенциальным, поскольку актор, несмотря на все оговорки, очень тесно связан с коллективными явлениями, с коллективными движениями, которые, в каком-то смысле, держат его мертвой хваткой, даже если он пытается поставить себя выше этого давления и поставить под вопрос власть над ним общества. Итак, у меня складывается впечатление, что когда мы вводим понятие субъекта, эта своего рода неразрывная связь общественного движения с социальным актором ставится под сомнение. С другой стороны, мне также кажется, что куда более сильное внимание начинает уделяться тому, что можно назвать частной жизнью, личностным устремлениям, тому, что Турен иногда называет «Я». И последний момент: в ходе этой работы я осознал, что взгляд Турена обладает такой проницательностью, которая позволяет ему предвидеть вещи, которые несколько лет спустя окажутся в самом центре внимания социальных наук. И здесь я тоже был удивлен, насколько этот взгляд, даже если были прецеденты, люди, которые уже работали с этими явлениями, - насколько он нов. Это наводило меня на мысль о какой-то его вечной молодости, несмотря на телесные немощи. Я задаюсь вопросом, не в этом ли одна из фундаментальных черт как его характера, так и тем, полей, которыми он занимался на протяжении своей жизни социолога. Мишель Вивьорка: Однажды, уже несколько лет назад я слышал, как он говорил об уже прошлом периоде «когда я был старым». Мне эта формулировка показалась превосходной. Ален Турен: Если говорить о биографии, очевидно, что в жизни каждого из нас происходят всегда сразу несколько вещей. Я пережил май 68 года и новое преимущественное внимание к культурным проблемам, постепенное ослабление марксистского дискурса, быстрое ослабление профсоюзного и политического действия, связанного с рабочим движением и еще целый ряд событий. Но для меня это был также важнейший и долгий период, когда я отдалился от профессионального сообщества, конечно не полностью, чтобы заботиться о моей жене в ее болезни, которая с самого начала была очень тяжелой и привела в 1990 году к ее смерти. Таким образом, и интеллектуально, и биографически, я должен был понять, что большие дела разыгрываются в частной жизни, частично потому, что публичная жизнь заполнена невыносимыми, все время повторяющимися дискурсами. Главное – это сказать, что общество, в которое мы вступаем – это такое общество, в котором наиболее важны проблемы информации и коммуникации, а значит проблемы культурные. Несколько другим был этот новый и неожиданный элемент. В то время я думал, что мы сможем быстро изучить общественные движения, связанные с этими изменениями, то есть то, как информация используется в мире медицины, в больнице, в СМИ, в мире науки и образования. И вот, случилось так, что в 90-х годах более явственно стало видно не содержание нового общества, а процесс исторического изменения, то, что мы живем в эпоху экстремального капитализма, который очень непохож на капитализм 1890-х – 1910х годов. Тем не менее, 90-е годы похожи на тот период тем, как радикально политические, социальные и культурные акторы теряют контроль над претерпевающим глобализацию экономическим миром. В этих трех книгах я хотел задуматься над этой историей современности. Моя книга о современности для меня первостепенно значима, поскольку моим основным тезисом было не то, что современность есть рационализация и секуляризация, а то, что современность есть разграничение объективного и субъективного, которые в Боге или в идее естественного права еще были нераздельны, а значит, отталкиваясь от картезианской идеи двух миров, центральная проблема современности такова: как установить связь между двумя мирами, между культурой и экономикой? Гениальная идея была предложена в XV веке: только одна сила способна объединить общество – это политика, или, можно даже сказать, гражданственность. Это – учение Макиавелли и Томаса Мора, а чуть позже и Жана Бодена. Но вот наступает момент, в котором мы уже в конце пути и вступаем в то, что Хабермас и Гидденс называют поздним капитализмом или поздней индустриализацией, и в этот-то момент все и взрывается. Одновременно есть и глобализация рынков, и общинность, и религиозные движения, и т.д. Политическое рушится между этими двумя полюсами. И я задаюсь вопросом, что сегодня может удержать вместе эти две стороны общественной жизни? Ответы, которые давал Кант, более неприемлемы. Нет никакого абстрактного универсализма, и мне не близко даже решение, предложенное Хабермасом, который считает, что восхождение к универсальному происходит не через субъект, а через связь, коммуникацию между субъектами. Я пришел к мысли о том, что это слияние с одной стороны культурного проекта или культурного опыта, а с другой стороны экономического положения, не может произойти на уровне индивида. А это значит, что каждый из нас осознает свою принадлежность к экономической системе, которая становится все более глобальной, но в то же время живет в рамках культурного проекта, который не сводится к корням, но состоит также и из изобретенных, переформулированных, как часто говорят этнологи, вещей. И это придает важнейшую роль в социологии этому утверждению индивида. В моей книге «Сможем ли мы жить вместе?», подзаголовок к которой звучит как «Равные и разные», я хотел решить одну из крупных теоретических проблем социологии, проблему, которую я сам очень глубоко переживал, поскольку величайшие антропологи – Луи Дюмон и Клиффорд Гирц, один письменно, другой устно, говорили мне, что невозможно быть одновременно равными и разными. Мои рассуждения привели меня к тому, что я вывел на первый план исследования женское движение. В нем была одна ветвь, которая подчеркивала равенство и другая, которая подчеркивала различие. Обе они исчезли. Темы же равенства и различия, напротив, естественно дополняют друг друга. Я не говорю, что индивид сам по себе играет решающую роль, но что нужно радикальнее подойти к моей идее, которую, кстати, вы сформулировали лучше, чем я, говоря, что нужно перейти от темы социального актора к теме субъекта… Франсуа Дюбе: А при этом переходе остаетесь ли вы социологом? Ведь для того, чтобы быть социологом, нужна как минимум гипотеза социального бытия, некой интеграции системы, говоря более абстрактно, и интеграции акторов. Нужно выдвинуть гипотезу о том, что есть что-то, что неразличимо удерживает, автоматически действуя. А здесь вы зашли так далеко в другом направлении, что можно сказать: Турен занимается политической или моральной философией, он задается вопросом, как сочетать равенство и различие; в конце концов Турен стал своего рода мыслителем опыта и экзистенции, потому что он говорит, что общество есть совокупность объективных механизмов, которые системны и о которых больше нечего сказать, и важно мыслить субъект вне всего этого. Ален Турен: Нет, моя позиция не такова… Франсуа Дюбе: да, ваша позиция не такова, но я бы хотел понять, в чем именно она не такова, потому что ваши труды можно прочитать и так. Ален Турен: нужно быть более радикальным. Как вам известно, 25 лет назад я проводил социологический конгресс под названием: «Как избавиться от идеи общества?» И к этой теме я еще раз возвращался несколько дней тому назад, я постоянно говорю о десоциализации. Идея общества как социальная идея потерпела крах. Еще 150 лет назад это предвосхищали марксисты, но сегодня мы стоим лицом к лицу с миром власти, в фукианском смысле слова, то есть с категориями, которые организуют восприятие и деятельность, с миром власти, который тесно связан с миром разделения труда, скажем, с экономическим руководством обществом, а с другой стороны с миром конфликтов и значит общественных движений. Чтобы воссоединить эти два мира, что нам осталось? Это то, что я называю субъектом, то есть с тем, который объявляет – и это самое важное – что да, действительно, мир един, но в чем состоит это единство? Это было уже главным вопросом Валтера Бенжамина, а сегодня это волнует людей нескольких типов. Итак, вопрос, который я задаю – и я еще раз вернусь к актору – как же осуществляется эта связь? Добавлю, что социальный субъект, или просто субъект как референция себя к себе, усиливается отсылкой к чему-то столь же не социальному – я скажу, насколько далеко я захожу в этой идее – к тому, что я называю антропологическим опытом, который в основном есть сексуальность. Итак, сегодня мы переживаем борьбу власти и экономики против требований субъекта и против сексуальности. И это настоящее столкновение. Что это означает с социальной точки зрения? Я пойду еще дальше: с социальной точки зрения это значит, что слава Богу и слава нам, в нашей стране мы видим, как этот мир власти и экономики отступает – в том числе потому, что он виртуален и глобален. Зато мы видим, как развивается и то, что я назвал бы антиинститутами, то есть институты, которые защищают субъект от общества. Например, мы боремся, - вы боретесь более успешно, чем я, - за школу, в которой центральную роль играет субъект. Есть такие вещи, в которых это происходит сравнительно гладко – это семья. Те, кто говорит, что семья существует для того, чтобы передавать материальные и культурные ценности прошлого, уже представляются устаревшими. Напротив, если вы говорите, что семья существует для того, чтобы ребенок научился ходить на двух ногах, люди вас поддерживают. Общие принципы права все более индивидуалистичны. В этом отношении я скорее оптимистичен, поскольку я вижу, как мир права расширяется. Еще 200 лет назад мы боролись за гражданские права, 100 лет – за социальные права, а сегодня – за культурные права. Вот почему актор, который действует сегодня – это уже не «человек и гражданин» из Декларации о Правах, а просто человек, который конечно, является гражданином, но также трудящимся, человеком с этническими, религиозными, сексуальными связями. Итак, я уже вижу очень глубокую трансформацию политического поля. Меня смущает то, что все это происходит без какого-то четко выраженного актора. Как и Хосрохавар, я говорю, что я склонен недооценивать другой аспект, а именно хаос и десубъективацию. Но, может быть потому, что по темпераменту я скорее оптимист, я говорю: «да, все это верно, совершенно верно, но я все же вижу, как формируются политические актор». Я вернусь к политическим сравнениям: 200 лет назад мы придумали партии, 100 лет назад – профсоюзы, сегодня мы придумываем ассоциации, НПО, и то, что мы называем гражданским обществом, при том, что это еще один этаж политического общества, и не будем забывать, что сегодня в мире 35 000 НПО. Итак, я чувствую себя вполне готовым к решению перейти к другой стороне, к социологической стороне вопроса. Приведу более конкретный пример. В этом году мой семинар был посвящен женщинам и, в основном, таким темам, как критический анализ понятия гендера, критике концепции сексуальности у Фрейда, а также теме равенства и различия, о которой мы уже говорили. Но в следующем году я буду стараться давать больше прекрасной литературы по проблемам американских лесбиянок, которая представляет собой политическую философию. Я постараюсь изложить ее в терминах отношений, начиная с роли соблазнения и любовных отношений. Но также и особенно важен вопрос: а есть ли женское движение? Я даже пойду дальше, поскольку я буду пытаться показать, что так же, как рабочее движения в наибольшей степени определило движения других типов, так и сегодня женское движение стремится определять другие движения. Это может оказаться преувеличением, но мне хочется мыслить в этом направлении. Итак, если хотите, я верю в то, что мы должны привыкнуть жить в ситуациях, которые нельзя определить ни как общества, ни как способы производства. Я не так уж несогласен с Хосрохаваром, когда говорю, что объяснять ситуации можно объяснять через акторов и их отношения. В заключение скажу, насколько далеко я хочу пойти. Сегодня моя основная интеллектуальная задача – это борьба с социологизмом. Я антисоциологист, так как считаю, что общество, по крайней мере жизнеспособное общество, основано на несоциальном. Когда общество основано только на социальном, оно стремится стать тоталитарным. Два года назад мне довелось написать довольно длинную статью об утопии. Я убежден, что утопия – это такое видение общества, которое зависит только само от себя – это и Леду, и Мор, но также и Оруэлл. Если бы у меня было в запасе еще лет пятьдесят, я поступил бы, как все социологи – начал бы исследовать религию. В религии есть все, что я ненавижу, а именно защита утсановленного порядка, отождествление себя с избранным народом, общинность, и т.д. но в религии я также вижу некую форму субъекта, направленного вовне. Мне нравится искать у испанских мистиков или в буддийских медитациях это внеположное обществу и думаю, что без этой внеположной обществу реальности невозможна демократия. Мишель Вивьорка: Да, но во время ваших встреч и дискуссий с Хосрохаваром, который так чувствителен к религиозной тематике, он говорит вам о «смертоносности», «культе мучеников», «десубъективации», - о крайне негативных вещах. Мне бы хотелось, чтобы вы сейчас продолжили дискуссию и уточнили терминологию. Хотите ли вы дополнять друг друга, или же вы боретесь друг с другом, или же один из вас должен победить. Иными словами, какова природа этого противостояния, которое в этой последней книге проявляется как борьба между, если очень сильно обобщать, оптимистичным и мрачным взглядом на вещи? Ален Турен: Я отвечу после вас Фархад Хосрохавар: Я бы хотел вернуться к вопросу Мишеля и, отчасти, к вопросу Франсуа. У меня складывается впечатление, что ваши новые идеи, начиная с 90-х годов и с этих трех книг и, наконец, в этой дискуссии и в нескольких статьях, которые вы в это время публиковали, ставит под сомнение логичность некоторых социологических дискурсов, в создании которых вы участвовали. Это не значит, что дискурсы были плохи, но мне представляется, что ваш дискурс куда более активно включает в себя вклад того, что можно назвать философией – ведь темя субъекта имеет бог знает сколько философских прецедентов, на которые вы ссылаетесь, но также и вклад антропологии, моральной философии, психологии. Итак, мне кажется, что за счет смещения тематики от актора к субъекту меняется сама экономия социологического дискурсая не хочу преувеличивать последствия этого смещения, но есть какая-то новая архитектоника мысли, которая начинает взаимодействовать с тем неудобством, которое мы испытываем, когда переходим от социологического или социоцентрического дискурса к дискурсу, в котором есть место полицентричности. Думаю, что этот новый вклад может создать для нас некие проблемы, то есть как социологи мы как раз привыкли рассуждать так, как сказал Дюбе; но думаю, что и здесь есть нечто новое, и каждый из нас работает с этой дихотомией субъективации и десубъективации по-своему. В этом состоит один из интересных аспектов вашей работы и работы Мишеля, который исследовал терроризм и показал, что в самой глубине этого деструктивного явления можно найти и актора, и субъекта. И, кстати, именно в этом его работы о культуре мне представляются симптоматичными с точки зрения этого нового поворота. Вы сумели придать нашей группе эту тенденцию к диверсификации и к построению новой экономии дискурса. Ален Турен: То, что вы говорите, снова выводит нас на проблематику выбора между преемственностью и разрывом. Мне всегда нравились антифранцузские замечания Маркса, который говорил: эти французы – дураки, они не понимают ничего, кроме политики, все выражают в политических терминах. Когда речь идет о социальноэкономических реалиях, они просто ничтожны. Между началом моей профессиональной карьеры 50 лет назад, после освобождения, в самом разгаре индустриального общества, и нынешним моментом, изменилось все, и тем не менее я настаиваю на преемственности. Мы перешли от общества, определяемого экономическими категориями, к обществу, в котором доминируют категории культурные, и для каждого из нас это создает трудности с адаптацией. Но это также и причина, по которой я так настаиваю на преемственности. Конечно, в какой-то момент своей жизни нужно поставить самого себя в новый контекст. Есть вещи, которых сам не пойму и о которых я спрашиваю моего друга Кастеллса: теории коммуникации, что такое Интернет, и т.д. У меня есть полное ощущение того, что я перепрыгнул из одного общества в другое, не потерявшись на пустырях, которые их разделяют. Но еще раз хочу вернуться к моему желанию поставить во главу угла субъект. Итак, после Освобождения, когда я был мальчишкой, нам казалось одновременно, что нужно изменить экономическую жизнь, уничтожить буржуазию, дать политический голос рабочему классу, дать нации новый образ. Хорошо. В какой-то степени мы говорили, и те и другие, о субъекте, мы работали – я очень хорошо это помню – с профсоюзными деятелями, среди которых есть люди, которых я уважаю больше всех в моей жизни. Эти коммунистические активисты были субъектом. А сегодня очень важно, чтобы, занимаясь исследованием новых технологий, новых форм экономической организации, мы не забыли о главном: есть ли новые акторы, есть ли новые конфликты, есть ли поиски новых компромиссов или новых трансформаций? Я говорю, что в нынешний период мы найдем их среди культурных акторов, в культурном поле. И, по не слишком важным для этой дискуссии причинам, мне удалось с гораздо большей точностью говорить сегодня о трансформации отношений между мужчиной и женщиной, которая сегодня является наиболее важным явлением. Мое заветное желание сегодня – это найти преемственность между моими сегодняшними исследованиями субъекта и тем полувековым периодом, когда это понятие было предано забвению и отброшено как ненужное. Так же, как 30-40 лет тому назад мне казалось, что я способствовал тому, что вместо социального класса в науку вошло понятие социального актора, мне также хочется остаться в истории человеком, который боролся за то, чтобы анализ и действие ориентировались на субъект, который нуждается в защите своих политических, социальных и культурных прав.