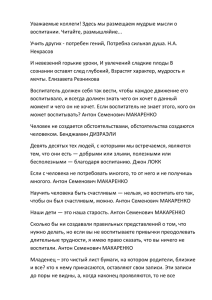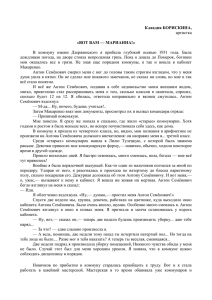А.С.Макаренко. К 75 летию со дня рождения. Сборник
реклама

В.Н. Терский ИГРА. ТВОРЧЕСТВО. ЖИЗНЬ. С Антоном Семёновичем я познакомился после пяти лет службы в Красной Армии, где находился в качестве начальника клуба. Поэтому Макаренко и предложил мне руководить клубной работой в своей колонии. Колония имени А.М. Горького в первые годы своего существования была бедна: не было ни кино, ни оркестра, ни пособий для проведения клубных занятий, ни материалов, ни инструментов, ни даже мяча для игры — ничего. Только небольшая площадка на вершине высокого холма, окруженная высокой кирпичной стеной бывшего Куряжского монастыря. На этой площадке — небольшие домики с кельями, где раньше жили монахи, темная, тесная трапезная в полуподвальном помещении, где мы оборудовали столовую, и не совсем ещё развалившееся большущее церковное сооружение в два этажа, где внизу был клуб-театр, а над ним библиотека-читальня. Рядом — здание школы, общежитие ребят, мастерская, сарай, груды разного хлама, среди которого я заметил старые бочки из-под цемента. В выходной день я должен был занять детей игрой. Дети были великовозрастные, многим пора было бриться, некоторые имели тяжелое прошлое, и я сразу понял, что играть в горелки или «кошки-мышки» они не будут. Но на другое утро ребята сами сообща стали придумывать игру. Направление их замыслов для меня стало ясным, когда кто-то из старших заявил мне: «Мы любители острых ощущений!» Затем кто-то сообразил, что если бочку из-под цемента поставить на край высокого обрыва, сесть в неё и толкнуть, то ощущение сидящего в бочке будет именно сильным, поскольку спуск с горы крутой, высота изрядная, по пути разные рытвины и ухабы, а внизу хаос из огромных камней, занесённых к подножию бугра Куряжского монастыря, очевидно, ещё в ледниковую эпоху. Мне пришлось по просьбе ребят показать, «как оно практически получается». После того как бочка у подошвы горы сделала ряд оборотов и, ударившись несколько раз о валуны, вдруг внезапно остановилась, я испытал совершенно особое состояние, подобное, вероятно, ощущению невесомости в космосе. Затем я долго не мог понять: где я и что со мной, где верх и где низ и куда следует двигаться дальше, чтобы получить «очко», которое по правилам этой зверской игры причиталось каждому, кто, оставшись живым, выкарабкается на холм. Несмотря на мое особое старание, я не смог оказаться в числе чемпионов этой игры и занял скромное девятнадцатое место среди сотни участников. Но это обстоятельство ничуть не подорвало мой авторитет как вожака по изобретению клубных мероприятий, и я увидел, что ребята, которые до этого меня просто замечать не хотели, пошли за мной, очевидно, решив, что в их напряженной трудовой жизни вся надежда на развлечения будет связана теперь только со мной. Я же думал, что после организованных мною страшных безобразий Макаренко меня немедленно выгонит. Однако Антон Семёнович улыбнулся и очень дружески заявил, что «для начала это неплохо». И действительно, вскоре я стал своими «играми» и «сказками» привлекать внимание всех, а блеск рассказов вожаков группировок под лестницей померк, так как они не смогли придумать ничего страшнее и интереснее, чем я. Постепенно я переходил к формированию новых интересов у воспитанников. От Конан-Дойля я перешел к научной фантастике Жюль Верна, от катания в бочках — к игре «морской бой», игре едва ли менее опасной и дикой, чем «бочки». Но для этой игры уже надо было строить «крейсеры» и «дредноуты», создавать конструкции катапульт, при помощи которых на небольшой речке Уде наши «дети», почти в буквальном смысле слова, весело топили друг друга, вызывая волнения жителей округи, которые, заслышав шум «боя», сбегались к реке. Но это только воодушевляло игроков. Прекращать наши вопиющие безобразия было совершенно некому, так как жители боялись нас, а я от души любил русскую «удаль молодецкую» и разворачивал её во всю –1– ширь, радуясь успехам своих последователей, которые обычно превосходили своего учителя размахом замысла и дерзостью его осуществления. Сам Макаренко бегал и прыгал вместе с нами, играл на сцене, не гнушаясь самыми опасными для его жизни ролями в пьесах. Так, например, его как министра Плеве жгли на сцене самым настоящим огнем, поливая обыкновенным керосином (чтобы было похоже на правду). Это был период лихих «подвигов», как великодушно именует Макаренко в «Педагогической поэме» все это кудрявое и разнообразное нарушение всяких приличий поведения. Вместе с тем благодаря таким совместным играм окрепло наше влияние на детей. Мы завоевали их симпатию и получили полную возможность вести их по правильному пути. Из всего этого я сделал вывод: педагог не должен бояться, занимаясь с детьми, «потерять свою солидность», не должен бояться спуститься до уровня интересов и вкусов детей. Педагог не должен быть какой-то потусторонней для детей фигурой, стоящей на недосягаемом пьедестале. Только живя интересами и делами детей, хорошо понимая их, педагог не будет чужд им, а потому завоюет авторитет и сможет изменить к лучшему их вкусы, интересы, привычки, направлять детей, неустанно вести вперед. При этом не может быть никаких готовых рецептов действия на все случаи жизни. А.С. Макаренко утверждал, что ни одно средство нельзя рассматривать как положительное или отрицательное вне учёта всех условий и обстановки. Но главное, что важно всегда,— это, учитывая обстановку, не пищать, не поддаваться унынию, если не получается, а бить по неудачам, бить сколько хватит сил, бить упорным трудом и поиском, проявляя находчивость, смекалку и смелость. В 1948 году меня пригласили работать в Калининградскую область. Приезжаю в колонию и вижу такую картину: дисциплины никакой, ребята сидят и режутся в шашки. А сами — слаборазвитые и страшные задаваки. Причем считают, что кто выигрывает — тот умный, а кто проигрывает — тот дурак. Разубедить их в этом никому не удается. Атаман обыгрывает всех и крепит заблуждение кулаками. Парень здоровенный. Что делать? Некоторые воспитатели поняли, что надо как-то подружиться с ребятами, иначе дело не пойдет. Играют с ребятами, проигрывают и по условиям лезут под стол кукарекать. Таких ребята благосклонно считают «своими». Но разговаривают с ними, как с равными, должного уважения нет. Это именно тот случай, когда педагоги опустились до уровня интересов ребят, да и сидят на этом уровне, потеряв свое влияние ведущих, воспитывающих. Нет! Надо исходить из жизни. Я пошел в книжный магазин, купил книгу по теории шашечной игры и стал анализировать партии чемпионов. На меня начальство колонии три дня сердилось за то, что я заперся и к ребятам носа не показываю. Работать, мол, надо! А я все «симулировал», так как понимал, что иначе нельзя. Трое суток не спал, выучил несколько эффектных дебютов и финалов и пошел в колонию. Захожу. — Давай сыграем! — А что с тобой играть! Васька запри ему...! Слух у меня нормальный, слышу характеристику сбоку: — Ишь фитиль, какой длинный да носатый! Васька продул несколько партий. Нехотя подходит атаман самоуверенных невежд. — Ну, давай! Играем, играем, играем, играем. Атаман розовеет, краснеет, багровеет, чернеет. Пытается руганью сбить с толку, но... у него не получается. Слышу у себя за спиной скромный комплимент: — Смотри ты! Старичок, а тоже немножко соображает! Через два часа я встаю и говорю: «Неинтересно играть с дураком, никакого у тебя соображения нет!» И сразу командую: «Бери тряпку, мой пол, а вы протирайте окна, довольно в свинушнике жить!» А им работать «нельзя», они «блатные» и труд считают позором. Но и не мыть нельзя, этика у них такая: проиграл — исполняй приказ выигравшего. Совершенная растерянность. К вечеру и пол блестел и всё было чисто. На другой день ребята отыгрывались с полным старанием и... закабалились на год вперед. Только позже, значительно позже поняли все, смеялись. Дружили по-хорошему. НЕ ГЛУШИТЕ МЕНДЕЛЕЕВЫХ К 30-м годам в коммуне имени Ф.Э. Дзержинского определился крутой подъём в сторону четкого выполнения указаний Ленина о коммунистическом воспитании. Многим было очень трудно, но коллектив уже сложился, ребята беззаветно верили нам и шли за Макаренко вперед. Всё больше и больше внимания мы начинаем уделять вопросам развития у учащихся технического творчества. Вскоре от изготовления деревянных плотов и лодок, именуемых дредноутами, мы перешли к изготовлению сложных технических игрушек и игр. В коммуне тогда уже имелись хорошие мастерские, в которых ребята и изготовляли эти игры. Но они не были только развлечениями. Они были увлекательны, интересны и потому, что требовали полезных усилий. Эти игры помогали и труду, и учёбе. Главнейшей игрой системы Макаренко был «Конкурс смекалки». Это одна из форм, осуществляющая последовательность в развитии творчества детей от игры до труда включительно. «Конкурс смекалки» — активный помощник школы и клуба. Много времени и труда отдавали мы созданию комплектов технических игр. С их помощью дети приучались, играя, работать, творить, изобретать, делать модели, аппараты, машины. Игра пронизывала всё творчество детей. Труд их становился более увлекательным и содержательным от того, что они вносили в него элементы игры, Вскоре у нас появился завод электроинструментов «ФД», а впоследствии и завод фотоаппаратов «ФЭД». Коммунарам была предоставлена неограниченная возможность в часы досуга пользоваться станками заводов, полными хозяевами которых были сами ребята. Это не были заводы для них— это были их заводы. Подлинная детская самодеятельность была повсюду. Она сливалась с нашей деятельностью так, что было бы неверно утверждать: «Вот это сделали коммунары под моим руководством». Было бы правильнее сказать: «Это сделали мы». И в этом «мы» были и педагоги, и Антон Семёнович, и дети. Много было интересного и значительного в эти годы. Невозможно в одной статье описать тот долгий и очень яркий путь, который прошла коммуна имени Ф.Э. Дзержинского. Меткими штрихами показывает его Макаренко — двумя фото, которые помещены во втором томе его собрания сочинений. Обе фотографии имеют общее название «Дистанция 5 лет». Этим фото, сделанным самим Антоном Семёновичем, предшествует краткое пояснение. Вот оно: «На первой фотографии (1928 г.) группа ребят, которые были переведены в коммуну из колонии имени М. Горького. Это часть того организационного ядра, о котором пишет А.С. Макаренко в «Марше 30 года». Вместе с ребятами их руководитель—В.Н. Терский. На столе военная игра, изобретенная и изготовленная в коммуне изокружком в свободной мастерской. На фотографии № 3 те же ребята, в тех же позах, но уже через 5 лет (1932 г.). Они возмужали, выражения лиц изменились. На столе уже не игрушки, а электросверлилка, выпуск которой освободил страну от импорта»1. Этот пример А.С. Макаренко как нельзя лучше подтверждает жизненность принципа разумной постепенности в развитии у ребят творчества. От более лёгкого и известного — к более трудному и сложному. Если в авиакружке в 1926 году мы делали простейшие модели планеров, то в 1932 году — модели с бензомоторчиком. Если в 1934 году ребята летали в летнем лагере на плане- 1 А.С. Макаренко, Соч., т. II, изд. 2, изд. АПН РСФСР, стр. 448. –3– рах через Донец, то в 1941 —1945 годах наши бывшие малыши очень точно сбрасывали бомбы на головы фашистов. И задача педагога заключается в том, чтобы, учитывая интересы детей, постепенно, спокойно, с любовью вести их вперед, терпеливо развивать в них творческие силы и не огорчаться по поводу того, что результаты педагогического труда медленно сказываются. Ведь каждый садовник знает, что через час после посадки яблонька еще не плодоносит. Ей нужно расти и цвести, нужно время. И без времени, этого лучшего помощника и друга, сделать ничего нельзя. И огорчаться не следует. Надо жить и работать, сохраняя весёлый и бодрый тон — мажор Макаренко. Но исходя вначале из интересов и вкусов ребят, педагог должен в дальнейшем направлять каждого в жизнь не по его случайным, временным интересам и желаниям, а по действительным силам и способностям. И задача педагога заключается в том, чтобы выявить и развить у детей эти ценные качества. Развитие способностей у детей нельзя рассматривать в отрыве от учебы и жизни, так как творчество может возникнуть только на базе знаний и опыта, которые дает нам постоянный и кропотливый труд. Для того чтобы так называемого лентяя превратить в энтузиаста, его необходимо научить хорошо работать. Потом он будет работать творчески, выдумывать, сочинять, конструировать. Педагог же должен при этом ещё больше развивать его творческую фантазию, силу воображения и в то же время давать ему возможность совершенно свободно осуществлять на деле любой проект его крылатой фантазии. Так, например, в коммуне А.С. Макаренко, помимо упомянутых заводов, до последних дней существовала свободная мастерская, которую он описал в «Марше 30 года», в главе о клубной работе. Он пишет, что там дети делали всё что угодно, из чего угодно и для чего угодно. При развитии творческих сил у детей педагог должен найти к каждому индивидуальный подход. В коллективе могут оказаться будущие Менделеевы, Ломоносовы, Мичурины, Ковалевские, Пушкины, Лермонтовы — гении! Не просмотрите их! Не заставляйте Пушкина изобретать машины, а Кулибина писать стихи. Поймите, разгадайте стремления каждого ученика до полной ясности!!! Не надо учить курицу плавать, а утку кукарекать. Обе эти птицы очень хороши, но каждая в своем роде. Очень хорошо, если один человек владеет несколькими специальностями. Счастье нашего, социалистического общества состоит в том, что мы располагаем полезными для общества и личности возможностями дифференциации, разделения труда. Нам нужны хорошие специалисты, отлично знающие своё дело. По чтобы быть хорошим специалистом и передовым советским человеком, необходимо быть всесторонне развитым, и мы обязаны дать нашим воспитанникам широкое общее развитие, на базе которого каждый был бы в состоянии устойчиво и быстро развиваться по линиям своих способностей, активно и плодотворно строить коммунизм на работе и в быту. В основном направление увлечений большинства детей зависит от влияния педагогов. И мы должны умело и целенаправленно пользоваться этим влиянием. Мы должны научить ребят ясно видеть потребности всего общества. Каждый воспитанник должен очень четко представлять, что творчество нужно и возможно в любом деле и что творчески мыслить необходимо всю жизнь. И доярка должна творчески работать, постоянно думая, чем кормить коров, чтобы выше был удой, как обеспечить нужный корм, содержание, уход за коровами, и комбайнер должен изобретать, как убрать хлеб, если он полег от ненастья, — каждый должен работать творчески. Это совершенно необходимо и для создания изобилия материальных благ, и ради морального удовлетворения каждого, поскольку творческая, продуктивная работа — счастье человека. Где, когда и как появляется творчество детей? Начнем наблюдение не с большого коллектива детского учреждения, а с обычной семьи. Мать, уборщица, моет пол. Дочь помогает маме. Она учится у матери мыть пол. Но вот маме нездоровится. Дочь моет пол сама. Если это по просьбе мамы, то это упражнение, если по своей инициативе, то это уже творчество, так как неизбежно при этом дочь будет не слепо копировать все, повторяя точно движения матери, а обязательно внесет в работу что-то свое. И если эти её удачные, пусть небольшие, но самостоятельные находки поощрять и тактично наталкивать на новые полезные поиски, не подавляя ее инициативы, то дочь будет в дальнейшем проявлять творчество в любом, даже в самом маленьком и незаметном деле. Или ещё один пример. Отец — мастер на заводе, изготовляющем роллеры. Если он найдет время и ознакомит сына с устройством и изготовлением роллера, снабдит его всем необходимым для работы и сделает один роллер вместе с сыном, то потом сын сделает роллер и сам. Но это будет учеба и упражнение. Творчество сына начнется в тот момент, когда он, достаточно освоив конструкцию роллера и приемы работы, сможет внести пусть совсем маленькое, но что-то свое в работу. При этом необходимо своей незаметной помощью обеспечить успешное завершение начатого дела, чтобы итог работы порадовал детей. Это обязательно. Надо делать только то, что дети не могут делать сами, и свою помощь не только не выпячивать, а, наоборот, по возможности маскировать. Для маленьких детей необходима большая помощь с нашей стороны, так как у них ещё не выработались навыки к труду. Чем старше становятся дети, тем больше у них опыта и поэтому все меньше и меньше надо им помогать, незаметно перекладывая работу со своих плеч на плечи детей, постепенно и осторожно наполняя серьезной человеческой заботой жизнь детей. Но здесь надо очень хорошо чувствовать силы детей, особенности каждого из них. И это нетрудно сделать, если быть внимательным. Дети живые и всегда покажут нам гримаской, вздохом, жестом или словом, когда им трудно, когда им скучно, когда хорошо,— всё покажут, надо только смотреть, слушать, понимать и учитывать. Некоторое принуждение, выраженное веселым подбадриванием, воодушевлением, словами, шуткой, иногда полезно, но надо помнить, что за временной этакой «победой» в труде иногда кроется вызванное вами переутомление — в результате отвращение к труду. Следует также помнить, что увлечь ребят по-настоящему может тот педагог, который сам увлечен этим делом. Только при этом условии можно стимулировать фантазию своих воспитанников на творческие дерзания. Мне как-то предложили в одной школе давать ребятам уроки пения. Я взялся за это дело только потому, что больше некому было. Мне пение тогда казалось делом, не имеющим прямого отношения к творчеству. Но потом я понял, что ошибался. Неразрывная связь нашей жизни с искусством помогает нам лучше творить и в технике. Поняв это, я увлекся музыкой, увлек ребят, а потом в этой школе образовался кружок юных композиторов, который насочинял 78 песен. В коммуне имени Ф.Э. Дзержинского творчество пронизывало всю нашу жизнь. В последние годы работы Макаренко мы ставили оперу «Дон Кихот». Дон Кихота играл я. Мы старались изо всех сил, а когда окончился спектакль, то услышали настойчивый крик публики «Би-и-и-с!» «Позвольте,— сказал я,— можно повторить песню, танец, но не всю оперу!» Но оказалось, что аплодировали не нам, а нашим изобретениям. «Мы не видели артистов и ничего не слышали, — заявил мне режиссер Харьковского театра драмы Николай Васильевич Петров, ныне народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии.— Мы все смотрели на Россинанта — коня Дон Кихота». Да, это была правда. Конь был интереснее всадника, так же как и осёл Санчо Пансо. Это было чудо детской техники, плод творческого труда. Эти копытные, хотя и были деревянные, впечатляли не раскраской, а конструкцией. Они ходили, махали хвостами и головами, хлопали ушами, глаза их вращались, тела сгибались. Таких игрушек-машин не было ни в одном, даже лучшем театре. Нам из-за них пришлось повторять вею оперу. И вновь публика ревела от восторга, но уже раскланиваться мы выпустили эти машины и их конструкторовизобретателей. Впрочем, половина из них была и артистами — по совместительству. Однако бывает и так, что педагог затрудняется в выявлении интересов детей. –5– Перед войной я работал завучем в подмосковном Барыбинском детском доме. Во время войны детский дом был эвакуирован за Урал, в Макушино. Там были четыре особенных мальчика. Воспитательница сказала мне: «Вот вы учите начинать с удовлетворения интересов детей, а у этих мальчиков нет никаких интересов, не с чего начинать-то!» На первый взгляд казалось, что начинать действительно не с чего. Мальчики были для меня новые и непонятные. Они учились в 1-ом классе уже второй год и не хотели ни играть, ни петь, ни рисовать, ни танцевать — ничем не интересовались из того, что обычно интересует мальчиков их возраста. Они, казалось, были совершенно равнодушны ко всему на свете. Шла война, а они объявили голодовку и, не понимая трудностей, вызванных войной, отказывались есть картофель и хлеб, а все требовали конфет и котлет, которых тогда у нас не было. И вдруг я поймал себя на мысли: «Как же нет никаких интересов! Ведь они хотят есть конфеты и котлеты — значит, есть у них интерес! И это интерес к вкусной пище!» Взяв рюкзак с вареной картошкой, я зашел к ним в спальню. Они валялись на кроватях. — Картошку есть будете? — Нет! — Молодцы! Я тоже не буду! Они переглянулись. — А утятину жареную будете есть? — Будем. — Ну тогда пошли! — Куда? — К уткам. Ловить, жарить и есть. Встали. Пошли. Километрах в тридцати от Макушино есть поселок Чистое. Не доходя немного,— большие озера, неглубокие, но обширные. Охотники были все на фронте, и дикие утки плавали смело. Много их там. — Ну вот,— сказал я,— дикие утки! — А как их ловить? — Вот этого я не знаю. Не приходилось. Вы уж как-нибудь сами! Так я рассчитывал вызвать у них хоть какой-нибудь проблеск собственной мысли, который до этого обнаружить не удавалось. Расчет у меня вообще-то был очень скромный и простой: изрядно прогулявшись, дети проголодаются, мне удастся накормить их картошкой, сорвать голодовку, а там будет видно, как лучше действовать дальше. И тут совершенно неожиданно они разделись и начали ловить диких уток голыми руками. День был жаркий, ловля принимала затяжной характер, и поэтому я объявил ловцам, что хотя и не знаю, как ловить, но знаю, что через каждые 10 минут ловли надо 10 минут сидеть на берегу, иначе не поймаешь. Этому они почему-то поверили. Вероятно, это соответствовало их органической потребности отдыхать. Ловля продолжалась долго. Ни единой утки они, разумеется, поймать не смогли. Но я увидел явное проявление соображения. Они пробовали окружать уток, нырять под них, нагонять их на одного из мальчишек, спрятавшегося в камышах. Весь их улов составил четыре совсем малюсеньких утёнка, которых они ухитрились-таки изловить в заливчике. Они несли их очень бережно. Подошли. — Ну, что? Утят жарить будете? — Нет, что вы, они же такие маленькие! — Ты смотри, не раздави их! — обратился старший к самому неосторожному. И я уловил в его грубом голосе нежную ноту заботы о маленьких птичках. Подумал про себя: «Ещё есть за что зацепиться, хорошие они ребята». После прогулки и купания картошку уписывали за обе щеки. Через два дня старший из них, по фамилии Шумак, охотно взялся за работу водовоза, поскольку он сразу понял, что без воды не приготовишь обед. Дело связано с пищей, а пища — его интерес. А вот второй сделал гениальное изобретение. Выразил он его кратко: «Кишки поели, давайте крючки!». Я не понял, в чём дело. Он возмутился и сказал мне то, что не раз ему самому говорили педагоги: «Вот бестолковый! Сто раз надо говорить!» И терпеливо повторил: «Кишки же поели же, ну, так давайте же крючки-то, наконец!» С большим «педагогическим» трудом ему удалось вбить мне в голову простую вещь. Накануне ловили бреднем в озере карасей. Выпотрошили их на берегу, сварили, накормили детей. И вот эти четыре мальчика с изумительной наблюдательностью установили, что кишки пропали ночью или на рассвете. Кто съел? Дикие утки! И вывод: если надеть рыбьи кишки на рыболовные крючки, лески завязать за камыш, то утка проглотит кишки вместе с крючком и будет сидеть, как щука на блесне. Через два дня мальчики ели вареных уток и угощали других. Деятельность, направленная к добыванию пищи, развернулась. Началось изобретательство: делали канканы — ловили сусликов, хомяков и других вредителей хлебных полей, принося, таким образом, двойную пользу, добывали запасы зерна, которые хомяки на зиму натаскивали к себе в норы в защечных мешках. Мои мальчики работали лучше всех. И даже выучились считать до пятнадцати. Сколько будет «один прибавить два», они сказать не могли, но Шумак прекрасно считал на бочках воды и возмущался: «Куда воду девают? До обеда привез 3 бочки да после обеда 4. Неужто 7 бочек мало?» А охотники бойко считали добытых хомяков и зерно. Потом сообразили и сделали ларь для его хранения. Вскоре эти мальчики стали заботиться и о всех воспитанниках детского дома. Больным, например, специально удили уток для варки бульона. В результате оказалось, что эти, на первый взгляд ко всему равнодушные дети благодаря полезной инициативе завоевали авторитет и уважение у всего коллектива и стали нашими незаменимыми помощниками. Много было и других случаев, которые окончательно убедили меня в том, что детей, у которых совершенно отсутствуют интересы, нет и быть не может. Можно и надо находить интересы у всех детей. Дети не должны себя чувствовать объектами воспитания и быть, так сказать, вечно у нас в долгу, как в шелку. Они должны себя чувствовать полноправными людьми, способными помогать другим людям, коллективу, стране своими делами, изобретениями. Однажды в коммуне имени Ф.Э. Дзержинского мы задумали поставить спектакль посреди широкой реки, а зрителей разместить на берегу — амфитеатром. Выбрали для этого удобное место и сделали террасы и украшения. Дело стало за лодками, па которых можно было бы сделать сцену на воде. У нас таких больших лодок не было. Но они были в артели, которая добывала строительный камень-котелец на другом берегу Донца и перевозила его на лодках к станции. Им надо было выполнять план по добыче камня, и поэтому лодок они нам не дали. Тогда мы решили, прежде чем ставить оперу, помочь рабочим выполнить план. И в этой довольно-таки трудной работе паши юные техники сумели кое-что усовершенствовать, так что план был общими усилиями быстро перевыполнен. А потом эти рабочие в ответ на нашу инициативу проявили свою и помогли нам соорудить сцену. В тиши украинской ночи на зеркальной глади величавого Донца звенели голоса наших юных оперных певцов, красивых, в пышных нарядах эпохи Сервантеса, гремел мощно наш оркестр в антрактах; артистов, публику, парк и величественный памятник Артему на высокой горе озаряли разноцветные фейерверки, которые изобрели наши юные пиротехники, и высоко в небо летели ракеты. Всё это произвело на всех нас, на дорогих гостей — шахтёров очень сильное впечатление. Или как-то раз мы с пятиклассниками сделали красивые, прочные и легкие низенькие резные скамеечки. Делали мы их е любовью и старанием. Некоторые ребята даже украсили резьбой обратные стороны сидений, хотя этими орнаментами в обычной обстановке могли бы любоваться разве что кошки, способные пролезть под скамейки. Но это было проявление собственного творчества детей, и поэтому необходимо было оказать ему как можно больше внимания. Я предложил подарить эти скамеечки детсаду, который в них очень нуждался. Но пока мы их делали, детсад уже приобрел мебель и в нашем подарке не нуждался. –7– Что же делать? Надо было чем-то порадовать юных тружеников. Необходимо было найти для этих скамеечек серьезное и значительное применение, иначе на что же нужны были старания и выдумка. И потому, подумав, мы взяли скамеечки и пошли в колхоз «Шевченки». Идем. Каждый несет сделанную им скамеечку. По дороге набрали по букету полевых цветов и прикрепили эти букеты к каждой скамеечке. Нашли председателя колхоза.— «Здравствуйте! Мы пришли премировать ваших лучших доярок». — А Вы что... из облисполкома, что ли? — Нет. Мы пятиклассники. — Гмм! — Чего там «гмм». Где закон, что пятиклассники не имеют права премировать доярок? Нет такого закона. Давайте доярок, будем премировать! Необычность нашего предложения произвела на председателя впечатление и привела к победе. Я не в состоянии описать впечатление, которое произвели наши подарки. Лица этих простых женщин выражали такое хорошее волнение... Вот выходит девочка Галя Лукошко и говорит своим нежным голоском: «Я сделала эту скамеечку для вас, дорогая Фрося Ивановна, за ваш доблестный труд па благо Родины ...и вообще...» Дальше она сбилась. Но от этого получилось ещё лучше, искреннее. Потом премированные доярки о чем-то пошептались минуты две. Одна из них, побойчее, подошла к нам и сказала: — Спасибо. А вам ничего не нужно? — Так... ничего, но вот досок нет... Вы знаете, что такое вырвать у председателя доски? Это же хозяйственник, и доски ему нужны даже тогда, когда и не нужны. Но колхозники вскоре принесли их нам. Председатель не устоял. Он был один, а доярок много. И, кроме того, он сам был растроган. И с тех пор с этим колхозом у нас завязалась настоящая, хорошая дружба. Изготовление скамеечек в данном случае — это продолжение игр типа постройки домиков из кубиков. И здесь понятие игры-развлечения выходит за пределы обычного представления о ней. Здесь игра перешла в труд. Но в труде она не исчезла, а сохранилась как орнамент труда, как аккомпанемент трудового процесса, общественно полезной деятельности. Принято считать, что игра — отдых и что если маленькие дети играют, то они отдыхают. Это не совсем так. Понятие игры значительно шире, чем мы думаем. Большинство игр маленьких детей — это их деятельность. Для их возраста это часто самая настоящая работа. Девочка играет с куклой. Она её одевает, обувает, носит и т.д. Вот девочка сопит, безуспешно пытаясь надеть на ногу куклы туфельку. Наконец с большим трудом ей это удается. Это ли не трудно? Лицо девчурки озабочено, бровки нахмурены. Она думает: «Что ещё нужно сделать». Это ли не труд? Маленький мальчик строит из кубиков дом. Кубики падают, строение рушится. Мальчик строит вновь. Он весь — напряжение и внимание. Вот он взял кубик правой рукой, водружает его на самую вершину, завершая постройку. При этом он левой рукой придерживает правую, чтобы она не дрожала и чтобы неточным движением не разрушить плод своего труда. Лицо его строго, внимательно, ребенок напряженно думает. Разве это не работа? Это созидательный труд малыша. Такая игра является трудовым воспитанием в раннем возрасте. Но вот мальчика утомило напряжение. Он перестал строить. Он бросает те же кубики, стараясь попасть в построенный дом. Это уже разрядка и по отношению к первому занятию мальчика — это отдых. А если мальчик стал бездумно расшвыривать кубики безо всякой цели, то это уже плохая разрядка, ведущая к распущенности. Все это, повторяю, условно и относительно. Принято называть трудом деятельность, в результате которой человек создает определенные материальные ценности. Строя домик, ребёнок ценностей ещё не создает, но такая игра является подготовкой к труду для малыша, так как по напряжению, которое игра вызывает, она равнозначна труду. Поэтому понятие игры необычайно широкое. Особенно важно отметить, что если для взрослых игры являются преимущественно видами отдыха, развлечением, то для детей игра в значительной мере — деятельность, предварительная фаза их труда. Труд — высшая фаза деятельности человека. Ход взрослого от труда к игре хорош в основном как переход к отдыху. Ход же детей от игры к труду является основной формой их трудового воспитания. Этим путем и надо их вести: от игры — к настоящему труду (а не наоборот). Можно, разумеется, и миновать фазу игры, сразу дать детям серьезную работу, требующую точности, мастерства, чтобы сразу, так сказать, «взять быка за рога». Но, воспитывая таким образом, мы, хотя и идем прямым и коротким путем, всё же неизбежно обедняем детство. И при таком условии труднее воспитать любовь к труду, развить творческую мысль. Мы не обойдемся здесь без насилия, внушающего отвращение к труду. А ведь мы должны воспитывать не «рядовых», а именно передовых, высокоразвитых, творчески сильных мастеров, людей, влюбленных в труд, способных на творческие дерзания. Игра и творчество! Где их нет? Они везде и всегда вместе. Макаренко был прав, утверждая, что и галстук, и красивая прическа — тоже игра, хорошая игра. В коммуне имени Ф.Э. Дзержинского игра пронизывала всю нашу жизнь. Часто было трудно установить, где кончалась игра и начинался труд. Идем собирать урожай кукурузы. Командир — мальчик Федя Молчанов. Он командует на том простом основании, что лучше других знает эту работу. И все ему подчиняются. Я в его бригаде. Он подчеркнуто вежлив со мной, как с педагогом, но я показываю образец дисциплинированности, показываю, как надо уметь подчиняться. Получив от него распоряжение, четко говорю: «Есть!» и сразу приступаю к работе, изо всех сил стараясь отлично выполнить его распоряжение. Вот мы на бахче. Тут командует агроном, потому что он лучше знает, что и как делать. Потом в классе этот Федя Молчанов безоговорочно подчиняется мне, учителю, следуя моему примеру дисциплинированности. Это тоже игра, прекрасная игра, и нарушить правила этой игры никто не мог. Или мы готовимся к встрече великого писателя А.М. Горького. Дело было летом в покос. Столовая у нас тогда была тесная. Мы же хотели сесть за столом вместе с великим другом и потому решили: врыть столы и скамьи во дворе. Но мог пойти дождь, а в ясный день высокие сосны давали мало тени от знойного солнца. Решили построить огромную беседку с крышей. Это поручили нам, клубному совету. Ребята у меня были самые живые, сообразительные, но нам пришлось задуматься: из чего делать беседку? Никаких стройматериалов нет! Последние доски израсходованы на столы и скамьи. Мы влезли на сосны и стали привязывать к ним шпагат, перебрасывая клубки от одного дерева к другому на шестиметровой высоте. Когда над столами получилась достаточно густая и прочная сетка, застелили её надежным слоем сена. Затем украсили гирляндами вход и позвали Макаренко всем этим полюбоваться. Антон Семёнович посмотрел и спросил: «А где же ослепительная красота?» Он был эстетом и требовал, чтобы во всем была красота. Надо было сделать из воздуха ослепительную красоту, сотворить из ничего что-то. Думать пришлось долго, «орешек» попался «ничего себе»! Только к двум часам ночи юные техники нашли ответ: сделать розы трёхметрового диаметра из цветной бумаги и украсить ими гигантскую беседку. Но уже близок рассвет, а днем должен приехать Горький. Сроки! Темпы! Время! Как сумасшедший ворвался я к Антону Семёновичу и закричал: «Давай воз цветной бумаги, медной проволоки для скрепления лепестков и листьев!» Он сладко спал. Услышав мой крик, он вскочил как ошпаренный, молча мгновенно оделся. Через пять минут уже запрягали Малыша — нашу единственную тогда транспортную силу, мерина, которому не бы–9– ло еще ста лет, и на полной скорости — километра полтора в час — помчались в Харьков добывать цветную бумагу. Розы вышли великолепные. Благодаря им беседка была видна от самого Харькова, за восемь километров. И она «убила» всю нашу бедность блеском роскоши. Ослепительная красота была налицо. Но она могла родиться только на базе высокой взаимной требовательности и большого творческого труда коллектива. Это тоже игра, которая необходима в процессе воспитания ребят. Мы, взрослые, не обходимся без игры, а детям она особенно необходима. Нельзя лишать детей золотого детства. При игре работа делается легко и быстро, время летит незаметно. Даже в самые обычные и, казалось бы, скучные дела надо вносить элементы игры, и работа покажется увлекательной и прекрасной. Вот, например, заготовка дров. 1925 год. Я прибыл на работу в колонию имени А.М. Горького. Поздняя осень. Захолодало. В колонии нет топлива. Сводный отряд, который назывался горячим, самыми примитивными орудиями — ломами, топорами да лопатами — корчует в лесу пни. Мне, как и всем новым педагогам, доставляют дрова к самой квартире. Женщины-педагоги искренне благодарят. Я же чувствую себя неудобно, так как мне 27 лет и я вполне здоров. Иду к Антону Семёновичу, прошу «отставить» это дело: я, мол, сам нарублю. Антон Семёнович улыбается: «А зачем такое интеллигентское кокетство? Не беспокойтесь. Вам работы хватит, пусть каждый делает то, что нужно всем. Мы не боимся разумного разделения труда». Это труд, важный и серьёзный труд, но в то же время это и игра. Игра в «горячий отряд», игра в хорошее разделение труда, игра в «спасибо», в основе которой, как и в случае со скамеечками, лежит желание не быть облагодетельствованными, а чувствовать себя полезными, нужными обществу людьми. Поэтому ребята любят услышать слово «спасибо». И действительно, первое слово, которое говорил каждый прибывший в колонию, было «спасибо». Еще хочется отметить игру «Не пищать!» — игру, которая помогла нам в трудные минуты жизни. Однажды мы тонули в непроходимом болоте, тонули самым настоящим образом, но мы не могли утонуть, никак не могли, потому что каждый держал себя очень бодро, помня лозунг «Не пищать!», и поэтому мы победили. Или вот маленький эпизод на привале. Сережа Соколов попробовал полную ложку горячего супа, прямо из котла. «Ухх...», — он обжег рот. Трудно в такое мгновение улыбаться, но усилием воли он заставил себя улыбнуться во весь свой обожжённый рот. Всем Сережина игра понятна. А смеются ребята не потому, что смешно, а просто от удовольствия, от радости, что вот парень марку нашу не уронил. Стиль — «не пищать!» Его нигде нарушать нельзя! И думается, что если бы его сейчас схватил за ногу крокодил, то он тоже нашел бы в себе силы улыбнуться. Это умение надо воспитывать. Нехорошо, когда человек корчит из себя не то, что он есть на самом деле, но также плохо, если он «расползается» и в трудную минуту не может улыбаться. Связь игры н творчества со многими другими насущными педагогическими вопросами столь велика, что трудно представить себе возможность практически до конца решить все задачи по воспитанию подрастающего поколения, поставленные XXII съездом партии, рассматривая вопросы игры и творчества отдельно от всей организации жизни детей. Нельзя из песни выкинуть слово. Нельзя из сложной системы воспитания детей — будущих строителей самого прекрасного, коммунистического общества — выбрасывать важные детали. ВИНОВНИК — БЕСПОРЯДОК О воспитании вообще и о трудовом воспитании в частности сказано много мудрых слов. Полностью же решить этот важнейший вопрос можно только при охвате всех смежных вопросов, которые лишь недальновидным могут показаться второстепенными. Не будем спорить, если кто-либо заявит, что у стола самой важной частью является верхняя поверхность, на которую мы ставим посуду, когда едим. Пусть так, пожалуйста. Но без ножек-то стол стоять не будет, а их у обычного стола целых четыре. Не доделай одну — и вся еда полетит на пол вместе со столом. Так что если мы хотим сделать прочный стол, то должны ясно представить себе всю его конструкцию в целом, не пренебрегая никакими несущественными деталями, а также понять взаимосвязь всех его частей. В процессе воспитания, как и в процессе изготовления стола, важно рассматривать все необходимые детали в одном большом целом. Если же хоть одна деталь оказалась негодной или пусть даже все части хороши, но собраны неправильно, результаты воспитания могут быть самые неожиданные. Может быть налицо и учебный процесс, и трудовое воспитание, и кружки, и все, что полагается, а нужных результатов нет. Если потом «воспитанник» оказывается на скамье подсудимых, то неизвестно, кто именно сделал брак, кого винить. А виною всему является отсутствие системы, порядка коллективной работы. Значит, виноват беспорядок. Но где же беспорядок? Где кроется «подсудимый»? Он кроется в плохой, нерациональной с точки зрения наших воспитательных целей организации всех видов деятельности детей в учебе, труде и отдыхе. Вопрос трудового воспитания связан с организацией отдыха детей, без которого нельзя успешно осуществлять их трудовое воспитание. Зависимость трудового воспитания от отдыха так велика, что нельзя рассчитывать на эффективное воспитание, если отдых построен неверно. А между тем такой наивный просчёт иногда бывает налицо. Некоторые педагоги искренне стараются отлично осуществить трудовое воспитание, а отдыху не уделяют должного внимания. В результате досуг детей организован неверно, иногда просто плохо, беспорядочно, бессистемно, хаотически. Или он перегружен до степени лихорадочной суетливости и пресыщает детей изобилием разных удовольствий, или же он просто трафаретно скучен, беден формами и убог по содержанию. Важно напомнить, что у замечательного советского педагога А.С. Макаренко во внеклассной работе никогда не было бес порядка. При всем многообразии непрерывно менявшихся форм и методов занятий с детьми не бывало ничего случайного, непродуманного. Это проявлялось в четком и точном, до минуты рассчитанном расписании занятий кружков, развлечений, игр, экскурсий, выставок и т. д. Как на уроках, так и в отдыхе всегда было что-то новое. Каждый коммунар всегда мог прочитать, что именно будет, например, через три недели в пятницу в 18 часов 20 минут, какие запроектированы удовольствия, работы, развлечения, сколько времени будет длиться то или иное занятие, где оно будет происходить, что лично он будет делать, кто будет руководить. И каждый знал, что этот планрасписание воспитательной работы, как и расписание уроков в школе, будет выполнен и что тут никаких беспорядков, срывов, опозданий, переносов, истерик и тому подобного никогда не будет. И никогда не было в этом расписании ни тени демагогии, пи тени насилия или бездушного формализма со стороны педагогов. Всё было построено на базе интересов каждого учащегося, которые подчинялись интересам всего коллектива в целом. Так что интересы коллектива стояли всегда выше личных. Этот план-календарь вёл вперед, а не копировал желания каждого. Когда есть чёткий порядок (который можно изменять хоть каждый день, если это надо), когда есть система работы, режим, определяющий все на 24 часа в сутки, а не только на время уроков, тогда можно успешно развивать и воспитывать учащихся. Если чёткого порядка нет, если временем швыряемся непродуманно, тогда очень трудно успешно воспитать детей, развить их творческую активность. Если нет порядка, могут получиться такие, например, безобразнейшие явления, когда одного и того же ребёнка преподаватель физкультуры накачивает идеей создания спортивной площадки, а учитель физики вдохновляет на изготовление пособия по физике, в то же – 11 – время этот же ученик с преподавателем музыки сочиняет песни, с художником творит картины и т.д. Юного творца перегружают, рвут на части и сообща таким образом творят безобразие. А жертвой безобразия могут быть, и чаще всего бывают, самые лучшие дети, самые активные, готовые на всё. И в то самое время, когда этих активистов так дико разрывают на части, менее активные дети, которые особенно нуждаются в воспитании и развитии, в помощи педагога, остаются без внимания, потому что с ними много работы, а иным педагогам нужен показной результат их труда, а не воспитание всех детей. Например, руководитель хора. С него требуют выступление хора в концерте, и он тянет к себе активных детей, с которыми он скорее и с большим блеском сделает то, что от него требуют. Поэтому у него нет времени, да и намерения увидеть Чайковского среди детей, так как этот будущий Чайковский не всегда сам проявляет свой талант. Его надо и заметить, и пробудить, и вырастить, не жалея на то ни сил, ни времени. Кто виноват в этом? Прежде всего опять-таки беспорядок, который внешне может выглядеть как самый образцовый порядок, а быть беспорядком по существу. Но бывает и организованный беспорядок. И это, пожалуй, самый страшный беспорядок. Вот, например, провели мы беседу о Владимире Ильиче Ленине. Она произвела глубокое впечатление. И только что мы кончили, детей торопят купаться или играть в баскетбол. А вот девочка задумалась и... опоздала на соревнования. И уже её бранят. Когда все сразу вскочили и побежали, мне стало не по себе и я невольно подумал: «Вот нарисовали в душе детей прекрасный образ великого человека, но его стерли этим криком. Если и не совсем, то размазали». Зачем этот порхающий темп? Он не всегда хорош. Этот темп Макаренко именовал «темпом угорелых кошек». Вялость, медлительность тоже нехороши, надо воспитывать находчивость, быстроту мышления и действия. По, воспитывая эти качества, надо следить за тем, как бы на крутых поворотах вас не снесло в сторону. Особенно тяжело сказывается этот темп «угорелых кошек» на творческой работе с детьми. Бывает так: только подошли к решению сложной творческой задачи, а тут бежит дежурный какой-то, кричит: «Клоун приехал! Будет медведь что-то на чём-то вертеть!..» И всё бросили, побежали. Это уже беда. Погоня за мероприятиями, за количеством — это бешеная скачка с препятствиями, нагороженными тем же беспорядком и сутолокой. А в результате — скучища страшная, рты дерёт зевота. Потом опять — нагромождение событий. В практике А.С. Макаренко план-расписание внеклассных занятий нес детям радость, сулил много нового, интересного, увлекательного. И это не были только развлечения и наслаждения. План проектировал напряжение творческих сил, стимулировал ребят на активные и полезные действия. Как глубоко был прав Макаренко, когда обращал особенное внимание не только на хорошее качество выставок, концертов, спектаклей, но и на вовлечение всех детей во внеклассную работу. Макаренко категорически требовал от меня (о чем он пишет в «Марше 30 года») планов и точного учета занятий каждого воспитанника вне школы на каждый день. Таким образом, не только в часы занятий в школе и работы на заводах, но и в любую минуту досуга мы знали, кто из коммунаров в эту минуту где находится и чем занят. Если бы такого порядка не было, то в последние годы, когда количество коммунаров достигало 960 человек, мы, безусловно, не смогли бы удачно организовать воспитательную работу. Ни трудовое воспитание на заводах, ни воспитание на уроки в процессе учёбы, ни один из этих главнейших процессов формирования советского человека не мог бы проходить отлично, если бы отдых не был построен педагогически правильно, упорядоченно, продуманно, так как отдых готовит детей к успешному труду на заводе, к отличной учёбе в школе, к полнокровной жизни строителя коммунизма. Настроить, подготовить к труду и жизни человека с детства — задача очень важная. Прекрасный человек замечательного будущего — это, очевидно, человек могучий, очень умный, несомненно, всесторонне раз витый, с широким полетом мысли, с большими дерзаниями и проектами новых и новых открытий и достижений на благо человечества. Такого человека и создавала педагогическая система Макаренко. И её надо брать на вооружение, совершенствовать, развивать! – 13 – С.А. Калабалип САМАЯ РЕШАЮЩАЯ ВЕЩЬ1 Откровенно говоря, я не совсем подготовлен для разговора на такую ответственную тему: о педагогическом мастерстве Антона Семёновича Макаренко. К моему сожалению, я не учился в педагогическом вузе, а закончил инженерно-мелиоративный институт. Но я считаю, что при желании воспитателем может быть каждый человек, который овладеет педагогическими знаниями и умениями. Педагогику я очень люблю и приношу ей низкий поклон. Эту любовь я унаследовал от Антона Семёновича Макаренко. Некоторые считают, что Антон Семёнович неприязненно относился к педагогике, но это неверно: он неприязненно относился не к педагогике, а к отдельным «толкователям» её, которые такую преподают «педагогику» и так подают её, что сразу же пропадает вкус, пропадает любовь к науке. Я как-то слушал одного оратора, который говорил о красоте русского языка, о красоте украинского языка, о языке вообще, но говорил он так, как будто набрал полный рот немытой шерсти и жевал её. Вот так иногда подают и педагогику. А.С. Макаренко имел педагогическое образование. С 1905 по 1920 год он работал только учителем, но с первых же дней учительской практики был и воспитателем. Я очень хорошо знаю Антона Семёновича не только как воспитателя, но и как учителя. Мы, первые воспитанники, вступили в колонию малограмотными и чудовищно невежественными людьми, подростками и юношами от 12 до 20 лет. Несмотря па это, Антон Семёнович ухитрился за два года подготовить нас к поступлению на рабфак. Это, несомненно, нужно отнести за счёт учительского мастерства его и двух воспитательниц — Лидии Николаевны и Елизаветы Федоровны. (Елизавета Федоровна здравствует и поныне, а Лидия Николаевна умерла.) Колония вначале именовалась колонией правонарушителей, даже преступников. Только с 1923 года мы стали называться детской колонией имени А.М. Горького. Мы нигде этого не оформили, а сами стали себя так называть и переделали штамп и печать. Кроме 4—5 часов работы в школе, такого же количества времени в мастерской или в поле, Антон Семёнович с группой воспитанников, которых готовил к поступлению на рабфак, занимался ещё по четыре часа в день дополнительно. Всё это — не считая большой работы по самообслуживанию в колонии. И вот так, усталые, не всегда сытые, мы сидели вечерами на кроватях и при свете каганцов готовились к поступлению на рабфак. Знаете ли вы, что такое каганец? В разбитом черепке горело вонючее масло — вот и каганец. Не очень-то хорошее освещение, но Антон Семёнович умел так излагать предмет, так увлекал нас, выходя далеко за рамки учебника, что учёба не была для нас обузой, — это были чуть ли не спортивные, весьма увлекательные занятия. Все мы были взрослые люди, и Антон Семёнович иногда не стеснялся говорить со мной в таком тоне: — Красивый ты, Семён, и стройный, но дурак невероятный. И так он произносил эти слова, что я не обижался и спрашивал: — А что нужно делать, чтобы не быть дураком? — Нужно учиться. — Так я же учусь. — Нет, нужно не просто «учиться», а учиться буквально каждую минуту и на каждом квадратном метре нашей необъятной земли. Нужно уметь читать. Вот прочитай мне такуюто книгу и перескажи то, что прочитал. Я начинал пересказывать, и оказывалось, что я действительно не умею читать. 1 Стенограмма беседы С.А. Калабалина с группой учителей московском школы № 27, сотрудников и актива редакции педагогики Учпедгиза 2 октября 1962 г. (Пр и м. р е д. ) И Антон Семёнович не просто учил нас, а учил читать, видеть, понимать — учил учиться. Зажег он в нас жажду к знаниям — спасибо ему за это великое! Осилив поистине невероятную академическую нагрузку, мы подготовились к поступлению на рабфак. Мы понимали, что не одни мы испытываем тяжесть этой нагрузки, терпим лишения в смысле полного отсутствия свободного времени и т.д., но и Антон Семёнович был страшно перегружен. Мы поневоле стали участниками его педагогического подвига, совершаемого изо дня в день без какой-либо рисовки или позы. А.С. Макаренко в то время сам преподавал историю, русский язык, немецкий язык, черчение, рисование, математику и даже музыку. Он рисовал хорошо! Я помню прекрасный портрет девочки его работы, который находится в настоящее время в мемориальном музее. Так вот, он преподавал различные предметы, но я никогда не видел его на занятиях с учебником. Он сам — всегда спортивно подтянутый, бодрый, одухотворенно красивый— был самым ярким, самым умным учебником. Мы считали, что Антон Семёнович абсолютно всё знает, всё умеет. Его собственно воспитательское мастерство мне ближе и понятнее, чем учительское. Об этом великом, замечательном искусстве, основанном на науке — педагогике (подчеркиваю — суверенной науке о коммунистическом воспитании), я могу рассказать больше, но не в форме теоретических рассуждений, а приводя в качестве примеров различные эпизоды, участником которых я был вначале лишь как «жертва» той искусной воспитательной атаки, которую развернул А.С. Макаренко в битве за человека новой эпохи. Антон Семёнович не применял каких-либо «особых» мер. Он всегда оставался самим собой и влиял на нас своим человеческим достоинством, человеческой прелестью, любовью к детям и прежде всего громадной требовательностью. Нужно вам напомнить, что то были годы великих событий, которые переживало наше племя с начала гражданской войны. Некоторые из нас стали порочными людьми больше всего потому, что были оскорблены, измяты, поражены, изранены этими событиями и стали жертвами их. Теперь под «трудными» детьми понимают другую породу — трудными детьми называют тех, кто не вмещается в общественные нормы поведения, как мы себе их представляем. Но в тот период эти же условия, эти же лишения, эти же удары воспринимал в такой же мере и наш советский педагог-воспитатель. Разрешите перейти к рабочим эпизодам, присущим Антону Семёновичу как человеку, обладавшему «даром божим», который был в конечном счёте результатом его исключительно высокой человеческой культуры. Первые воспитанники Макаренко, как правило, были квалифицированными уголовниками и не только уголовниками бытового плана, но и участниками уголовных и политических банд. В 1920 году, 20 декабря, я впервые встретился с Антоном Семёновичем в тюрьме. Он пытался забрать меня раньше, но его предупредили: «Возьмите Калабалина позже, мы и в тюрьме с этим Семёном никак не справимся». Однако Антон Семёнович решил иначе. Привели меня в кабинет начальника тюрьмы. Раньше, когда меня надзиратель вводил в кабинет начальника, он всегда сильно толкал при этом в спину, а я не обижался, считал, что это у него такая толкательная специальность. Хотя на этот раз он меня слабо толкнул, я, увидев в кабинете постороннего человека, не пахнущего тюремным запахом, протестующе оглянулся на надзирателя, и только из этого движения моего Макаренко заключил, что перед ним мальчик гордый, у которого есть самолюбие. Он подошел ко мне и несколько наивно спросил: — Правда, что тебя Семёном зовут? — Правда. — Так это чертовски здорово, что тебя Семёном зовут! Мы с тобой почти тезки — меня Антоном Семёновичем зовут. Это было сказано так хорошо, так по-человечески, подкупающе звучало! Антон Семёнович продолжал: – 15 – — Ты меня извини, голубчик, это из-за меня тебя сюда попросили. Слово «голубчик» я воспринял как иностранное слово, потому что до сих пор я слышал только всякую ругань. Ко мне обращались в тюрьме только с такими словами: «бандюга», «ворюга», «негодяй» и т. д., а тут вдруг такие речи: «голубчик», «извини»... — Извини, что я тебя побеспокоил. — Ничего, — говорю. Антон Семёнович продолжает: — Видишь ли, я организую очень интересное дело и хочу, чтобы ты принял в нём участие. Должен прямо сказать, что мне сразу понравился этот человек. Особенно понравился мне его нос: очень большой, такие у нас на Руси редко бывают. Понравилось и его пенсне в золотой оправе, и его спортивное изящество. И я подумал: «Надо согласиться с просьбой такого приятного человека». Я сказал: — Согласен. Он говорит: — Вот хорошо, вот спасибо. Если есть у тебя вещи, забирай их и пойдем. Я ответил, что у меня всего два чемодана, причём оба при мне и оба пустые. И я показал на свою голову и живот. — Очень удобно. Попрощайся с начальником и пойдем. Я сделал какое-то неопределенное движение ногами и сказал: «До свидания». Я ещё не верил тогда, что всё так будет, что я навсегда ухожу из тюрьмы. А Антон Семёнович говорит: — Действительно, у тебя чемоданчик верхний пустой. Ты что, думаешь ещё сюда вернуться? — Нет, нет! И я поспешил сказать: «Прощайте!» Так оно и получилось: я на всю жизнь распрощался с тюрьмой, и это только благодаря Антону Семёновичу, с первой минуты сумевшему разглядеть во мне под блатной шелухой юношескую гордость, чувство собственного достоинства. Вы посмотрите, как он вёл себя! Ведь тут, в тюрьме, на столе начальника лежало мое толстое дело, и Макаренко мог поступить совершенно по-иному. Каждый раз, когда начальник тюрьмы вызывал меня к себе, он, имея перед глазами это дело, все же громко и грубо кричал: «Как фамилие?!» А тут — ни звука о моем прошлом, ни намека на какие-то обязательства быть «хорошим мальчиком», «исправиться» и т.п. Мы вышли из ворот тюрьмы, а я всё ещё не верил, что действительно вышел из тюрьмы с этим человеком, который мне так понравился. Я оглянулся и посмотрел: не идёт ли за мной надзиратель, но никого не было. И вот во мне вспыхнуло громадное чувство благодарности к этому человеку, и захотелось быть поближе к нему, чтобы он чувствовал, что я рядом. А он как будто ничего не видел, не замечал. Он просто был человеком, а рядом с ним и я почувствовал, что я — тоже человек. Уже тогда подумал: «От этого человека никогда не уйду, не сделаю ему неприятного». Когда мы пришли во двор наробраза, он меня поразил ещё раз. — Вот, — говорит, — это наш конь, а это наш шарабан. У меня к тебе, Семён, есть просьба: много у меня всяких дел, а нужно получить продукты. Так вот, ты получи продукты, а я отправлюсь по разным делам. Достает из кармана документы. Спрашивает: — Ты грамотный? Сможешь расписаться? — Могу, — говорю. Я действительно ухитрился, несмотря па свое покалеченное детство, кончить четыре класса приходской школы да полтора года в тюрьме — это уже почти среднее педагогическое образование. Должен сказать, что мне стало нехорошо. Думаю: «Очевидно, он хочет меня испытать». Он подал мне бумаги и ничего не сказал, где и что получать, наверно, с расчётом на то, что у меня всё же есть мозги. Соображу, мол, сам... Я говорю: — Хорошо, получу. Но, уже уходя, Антон Семёнович небрежно бросил такую фразу. — Знаешь, Семён, меня, как правило, весовщики обвешивают и обсчитывают, так ты там смотри. Я пошел получать и сообразил, как и что получить. Пришел Антон Семёнович. Я ждал, что он будет проверять, взвешивать, но он сказал только: — Получил? Вот и хорошо. Давай поедем. Я стеснялся сесть с ним рядом, но он сказал: — Садись, я около тебя погреюсь. Вынул он семечки и говорит: — Грызи. Я отказался. Неудобно мне было у интеллигентного человека брать семечки. Он сухую шелуху бросал от каждого семечка, а я так не умел — не привык. Я привык по 20—30 семечек сразу разгрызать, но это было в присутствии Антона Семёновича как-то неудобно. А он вдруг заявил: — Ну и скупой же ты, Семён, семечки не берешь. — Я скупой?! — Конечно! Через три года у каждого из нас будут шоколадные конфеты, и вот я приду к тебе тогда и попрошу конфет, но как вспомню, что ты семечек у меня не брал, вернусь обратно. Тогда я сказал: — Давайте ваши семечки! Я их взял и стал целиком глотать. А Антон Семёнович спрашивает: — А что, Семен, если бы я тебе предложил жменю гаек, мог бы ты их погрызть? — Мог бы! Тогда он очень мягко: — Выплюнь эту гадость... Только мы отъехали метров 200 — тёмный переулок. Антон Семёнович вдруг оглянулся и говорит: — На складе, очевидно, произошло какое-то недоразумение. Я туда забегал узнать, когда следующий день для получения продуктов, и вот кладовщики утверждают, что дали тебе на две буханки хлеба больше, чем полагалось. Тут мне впервые сделалось нехорошо, стыдно (совести у меня тогда ещё не было, но я испытал какое-то ощущение вроде стыда). Антон Семёнович продолжает: — Возьми, пожалуйста, эти буханки и отнеси на склад, я буду тебя ждать. Ты не беспокойся, я подожду обязательно! (А ведь ему бы надо побеспокоиться: вдруг я не вернусь?!) Но я вернулся и очень торопился, чтобы у Антона Семёновича не возникло беспокойства, что я улизну... А с буханками этими дело обстояло так. Когда я пришел на склад, я вспомнил замечание Антона Семёновича: смотри, чтобы тебя не обвесили и не обсчитали. Вот я и постарался, чтобы меня не обсчитали. Гимнастика рук у меня была прекрасная, и две липшие буханки хлеба совершенно незаметно оказались в мешке. Я вернул буханки и прибежал к Антону Семёновичу. Думал, что он начнёт меня пробирать, по он этого не сделал. Мне даже хотелось, чтобы он меня отругал, очень хотелось. Но Антон Семёнович обманул мои ожидания... Много позднее я понял, что в этом незначительном, казалось бы, факте проявилась принципиальная педагогическая позиция Антона Семёновича, который был непримиримым противником пустопорожнего словесного морализирования. – 17 – Вот приходит на память интересный случай, рассказанный Натальей Чудной, бывшей воспитанницей коммуны имени Ф.Э. Дзержинского (теперь она народный судья)1. — У нас в коммуне, — вспоминает она, — был неплохой фруктовый сад, гордость наших ребят. Мы заботливо ухаживали за деревьями, ежегодно собирали урожай яблок, слив и груш, который шел в нашу коммунарскую столовую. Но далеко не всегда кое-кто из нас мог дождаться созревания фруктов! Однажды я вместе со своей подругой Аней Красниковой взобралась на дерево, где не было еще ни одного созревшего яблока. Мы уютно умостились на ветках и рвали яблоки, складывая их в подолы платьев. Вдруг на аллее показался Антон Семёнович. «Антон идёт», — шепнула я. Мы обе замерли, затаив дыхание. Когда Антон Семёнович поравнялся с нашим деревом, у кого-то из нас выпало яблоко и покатилось прямо к его ногам. Макаренко поднял голову и увидел нас. Мы могли ожидать чего угодно, только не того, что произошло. Антон Семёнович спокойно приказал нам слезть и, видя, что взобрались мы довольно высоко, даже помог спуститься с дерева... Ну, думаем, сейчас Макаренко отчитает нас или скажет, что передаст вопрос на совет командиров. Но ничего этого не случилось. Антон Семёнович велел нам идти в корпус. Шли мы вместе с ним молча, он не проронил ни слова. В вестибюле он сказал: — Положите яблоки здесь и идите отдыхать... Шли дни, недели, а на совет командиров нас не вызывали. Мы с Аней были в полном недоумении: ведь рвать яблоки, а тем более зелёные, было в коммуне строго-настрого запрещено, и этот проступок сам по себе не являлся таким уж незначительным и незаметным, тем более что сам Антон Семёнович застал нас на месте «преступления»! Наше недоумение, однако, рассеялось. Когда созрел урожай, коммунары вошли в столовую и увидели, что на каждой тарелке лежат по два крупных отборных спелых яблока. На наших же тарелках — моей и Аниной — лежали по два сморщенных зеленца. Мы сразу поняли, в чем дело, и молча прикусили губы. Но ребята за соседними столами спросили дежурного по столовой: — Почему Наташе и Ане попались такие яблоки? Дежурный ответил: — Антон Семёнович сказал, что они своим яблокам не дали вырасти... Могло ли какое угодно наказание быть сильнее по своему моральному воздействию?.. А вот расскажу вам такой случай: по заданию А.С. Макаренко я в 1935 году организовал в Виннице колонию для рецидивистов — каждый из ребят имел не менее 3—4 судимостей. К 1937 году колония отличалась уже исключительной организованностью, жизнерадостностью, «мажором» макаренковского звучания. Было свое производство, и был коллектив самого приятного коммунистического стиля и тона, а работали в колонии только три воспитателя, не считая учителей школы. Был у нас великолепный духовой оркестр на 64 инструмента, играли классические вещи. Вышел я как-то во двор и слышу: со стороны парка плывут звуки похоронного марша. Должен сказать, что наш оркестр рекомендовал себя хорошо и нас часто приглашали на похороны. Я пошёл в том направлении, откуда слышалась музыка. Музыканты настолько увлеклись, что даже не заметили моего приближения. Я подошел и увидел, что под большой ивой группа ребят что-то делала, а в центре, на возвышении, стоял воспитанник Лира. Этот Лира, начисто лишенный ораторского дара, вдруг заговорил, да как! — Дорогие ребята и вообще пацаны! Я как посмотрю на этот бездыханный труп, так вся душа дрожит и аж сердце кровью обливается. Но вообще давайте скорее закапывать, чтобы не наскочил Семён. Мне стало страшно: может быть, они ухлопали кого-то из ребят, закопают его и скажут, что он убежал. Я решил заявить о себе. Говорю: — Товарищи, разрешите мне слово. См. Сборник «Удивительный человечище». Воспоминания о А.С. Макаренко, Харьковское книжное издательство, 1959, стр. 38—40. 1 Подошел к пню, который служил трибуной Лире, и увидел такую картину. Стоит гроб, сделанный но всем правилам гробостроительной техники, даже отделанный рюшем из марли. В гробу лежит собака. Посмотрел я на ребят, а у них глаза, как у тоскующего быка. Что хотите, то и делайте с нами... И тут я понял, что вся эта история затеяна ими потому, что они давно не играли по-настоящему. Они познали многое: что такое разврат, лишения, картежные игры, тюрьмы и т.д., но они прошли мимо неповторимого творческого периода, когда дети сами выбирают для себя игры. А тут вдруг они решили оформить в такую игру гибель любимой собаки. При каких-то обстоятельствах эта собака, неизвестно откуда попавшая к нам, погибла. Её все в колонии любили. Ребята выкопали яму и хотели её туда бросить, но потом решили, что так неинтересно. Сделали прекрасный гроб, все приготовили как следует... И вот со мной произошло какое-то странное «педагогическое замыкание». Отстранив Лиру, я влез на возвышение и сказал: — Как же мы — 300 человек — не могли уберечь драгоценную для нас жизнь этого пёсика, нашего незабвенного Бобика?! Давайте же все траурно гавкнем над его могилой. Ни один не «гавкнул». И только один, удивительно у нас «способный» мальчик, около 20 лет, из которых большую половину он успешно провёл в первом классе, раскрыл было рог, но его остановили. Уже после похорон я решил их несколько растормошить: — Любовь к животным — очень хорошая черта, но даже помещики не хоронили так своих собак, не отпевали их траурными мелодиями Бетховена— это уже нехорошо. Ведь может так случиться, что я завтра умру, и вы будете этот похоронный марш играть на моей могиле? Тогда этот «способный» мальчик из первого класса сказал: — Нет, мы для вас другой марш сыграем. Когда я рассказал об этом эпизоде Антону Семёновичу, он здорово хохотал и сказал, что это прекрасно получилось. Ребята ждали моего гнева и готовы были воспринять любой мой протест в форме какой угодно кары, а я совершенно неожиданно для них включился в их игру. Макаренко утверждал, что если в природе можно насчитать миллион проступков, то мер воздействия должно быть два миллиона. И у него было два миллиона мер воздействия. За 19 лет жизни рядом с ним я не знаю случая, чтобы он повторился. Однажды Антон Семёнович вызвал меня и приказал: — Поедешь в банк! — Есть! — ответил я. Нужно было экипироваться, хорошо почистить лошадь. Через 10 минут я пришёл к нему. Он заполнял чек. Я посмотрел — чек на 25 тысяч. До этого я больше семи тысяч не привозил. От сознания, что мне доверяют 25 тысяч рублей, я наполнился таким чувством собственного величия, что даже плюхнулся животом на стол. Вдруг Антон Семёнович говорит: — Пожалуйста, принеси мне подушку. — Есть! А чью подушку? — Пожалуй, лучше если свою. Уже у двери у меня возникло какое-то предчувствие, я почувствовал, что это не зря ему подушка понадобилась. Я тихо спросил: — А зачем вам, Антон Семёнович, подушка? — Да мне она не нужна. Это я о тебе забочусь. Ведь стол жесткий. Я положу подушку на стол, и когда тебе придется вот так же плюхаться на стол, локтям будет помягче и вообще удобнее. Я чувствовал, что буквально сгораю. А Антон Семёнович как ни в чём не бывало спокойно продолжал: — Лошадь напоил? — Напоил... – 19 – — Пойди сам напейся. Едва дождавшись чека, я пулей вылетел из кабинета. Другой эпизод: был у нас воспитанник Гриша Бурун, который очень горбился, очевидно, привык к такой повадке за время воровской жизни. Однажды Антон Семёнович говорит ему: — Пойди, пожалуйста, к Семёну, скажи ему, чтобы он вырезал прямоугольный треугольник, две стороны которого по 6 сантиметров. Гриша пришел в мастерскую, боднул меня низко наклоненной головой и сказал: — Сделай Антону треугольник. Он, конечно, не догадывался, для чего это нужно. Я понял, что это неспроста, и с увлечением принялся за дело. Через несколько минут Гриша вышел во двор, а мы все, кто был в мастерской, бросили работу и прильнули к окнам: «Что-то будет!» Принёс, а Антон Семёнович и говорит: — Давай, Григорий, подними голову. Поносишь этот подбородник и выровняешься. Я боюсь, что ты, такой интересный, красивый мужчина, и вдруг останешься горбатым. Гриша воскликнул: — Я и так теперь никогда не буду горбиться! Мастерская содрогалась от нашего хохота, рвавшегося во двор. Антон Семёнович повернулся и ушел. После этого Гриша стал ходить очень стройно, и, когда он потом учился в инженерном институте, его выдвинули в военно-инженерную академию именно потому, что он был всегда строен, подтянут 1. Вообще чувство юмора — великий союзник педагога. Интересно об этом рассказывает в своих воспоминаниях о Макаренко Елена Пихоцкая. «Антон Семёнович,— вспоминает она,— был очень живым, остроумным человеком. Свой природный юмор он часто использовал для педагогических целей. Находчивость и выдумки Макаренко поражали подчас всех, а шутки его были понятны даже самому маленькому коммунару. Нельзя без смеха вспомнить «Музей древних находок», устроенный Антоном Семёновичем у себя в кабинете. На «стендах» этого «музея» мы могли видеть пустую коробочку из-под крема для обуви, старую зубную щетку, носок, чулок, резец для токарного станка. Все эти вещи Антон Семёнович обнаруживал во время обхода спален после генеральной уборки. Он молча забирал их. Сначала мы не знали для чего. Но вскоре в кабинете появилась эта странная выставка с надписями: «Руками не трогать», «Экспонат XVI века», «Экспонат XVIII века» и т. д. В кабинет началось паломничество коммунаров. Каждый хотел взглянуть на диковинную выставку, кое-кто узнавал здесь свои вещи и, потупив взор, покидал кабинет. Макаренко никого не стыдил, не укорял, не называл фамилий ребят, у которых были взяты эти вещи. Но для всех это был памятный урок. Каждый стал следить за чистотой в тумбочках и шкафах: никому не хотелось пополнять «музей» новыми экспонатами»2 (курсив мой.— С. К.). Однажды мы шли с Антоном Семёновичем вместе и вдруг он обратил мое внимание: — Смотри, говорит, Семен, это же живой человеческий организм. Я поглядел: лежит какая-то бесформенная куча тряпья. Антон Семёнович подошел к ней и говорит: — Послушайте, здесь очень неудобно лежать. Я думаю: «С кем это он разговаривает?» Вдруг из-под тряпья хрипло прозвучало: — Проходи мимо. Мне и здесь хорошо. Еще интеллигент,— заслонил мне солнце! Антон Семёнович написал на бумажке адрес нашей колонии и оставил его возле «философа». Мы пошли дальше. Это было в марте, а в ноябре появился этот парень и, придя в кабинет к Макаренко, сказал: — Это вы заведуете колонией? А я — «живой человеческий организм». Помните? 1 Григорий Супрун — полковник Советской Армии, воевал всю Отечественную войну, умер от ран вскоре после войны. (Прим. автора.) 2 Сборник «Удивительный человечище», Харьковское книжное издательство, 1959, стр. 52. Это был Вася Гуд, тог самый Вася Гуд, который перед приездом А.М. Горького в колонию предложил сшить ему сапоги, но мы отвергли это предложение и написали Горькому свои биографии... Как-то раз девочки прибежали к Антону Семёновичу и сообщили, что Вася ругался; все мальчики, мол, уже не ругаются, а Вася так ругался, что даже ласточка выпала из гнезда на землю от его ругани. Антон Семёнович немедленно вызвал Васю к себе. Я побежал за Гудом. Он спрашивает: — За что? Так у нас повелось, что если вызывают «к Антону», — значит, в чем-то провинился, а если «в кабинет», то можно спросить — по какому делу. Глаза у Васи были какие-то бездонные, зрачки без ободка, а ресницы таким веером — только бы девушке подстать. Но Вася не подозревал о красоте своих глаз и не пользовался этим. Антон Семёнович говорил, что иногда полезно испугать даже ребёнка. Разве иногда матери не говорят своим детям, что в шкафу баба-яга живет и т.д.? Чувство страха может затормозить развивающийся у ребёнка каприз, прихоть. «Чувство страха — это естественное чувство»,— говорил Антон Семёнович. (Я не боюсь об этом говорить, хотя чувствую, что кое-кто готов будет за это в меня вцепиться...) И вот только Вася на порог — Антон Семёнович вдруг гак эффектно встал, так эффектно стукнул по столу, что Вася остановился на пороге и его прекрасные глаза вытянулись в два испуганных восклицательных знака. Не давая ему опомниться, Антон Семёнович закричал: — Как смеешь ты осквернять прекрасный русский язык! И неожиданно перейдя на какой-то зловещий шепот, добавил: — Пойдем со мной в лес сейчас же! Мы все испугались. Девочки уже пожалели — зачем они сказали Антону Семёновичу, что Вася ругался. Не давая атмосфере разрядиться, Макаренко быстро вышел из кабинета, а Вася за ним. Мы все перепугались не на шутку: что же будет? Метрах в шестистах от двора колонии на небольшой полянке они остановились. Антон Семёнович указал: — Здесь!.. Затем снял часы и протянул Васе: — Вот, возьми. Сейчас двенадцать. До шести часов сиди на этом пне и ругайся. Я тебя не наказываю. Ты любишь ругаться, вот я для твоего сквернословия и создаю специальные условия. И ушёл. Мы так волновались, что я не мог больше вынести, побежал на полянку. Вижу: Вася сидит на пне... Через минуту все население колонии покатывалось от смеха: как же — сидит парень на пне в лесу и ругается. Между тем Вася не ругался, а скорее проклинал свой «махновский» язык и давал клятву больше не сквернословить. Он просидел положенное время, а в шесть часов пришел, принес часы и сказал: — Уже. Больше никогда в жизни не буду ругаться. И действительно, в колонии наступила такая благодать, что только кто-нибудь заикнется началом нехорошего слова, так другой сразу ехидно заметит: — Наверно, в лес захотел... Антон Семёнович всегда подчеркивал, что в наказании, с одной стороны, должна быть известная традиция и норма, а с другой— оно должно быть чрезвычайно индивидуальным. Главное же в наказании — учёт общественного мнения коллектива. Прощая своим воспитанникам, часто просто превращая в шутку многие проделки, Макаренко был беспощадным и до конца последовательным в наказании, когда дело касалось воровства, обмана. Вот как вспоминает о двух случаях наказания бывший колонист Федор Шатаев: «Один тихий, но, как потом выяснилось, чрезвычайно хитрый парень возил у нас в колонии молоко. Как-то – 21 – была замечена недостача молока, затем это снова повторилось, и, наконец, воришка был уличен: он приловчился пить молоко из бидона через соломинку... По предложению Антона Семёновича совет командиров постановил: выделить ему в столовой отдельный стол и три раза в день — на завтрак, обед и ужин — ставить на стол... ведро молока. Так продолжалось день, два, три... «Молочник» уже на молоко смотреть не мог. В столовой, когда он проходил, стоял неудержимый хохот. В один из дней Антон Семёнович появился в столовой, подошел к нему и сказал: — Ты почему не пьешь? — Не могу больше, Антон Семёнович... — Ну, раз так — проси прощения у колонистов!»1. Или вот случай с Горовским, страстным любителем голубей, взявшим однажды со склада без спроса доску для голубятни. За неуважение к коллективной собственности Антон Семёнович дал Горовскому приказ: «В течение месяца являться со взятой доской в столовую, спальню, кино — везде». И вот бедняга целый месяц маялся со своей тяжелой ношей. Выполняя приказ Макаренко, он без доски нигде не появлялся. Хлопцы наши даже говорили: «Хорошо еще, что доску взял, а если бы мешок картошки?»2. Однажды в колонии два здоровых хлопца пахали, заспорили о чем-то и начали драться. Откуда ни возьмись — Калина Иванович, и говорит: «Ишь, паразиты, дерутся да ещё в присутствии скотины дерутся! Идите к Антону Семёновичу!» Явились в кабинет. Вот, мол, Калина Иванович нас прислал. Мы немного поборолись, подрались. Антон Семёнович спрашивает: — Кто вы такие есть? — Воспитанники-колонисты. — Нет, вы живете под одной крышей, едите за одним столом, кто же вы такие? — Мы — братья. — А как братья должны жить? — Дружно. — Так ты его любишь, Галатенко? — Люблю. — А ты, Приходько? — Так и я же его любя, Антон Семёнович... — Вот и поцелуйтесь, дорогие братья. И поцеловались. Что станешь делать? В поле работа ждёт, лошади стоят. Антон Семёнович объявил: — Кто хочет драться — идите на хутор, что в семи километрах. Кто пойдет драться в такую даль? Споры разрешались мирно, и после этого случая в колонии никогда не было драки. Я всё рассказывал об индивидуальных атаках, которые так мастерски проводил Антон Семёнович, а вот образец его атаки на толпу колонистов, которая, по-моему, именно после этого случая стала ощущать себя коллективом. Я расскажу о факте, который не нашел места в «Педагогической поэме». Этот случай запомнился мне и моим товарищам на всю жизнь. Осенью 1921 года у нас остановился эскадрон буденновцев. Этот день был объявлен нерабочим. Мы помогли конникам выстирать их обмундирование, ухаживали за лошадьми, варили праздничный обед и т.д. За этот день мы очень сроднились с кавалеристами. Под вечер они собрались уезжать. Антон Семёнович выстроил нас в развернутую линию перед 1 2 Сборник «Удивительный человечище», Харьковское книжное издательство, 1959, стр. 77—78. Там же, стр. 78. торжественно застывшим эскадроном. Макаренко и командир эскадрона обменялись приветственными речами. Старшина эскадрона преподнес в дар колонии 150 копчёных кур. Должен сказать, что голод в это время вокруг нас был страшный, да и у нас с едою было худо. Часто мы выходили на большак и отдавали свою тощую краюшку хлеба умирающим от голода детям, плетущимся по дороге. А рядом на хуторах жили кулаки; у них тысячи пудов хлеба гнили в земле, но несчастным голодающим они не давали ни крохи. Бывало и так, что мы иногда у этих кулаков кое-что «занимали» для голодающих и для себя... Кладовщиком у нас был в это время колонист Иван Колос. Антон Семёнович передал ему подаренных кур, а на следующее утро Ваня заявил, что одной курицы уже нет и что это — он уверен — работа наших хлопцев. Антон Семёнович вызвал Вершнева (теперь это — выдающийся врач) и приказал ему дать сигнал немедленного сбора. По сигналу мы мгновенно собрались и выстроились на плацу двора. Вышел Макаренко, и по тому, как он шел, мы почувствовали, что он сердит и здорово сердит. Мы подобрались, насторожились. Антон Семёнович заговорил с нами примерно так: — Как же могло случиться, что нам, как коллективу от коллектива, воины, впроголодь живущие, может быть, идущие на смерть, подарили этих несчастных кур и у кого-то из нас, имеющего чёрную душу, душу спрута, в черную ночь протянулась черная рука, и этой черной рукой, черными пальцами украл он у нас — не курицу, нет! — а доверие друг к другу, не курицу украл, а недоверие посеял. Вот каждый из вас теперь посмотрит на другого и подумает: «Я люблю этого человека, а, может быть, это он курицу украл!». Кто украл? Я не вор, и вы не должны быть ворами. Воровство — это страшный, злой микроб, и я не хочу, чтобы этот микроб пожирал вас и меня. Моя ненависть к воровству поможет мне найти вора! Я сейчас пойду перед строем и буду смотреть каждому в глаза, а вы смотрите в мои глаза и думайте о курице! Смотрите мне в глаза! Должен сказать, что, когда Антон Семёнович прошел мимо меня, я обрадовался: слава богу, миновало. И у меня мелькнула мысль: «Не найдет он вора, зря вся эта затея». И вдруг слышу крик, который показался мне очень страшным: — Выйди вон из строя! И уже сожрал, подлец! Выступивший из строя Ваня Химочкин (а это был он) дрожащим голосом воскликнул: — Нет, я не съел, я закопал её в песок! — Принеси! Мы так и ахнули. Нашел, кто украл! Но как? Увидел по глазам! Невольно каждый из нас потихоньку побожился, что воровать больше не будет. Мы подумали, что Антон Семёнович, наверное, гипнотизер. Химочка побежал за курицей. Костя Ветковский, стоявший у меня слева, толкнул меня и попросил посмотреть ему в глаза. Я, конечно, ничего в его глазах не увидел, хотя и знал, что если бы я обладал даром Антона Семёновича, то должен был бы увидеть мешок с яблоками, который Костя принёс в колонию дня два тому назад. С той же просьбой и я обратился к Ветковскому. Он тоже ничего не обнаружил в моих глазах. Между тем дня за два перед этим я «прогуливался» вдали от колонии на кулацких хуторах, «замечтался» и свалился в погреб. Выбираясь из него, я захватил кусков пять сала и горшок сметаны. Принес я все добро в колонию и разделил на 64 доли, по числу хлопцев... Кое-кто мне, правда, сказал: — До каких же пор, Семён, ты будешь воровать? Ведь ты же на рабфак собираешься и в комсомол вступать... Но сметану и сало съели... И мы с Костей пришли к такому выводу, что то, что украдено и уже съедено, в глазах не показывается даже и гипнотизеру. А вот Химка не успел съесть курицу, она и показалась в его глазах. Принес Ваня курицу, завернутую в лопух. Антон Семёнович предложил Колосу водворить её на место. Но Колос запротестовал: – 23 – — Хорошенькое дело, он её где-то глодал, елозил, а теперь положить её рядом с нормальными курами! Пусть сам её доедает. — А и верно, — говорит Антон Семёнович, — ешь, Химочкин. Ты у нас самый голодный. Ешь. Но одно дело — насладиться в одиночку ворованной курицей, и совсем другое — съесть её перед строем на глазах у товарищей. Проходит минут 10, а Химочкин не ест. Мы уже несколько расслабленно стояли пассивными свидетелями этого поединка. Тогда Антон Семёнович скомандовал: — Колония, стоять смирно, пока Химочкин не съест курицу! И сам встал в строй по стойке «смирно». Мы стоим, а Химочкин не ест. Кто-то из нас не вытерпел и показал кулак: до каких же пор, мол, мы будем стоять — страдать! Это оказалось очень убедительным, и Ваня доел остатки курицы. Антон Семёнович дал команду разойтись. Перед ужином Галатенко подошел к Химочкину и говорит: — Отдай мне свой ужин, ты уже курятины наелся. Химочкин отдал, а Галатенко, видимо, устыдившись, спрашивает у меня, что же ему делать. Я посоветовал: — Пойди к Антону и скажи: «Я —дурак». Он так и сделал. Но, конечно, без особого энтузиазма. Антон Семёнович выслушал его и сказал: — Хотя ты, Вася, и нехорошо поступил, упрекнув товарища в прошлом деле, нарушил традицию колонии, но, очевидно, ты понял свою ошибку и даже мне рассказал. Молодец. Так поступай и впредь. Я очень рад, что ты поумнел, Вася. — Так это же мне Семён сказал, чтобы я пошел к вам. Сам бы я — не. — Так это ты не сам так придумал? — Не... — Значит, ты еще, Галатенко, и вправду дурак. Иди и поумней, наконец!1 ...Сколько у нас дней было испорчено, сколько раз мы не пошли в театр и лишились других удовольствий из-за чьей-либо провинности. Антон Семёнович говорил нам, что «страдание» всех из-за одного и одного из-за всех — великая сила человеколюбия, сила настоящего коллективизма, упражнение настоящей воли и настоящего мужества... Химочкин первым из воспитанников колонии вступил в партию. Он был начальником пограничной заставы, женился, и его жена как-то писала моей жене, что, мол, вот наши мужья — колонисты, с таким горьким прошлым, а оказались они хорошими людьми, хорошими мужьями, детей своих любят и их очень любят дети, но все-таки мой Ваня какой-то странный: он почему-то курятины не ест. Антон Семёнович был великим мастером-педагогом, но его мастерство приносило такой блестящий эффект только благодаря тому, что он любил свою работу. Делу воспитания он отдал всю жизнь, работая в сутки около 20 часов, всегда и во всем являясь для нас великим примером. Он имел право говорить и воспитателям, и родителям: «Ваше собственное поведение — самая решающая вещь». Все свои горести и радости он делил с нами, и мы даже боялись: а что, если он вдруг женится, как будет тогда? Не изменит ли он нам? Так вот все это вместе взятое, этот лучший пример человеческой любви, благородства души, требования к себе и к окружающим и есть то, что мы называем педагогическим мастерством, и это то, на чем покоится нравственное благополучие выкованных им из человеческих осколков ребят, которые и до сих пор полны благодарности и любви к своему наставнику, чего я и вам желаю. Если будут вопросы, я на них отвечу. Вопрос. Как Антон Семёнович передавал свое мастерство молодежи? С.А. Калабалин. Я с ним работал очень близко и долго (кроме того, что был воспитанником). Макаренко не собирал нас специально на какие-то занятия, а говорил по поводу того или иного факта, привлекая нас как будто случайно к анализу и самого поступка, и меры воздействия, и полученного эффекта — результата принятой меры. Антон Семёнович подВ годину Отечественной войны Вася Галатенко был замечательным фронтовым поваром и геройски погиб в схватке с фашистами (Прим.автора.) 1 черкивал, что в основе методики воздействия не какие-то «рецепты», а немедленный анализ и немедленная реакция воспитателя. Часто такие «случайные» собеседования проводились с педагогическим коллективом по поводу техники ведения уроков, организации перемен в школе и других вопросов повседневной работы. Много говорили о взаимоотношениях с ребятами, задушевных, почти интимных соприкосновениях с отдельными воспитанниками, группами, парами или целыми первичными коллективами: отрядами, бригадами, классами. Место и время таких бесед тоже подбиралось очень остроумно: то на работе, то па привале во время похода, то во время игры в лесу. Самым эффектным средством передачи мастерства молодым было, как мне кажется, то, что Антон Семёнович каждое свое рабочее мгновение освещал ярким примеромпризывом. Иные же призывают, поучают жить красиво, общественно активно, но не убеждают в этом своим личным примером. Это не наука, а ханжество. Макаренко всё делил с нами. «Меня и моих друзей-куряжан, — вспоминает Михаил Сухорученко, ныне председатель колхоза, — больше всего поразило то, что Антон Семёнович, когда это нужно было, работал вместе с нами засучив рукава. Необходимо было лес заготовить — Макаренко брал топор в руки и шёл вместе с нами... Эта простота Макаренко делала с нашими душами чудеса»1. ...В феврале 1921 года все наши воспитанники (30 человек) заболели тифозным сгустком (брюшной, сыпной, возвратный). Не заболели только Антон Семёнович, завхоз Калина Иванович, воспитательница Елизавета Фёдоровна, я и конь. Хлопцы лежали в холодных спальнях, голодные. Мы с Антоном Семёновичем и Калиной Ивановичем пилили дрова, топили печи, помогали Елизавете Фёдоровне готовить тощую пищу. Елизавета Фёдоровна понемногу и врачевала. Вечерами Антон Семёнович развлекал больных чтением, рассказами и мечтами. Когда все здоровые расходились, Антон Семёнович подходил к каждому, кого ободрит словом, кому улыбнется, на ком поправит одеяло, а к отдельным, застывавшим в тифозном беспамятстве, ложился, чтобы своим телом отогреть, то же делал и я. С ним же мы возили наших тифозников в полтавские тифозные бараки, решительно требовали от врачей обязательного излечения, Антон Семёнович был уверен, что ни один колонист не умрёт. И мы были уверены, что выздоровели все только потому, что так хотел Антон Семёнович. Как он сам не заболел — просто чудо. Это ли не пример? Это ли не «передача опыта»? Это ли не воспитание самим собою? Таким он был, таким он оставался всю свою жизнь. Таким он остается и теперь— после своей физической смерти — в своих делах, думах и страстных словах «Педагогической поэмы» — поэмы о жизни, законах жизни коммунистического коллектива. Он обладал самой нужной «специальностью» — он был «настоящим человеком, большим человеком». Он был «Человечищем, и как раз из таких, в каких Русь нуждается», как сказал однажды в своем письме к Макаренко А. М. Горький. Публикуется по А.С. Макаренко. К 75-летию со дня рождения. Сборник. – Учпедгиз, Москва, 1963. 1 Сборник «Удивительный человечище», Харьковское книжное издательство, 1959, стр. 22. – 25 –