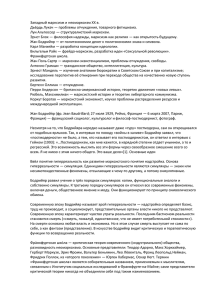Перри Андерсон Размышления о западном марксизме Правильная революционная теория обретает
реклама

Перри Андерсон Размышления о западном марксизме Правильная революционная теория обретает окончательную форму только в тесной связи с практической деятельностью подлинно массового и подлинно революционного движения. Ленин Толпу и тех, чьи страсти уподобляются страстям толпы, я прошу не читать мою книгу; нет, скорее я хотел бы, чтобы они ее совершенно не заметили, чем по привычке неправильно ее истолковали. Спиноза Предисловие Предисловие к четвертому изданию 1. Классическая традиция 2. Становление западного марксизма 3. Формальные изменения 4. Западный марксизм: новое в теории 5. Сравнения и выводы Послесловие П. Андерсон. Размышления о западном марксизме. М., 1991 Предисловие Необходимо коротко пояснить обстоятельства появления и характер этой небольшой по объему работы. Написанная в начале 1974 г., она предполагалась в качестве вступления к сборнику статей различных авторов о теоретиках европейского марксизма недавнего прошлого. По стечению обстоятельств издательство учебной литературы, планировавшее выпустить этот сборник, прекратило свое существование. В результате работа утратила свое первоначальное предназначение, что объясняет, но не оправдывает некоторые ее недостатки. В книге очерчены контуры западного марксизма как общей интеллектуальной традиции. Поэтому автор не дает всестороннего анализа отдельных теоретических систем. Последние должны были стать предметом рассмотрения в статьях, к которым моя работа служила введением. Речь шла о серии критических обзоров каждой из основных школ, представленных работами ведущих теоретиков данного направления — от Лукача до Грамши, от Сартра до Альтюссера, от Маркузе до Делла Вольпе. В предлагаемом исследовании основное внимание уделяется формальным структурам марксизма, получившего развитие на Западе после Октябрьской революции. Мы стремились избежать сравнительной оценки достоинств и значения творчества его основных представителей. Вместе с тем восприятие западного марксизма как единой традиции не снимает необходимости дифференцированной оценки его многообразных достижений. Представляется, что в дальнейшем обсуждение этих вопросов, которое в данном случае невозможно, будет весьма полезным и плодотворным для всего левого движения. И если помимо задач, стоявших в момент ее создания, мотивом для данной работы послужили более долгосрочные соображения, позволяющие опубликовать ее сегодня, то это объясняется определенными проблемами, с которыми приходилось сталкиваться при выпуске журнала социалистического направления «Нью лефт ревью». В статье, написанной для этого журнала в конце 60-х годов, была предпринята попытка анализа структуры национальной культуры Англии после первой мировой войны[1]. Одно из основных положений статьи заключалось в том, что в английской культуре того периода практически отсутствовала традиция западного марксизма — пробел, отмечавшийся однозначно негативно. Значительная часть усилий журнала была направлена на исправление этого национального недостатка путем публикации и обсуждения, зачастую впервые в Великобритании, работ наиболее выдающихся теоретиков Германии, Франции и Италии. Методическое осуществление этой программы в начале 70-х годов подходило к завершению. По логике вещей, требовалось подвести итоги. Так и возникли темы, которые рассматриваются в данной работе. Нынешний обзор «континентальной» традиции в (Западной. — Прим. ред.) Европе в некотором роде продолжает предшествовавший ему анализ «островного» течения в Англии. Причиной его появления стало осознание того факта, что «континентальное» наследие, неизвестное в Великобритании в ущерб ей самой, было неизвестно также и в классическом историческом материализме. Подспудным следствием такого положения стала большая беспристрастность суждений при оценке национальных вариантов марксизма и судьбы марксизма вообще в то время. Поскольку данная работа фактически обращается к одной из центральных тем журнала «Нью лефт ревью», то вскоре после отказа от выпуска сборника, для которого она предназначалась, коллеги из редакции обсуждали и критически оценивали ее с различных точек зрения. Пересматривая этот текст перед публикацией, я постарался учесть их отзывы и критические замечания. Наряду с этим я внес некоторые исправления там, где отдельные поправки могли, на мой взгляд, усилить аргументацию, и дал также комментарий к более поздним событиям. Окончательный вариант исправлен настолько, насколько позволяла свойственная данной работе форма. Однако со времени первоначального составления настоящего обзора определенные положения, как мне сейчас кажется, вызывают вопросы, на которые нельзя дать готовые ответы в его рамках. Такие моменты нельзя устранить какой-либо переработкой текста, и поэтому они были включены в послесловие, где перечисляются другие нерешенные проблемы, способные стать темой исследования будущего исторического материализма. Предисловие к четвертому изданию Cо времени составления обзора прошло уже десять лет, и ему необходимо предпослать несколько дополнительных строк. Сборник, для которого он изначально предназначался в качестве вступления, вышел отдельной книгой под названием «Западный марксизм — критический обзор» (издательство NLB) в 1977 г. и был издан вторично в 1983 г. (издательство Verso). Включавшая подробные исследования творчества отдельных теоретиков, книга была задумана как составная часть обзора общего характера, представленного в настоящей работе, и руководство к нему. Очерк, посвященный выдвинутой Грамши теории гегемонии и обещанный мною в качестве приложения к «Размышлениям о западном марксизме», был напечатан в журнале «Нью лефт ревью» № 100 за ноябрь — январь 1977 г. под заголовком «Антиномии Антонио Грамши». Данные работы дополнили «Размышления о западном марксизме». В этом обзоре выражаются ожидание и надежда, что история и философия марксизма перестанут существовать столь обособленно друг от друга и начнут сближаться в общей социалистической культуре, в которой каждая из этих дисциплин сможет ответить на вызов и задачи, поставленные другой. Первая серьезная попытка такого сближения была предметом внимания вышедшей вслед работы «Разногласия в английском марксизме» (1980 г.), где рассматриваются труды Эдварда Томпсона и отмечается важное значение содержащейся в них критики взглядов Луи Альтюссера. Я попытался дать более широкую картину общего развития марксизма на Западе с середины 70-х годов в опубликованном в 1983 г. сборнике лекций под названием «На путях исторического материализма». Это исследование нельзя с полным правом считать продолжением «Размышлений о западном марксизме», поскольку основное внимание в нем уделяется как теоретическим направлениям, соперничающим с историческим материализмом и антагонистичным по отношению к нему, так и судьбам самого марксизма. Однако сборник действительно открывается рядом прогнозов, которые завершают предыдущую книгу, а затем в нем рассматривается, как обошлась с ними реальная история общественной мысли и политической жизни последующего десятилетия. Я заявил там, что многие из этих предсказаний сбылись, другие же, что примечательно, не оправдались. В указанных лекциях обсуждаются направления и причины тех перемен, которые мне не удалось предугадать, и по ходу рассуждений выдвигается целый ряд критических замечаний относительно конкретных оценок, теоретиков и направлений, представленных в данном обзоре. Читатели, желающие проследить формирование моей нынешней позиции в данной области, могут обратиться к работе «На путях исторического материализма» как к продолжению «Размышлений о западном марксизме», а вместе с книгой «Разногласия в английском марксизме» эти исследования могут считаться непреднамеренно сложившейся трилогией. 1. Классическая традиция Историю марксизма, зарождавшегося немногим более 100 лет назад, еще предстоит написать. Его развитие, укладывающееся пока в сравнительно короткий отрезок времени, было, тем не менее, довольно сложным и неровным. Причины и формы его последовательных метаморфоз и смещения фокуса внимания по большей части остаются неисследованными. Предмет размышлений в данном случае ограничивается западным марксизмом, само название которого не дает точных указаний на какое-либо место или время. В силу этого цель нашей небольшой работы будет заключаться в том, чтобы увязать с историческим временем определенную совокупность теоретических трудов и предложить структурные соотношения, обусловливающие их единство, — другими словами, определить составные элементы западного марксизма как общей интеллектуальной традиции, несмотря на внутренние расхождения и противоречия. Для этого необходимо обратиться к эволюции марксизма, предшествовавшей появлению интересующих нас теоретиков, что уже само по себе даст нам возможность увидеть то новое, что они представляют. Исследование всего предыдущего развития исторического материализма, несомненно, потребовало бы гораздо более широкого охвата, чем позволяет данный случай. Однако даже краткий ретроспективный набросок будет способствовать более четкому представлению о произошедших сдвигах. Основоположники исторического материализма, К. Маркс и Ф. Энгельс, родились в первое десятилетие после наполеоновских войн. Маркс (1818—1883 гг.) был сыном адвоката из Трира, а Энгельс (1820—1895 гг.) — фабриканта из Бармена. Оба происходили из преуспевающей буржуазной среды Рейнланда, наиболее промышленно развитого района на самом западе Германии. Здесь нет необходимости еще раз подробно воспроизводить общеизвестные обстоятельства их жизни и деятельности. Хорошо известно, как под притягательной силой первых пролетарских восстаний, произошедших после промышленной революции, Маркс, которому было немногим за 20, преодолел философское наследие Гегеля и Фейербаха, а также рассчитался с политической теорией Прудона, тогда как Энгельс вскрыл реальные условия существования рабочего класса в Англии и отказался от легитимизировавших их экономических учений; как накануне великих революционных событий 1848 г. на континенте они вместе написали «Манифест Коммунистической партии» и сражались за дело революционного социализма на крайнем левом фланге вооруженных восстаний, поднятых в тот год в разных странах Европы; как победа контрреволюции вынуждала их к жизни в изгнании в Англии, когда им было 30; как Маркс дал общую историческую оценку революции во Франции, завершившей образование Второй империи, в то время как Энгельс провел аналогичный анализ неудачи революции в Германии; как Маркс, живя в Лондоне в одиночестве и крайней нужде, взялся за монументальную теоретическую задачу воспроизведения капиталистического способа производства в целом, получая лишь моральную и материальную поддержку Энгельса из Манчестера; как после 15 лет работы, перед самым 50-летием Маркса, вышел в свет первый том «Капитала»; как к концу этого периода своей жизни Маркс участвовал в создании I Интернационала, приложив затем самые активные усилия по руководству его практической деятельностью как организованного социалистического движения; как он возвеличил Парижскую коммуну и направил деятельность Рабочей социалистической партии Германии, разрабатывая основные принципы будущего пролетарского государства; как в последние годы жизни Маркса и после его смерти Энгельс выступил с первым систематизированным изложением исторического материализма, что превратило это учение в признанную политическую силу, получившую широкое распространение в Европе; и как под председательством Энгельса, которому было уже за 70, выросли ряды II Интернационала, а исторический материализм стал официальной доктриной входивших в него основных партий рабочего класса континента. Выдающиеся достижения этих двух людей со столь тесно связанными судьбами не представляют собой непосредственную тему данной работы. Для решения наших задач достаточно лишь указать на социальные обстоятельства, сопутствовавшие теоретической работе Маркса и Энгельса, которые могли бы служить в качестве эталона для сравнения с более поздними событиями. Маркс и Энгельс были одинокими первооткрывателями среди теоретиков своего поколения; ни об одном из их современников, какой бы национальности он ни был, нельзя сказать, что он полностью понимал или разделял их взгляды. В то же время их труды стали итогом длительных совместных усилий, интеллектуального партнерства, до настоящего дня не имеющих аналога в истории человеческой мысли. Эти два человека в условиях ссылки, лишений и постоянных трудностей никогда не отрывались от важнейших событий борьбы пролетариата своего времени, несмотря на то, что они фактически не имели с ней никаких организационных связей на протяжении более 10 лет. Глубина же исторической связи между идеями Маркса и Энгельса и эволюцией рабочего класса нашла убедительное подтверждение в период испытаний, последовавших за 1850 г., когда они оба были явно загнаны в «частную» жизнь. Это время было использовано Марксом при постоянной материальной помощи Энгельса для подготовки «Капитала» и завершилось естественной кооптацией Маркса в I Интернационал, переросшей вскоре в практическое руководство этой организацией. Исключительное единство теории и практики в жизни Маркса и Энгельса, достигнутое, несмотря на все препятствия, доказывает, что это единство не означало их тождества — ничем не нарушаемой и непосредственной связи. Единственное революционное восстание, в котором они лично принимали участие, было восстанием ремесленников и крестьян. В событиях 1841 г. малочисленный немецкий пролетариат сыграл лишь незначительную роль[1]. Парижская коммуна — наиболее прогрессивное социальное потрясение, которое они наблюдали издалека,— была по своему характеру восстанием ремесленников. Ее поражение привело к неизбежному роспуску I Интернационала, а Маркс и Энгельс снова вернулись к неформальной политической деятельности. Реально партии промышленного пролетариата возникли только после смерти Маркса. Связь между теорией Маркса и практикой пролетарской борьбы была, таким образом, всегда ровной и опосредованной, прямое совпадение между ними наблюдалось весьма редко. Сложность объективной связи между «классом» и «наукой» в тот период (что еще практически не изучено) отразилась, в свою очередь, на характере и судьбе самих трудов Маркса. Ведь рамки рабочего движения того времени налагали определенные ограничения на распространение и восприятие трудов Маркса и Энгельса. Влияние теории Маркса, строго говоря, на протяжении всей его жизни оставалось довольно ограниченным. Когда он умер, подавляющее большинство его произведений — по крайней мере три четверти их — лежало неопубликованными: то, что вышло в свет, было издано в разрозненном виде в разных странах и на разных языках, причем ни в одной стране и ни на одном языке не имелось полного собрания его произведений[2]. Понадобилось еще полвека, прежде чем все его основные работы стали достоянием общественности, а истории их посмертного опубликования предстояло стать осевой линией дальнейших превратностей марксизма. Список прижизненных публикаций Маркса может послужить указателем препятствий на пути распространения его взглядов среди того класса, к которому они были обращены. Вместе с тем отсутствие опыта у пролетариата, находившегося на полпути между мастерской ремесленника и фабрикой, в большинстве случаев лишенного даже профсоюзной организации, не имевшего надежды завоевать власть в какой-либо европейской стране, налагало внешние ограничения на мысль самого Маркса. Великий мыслитель оставил после себя стройную и разработанную экономическую теорию капиталистического способа производства, изложенную в «Капитале», но он не оставил сравнимой с ней политической теории структур буржуазного государства или стратегии и тактики революционной социалистической борьбы партии рабочего класса за его свержение. В лучшем случае он завещал несколько загадочных произведений 1840-х годов и кратко изложенные принципы диктатуры пролетариата в 1870-х годах наряду со знаменитым анализом Второй империи. Поэтому работы Маркса не могли повлиять на ход реального исторического развития масс, поиск ими собственных орудий и способов самоэмансипации. К тому же, и это был еще больший пробел для современников, Маркс так и не дал никакого широкого обобщающего изложения исторического материализма как такового. За эту задачу взялся Энгельс в своем «Анти-Дюринге» и последовавших за ним работах в ответ на рост новых организаций рабочего класса на континенте. Дело в том, что парадокс исторической связи теоретической работы Маркса и Энгельса с практической борьбой пролетариата заключался в особой форме ее интернационализма. После 1848 г. ни один из них никогда не был тесно связан с какой-либо национальной политической партией. Обосновавшись в Англии, где они по большей части оставались за пределами местной культурной и политической жизни, оба решили не возвращаться в Германию в 1860-х годах, когда любой из них мог вернуться. Воздерживаясь от прямого участия в образовании национальных организаций рабочего класса в ведущих индустриальных странах, они давали советы активистам и вождям рабочего движения в различных странах Европы и Северной Америки и направляли их деятельность. Они без труда вели обширную переписку от Москвы до Чикаго и от Неаполя до Осло. Неразвитость рабочего движения позволяла им беспрепятственно проводить в жизнь интернационализм в чистом виде, что стало затруднительным на следующем этапе его развития. Группа теоретиков, пришедших на смену Марксу и Энгельсу в следующем поколении, была все еще немногочисленной. Она состояла из людей, которые обратились к историческому материализму сравнительно поздно для себя. К четырем основным фигурам этого периода относятся Лабриола (родился в 1843 г.), Меринг (родился в 1846 г.), Каутский (родился в 1854 г.) и Плеханов (родился в 1856 г.)* . Все они происходили из более экономически отсталых восточных или южных районов Европы. Меринг был сыном чиновника налогового ведомства из Померании, Плеханов — сыном помещика из Тамбова, Лабриола — сыном обедневшего землевладельца из Кампании, а Каутский — театрального декоратора из Богемии. Плеханов обратился к марксизму в 1880-х годах, находясь в изгнании в Швейцарии, после 10 лет подпольной народнической деятельности. Лабриола, известный в Риме философ-гегельянец, пришел к марксизму в 1890 г., Меринг до присоединения в 1891 г. к Социал-демократической партии Германии (СДПГ) долгие годы был либеральным демократом и публицистом в Пруссии. Только Каутский не имел домарксистского прошлого, поскольку он примкнул к рабочему движению, будучи журналистом социалистического направления, когда ему было немногим за двадцать. Ни одному из этих интеллектуалов не довелось сыграть главную роль в руководстве национальными партиями в своих странах, но все они были тесно связаны с их политической и идеологической жизнью, занимая в них официальные посты, за исключением Лабриолы, который остался в стороне от образования Итальянской социалистической партии[3]. Плеханов после основания группы «Освобождение труда» входил в первую редколлегию «Искры», а также в Центральный Комитет Российской социал-демократической рабочей партии, избранный на ее II съезде. Каутский был редактором журнала «Нойе цайт», основного теоретического органа СДПГ, и написал теоретическую часть Эрфуртской программы этой партии. Меринг активно выступал на страницах журнала «Нойе цайт», а Лабриола сотрудничал с аналогичным французским изданием «Ле девенир социаль». Все четверо лично переписывались с Энгельсом, который оказал решающее влияние на становление их взглядов. Основное направление их деятельности можно рассматривать фактически как продолжение последнего периода деятельности самого Энгельса. Они стремились различными путями систематизировать исторический материализм как всеобъемлющее учение о человеке и природе, способное заменить соперничающие буржуазные теории, и дать рабочему движению широкое и ясное представление о мире, которое сразу смогли бы усвоить наиболее активные его сторонники. Выполнение этой задачи налагало на них, как и на Энгельса, двойное обязательство: разработать общие философские положения марксизма как теории истории и распространить их на те области, которые не были непосредственно затронуты Марксом. Сходство названий ряда основных работ этой группы теоретиков указывает на их общие устремления: «Исторический материализм» (Меринг), «Очерки материалистического понимания истории» (Лабриола), «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» (Плеханов), «Материалистическое понимание истории» (Каутский)[4]. В то же время Меринг и Плеханов писали очерки о литературе и искусстве («Легенда о Лессинге» и «Искусство и общественная жизнь»), тогда как Каутский обратился к изучению религии («Происхождение христианства»), затрагивая темы, которые не интересовали Энгельса[5]. Общий смысл всех этих работ заключался скорее в том, чтобы достроить учение Маркса, нежели развить его. Начало публикации работ Маркса и изучения его биографии, с тем чтобы впервые воссоздать и представить их социалистическому движению в полном объеме, было положено этим поколением. Энгельс опубликовал второй и третий тома «Капитала»; Каутский затем отредактировал «Теории прибавочной стоимости»; Меринг позже участвовал в публикации «Переписки Маркса и Энгельса» и в конце своей жизни составил первую подробную биографию Маркса[6]. Систематизация и обобщение этого нового по содержанию и недавнего по появлению наследия стали основной целью его преемников. Однако общий международный климат мирового капитализма изменялся. В последние годы XIX столетия в основных промышленно развитых странах шел резкий экономический подъем по мере усиления монополизации на внутренних рынках и ускорения империалистической экспансии на внешних. С ним открывалась напряженная эра стремительных научно-технических открытий, повышения нормы прибыли, накопления капитала и эскалации военного соперничества между великими державами. Эти объективные условия весьма отличались от сравнительно спокойной фазы развития капитализма в период длительного спада 1874—1894 гг., наступившего после поражения Парижской коммуны и закончившегося перед первой вспышкой межимпериалистических конфликтов — англо-бурской и испано-американской войн (за которыми вскоре последовала русско-японская война). Взгляды непосредственных идейных наследников Маркса и Энгельса сформировались в период относительного затишья. Следующее поколение марксистов достигло зрелости в более бурной обстановке, когда европейский капитализм начал соскальзывать в пропасть первой мировой войны. Теоретиков этого набора было уже гораздо больше, чем их предшественников, и они в еще более драматической форме отразили сдвиг, который уже просматривался в предыдущий период,— смещение всей географической оси марксистской культуры в сторону Восточной и Центральной Европы. Все без исключения ведущие представители этого нового поколения были выходцами из регионов, лежащих к востоку от Берлина. Ленин был сыном государственного служащего из Астрахани, Люксембург — дочерью лесоторговца из Галиции, Троцкий — сыном мелкого землевладельца на Украине, Гильфердинг — сыном страхового чиновника и Бауэр — текстильного промышленника из Австрии. Все они написали крупные произведения еще до первой мировой войны. Бухарин, сын московского учителя, и Преображенский, отец которого был священником из Орла, внесли свой вклад уже после нее, но их можно считать более поздними представителями той же формации. Таблица 1 Маркс К. Энгельс Ф. 1818 —1883 гг. 1820 Трир (Рейнланд) Бармен (Вестфалия) —1895 гг. Лабриола 1843 —1904 гг. Кассино (Кампания) 1846 —1919 гг. Шлове (Померания) Каутский 1854 —1938 гг. Прага (Богемия) Плеханов 1856 Тамбов —1918 гг. (Центральная Россия) Л. Меринг Ф. К. Г. 1870 —1924 гг. Симбирск (Волга) Люксембу 1871 —1919 гг. Замостье (Галиция) Гильферди 1877 —1941 гг. Вена Троцкий Л. 1879 —1940 гг. Херсон (Украина) Бауэр O. 1881 —1938 гг. Вена Ленин В. рг Р. нг Р. Преображ 1886 Орел енский Е. —1937 гг. Россия) Бухарин И. 1888 —1938 гг. (Центральная Москва Хронологию развития и географию распространения марксистской теории до этого периода включительно можно, таким образом, представить в таблице 1. Практически этому поколению теоретиков предстояло сыграть ведущую роль в руководстве соответствующими национальными партиями — роль, намного более решающую и активную, чем та, которая выпала на долю их предшественников. Ленин, как известно, создал большевистскую партию в России. Люксембург была мозгом Социал-демократической партии в Польше, а позже стала наиболее авторитетным основателем Коммунистической партии Германии. Перед первой мировой войной Троцкий стал центральной фигурой во фракционных дебатах российской социал-демократии, а Бухарин — ближайшим помощником Ленина. Бауэр возглавлял секретариат парламентской группы Социал-демократической партии Австрии, тогда как Гильфердинг играл заметную роль в качестве депутата рейхстага от Социал-демократической партии Германии. Общей чертой всех представителей этой группы было их поразительно раннее развитие: к 30 годам каждый из них уже написал фундаментальный теоретический труд. Что же принципиально нового было в их работах? В связи с ускорением темпов общеисторического развития на рубеже столетий их внимание было обращено главным образом на два новых направления. Прежде всего, очевидные изменения капиталистического способа производства, порождающие монополизацию и империализм, требовали основательного экономического анализа и объяснения. К тому же труды Маркса уже начинали в это время впервые подвергаться профессиональной критике ученыхэкономистов[7]. На «Капитал» уже нельзя было спокойно опираться: его надо было развивать. Первая серьезная попытка в этом направлении была предпринята в 1899 г. Каутским в работе «Аграрный вопрос», представляющей собой широкий анализ изменений в сельскохозяйственном производстве Европы и Америки. Это предполагало, что он теперь выступал как представитель старшего поколения, особенно остро реагирующего на требования современной ситуации, и окончательно утвердил свой авторитет среди более молодых марксистов[8]. Позднее в том же году Ленин опубликовал «Развитие капитализма в России» — обширное исследование сельской экономики, формальные мотивы создания которого были весьма близки к обстоятельствам появления «Аграрного вопроса». Однако конкретная цель, поставленная Лениным, отличалась большей смелостью и новизной. Дело в том, что в этой работе фактически впервые серьезно применялась изложенная в «Капитале» общая теория капиталистического способа производства к анализу конкретной общественной формации, в которой сочетались несколько способов производства, соединяясь в историческую целостность. Таким образом, ленинский анализ развития сельских районов царской России представлял собой решающий шаг вперед для исторического материализма в целом. К моменту завершения этой работы ее автору исполнилось 29 лет. Шесть лет спустя 28-летний Гильфердинг, завоевавший признание в 1904 г. эффектным ответом на поверхностную критику Маркса со стороны БемБаверка, закончил работу над «Финансовым капиталом», вторгавшимся в совершенно новую область исследований. Опубликованная в 1910 г. работа Гильфердинга выходила за рамки как «отраслевого», так и «национального» применения положений «Капитала» Каутским и Лениным: она представляла собой полное его «обновление» с учетом глобальных перемен в капиталистическом способе производства в новую эпоху трестов, таможенных тарифов и торговых войн. Сосредоточивая свой анализ на усиливавшемся господстве банков, ускорявшейся монополизации и все большем использовании государственного механизма для агрессивной экспансии капитала, Гильфердинг указал на рост международной напряженности и анархии, которые сопутствовали организационному укреплению и централизации капитализма в каждой отдельной стране. В это же время (уже после написания «Финансового капитала», но до его издания) 26-летний Бауэр в 1907 г. опубликовал обширный том «Национальный вопрос и социал-демократия». В нем он рассматривал важнейшую политическую и теоретическую проблему, почти не затронутую Марксом и Энгельсом, и встававшую во весь рост перед социалистическим движением. В этой совершенно новой области он выдвинул далеко идущие теоретические обобщения, пытаясь объяснить происхождение и состав наций, и завершил свою работу анализом империалистических аннексионистских устремлений за пределами Европы. Империализм стал объектом серьезного теоретического изучения в работе Люксембург «Накопление капитала», опубликованной в 1913 г., накануне первой мировой войны. Люксембург подчеркнула важнейшую роль некапиталистических анклавов капитализма в создании прибавочной стоимости, которые вызвали внутреннюю структурную потребность в военно-империалистической экспансии колониальных держав на Балканах, в Азии и Африке. Ее утверждение дало основания характеризовать эту работу — несмотря на допущенные в ней аналитические ошибки — как самую радикальную и оригинальную попытку переосмысления и развития предложенной в «Капитале» системы категорий на материале мирового развития и в свете событий новой эпохи. Она незамедлительно подверглась критике в журнале «Нойе цайт» со стороны Бауэра, который начиная с 1904 г. также трудился над проблемой, связанной с предложенными Марксом схемами расширенного воспроизводства капитала. И наконец, после начала первой мировой войны свой собственный взгляд на развитие мирового капитализма изложил Бухарин в работе «Империализм и мировая экономика», написанной в 1915 г., тогда как Ленин в следующем году опубликовал свое знаменитое краткое исследование «Империализм как высшая стадия капитализма»[9]. В этих работах обобщались экономические выводы, сделанные в ходе предшествовавшей дискуссии, и они впервые представали в рамках стройного политического анализа воинственности империализма и колониальной эксплуатации, вытекавших из общего закона неравномерности развития капиталистического способа производства. Таким образом, в первые 15 лет нового столетия наблюдался бурный расцвет марксистской экономической мысли в Германии, Австрии и России. Крупные теоретики не сомневались в исключительной важности выявления фундаментальных законов движения капитализма на новом этапе его исторического развития. Вместе с тем это время стало свидетелем блестящего выхода на сцену истории марксистской политической теории. Если экономические исследования того периода могли строиться на основательном фундаменте «Капитала», то ни Маркс, ни Энгельс не оставили подобных концепций для выработки политической стратегии и тактики пролетарской революции. Этому, как мы уже видели, препятствовала объективная ситуация, в которой они находились. Стремительный рост партий рабочего класса в Центральной Европе и бурный подъем народных восстаний против старых режимов Восточной Европы создали условия для возникновения теории нового типа, учитывающей опыт массовых сражений пролетариата и естественно вписывающейся в деятельность партийных организаций. Революция 1905 г. в России, за которой внимательно следили в Германии и Австрии, дала материал для первого стратегического политического анализа научного характера в истории марксизма — работы Троцкого «Результаты и перспективы». Основанная на прекрасном понимании структуры государственной системы мирового империализма, эта небольшая работа с исключительной точностью определила будущий характер и ход социалистической революции в России. Троцкий написал ее в возрасте 27 лет, но ему не удалось внести сколь-нибудь существенный вклад в развитие политической теории марксизма до первой мировой войны вследствие его изоляции от большевистской партии после 1907 г. Построение системы марксистской политической теории классовой борьбы на организованном и тактическом уровне стало делом Ленина. Масштаб его достижений в этом плане навсегда перестроил все здание исторического материализма. До Ленина сфера политики оставалась практически не исследованной марксистской теорией. В течение примерно 20 лет Ленин разработал концепции и методы борьбы пролетариата за власть в России под руководством опытной и преданной своему делу рабочей партии. Конкретные способы сочетания пропаганды и агитации, проведения забастовок и демонстраций, формирования классовых союзов, укрепления партийной организации, решения вопросов национального самоопределения, анализа внутри- и внешнеполитической ситуации, характеристики уклонов, использования парламентской деятельности, подготовки вооруженного восстания — все эти нововведения, рассматриваемые зачастую как просто «практические» меры» на самом деле представляли также решающее теоретическое продвижение в ранее не исследованную область. Работы Ленина «Что делать?», «Шаг вперед, два шага назад», «Две тактики социал-демократии в демократической революции», «Уроки московского восстания», «Аграрная программа российской социал-демократии», «О праве наций на самоопределение», десятки других статей и заметок, написанных перед первой мировой войной, положили начало марксистской политической науке, способной отныне решать широкий круг проблем, прежде находившихся вне строгой теоретической оценки. Силу ленинским работам этих лет придавала, несомненно, огромная революционная энергия народных масс России, существовавших в беспросветных условиях царизма. Лишь их стихийные действия, постоянно приближавшие свержение российского самодержавия, позволили Ленину обогатить марксистскую теорию. Следует учитывать, что и в этом случае именно реальные материальные условия, в которых совершались теоретические открытия, обусловили объективные пределы их применения. Мы не имели здесь возможности обсудить объективную ограниченность применения и упущения теоретической работы Ленина. Можно лишь сказать, что они были в основном связаны с определенной отсталостью развития общественной формации России и управляющего ею государства, что ставило царскую империю особняком от остальной предвоенной Европы. Ленин, намного теснее связанный с национальным рабочим движением, чем когда-либо был Маркс, непосредственно не занимался вопросами борьбы в других странах континента, проходившей в принципиально иных условиях. Этим странам предстояло проложить дорогу к революции в качественном отношении более трудным путем, чем в самой России. Так, в Германии, обладавшей намного более развитой промышленностью, всеобщее избирательное право мужчин и гражданские свободы привели к созданию государственной структуры, совершенно отличной от самодержавия Романовых, а, следовательно, и арены политической борьбы, которая никогда даже близко не напоминала российскую. В Германии революционные настроения организованного рабочего класса были заметно ниже, в то время как его культура была значительно выше, как и институциональная структура всего общества. Люксембург, единственная из марксистов-теоретиков германской империи, кто создал оригинальную политическую теорию, косвенно отразила данное противоречие в своих работах, несмотря на то, что при этом сказывался опыт ее участия в намного более активном польском подполье. Политические работы Люксембург никогда не достигали последовательности и глубины ленинских произведений или проницательности трудов Троцкого. Сама почва рабочего движения в Германии не допускала подобного роста. Но горячие выступления Люксембург в Социал-демократической партии Германии, направленные против сползания партии к реформизму (масштабов которого Ленин, будучи в изгнании, не оценил), содержали элементы критики буржуазной демократии, защиты стихийности пролетарской борьбы и концепцию социалистической свободы, опережавшие представления Ленина об этих проблемах, — и все это в сложнейшей обстановке, в которой она находилась. Острая полемическая работа «Социальная реформа или революция», которой она в возрасте 28 лет ответила на эволюционизм Бернштейна, определила особый путь: последовал ряд теоретических обоснований всеобщей забастовки как архетипа наступательного орудия самоэмансипации рабочего класса, завершенных в решающем споре с Каутским в 1909—1910 гг., где окончательно обозначились линии будущего политического размежевания в рабочем движении. Первой мировой войне предстояло разобщить ведущих марксистов-теоретиков Европы столь же радикально, как она расколола само рабочее движение. Все развитие марксизма в последние предвоенные десятилетия свидетельствовало о гораздо более тесном единстве теории и практики, чем в предыдущий период, благодаря подъему организованных социалистических партий в то время. Участие ведущих марксистов-теоретиков в практической деятельности их национальных партий не привело, однако, к развитию у них комплекса провинциальности или к обособлению друг от друга. Напротив, международные дискуссии и полемика были их второй натурой: и если никто из них не достиг олимпийской универсальности Маркса или Энгельса, то это было неизбежным следствием их большей укорененности в конкретной обстановке и жизни их стран. Однако в случае русских и поляков их жизнь на родине перемежалась длительными периодами эмиграции, напоминающими подобные периоды в жизни основоположников исторического материализма[10]. В условиях новой эпохи им удалось создать сравнительно однородную среду дискуссий и общения, в которой ведущие теоретики основных отделений II Интернационала в странах Восточной и Центральной Европы, где марксизм теперь был живым учением, знакомились с работами друг друга из первых или вторых рук, а критика не знала границ. По этой причине, когда в 1914 г. разразилась война, раскол, вызванный отношением к ней, прошел через различные национальные группы марксистов-теоретиков, игравших ведущие роли на предвоенной сцене, а не между ними. Представители старшего поколения Каутский и Плеханов громко высказались за социал-шовинизм, в поддержку своих (соответственно враждующих) империалистических отечеств. Меринг, напротив, упорно отказывался иметь какое-либо отношение к капитуляции СДПГ в Германии, В среде молодого поколения Ленин, Троцкий, Люксембург и Бухарин широким фронтом немедленно выступили против войны и осудили предательское соглашательство социал-демократических организаций, вставших в один ряд со своими классовыми угнетателями в давно предвиденной капиталистической бойне. Гильфердинг, первоначально выступивший в рейхстаге против войны, вскоре позволил призваться в австрийскую армию; Бауэр сразу же пошел воевать против России на Восточный фронт, где вскоре попал в плен. Единство и реализм II Интернационала, взлелеянного Энгельсом, были уничтожены в течение одной недели. Последствия августа 1914 г. для всего континента хорошо известны. В России стихийное восстание голодных и уставших от войны народных масс в Петрограде в феврале 1917 г. свергло царизм. Через восемь месяцев большевистская партия под руководством Ленина была готова к захвату власти. В октябре Троцкий повел ее в Петрограде на социалистическую революцию, которую он предвидел еще 12 лет назад. За быстрой победой 1917 г. вскоре последовали империалистическая блокада, интервенция и гражданская война 1918—1921 гг. Эпический ход революции в России направил компас теоретических работ Ленина, в которых политическая мысль и действие сливались теперь в неразрывном единстве, не имевшем себе равных примеров ни до, ни после. Ленинские работы тех лет — «Апрельские тезисы», «Государство и революция», «Марксизм и восстание», «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», «О продналоге» — устанавливают новый метод исследования в историческом материализме, а именно: «конкретный анализ конкретной ситуации», который Ленин называл «живой душой марксизма». Он набрал в них такую динамическую силу, что вскоре после этого в употребление входит сам термин «ленинизм». В этот героический период пролетарской революции в России ускоренное развитие марксистской теории отнюдь не ограничивается работами самого Ленина. Фундаментальные труды, посвященные военному искусству («Как вооружилась революция») и предназначению литературы («Литература и революция»), были написаны Троцким. Бухарин предпринял попытку обобщить исторический материализм как систематизированную социологию в получившем широкий резонанс трактате «Теория исторического материализма»[11]. Вскоре после этого Преображенский, совместно с Бухариным составивший популярный большевистский учебник «Азбука коммунизма», начал издавать наиболее оригинальное и радикальное экономическое исследование задач, стоявших перед Советским государством в период перехода к социализму,— область, в которую прежде марксистская теория, естественно, не вторгалась; первые главы «Новой экономики» появились в 1924 г. Между тем центр международных исторических исследований, посвященных розыску и изданию неопубликованных трудов Маркса, перемещается в Россию. Рязанов, еще до первой мировой войны завоевавший репутацию исследователя архивов Маркса, возглавил работу по первому полному научному изданию работ Маркса и Энгельса. Основная часть рукописей была доставлена в Москву и помещена в Институт Маркса и Энгельса, директором которого он был назначен[12]. Все эти люди играли, конечно, выдающуюся роль в практической борьбе за победу революции в России и построение нарождающегося Советского государства. Во время гражданской войны Ленин был председателем Совета народных комиссаров, Троцкий — Комиссаром по военным делам, Бухарин — редактором партийной газеты, Преображенский фактически первым возглавил секретариат партии, а Рязанов организовал профсоюзы. Плеяда крупных мыслителей и организаторов, находившихся в расцвете лет, когда гражданская война пришла к победному концу, казалось, обеспечила будущее марксистской культуре в СССР, этом новом оплоте рабочего класса. Однако в других странах Европы волна революционного подъема, поднявшаяся в 1918 г. в конце войны и продолжавшаяся до 1920 г., разбилась. Капитал оказался значительно сильнее во всех странах за пределами России. Международной контрреволюции, взявшей в кольцо Советское государство в 1918— 1921 гг., не удалось его свергнуть, хотя гражданская война и нанесла огромный урон рабочему классу России. Война прочно изолировала революцию в России от остальной Европы в течение трех лет наиболее острого социального кризиса империалистического порядка на всем континенте и тем самым позволила успешно справиться с пролетарскими восстаниями за пределами Советского Союза. Первой серьезной угрозой капиталистическим европейским государствам стал целый ряд массовых выступлений в Германии в 1918—1919 гг. Люксембург, следя за ходом революции в России, отчетливее любого большевистского лидера того периода уловила определенную опасность диктатуры, установленной во время гражданской войны. Хотя при этом она проявила ограниченность представления об этих проблемах (национальной, крестьянской), менее очевидных в индустриально развитых зонах Европы[13]. Освобожденная из тюрьмы после падения второго рейха, Люксембург сразу же посвятила себя задаче организации в партии революционного левого крыла в Германии. Как наиболее влиятельная фигура образовавшейся КПГ, она составила программу партии и выступила с политическим докладом на ее учредительном съезде. Роза Люксембург была убита две недели спустя во время беспорядочного, полустихийного восстания, начатого голодными толпами берлинцев и подавленного вооруженной силой по приказу правительства социал-демократов. За подавлением январского восстания в Берлине вскоре последовал вооруженный захват частями рейхсвера Мюнхена, где местные группы социалистов и коммунистов создали в апреле 1919 г. эфемерную Баварскую советскую республику. Революция в Германии, рожденная Советами рабочих и солдат в ноябре 1918 г., потерпела полное поражение и к 1920 г. Тем временем в Австро-венгерской империи разворачивались подобные события. В отсталой сельской Венгрии требования Антанты привели к добровольной отставке буржуазного правительства, сформированного после перемирия, и образованию Советской республики, возглавляемой социалдемократами и коммунистами; прошло полгода, и румынские войска подавили Венгерскую коммуну и восстановили белый режим. В Австрии реальный политический вес промышленного рабочего класса был гораздо больше, чем в Венгрии (как и в Пруссии по сравнению с Баварией). Однако социалдемократическая партия, безраздельно управлявшая настроениями пролетариата, выступила против социалистической революции и вошла в буржуазное коалиционное правительство. Под предлогом стремления избежать интервенции Антанты правительство постепенно распустило Советы рабочих и солдат сверху. К 1920 г. партия вышла из правительства, но восстановление прочного положения капитализма в стране к тому времени уже было обеспечено. Бауэр, ставший вскоре ведущим деятелем СДПА, занимал в 1919 г. пост министра иностранных дел Австрийской республики. Впоследствии он написал крупную теоретическую работу в защиту линии своей партии после первой мировой войны, книгу с неправильным названием «Австрийская революция», вышедшую в 1924 г. Его бывший коллега Гильфердинг дважды занимал пост министра финансов Веймарской республики. Единство теории и практики, свойственное этому поколению, нашло свое подтверждение даже в судьбах представителей реформистского австромарксизма[14]. Последний крупный подъем пролетарского движения в три послевоенных года произошел в Италии. Социалистическая партия на родине Лабриолы всегда была гораздо меньше, чем в Германии или Австро-Венгрии, но более активной: во время первой мировой войны она сопротивлялась социалпатриотизму и щеголяла словесным максимализмом. Однако всеобщая забастовка и бурная волна захватов рабочими фабрик, охватившая Турин в 1920 г., тем не менее, застали ее совершенно неподготовленной к ведению наступательной революционной стратегии. Контрмеры правительства либералов и хозяев предприятий в конце концов парализовали это движение, лишенное какого-либо четкого политического руководства. Волна народных выступлений спала, оставив после себя вооруженные отряды контрреволюции, которые подготовили приход фашизма в Италии. Эти роковые неудачи в Германии, Австрии, Венгрии и Италии, вместе с Россией составлявших традиционную сферу влияния марксизма до первой мировой войны, имели место еще до того, как сама большевистская революция достаточно оправилась от империалистической интервенции и смогла непосредственно воздействовать организационно или теоретически на ход классовой борьбы в этих странах. III Интернационал формально был основан в 1919 г., когда Москва все еще находилась в кольце белых армий. Реальное же создание Коминтерна произошло на его II конгрессе в июле 1920 г. К этому моменту было уже слишком поздно что-то предпринимать, чтобы как-то повлиять на важнейшие сражения пролетариата в послевоенной обстановке. Наступление Красной Армии в Польше, сулившее, казалось, возможность непосредственной связи с революционными силами Центральной Европы, в том же месяце было отбито, а еще через несколько недель прекратились захваты фабрик в Турине, хотя Ленин телеграфировал ИСП, призывая к общенациональным выступлениям по всей Италии. Эти поражения, несомненно, были обусловлены отнюдь не субъективными ошибками или неудачами. Они свидетельствовали об объективном превосходстве сил капитализма в Центральной и Западной Европе, где его исторически сложившийся перевес над рабочим классом сохранился и после первой мировой войны. Партиям III Интернационала удалось прочно закрепиться в основных странах континента за пределами СССР только уже после всех этих неудачных сражений. Когда же, наконец, была прорвана блокада Советского государства, то вполне естественно, что разительный контраст между разгромом руководящих органов социал-демократии и поражением стихийных восстаний в Центральной и Южной Европе, с одной стороны, и успехом большевистской партии в России — с другой, обеспечил относительно быстрое формирование централизованного революционного Интернационала на принципах, разработанных Лениным и Троцким. В 1921 г. Ленин составил свое фундаментальное теоретическое «послание» новым коммунистическим партиям, которые к тому времени уже были созданы практически во всех развитых странах капиталистического мира, — работу «Детская болезнь «левизны» в коммунизме». В ней он обобщил исторические уроки практического опыта большевиков в России для социалистов других стран и впервые обратился к проблемам марксистской стратегии в условиях более развитых, чем царская империя, стран, где буржуазный парламентаризм был гораздо сильнее, а реформизм рабочего класса гораздо глубже, нежели ему представлялось до первой мировой войны. Благодаря систематическому переводу работы Ленина стали доступными для активных участников революционного движения всей Европы. В тот момент, казалось, сложились условия для международного распространения и плодотворного развития марксистской теории на совершенно новом уровне, а Коминтерн представлялся гарантией ее практической связи с повседневной борьбой народных масс. В действительности эти перспективы скоро исчезли. Жестокие удары, нанесенные империализмом революции в России, опустошили ряды советского рабочего класса, даже несмотря на его военную победу над силами белых в гражданской войне. После 1920 г. нельзя было рассчитывать на немедленную помощь от более развитых стран Европы. СССР был обречен на изоляцию, его промышленность была разрушена, его пролетариат был ослаблен, сельское хозяйство было запущено, а крестьянство испытывало недовольство. Завершалась стабилизация капитализма в Центральной Европе, от которой революционная Россия была полностью отрезана. Когда же блокада была прорвана и связь с другими странами континента восстановлена, то над Советским государством, зажатым в тисках российской отсталости и лишенным политической поддержки извне, нависла внутренняя угроза. Крепнувшая узурпация власти партийным аппаратом, все более жесткое подчинение ему рабочего класса и неуклонный рост официального шовинизма слишком поздно (в 1922 г.) стали очевидны и самому Ленину, смертельно больному. Его последние работы — от статьи о Рабкрине до политического завещания[15] — можно считать отчаянной теоретической попыткой найти формы возрождения политической активности народных масс, которая могла бы искоренить бюрократизм нового Советского государства и восстановить утраченные после Октябрьской революции единство и демократию. В начале 1924 г. Ленин умер. Через три года победа Сталина во внутрипартийной борьбе решила судьбу социализма и марксизма в СССР на следующие десятилетия. Сталинский политический аппарат вскоре подавил революционную деятельность народных масс в самой России, а также все больше свертывал или подрывал ее за пределами Советского Союза. Прочное господствующее положение бюрократически привилегированного слоя над рабочим классом обеспечивалось полицейским режимом, постоянно ужесточавшимся. В этих условиях революционное единство теории и практики, сделавшее возможным возникновение классического большевизма, было, естественно, разрушено. Бюрократическая каста, захватившая власть в этой стране, лишила низы прав, самостоятельности и погасила их энтузиазм. Стоявшая над низами партия постепенно была очищена от последних соратников Ленина. Вся серьезная теоретическая деятельность была прекращена в Советском Союзе после коллективизации. В 1929 г. Троцкого высылают из страны, а в 1940 г. его убили. В 1931 г. Рязанова снимают с занимаемых постов, в 1939 г. он умирает в трудовом лагере. В 1929 г. Бухарина заставляют замолчать, а в 1938 г. его расстреливают. К 1930 г. морально сломили Преображенского, и он умирает в тюрьме в 1938 г. К тому времени, как правление Сталина достигло своего апогея, марксизм в России практически был сведен к формальному упоминанию. Страну, занимавшую в мире передовые позиции в развитии исторического материализма и обогатившую Европу разнообразием и силой ума своих теоретиков, за десятилетие превратили в полуграмотное болото, в страну, выделявшуюся лишь своей жесткой цензурой и грубой пропагандой. В то время как сталинизм непроницаемым колпаком накрыл советскую культуру, политическое лицо европейского капитализма все больше искажалось яростью и конвульсиями. Рабочий класс, потерпевший поражение в ходе послевоенного революционного кризиса, тем не менее, по-прежнему представлял сильную угрозу буржуазии по всей Центральной и Южной Европе. Создание III Интернационала и рост хорошо организованных коммунистических партий под знаменем ленинизма внушали страх правящему классу в странах, ставших в 1918—1920 гг. эпицентрами революций. Кроме того, подъем экономики в империалистических странах, обеспечивший политическое восстановление версальского порядка, оказался недолговечным. В 1929 г. в Европе разразился крупнейший кризис капитализма, вызвавший массовую безработицу и усиление классовой борьбы. Социальная контрреволюция мобилизовалась и приняла самые жестокие и насильственные формы, свертывая парламентскую демократию, с тем, чтобы ликвидировать все самостоятельные организации рабочего класса. Террористические фашистские диктатуры — вот исторический ответ капитала на угрозу его господству со стороны труда в этом регионе. Диктатуры предназначались для подавления малейших проявлений сопротивления и независимости пролетариата на фоне усиления межимпериалистических противоречий. Италия была первой страной, в полной мере испытавшей фашистские репрессии: к 1926 г. Муссолини уже покончил со всей законной оппозицией в стране, В 1933 г. в Германии власть захватили нацисты после того, как Коминтерн навязал КПГ курс, равносильный самоубийству; рабочее движение в Германии было уничтожено. Год спустя клерикальный фашизм совершает вооруженные налеты в Австрии, крушит партийные и профсоюзные организации — оплот рабочего класса. В Венгрии уже задолго до этого была установлена белая диктатура. Военный путч в Испании ознаменовал начало трехлетней гражданской войны, которая закончилась победой испанского фашизма при помощи союзнически Португалии и единомышленников в Италии и Германии. Это десятилетие завершилось нацистской оккупации Чехословакии и установлением над ней контроля, а также падением Франции. Как же сложилась в эту эпоху великих потрясений судьба марксистской теории в Центральной Европе, которая сыграла столь важную роль в развитии исторического материализма до первой мировой войны? Как мы уже убедились, не успела ленинская политическая мысль распространиться за пределы России, как она была стерилизована в результате сталинизации III Интернационала, который подчинил политику входивших в него партий целям внешней политики СССР. Но коминтерновские социалдемократические или центристские партии, естественно, тоже не выражали готовности применять или распространять ленинизм. Таким образом, среди массовых организаций рабочего класса, сформировавшихся в этом регионе в период между двумя войнами, существо марксистской теории сводилось в основном к экономическому анализу в духе, непосредственно унаследованном от крупных дискуссий довоенных времен. В Веймарской республике, во Франкфурте, в 1923 г. при финансовой поддержке богатого хлеботорговца создается независимый институт социальных исследований для содействия проведению марксистских исследований на полуакадемической основе (этот институт был формально придан Франкфуртскому университету)[16]. Его первым директором становится историкправовед Карл Грюнберг, который до начала первой мировой войны возглавлял кафедру в Венском университете. Грюнберг (уроженец Трансильвании, 1861 г.) был типичным представителем старшего поколения ученых-марксистов Восточной Европы; он основал первый крупный журнал по истории рабочего движения в Европе — Archive fur die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiter-bewegung, издание которого после образования института переносится во Франкфурт. Отныне этот видный представитель традиции австромарксизма перекидывает мостик к молодому поколению социалистически настроенной интеллигенции в Германии. В 20-е годы в штат возглавляемого им Института социальных исследований входили и коммунисты, и социал-демократы. Институт поддерживал регулярные контакты с Институтом Маркса — Энгельса в Москве, направляя архивные материалы Рязанову для первого научного издания трудов Маркса и Энгельса. Первый том Marks — Engels Gesamtausgabe (MEGA) был фактически издан во Франкфурте в 1927 г. под эгидой двух институтов. В то же время институт финансировал издание единственного в межвоенный период значительного труда в области марксистской экономической теории. Его автором был Генрик Гроссманн, эмигрант из Восточной Европы, родившийся в 1881 г. в Кракове, в семье шахтовладельца из Галиции. Он был ровесником Бауэра и на семь лет старше Бухарина, иными словами, одним из представителей того выдающегося поколения, что достигло невероятных высот до 1914 г. Однако взгляды Гроссманна развивались медленнее. Начав студентом у Бем-Баверка в Вене, он вступил в Коммунистическую партию Польши и возглавил кафедру экономики в Варшавском университете. В 1925 г. из-за политических преследований он уехал из Польши в Германию, а в 1926—1927 гг. читал курс лекций во Франкфуртском институте. Позднее эти лекции были опубликованы в виде объемистого тома, озаглавленного «Закон накопления и крах капиталистической системы»[17]. В изданном в год Великой депрессии (1929 г.) труде Гроссманна обобщались классические предвоенные дискуссии по вопросу о законах движения капиталистического способа производства в XX в. и предпринималась самая грандиозная до сих пор попытка в систематизированном виде изложить доказательства его объективно неизбежного краха, исходя из логики марксовой теории воспроизводства капитала. Его главные положения, которые представлялись столь своевременными, немедленно оспорил более молодой экономист левый социал-демократ Фриц Штернберг. Ранее Гроссманн критиковал книгу самого Штернберга «Империализм» (1926 г.), представлявшую собой переложение позиции Люксембург, дополненной современным анализом функций и колебаний численности резервной армии труда при капитализме. Оба автора, в свою очередь, подверглись критике со стороны другого марксиста польского происхождения Натали Можковска в ее небольшой книге о современных теориях кризиса, написанной после прихода нацистов к власти в Германии[18]. В следующем году находившийся в изгнании в Чехословакии Бауэр издал свою последнюю теоретическую работу, которую он пророчески озаглавил «Между двумя мировыми войнами?»[19]. В этом политическом и экономическом завещании самый одаренный представитель школы австромарксизма Бауэр дал более совершенный прикладной анализ марксовой теории воспроизводства, который он вел в течение всей своей жизни, и построил наиболее утонченный из до сих пор представленных вариантов кризисов недопотребления. В работе отразилось его разочарование политикой постепенного реформизма, которую он проводил в течение длительного времени, будучи в руководстве партии, призывая социалдемократическое и коммунистическое движение вновь объединиться в борьбе против фашизма. Бауэр умер в Париже в 1938 г., вскоре после того, как он был вынужден оставить Братиславу в связи с заключением Мюнхенского пакта. Через несколько месяцев началась вторая мировая война, а нашествие нацистов на Европу положило конец целой эпохе в развитии марксизма на этом континенте. В 1941 г. в Париже, в застенках гестапо, погиб Гильфердинг. Послесловие к традиции, которую олицетворяли эти люди, могли написать лишь те, кто находился вне поля битвы. В 1943 г. в Швейцарии Можковска публикует свою последнюю, наиболее радикальную работу — «О динамике зрелого капитализма»[20]. Тем временем в США молодой американский экономист Поль Суизи обобщил всю историю марксистских дискуссий о законах капитализма — от Туган-Барановского до Гроссманна — и со своей стороны одобрил решение проблемы недопотребления, предложенное Бауэром, в работе «Теория капиталистического развития»[21], написанной с образцовой ясностью. Однако в книге Суизи, написанной во времена «нового курса», подспудно отвергалось предположение о непреодолимости в условиях капиталистического способа производства кризисов, возникающих в результате диспропорциональности и недопотребления. Он признавал потенциальную эффективность кейнсианского принципа антицикличного вмешательства государства для обеспечения внутренней стабильности империализма. Окончательный распад капитализма впервые связывался с чисто внешним фактором — «более высокой эффективностью экономики Советского Союза и стран, которые, как предполагалось, могут последовать по его пути после окончания войны». По его мнению, в дальнейшем был возможен мирный переход к социализму самих Соединенных Штатов[22]. «Теория капиталистического развития» знаменовала конец интеллектуальной эпохи в истории и философии марксизма. 1. См. Hamerow Т. Restoration, Revolution, Reaction. — Princeton, 1958. — P. 137—156 — лучший исторический анализ социального состава участников революции 1848 г. в Германии. 2. Среди работ, не опубликованных при жизни Маркса, были «К критике гегелевской философии права» (1843 г.), «Философско-экономические рукописи» (1844 г.), «Тезисы о Фейербахе» (1845 г.), «Немецкая идеология» (1846 г.), Предисловие к «Критике политической экономии» (1857—1858 гг.), «Теории прибавочной стоимости» (1862 —1863 гг.), «Капитал» (т. II, III), «Критика Готской программы» (1875 г.), «Заметки о Вагнере» (1880 г.). 3. Лабриола сыграл важную роль, убеждая Турати Ф. создать в Италии социалистическую партию по немецкому образцу, но в последний момент решил не участвовать в учредительном съезде ИСП, состоявшемся в 1892 г. в Генуе, из-за своих сомнений в ее идеологической чистоте. 4. Статья Меринга была опубликована в 1893 г., работа Плеханова — в 1895 г., Лабриолы — в 1896 г. Трактат Каутского, значительно больший по объему, был опубликован гораздо позже — в 1927 г. 5. Эти работы были написаны соответственно в 1893 г. (Меринг), 1908 г. (Каутский) и 1912—1913 гг. (Плеханов). 6. Второй том «Капитала» вышел в 1885 г., а третий в 1896 г.; «Теории прибавочной стоимости» были изданы в 1905—1910 гг.; «Переписка» — в 1913 г.; «Карл Маркс» Меринга — в 1918 г. 7. Первой серьезной неоклассической критикой Маркса стала работа Бем-Баверка «Zum Abschluss des Marxchen Systems» (1896 г.). Бем-Баверк трижды был министром финансов Австрийской империи и заведовал кафедрой политической экономии Венского университет с 1904 по 1914 г. 8. Поводом для дискуссии по аграрным вопросам внутри германской социал-демократии во многом послужило проведенное Максом Вебером исследование условий жизни сельскохозяйственных рабочих Восточной Германии, которое вышло в свет в либеральном издании «Ферейн фюр социалполитик» в 1892 г. См. замечательное вступление Джулиано Прокаччи к переизданной в Италии работе Каутского La Questione Agraria. — Milan, 1971. — P. L—LII, LVIII. 9. Позднее, в 1924 г., Бухарин также опубликовал свою собственную развернутую критику теории, предложенной Люксембург. Эта работа была недавно переведена на английский язык в сборнике Imperialism and the Accumulation of Capital / K. Tarbuck. — L., 1971. 10. Некоторое представление о русской эмиграции дает список стран, в которых Ленин, Троцкий и Бухарин жили или бывали до 1917 г.: Германия, Англия, Франция, Бельгия, Швейцария и Австрия (Ленин и Троцкий); Италия и Польша (Ленин); Румыния, Сербия, Болгария, Испания (Троцкий); США (Троцкий и Бухарин); Дания, Норвегия и Швеция (Бухарин). 11. Учебник социологии Бухарина был издан в 1921 г.; исследование Троцкого по литературе — в 1924 г. 12. Давид Рязанов (настоящая фамилия Гальдендах) родился в 1870 г. Именно спор о допуске его на II съезд РСДРП вызвал первые разногласия между Мартовым и Лениным незадолго до их конфликта по вопросу об уставе партии. После революции 1905 г. Рязанов опубликовал целый ряд статей в «Нойе цайт» и работал над редактированием переписки Маркса и Энгельса. 13. Ее очерк «Русская революция», написанный в 1918 г., впервые опубликовал Пол Леви в 1922 г. 14. Два других видных экономиста, один — бывший марксист, а другой — критик марксизма, занимали правительственные посты в этот период в Восточной и Центральной Европе. На Украине ТуганБарановский был министром финансов контрреволюционной Рады в 1917—1918 гг., в Австрии аналогичный пост занимал в 1919 г. Шумпетер. 15. «Как нам реорганизовать Рабкрин» и «Письмо к съезду». 16. О происхождении Института социальных исследований во Франкфурте см. полный научный отчет Jay M. The Dialectical Imagination. — L., 1973. — P. 4—12 ff. 17. Die Akkumulations- und. Zusammenbruchsgesetz des kapilalislischen Systems. — Leipzig, 1929; переиздан во Франкфурте в 1971 г. 18. Zur Kritik moderner Krisentheorien. — Prague, 1935. Можковска родилась в Варшаве в 1886 г.; в 1908 г. эмигрировала в Швейцарию, где жила в Цюрихе до самой смерти в 1968 г. 19. Zwischen Zwei Weltkriegen. — Bratislava, 1936. 20. Zur Dynamik des Spätkapitalismus. — Zurich, 1943. 21. В 1942 г., когда был опубликован этот труд, Суизи было 32 года. 22. The Theory of Capitalist Development. — N. Y., 1968. — P. 348— 362. 2. Становление западного марксизма Пришло время, и у Волги ураганная волна второй мировой войны пошла вспять. Победы Красной Армии над вермахтом в 1942—1943 гг. привели к освобождению Европы от нацистского господства. К 1945 г. фашизм был повсюду разбит, кроме Пиренейского полуострова. СССР, международная мощь и престиж которого неизмеримо возросли, распоряжался судьбами Восточной Европы, за исключением южной оконечности Балкан. Вскоре коммунистические режимы были установлены в Пруссии, Чехословакии, Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии, Югославии и Албании. Класс капиталистов в этих странах был экспроприирован, и началась индустриализация по советскому образцу. Единый «социалистический лагерь» занимал теперь половину континента. Вторую половину его спасли для капитализма американская и британская армии. Однако во Франции и Италии коммунистические партии, сыгравшие ведущую роль в Сопротивлении, впервые превратились в основные партии рабочего класса. В Западной Германии, напротив, отсутствие сходного опыта Сопротивления, а также разделение страны позволили восстановленному буржуазному государству при покровительстве англо-американских оккупационных властей успешно искоренить довоенные коммунистические традиции пролетариата. В следующие 20 лет возникла модель экономического и политического развития, диаметрально противоположная модели развития межвоенного периода. В основных странах Западной Европы не произошло возврата к военным или полицейским диктатурам. Парламентская демократия, основанная на всеобщем избирательном праве, впервые в истории капитализма стала нормальным и стабильным явлением в индустриально развитых странах мира. Не произошло и повторения катастрофических кризисов, наблюдавшихся в 20-е и 30-е годы. Напротив, мировой капитализм переживал длительный и беспрецедентный по динамизму бум, фазу наибольшего процветания и быстрого роста в своей истории. Тем временем репрессивные бюрократические режимы, «опекавшие» пролетариат в Советском Союзе и странах Восточной Европы, после смерти Сталина прошли через ряд последовательных кризисов и перелицовок, но коренного изменения их внутренней структуры не произошло. Террор со стороны государства был прекращен, однако вооруженное насилие по-прежнему использовалось этим режимом для подавления народных выступлений. Экономический рост характеризовался высокими темпами в силу его относительно низкого исходного уровня, однако он не представлял собой политического вызова стабильности капиталистического блока. В этом изменившемся мире революционная теория завершила свои превращения, в результате которых появилось то, что сегодня мы можем ретроспективно назвать западным марксизмом. Труды авторов, о которых ниже пойдет речь, фактически создали совершенно новую интеллектуальную среду в рамках развивающегося исторического материализма. Под их пером марксизм превратился в теорию, в некоторых важнейших аспектах совершенно отличную от всего ей предшествовавшего. В частности, резко изменился приоритет тем и проблем, характерных для всей группы теоретиков, достигших политической зрелости до мировой войны. Причем смена приоритетов была обусловлена как сменой поколений, так и местом проживания и национальной принадлежностью представителей нового поколения. История смены приоритетов длительна и сложна, она началась в межвоенный период и наложилась на период упадка прежней традиции. Наиболее ясный подход к этой проблеме представляет таблица 2 данных о годах жизни и месте рождения теоретиков, о которых пойдет сейчас речь. Социальное происхождение этих мыслителей не отличалось от социального происхождения их предшественников[1]. География этой группы резко отличалась от географии группы марксистовинтеллектуалов, выдвинувшихся на передний план после Энгельса. Как видим, фактически каждый значительный теоретик в каждом из двух последовавших за основателями исторического материализма поколений был выходцем из восточной или центральной части Восточной Европы. Даже в рамках германских империй наиболее выдающимися деятелями II Интернационала были выходцы из Вены и Праги, а не из Берлина. Однако после окончания первой мировой войны и в последовавший за этим период положение изменилось. За исключением Лукача и его ученика Гольд-манна, все ведущие представители этой школы (см. табл. 2) были выходцами с Запада. Сам Лукач получил образование в Гейдельберге и по своей культуре был больше немцем, чем венгром, в то время как Гольдманн всю свою зрелую жизнь провел во Франции и Швейцарии. Из двух немцев, родившихся в Берлине, Беньямин сознательно ориентировался на французскую культуру, в то время как Маркузе основную подготовку получил во Фрибуре в Швабии[2]. Таблица 2 Лукач 1885 —1971 гг. Корш 1886 Тодстедт —1961 гг. Саксония) Грамш 1881 —1937 гг. Алее (Сардиния) Беньям 1892 —1940 гг. Берлин Д. К. и А. ин В. Будапешт (Запад. Хоркха 1895 ймер М. —1973 гг. Штутгарт (Швабия) Делла 1897 Вольпе Г. —1968 гг. Имола (Румыния) Маркуз е Г. 1898 Лефевр А. 1901 г. Адорно Т. Ж.-П. Хагетмау (Гаскония) 1903 —1969 гг. Сартр Франкфурт 1905 Париж г. Гольдм анн Л. 1913 —1970 гг. Альтюс сер Л. Бухарест 1918 г. Коллет ти Л. Берлин г. 1924 г. Бирмандрейс (Алжир) Рим В рамках этой традиции можно выделить два поколения[3]. К первой группе интеллектуалов относились те, кому первая мировая война и происшедшая перед ее окончанием русская революция дали политический опыт, определивший их творческий путь. Касаясь их биографии, можно отметить, что Лукач был старше Бухарина на три года, а Корш — на два года. Однако они пришли к революционному социализму значительно позже довоенного поколения марксистов, в то время как Бухарин задолго до 1914 г. уже был активным и испытанным помощником Ленина. Радикалами они стали в результате мировой войны и последовавших за ней потрясений, а как марксисты они сформировались лишь после 1918 г. В отличие от них, Грамши перед первой мировой войной уже входил в Итальянскую социалистическую партию. Вместе с тем он был еще молодым, незрелым членом партии, и отсутствие опыта привело его в начале войны к серьезным ошибкам (он был на грани того, чтобы поддержать вступление Италии в войну, в то время как партия решительно выступила против). Маркузе в 20-летнем возрасте призывают в германскую армию, в течение непродолжительного времени (1917—1918 гг.) он состоит членом социалдемократической партии. Беньямин избежал службы в армии, но война сказалась на полевении его взглядов. Группа второго поколения западных марксистов состояла из людей, которые обрели зрелость лишь через много лет после окончания первой мировой войны и политически сформировались в период подъема фашизма и второй мировой войны. Первым из них к историческому материализму пришел Лефевр — во многих отношениях неординарная личность в этой группе. Он вступил во Французскую коммунистическую партию (ФКП) в 1928 г. Адорно, на 10 лет моложе Маркузе и Беньямина, поворачивается к марксизму, по-видимому, лишь после прихода к власти нацистов в 1933 г. Представляется, что Сартр и Альтюссер, несмотря на большую возрастную разницу, радикально изменили свои взгляды в тот же самый период под воздействием гражданской войны в Испании, поражения Франции в 1940 г., а также пребывания в немецком плену. Политическая эволюция этих двух людей завершилась после 1945 г., в первые годы «холодной войны»: Альтюссер вступает в ФКП в 1948 г., а Сартр включается в деятельность международного коммунистического движения в 1950 г. На Гольдманна большое влияние, как до второй мировой войны, так и в ходе нее оказывали труды Лукача, с которым он встречается после войны в Швейцарии в 1946 г. Делла Вольпе в хронологическом плане составляет исключение, которое, однако, подтверждает генерационно-политическую модель: хотя по возрастной группе он относился к первому поколению, первая мировая война совершенно не отразилась на его взглядах. Лишь после того как его жизнь подверглась опасности во время фашизма в Италии, он с запозданием в конце второй мировой войны, в 1944—1945 гг., обратился к марксизму, когда ему было почти 50 лет. Наконец, можно привести единственный пример четкой границы третьего поколения — Коллетти. Молодость уберегла его от влияния второй мировой войны, учеником Делла Вольпе он стал в послевоенный период, а в ИКП вступил в 1950 г. Следует отметить, что европейский марксизм с начала 20-х годов стал усиленно сосредоточиваться в Германии, Франции и Италии. В этих трех странах либо до второй мировой войны, либо после нее наряду с массовыми коммунистическими партиями, пользовавшимися полным доверием основных отрядов рабочего класса, существовала многочисленная и радикально настроенная интеллигенция. Отсутствие этих условий препятствовало возникновению развитой марксистской культуры за пределами этого региона. В Англии широкая радикализация интеллигенции происходит в период между двумя войнами, однако, широкие массы рабочего класса остаются по-прежнему верными социал-демократическому реформизму. В Испании в 30-е годы пролетариат остается по духу более революционным, чем рабочий класс в любой другой стране Европы, но в рабочем движении число представителей интеллигенции было весьма незначительным. В этот период ни в одной из стран не разрабатывается сколь-нибудь значимой марксистской теории[4]. Исторические даты и география распространения западного марксизма дают предварительную формальную схему для определения его места в рамках эволюции социалистической мысли в целом. Остается лишь выявить основные сущностные черты, которые определяют его границы как целостной традиции школы. Первой и наиболее важной чертой западного марксизма является его структурное отделение от политической практики. Органическое единство теории и практики, достигнутое перед первой мировой войной поколением классических марксистов, которые выполняли в своих партиях в странах Центральной и Восточной Европы неразрывную политико-интеллектуальную функцию, стало все больше подрываться в Западной Европе в течение 50 лет с 1918 по 1968 г. Разрыв между теорией и практикой не был неожиданным или спонтанным, учитывая новые условия (т.е. смену поколений и географию распространения), в которых развивался марксизм после первой мировой войны. Он наступал медленно и неуклонно в результате мощного исторического давления, которое окончательно разорвало связь между теорией и практикой только в 30-е годы. Однако в послевоенный период разрыв между ними был настолько большим, что, казалось, он стал сущностной чертой самой традиции западного марксизма. Фактически трое первых ведущих теоретиков из поколения после 20-х годов — Лукач, Корш и Грамши, подлинные родоначальники всей системы западного марксизма,— вначале были крупными политическими лидерами в своих партиях. Каждый из них был также непосредственным участником и организатором массовых революционных выступлений своего времени. Появление их теории может быть осмыслено только в данном контексте. Лукач был заместителем народного комиссара образования в Венгерской советской республике в 1919 г. и сражался в рядах революционной армии на Тисском фронте против наступающих сил Антанты. Находясь в 20-е годы в эмиграции в Австрии, Лукач входит в состав руководства Венгерской коммунистической партии, а после длившейся в течение 10 лет фракционной борьбы внутри партии на непродолжительное время становится ее генеральным секретарем в 1928 г. Корш в 1923 г. был министромкоммунистом юстиции в правительстве Тюрингии и занимался подготовкой полувоенных формирований для организации в том же году восстания Коммунистической партии Германии (КПГ) в центральной Германии, которое рейхсверу удалось упредить. Позже Корш становится видным депутатом рейхстага от своей партии; затем работает редактором теоретического журнала партии; в 1925 г. он один из лидеров ее левой фракции. Грамши, несомненно, сыграл более значительную роль, чем Лукач и Корш, в массовых выступлениях, последовавших непосредственно за войной. Главный организатор и теоретик фабричных советов в Турине и редактор «Ордине нуово» (1919—1920 гг.), Грамши в следующем году принимает участие в создании ИКП и постепенно становится вождем партии в 1924 г., в период, когда она ведет трудную оборонительную борьбу против укрепления фашизма в Италии. Судьба каждого из названных нами трех лиц символизирует силы, которым в последующие годы суждено было отколоть марксистскую теорию от классовой практики. Корш был исключен из КП Германии в 1926 г. за несогласие с положением о стабилизации капитализма, требование возобновить агитацию за рабочие Советы и критику советской внешней политики за ее примиренческую позицию по отношению к мировому капитализму. Затем он в течение двух лет пытался сохранить независимую политическую группу и даже после ее роспуска оставался активным участником марксистских кружков интеллигенции и пролетариата вплоть до 1933 г., когда победа нацизма в Германии заставила его эмигрировать в Скандинавию, а потом в США, где он находился в изоляции[5]. В 1928 г. Лукач подготовил тезисы для Венгерской коммунистической партии, в которых недвусмысленно отвергал катастрофическую перспективу — печально известную линию «третьего периода», только что одобренную на VI конгрессе Коминтерна, открыто и яростно атакующую реформистские рабочие организации, называя их «социал-фашистскими», а также полностью отвергавшую какие-либо различия между буржуазно-демократическими режимами и военно-полицейскими диктатурами как орудиями капиталистического господства[6]. Попытка Лукача дать дифференцированную типологию политических систем капитализма в новой ситуации и сделанный им упор на необходимость выдвижения переходных демократических лозунгов в борьбе против тирании Хорти в Венгрии были резко осуждены секретариатом Коминтерна, и ему пригрозили немедленным исключением из партии. Во избежание исключения Лукач публично отрекается от своих утверждений, не меняя при этом своих внутренних убеждений. В результате отхода от линии Коминтерна ему пришлось оставить ответственные организационные посты в партии и в Интернационале. Начиная с 1929 г. Лукач отходит от политической деятельности и посвящает себя литературной критике философии. Приход к власти нацистов вынудил его прервать свое непродолжительное пребывание в Берлине и эмигрировать в Советский Союз, где он оставался до окончания второй мировой войны. Судьба Грамши сложилась гораздо трагичнее. Арестованный в 1926 г. в Риме по приказу Муссолини, Грамши провел девять ужасных лет в тюрьме, условия содержания в которой послужили причиной его смерти в 1937 г. Лишенный в тюрьме возможности участвовать в жизни Итальянской компартии, он избежал прямого столкновения с последствиями сталинизации Коминтерна. Тем не менее, его последним политическим актом перед арестом был резкий протест, направленный в адрес Тольятти в Москву в связи с тем, что тот не довел до сведения ЦК КПСС письмо ИКП. В нем приводились доводы в пользу большей терпимости в отношении происходящих внутри КПСС дискуссий накануне исключения из партии левой оппозиции в России. Однако с 1930 г., уже в тюрьме, он категорически выступал против линии «третьего периода» и занял позицию, которая не отличалась от позиции Лукача. Грамши подчеркивал важное значение промежуточных демократических требований в условиях фашизма, а также жизненно важную необходимость добиться союза с крестьянством для свержения фашизма[7]. Обстановка внутри III Интернационала в то время была такова, что его брат, которому он поручил довести свои взгляды до партийного центра за пределами Италии, хранил молчание, чтобы спасти Грамши от риска исключения из партии. Две большие трагедии — фашизм и сталинизм — с разных сторон обрушились на рабочее движение в Европе в межвоенный период, совместно рассеивая и уничтожая потенциальных носителей подлинной марксистской теории, связанной с широкой практикой западного пролетариата. Одиночество и смерть Грамши в Италии, изоляция и эмиграция Корша в США и Лукача в СССР ознаменовали конец периода, на протяжении которого западный марксизм еще владел умами широких масс. Отныне и впредь ему суждено было говорить на собственном «зашифрованном» языке с постоянно увеличивающегося расстояния, отдалявшего его от класса, судьбе которого он изначально стремился служить и интересы которого стремился выражать. Предстоявшие глубокие изменения впервые проявились в Германии, в Институте социальных исследований во Франкфурте, о возникновении и деятельности которого мы уже говорили. Создание центра марксистских исследований в капиталистической стране было новым явлением в истории социализма, поскольку они предполагало институциональное отделение теории от политики, с чем, например, Люксембург до войны никогда бы не согласилась. Тем не менее, деятельность Института в 20-е годы была посвящена традиционным проблемам рабочего движения, причем солидная эмпирическая работа сочеталась с серьезным теоретическим анализом. Директор Института в своем выступлении по поводу вступления на должность, в частности, предупреждал об опасности превращения Института в школу для «мандаринов», и в его штат вошли активные члены пролетарских партий Веймарской республики, в особенности КП Германии[8]. В журнале Института печатались труды Корша и Лукача наряду со статьями Гроссманна и Рязанова. Таким образом, в 20-е годы он служил связующим звеном между «западным» и «восточным» течениями внутри марксизма. Деятельность Института имела исключительно важное значение для эволюции марксистской теории в целом в Европе в период между двумя войнами. В 1929 г. вышел в отставку Грюнберг — историк-австромарксист, возглавлявший Институт со дня его основания. В 1930 г. новым директором Института стал Хоркхаймер. Это произошло спустя год после того, как Лукача заставили замолчать, и в том же году, когда подвергли цензуре работы сидевшего в тюрьме Грамши ради его же безопасности. В отличие от историка Грюнберга, философ Хоркхаймер в своей вступительной речи задал тон широкой переориентации деятельности Института от занятий историческим материализмом как «наукой» к разработке «социальной философии», дополненной эмпирическими исследованиями. В 1932 г. Институт прекратил публикацию «Архивов истории социализма и рабочего движения». Его новый периодический журнал был невинно и просто назван «Журнал социальных исследований». За непродолжительный период, предшествовавший фашистской контрреволюции 1933 г., Хоркхаймер сумел сплотить вокруг Института группу талантливых молодых интеллектуалов, придерживавшихся различных направлений, среди которых самыми значительными фигурами станут Маркузе и Адорно. В отличие от Грюнберга и Гроссманна, Хоркхаймер никогда не был членом какой-либо рабочей партии, и, хотя одно время восхищался Люксембург, он оставался в политическом плане радикалом и критически относился как к СПГ, так и КПГ. Маркузе, в 1918 г. член солдатского Совета, сохранил некоторые связи с организованным рабочим движением, в частности с левым крылом СДПГ. В последние годы перед приходом Гитлера к власти Маркузе сотрудничал в теоретическом журнале Гильфердинга «Гезельшафт». В то же время Адорно — самый молодой в трио — никакого личного участия в политической жизни социалистов не принимал. Если социал-демократическая и коммунистическая партии высказывали свою уверенность в будущем, то новая «команда» Института скептически относилась к перспективам классовой борьбы в Германии уже с момента прихода Хоркхаймера к руководству Институтом. В 1931 г. Хоркхаймер без шума перевел средства Института в Голландию и создал заграничное отделение в Швейцарии[9]. Приход к власти нацистов в 1933 г. вынудил Институт выехать из страны, но не уничтожил его как центр теоретической мысли. Хоркхаймеру удалось договориться о переводе Института в США в 1934 г. и о присоединении его к Колумбийскому университету в Нью-Йорке в качестве ассоциированного учреждения. Перед началом второй мировой войны все ближайшие коллеги Хоркхаймера переехали к нему в Америку. В Соединенных Штатах Институт работал в политической обстановке, где не было ни массового рабочего движения, хотя бы формально приверженного идеалам социализма, ни сколь-нибудь заметной марксистской школы. В новой обстановке Институт постепенно начал приспосабливаться к местной буржуазной среде, пересмотрев свою прошлую и настоящую деятельность, дабы не уязвить местные академические и корпоративные круги, и проводя социологические исследования в духе традиционного позитивизма. Стараясь не выделяться из нового окружения. Институт фактически полностью устранился от политики. Вместе с тем Хоркхаймер и Адорно по-прежнему испытывали резкую личную неприязнь к американскому обществу, что нашло отражение в опубликованном после войны совместном труде «Диалектика Просвещения» (предусмотрительно изданном в Голландии). В нем североамериканский либерализм фактически отождествлялся с германским фашизмом. Возвращение Института во Франкфурт в 1949—1950 гг. не изменило его социальные функции и ориентацию, существенно трансформировавшиеся в США, несмотря на то, что теперь Западная Германия в политическом и культурном отношении являла собой самую реакционную из крупных стран Европы. Марксистские школы в ней были уничтожены в результате нацистского шовинизма и репрессий англичан и американцев, а рабочий класс был временно пассивен и инертен. В условиях, когда предстал запрет КПГ, а СДП формально порвала все связи с марксизмом, деполитизация Института была завершена: если в академических кругах США он был обособленным анклавом, то в Западной Германии его официально чествовали и брали под покровительство. Критическая теория, которую в 30-х годах выдвигал Хоркхаймер, теперь прямо отвергала какую-либо связь с социалистической практикой. Отойдя от дел, Хоркхаймер дошел до позорной апологетики капитализма[10]. Напротив, Адорно (он стал директором Института в 1958 г., при нем в Институте были созданы самые значительные работы в послевоенный период) никогда не вступал на этот путь: он отстранился от политики дальше, чем кто-либо из его коллег. В отличие от него, Маркузе, который остался в США и находился в 50-е и 60-е годы в духовной и институциональной изоляции, сохранил непримиримую революционную личную позицию. Однако объективно напряженность обстановки, в которой он оказался, отразилась на его образе мышления. Он разделял политические идеалы классического марксизма и в то же время находился в полной изоляции от какой-либо активной социальной силы, борющейся за эти идеалы. Маркузе теоретически осмысливает в Америке структурную «интеграцию» рабочего класса в развитый капитализм и, следовательно, непреодолимость разрыва между социалистической теорией — вновь неизбежно превращающейся в «утопию» — и действиями пролетариата в современной истории. Разрыв между теорией и практикой, который без шума обозначился на практике в Германии в конце 20-х годов, был шумно освящен в теории в середине 60-х с выходом книги «Одномерный человек». До победы нацизма Германия была единственной крупной страной в Европе за пределами России с массовой коммунистической партией. Позже во Франции в период Народного фронта коммунистическое движение приобретает массовый характер. После второй мировой войны, в то время как КПГ в Западной Германии фактически устраняют, ФКП становится массовой организацией рабочего класса во Франции. Такой двойной сдвиг изменил все соотношения в марксистской культуре в Европе. Начиная с эпохи II Интернационала французское рабочее движение, которое в начале XIX в. было ведущей силой на континенте по политической боевитости и интеллектуальному творчеству, в теоретическом отношении значительно отстало от рабочего движения стран Восточной и Центральной Европы и даже Италии. Марксизм никогда глубоко не проникал ни в СФИО (Французская секция рабочего Интернационала), ни в ВКТ. Можно назвать две основные причины отставания Третьей республики в развитии марксистской культуры. Во-первых, устойчивость домарксистских традиций (прудонизм, бланкизм, анархо-синдикализм) среди самого пролетариата и, во-вторых, неувядающая сила буржуазного радикализма позднего якобинского типа, который прочно удерживал французскую интеллигенцию в лоне ее класса. При слиянии этих двух течений, например, в таком лидере, как Жорес, появилась социальная доктрина с ярко выраженным идеализмом и провинциализмом. Франция не внесла никакого существенного вклада в крупные дискуссии периода, предшествовавшего 1914 г. Как бы то ни было, «Капитал» оставался для Французской социалистической партии (ФСП) нераскрытой книгой. Следует отметить, что до первой мировой войны во Франции не было переведено ни одного сколь-нибудь важного теоретического труда, написанного после Маркса и Энгельса. Победа Антанты в 1918 г., сохранившая господство французской буржуазии, оградившая французский рабочий класс от тягот поражения, задержала вызревание условий для роста марксизма как реальной силы страны. Численность рядов ФКП, которая в 1920 г., казалось, резко увеличилась, вскоре сократилась до относительно скромной цифры, и в конце десятилетия насчитывала около 50 тыс. человек. Что касается интеллигенции, то партия привлекала в свои ряды в основном литераторов, которые относились к наследию социалистических идей скорее эмоционально, нежели научно. Первая плеяда молодых интеллектуалов, проявивших подлинный интерес к марксизму, вступила в партию только в 1928 г. В эту группу входили Низан, Лефевр, Политцер, Гутерман и Фридман. Она оформилась, выступая против стерильности и узости интересов официальной французской философии, и первоначально с симпатией относилась к сюрреализму[11]. Ее вступление в ФКП совпало с окончательной сталинизацией международного коммунистического движения в ходе «третьего периода». По этой причине группа подверглась строгим политическим ограничениям в своей теоретической деятельности, ибо теперь все центральные вопросы, касающиеся анализа капиталистического развития и ведения классовой борьбы, были областью, отнесенной к ведению даже не национального партийного руководства во Франции, а Коминтерна в самой России. Сфера интеллектуальной деятельности внутри марксизма была значительно ограничена для европейских коммунистических партий. Политцер после первой попытки дать марксистскую критику психоанализа стал не более чем послушным функционером ФКП в области культуры[12]. Полемическую энергию Низана постоянно подавляли организационным нажимом; после того как он восстал против нацистско-советского пакта, его исключают из партии[13]. Одному лишь Лефевру удалось создать большое количество трудов высокого класса и публично остаться верным ФКП благодаря новому тактическому приему, которым в дальнейшем широко пользовались марксисты-теоретики в Западной Европе: Кесарю кесарево. Он означал сочетание политической лояльности с интеллектуальной деятельностью, в значительной степени оторванной от центральных проблем революционной стратегии, дабы избежать прямого политического контроля и цензуры. К основным трудам Лефевра в 30-е годы относятся философские сочинения, уровень абстракции которых был как раз на грани нарушения партийной дисциплины. Публикация наиболее важного его труда «Диалектический материализм», задержанная на три года после написания, была встречена официальными властями с подозрительностью[14]. По интонации и направленности его труд можно поставить между ранними сочинениями Лукача со свойственной им непосредственностью и прямым обращением к «истории» и современными ему сочинениями Хоркхаймера с их все более уклончивой апелляцией к «критической теории». Хотя Беньямин и читал в Париже труды Лефевра (с ним он разделял симпатии к сюрреализму), Лефевр в конце 30-х годов был в международном плане изолирован; в самой Франции он был единственным в своем роде[15]. Немецкая оккупация Франции полностью перевернула политический и культурный мир Третьей республики и впервые создала условия для обобщения марксизма как теоретического течения во Франции. ФКП, превратившаяся в массовую партию, численность которой в последние годы Народного фронта перевалила за 300 тыс. членов, с 1941 г. стала решающей народной силой Сопротивления и вышла из войны невероятно окрепнувшей. После 1945 г. ее организационное влияние на французский рабочий класс стало непререкаемым. В результате быстро возросла ее привлекательность в глазах интеллигенции, которая начала вступать в ее ряды. Политцер был убит, сражаясь в рядах Сопротивления, Низан погибает в Дюнкерке. Лефевр на протяжении следующего десятилетия остается самым видным и плодовитым философом в партии, поскольку, несмотря на приток в ФКП интеллектуалов в этот период, количество новых теоретических трудов было незначительно. Дело в том, что интеллектуалы были в основном нейтрализованы резким усилением контроля в области культуры в партии с началом «холодной войны» и жестким насаждением ждановщины руководством партии. Таким образом, новым феноменом первого послевоенного десятилетия стало влияние марксизма в среде экзистенциалистов. Впервые оно проявилось во время оккупации, а после нее марксизм стал оказывать широкое духовное воздействие с появлением работ Сартра, Мерло-Понти и де Бовуар. Влияние марксизма было опосредовано воздействием работ Кожева, университетского философа, систематически знакомившего Францию перед войной с трудами Гегеля. Его экзистенциалистская интерпретация «Феноменологии духа» косвенно открыла Сартру и Мерло-Понти путь к Марксу[16]. В 1946 г. Сартр и Мерло-Понти основали независимый социалистический журнал «Тан модерн». Разнообразие печатавшихся в нем философских, политических, литературных, антропологических и психоаналитических материалов вскоре сделало его самым влиятельным теоретическим журналом в стране. Ни Сартр, ни Мерло-Понти не стремились вступить в ФКП, однако оба поочередно, не нападая на нее и не ставя себя в оппозицию к ней, а идя параллельно, старались сохранить активную приверженность революционным идеалам, выдвигая политические идеи, которые сама партия отказывалась принимать. Убеждение, что костяк французского рабочего класса прочно удерживала партия, которая внутри себя подавляла интеллектуальную деятельность, привело наконец к тому, что в 1952—1954 гг. Сартр предпринимает неслыханную попытку теоретического обобщения политической практики ФКП извне в серии статей под общим названием «Коммунисты и мир»[17]. Естественно, что такое «эксцентричное» единство теории и практики оказалось невозможным. Венгерское восстание 1956 г. привело к демонстративному разрыву Сартра с ФКП. После этого он занимался теоретическими разработками вне каких-либо организационно установленных рамок как независимый философ и публицист. Тем временем внутри самой ФКП под влиянием XX съезда КПСС и венгерского восстания Лефевр, в конце концов, выступил в активной оппозиции, и в 1958 г. его исключают из партии. Эти годы — годы алжирской войны — знаменуют упадок активности ФКП. Некоторая либерализация внутрипартийной жизни в 60-е годы выявила новые интеллектуальные силы, скрыто развивавшиеся внутри партии. Публикация с 1955 г. серии работ Корню по биографии Маркса и Энгельса положила начало перемещению научной школы Меринга и Рязанова во Францию[18]. Однако только появление трудов Луи Альтюссера в 1960—1965 гг. послужило сигналом резкого повышения уровня теоретических дискуссий внутри партии. Впервые в организационных рамках французского коммунистического движения была разработана крупная теоретическая система, силу и оригинальность которой не могли не признать даже самые решительные ее противники. Влияние Альтюссера очень быстро распространилось после 1965 г. как внутри, так и за пределами ФКП, придав ему особый статус в истории партии[19]. Однако парадокс такого возвышения состоит в том, что оно шло вразрез с природой политической эволюции самой ФКП. Ярко выраженная умеренность коммунистического движения на Западе в 60-е годы наиболее четко проявилась в программе компартии за «развитую демократию» во Франции, хотя в международном плане ФКП отличалась враждебностью по отношению к Китаю и поддерживала позицию России в китайско-советском конфликте. Напротив, Альтюссер открыто определял направленность своих трудов как антигуманистическую, в то время как в официальной доктрине французской партии превозносились достоинства гуманизма как общего связующего звена между партнерами по соглашению (коммунистами, социалистами, католиками) в создании развитой демократии, притом, что советская партия провозглашала для масс лозунг «все для человека». Альтюссер не скрывал своих симпатий в отношении Китая. Тем самым в ФКП вновь четко прослеживается явный перекос между теорией и практикой партии. Если партия прежде усиленно насаждала ортодоксальность и выступала против либеральных настроений в теории, то теперь они меняются ролями: теория безмолвно апеллирует к строгости и выступает против проявления партией мягкотелости. Однако в новой ситуации сама либерализация ФКП, проведенная с целью вновь гарантировать себе союзников и партнеров, сочеталась с обдуманной осторожностью Альтюссера во избежание прямого столкновения между ними. В этом отношении позиция Альтюссера внутри ФКП напоминала положение Лукача в венгерской партии после советской интервенции 1956 г. В обоих случаях эти два видных интеллектуала, жизнь которых была тесно связана с коммунистическим движением, отказались выйти из партии или порвать с ней, заключив негласное соглашение хранить молчание в отношении проводимой соответствующими компартиями политики, при условии, что в их теоретическую деятельность (какими бы ни были ее конечные практические последствия) не будут вмешиваться. Жизнеспособность такого взаимного соглашения предполагала обладание каждым из теоретиков высокого престижа вне партии. В тактическом плане это давало возможность сосуществования, и не в интересах соответствующих партийных организаций было его нарушать. Особенно очевидны неопределенность и напряженность подобного рода в случае Альтюссера. Объясняется это тем, что в ФКП под лозунгом партийной дисциплины применялось явное принуждение. Исключительный масштаб и скорость распространения марксизма в Италии после освобождения, включая рост не только ИКП, но и ИСП, а также распространение марксизма в широких кругах интеллигенции, не имели аналогов ни в одной другой стране Европы. В сочетании с признанием исторического материализма во Франции в послевоенный период распространение марксизма впервые за всю историю нынешнего столетия создало условия для того, чтобы после 1945 г. главная ось марксистской культуры сместилась из германской в романскую зону Европы. Однако в течение следующих двух десятилетий итальянскому марксизму было суждено развиваться путем, в значительной степени отличавшимся от пути французского марксизма. В Италии существовала марксистская школа, восходившая своими истоками ко временам Энгельса, его работам XIX в. Идеи Лабриолы были унаследованы и развиты философом Мондольфо, бывшим гегельянцем, который, в свою очередь, оказал непосредственное влияние на поколение Грамши[20]. Во время длительного пребывания фашистов у власти Грамши вынашивал в тюрьме свои мысли. Его труды были впоследствии найдены и впервые опубликованы в 1947—1949 гг. Их влияние было огромно внутри ИКП и далеко за ее пределами. Наличие этого национального марксистского наследия, воплощенного в трудах Грамши, помогло выработать в коммунистическом движении Италии иммунитет к чрезвычайно разрушительному воздействию «холодной войны» — ИКП оказала ждановщине более сильное сопротивление, чем ФКП. Руководство партии, по-прежнему состоявшее из современников и коллег Грамши, умеряет самые худшие формы репрессий в области культуры во времена Коминформа и позволяет внутри организации определенную свободу интеллектуального самовыражения, при условии, что оно отделено от политической деятельности партии. Однако ирония состояла в том, что посмертная канонизация Грамши лишила жизнеспособности теоретическое наследие, оставленное им итальянскому марксизму. Грамши превратился в официальную идеологическую икону партии, к которой обращают взоры по поводу любого торжественного события, а его трудами манипулируют и пренебрегают: за 25 лет, прошедших после войны, ИКП даже не выпустила серьезного критического издания его трудов. Над «Тюремными тетрадями» поднялась смесь фимиама и пыли. В итоге судьба наследия Грамши была неожиданной. Эта наиболее важная теоретическая тенденция в итальянском марксизме в послевоенный период была обращена против философской ветви, идущей от Лабриолы до Грамши. Основателем новой школы стал Гальвано Делла Вольпе — философ, вступивший в ИКП в 1944 г., который в период с 1947 по 1960. г. пишет ряд важных трудов, пользовавшихся вниманием. Делла Вольпе, как и большинство итальянских представителей научной интеллигенции, пошел на компромисс с фашизмом. Хотя после переворота Бадольо прошлый грех ему формально простили, тем не менее, этот факт его биографии лишил его возможности завоевать политический авторитет в партии. Однако те же самые черты характера, что в свое время позволили ему принять и оправдать идею корпоративного государства, в дальнейшем определили его постоянный конформизм по отношению к политике руководства ИКП. Таким образом, хотя теоретическая ориентация Делла Вольпе явно расходилась с господствовавшей в партии ортодоксией, его собственные труды не обладали самостоятельным политическим потенциалом. Видный профессиональный философ партии, он, по существу, имел к ней самое косвенное отношение. В течение 20-летнего периода пребывания в партии у Делла Вольпе не возникло с ней серьезных трений. Аппарат, ведавший в партии культурными вопросами, в свою очередь, не трогал его. Между тем под влиянием Делла Вольпе возникла группа молодых интеллектуалов, которые создали внутри ИКП наиболее последовательную и продуктивную школу, — Пьетранера, Коллетти, Росси, Меркер, Черрони и другие. Наиболее одаренным и критически настроенным из них был Коллетти, вступивший в партию в 1950 г., когда ему было около 25 лет. После XX съезда КПСС и венгерского восстания теоретический журнал ИКП «Сосьета» в 1957 г. расширил редколлегию и ввел в нее (среди других) Делла Вольпе и Пьетранера, а в следующем году — Коллетти. В этот период в философских темах школы зазвучали политические тона, привнесенные некоторыми молодыми членами группы. В частности, характерное для трудов Делла Вольпе настойчивое утверждение мысли о важности «строгой научной абстракции» с философской точки зрения можно было бы истолковать как необходимость анализа итальянского общества в «чистых» категориях развитого капитализма при соответствующих «передовых» политических целях рабочего класса в этом обществе. Это противоречило ортодоксии ИКП, которая подчеркивала исторически отсталый и неустойчивый характер итальянского общества. Партия настаивала скорее на ограниченных «демократических», нежели социалистических требованиях как более подходящих Италии с политической точки зрения[21]. Теоретические расхождения в редакции «Сосьета» привели в дальнейшем к тому, что в начале 1962 г. ИКП закрывает журнал. После этого в партийном еженедельнике «Ринашита» была проведена широкая философская дискуссия, открывшаяся обвинениями в адрес школы Делла Вольпе, на которые резко ответил Коллетти. Два года спустя Коллетти, разочарованный тем, что после 1956 г. ни в СССР, ни в коммунистических партиях западных стран не произошло реальной демократизации, вышел из ИКП[22]. Основные свои работы следующего десятилетия Коллетти пишет, уже не состоя ни в какой политической организации. Вместе с тем с 1924 по 1968 г. марксизм не «остановился», как впоследствии утверждал Сартр, а продвигался в стороне от какой-либо революционной практики. Разрыв между ними был обусловлен всей исторической эпохой. На глубинном уровне судьба марксизма в Европе определялась отсутствием скольнибудь значительных революционных выступлений после 1920 г., за исключением культурной периферии Испании, Югославии и Греции. Судьба марксизма была также неотделима от результатов сталинизации коммунистических партий — формальных преемниц Октябрьской революции. Сталинизация сделала невозможной подлинную теоретическую работу в области политики в отсутствие революционных потрясений, предотвращению которых она, в свою очередь, способствовала. Тем самым скрытым отличительным признаком всего марксизма является то, что он был продуктом поражения. Неспособность социалистической революции выйти за пределы России — причина и следствие ее разложения внутри России — служит общим фоном становления всей теоретической традиции западного марксизма этого периода. Все без исключения основные труды в русле этой традиции были написаны в условиях политической изоляции и отчаяния. «История и классовое сознание» (1923 г.) была написана Лукачем в эмиграции в Вене, в то время как в Венгрии свирепствовал белый террор после подавления Венгерской коммуны. Грамши свои «Тетради» писал в тюрьме недалеко от Бари, после того как победившему фашизму удалось окончательно подавить рабочее движение Италии. Две наиболее важные работы Франкфуртской школы выходят в свет в самые мрачные времена политической реакции в Западной Германии и Соединенных Штатах в послевоенный период: труд Адорно «Минима морале» (1951 г.) выходит в год официального процесса запрещения КПГ в Западной Германии, сочинение Маркузе «Эрос и цивилизация» (1954 г.) — в обстановке истерии маккартизма в США. Во Франции «Критика диалектического разума» Сартра (1960 г.) была опубликована после успешного переворота голлистов в 1958 г., в самый разгар алжирской войны, когда возглавляемые ФКП широкие массы рабочего класса находились в состоянии оцепенения и инертности, а немногие люди, активно выступавшие против войны, подвергались террору со стороны ОАС (военно-фашистская группировка во Франции начала 60-х гг.). Именно в эти годы Альтюссер приступил к созданию своих первых и наиболее оригинальных исследований. Наиболее важные из них совпали с авторитарным установлением прямого президентского правления и полной политической консолидацией Пятой республики. Непрерывная цепь политических поражений рабочего класса и социализма не могла не оказать глубокого воздействия на характер марксизма этой эпохи. В то же время сталинизация созданных III Интернационалом партий, которые с конца 20-х годов характеризовались бюрократической структурой и идеологическим подчинением курсу СССР, оставила еще один заметный след в марксизме. Итоги второй мировой войны, как мы уже видели, обозначали значительные перемещения географических центров распространения марксизма как живой культуры в Европе. Причем коммунизм фактически исчез как реальная сила в рабочем классе Западной Германии, тогда как во Франции и Италии начали преобладать массовые коммунистические партии. Вследствие различия ситуаций, сложившихся в этих странах, предпринимался ряд попыток дать разнообразные ответы на вопрос: каким образом марксистскую теорию соединить с политикой пролетариата в соответствующих зонах? Однако вопрос оставался открытым. Формальное членство в рабочих партиях (Лукач, Делла Вольпе, Альтюссер), выход из них (Лефевр, Коллетти), братский диалог с ними (Сартр), однозначный отказ от какойлибо с ними связи (Адорно, Маркузе) — все эти действия были одинаково неспособны соединить марксистскую теорию с массовой борьбой. Следует отметить, что, как бы ни поступали теоретики, официальное коммунистическое движение оставалось главным и единственным связующим звеном между ними и организованной формой социалистической политики, независимо от того, принимали они его или отвергали. Свои отношения с компартиями теоретики могли строить, исходя из двух вариантов. Во-первых, теоретик мог вступить в компартию и подчиниться ее строгой дисциплине. В этом случае он мог сохранить номинальную связь с жизнью рабочего класса своей страны (с которым, несмотря ни на что, партия была неизбежно связана), а также сохранить, по крайней мере, на словах, преемственность с классическим марксизмом-ленинизмом (изучение которого в партии было обязательным). Ценой такой относительной близости к реальностям повседневной борьбы рабочего класса было молчание о том, как эта борьба ведется на самом деле. В этот период ни один интеллектуал (или рабочий), не входивший в состав руководства, не мог в массовой коммунистической партии выступить ни с какими независимыми суждениями по основным политическим вопросам, кроме как в самой двусмысленной форме. Лукач и Альтюссер избрали первый путь. Избрать противоположный путь значило остаться вне какой бы то ни было партии. Во втором случае над политическими формами выражения не существовало никакого институционального контроля, однако тогда пропадала и надежная опора на социальный класс, ради интересов которого теоретическая деятельность в марксизме лишь и имеет смысл. Сартр и Маркузе, каждый по-своему, прошли этот путь. Личное участие Сартра в деле международного социализма не имеет равных — он писал важные работы о Франции, Венгрии, Алжире, Кубе, Конго, Вьетнаме, Чехословакии, хотя не обладал глубоким знанием классического наследия марксизма и не оказал воздействия на рабочее движение своей страны. Маркузе, будучи знатоком марксизма раннего периода, писал объемистые книги, в которых в присущей ему двусмысленной манере рассматривал вопросы, относящиеся к США и СССР («Одномерный человек» и «Советский марксизм»), в то же время развивая теорию, которая, по сути, отрицала наличие у промышленного рабочего класса какого-либо социалистического потенциала. И наконец, последний вариант — отказ и от членства в партии, и от всяких политических выступлений. Эту позицию занял Адорно в послевоенной Германии. В этой тупиковой ситуации западный марксизм преднамеренно хранил молчание в таких наиболее важных сферах исследования для классического исторического материализма, как познание экономических законов развития капиталистического способа производства, анализ политического механизма буржуазного государства, стратегия классовой борьбы, необходимая для свержения этого государства. Грамши является единственным исключением из этого правила, и это знак его величия, что отводит ему особое место среди представителей традиции западного марксизма. И это естественно, ибо в его личности воплощено революционное единство теории и практики того типа, который определил классическое наследие. Опыт восстания итальянских рабочих в 1919—1920 гг., а также деятельность политического руководства ИКП в период с 1924 по 1926 г. оставались для него источником творческой мысли во время длительного заключения, защитившего его от последствий сталинизации за пределами Италии, хотя оно его медленно убивало. Однако даже на его трудах сказались промахи и ограниченность борьбы класса, которому они были обязаны своим появлением. После Грамши никому из западных марксистов не удалось достичь такой глубины анализа. Сужение возможностей теоретической работы, сводившейся к институциональному послушанию или изоляции, исключало установление динамической связи между историческим материализмом и социалистической борьбой и совершенно не позволяло непосредственно развивать главные темы классического марксизма. Внутри коммунистических партий обсуждение состояния послевоенной экономики империалистических стран, государственных систем Запада, стратегии классовой борьбы было строго зарезервировано за бюрократической верхушкой этих организаций, деятельность которой полностью зависела от советской официальной политики. Вне рядов организованного коммунистического движения в широких массах рабочего движения не было опоры для сколь-нибудь квалифицированного революционного анализа как стратегии либо ввиду преобладания коммунистов в рядах пролетариата страны (Франция, Италия), либо в силу приверженности реформизму подавляющего его большинства (Германия, США). Послевоенное поколение теоретиков либо полностью разочаровалось в рабочем классе, как, например, немцы, которые не знали никакого движения Сопротивления, либо непременно отождествляло его с коммунистическими партиями (французы и итальянцы, обладавшие опытом Сопротивления). Небезынтересно, видимо, отметить, что самому молодому представителю группы, о которой идет речь,— Коллетти, формирование которого, в отличие от других, в основном происходило уже после краха фашизма и после движения Сопротивления, суждено было стать единственным теоретиком из этой школы, кто оказался способным свободно и профессионально писать о политических и экономических проблемах послевоенного периода, благодаря своему выходу из ИКП[23]. Однако даже труды Коллетти были по сути своей скорее обобщением итогов классических дискуссий и их объяснением, нежели существенно новым вкладом в теорию. За более чем 20-летний послевоенный период интеллектуальный вклад западного марксизма в создание собственной оригинальной экономической и политической теории как таковой в смысле фундаментальных трудов в какой-либо из этих двух областей фактически оказался нулевым. Противоречия институционального характера, явившиеся следствием фашизма и ограниченности послевоенного коммунистического движения, ни в коем случае не были единственной причиной бесплодия марксистской теории в этих областях в странах Западной Европы. Они были вызваны объективными причинами консолидации капитала во всех промышленно развитых странах мира. Динамизм глобального масштаба, вызванный длительным экономическим бумом 50-х и 60-х годов, был самым высоким в истории капитализма. Всеобщий и значительный рост экономики, отмеченный в этот период, фактически ознаменовал новый этап в развитии способа производства как такового, опровергая классические прогнозы о надвигающемся кризисе и ставя совершенно новые проблемы, требовавшие научного анализа. В конце своей работы «Теория капиталистического развития» (1942 г.) — последней работы, написанной в духе классической политэкономии, — Суизи удачно определил место предшествовавшей традиции марксистских экономических исследований, отодвинув ее в прошлое ввиду очевидного успеха кейнсианских методов обновления экономики США. Когда Суизи и Баран через 20 лет вернулись к рассмотрению этого вопроса в своем фундаментальном труде «Монополистический капитал», они уже в значительной степени отказались от ортодоксальной марксистской схемы экономических категорий[24]. Масштабы и интенсивность империалистической экспансии производительных сил в странах как Атлантического, так и Тихоокеанского региона по своей сути были серьезным вызовом для развития теории исторического материализма: эта проблема во всех ее измерениях никогда не рассматривалась в рамках школы западного марксизма[25]. В то же самое время следствием второй мировой войны явилось также установление — впервые в истории буржуазного правления — представительной демократии, основанной на всеобщем избирательном праве, то есть нормальной стабильной структуре государства во всех ведущих капиталистических странах: Западной Германии, Японии, Франции, США, Англии, Италии. О новизне этого политического порядка как прочной и единообразной системы в международном масштабе часто забывают в англосаксонских странах ввиду относительно длительного существования демократических традиций в Англии и США[26]. О новизне этой системы можно судить по отсутствию сколь-нибудь серьезного и убедительного ее теоретического обоснования в рамках классического марксизма: буржуазнодемократическое государство никогда не было предметом исследования ни в одной из крупных работ Маркса, ни в работах Ленина, главным врагом которого был совершенно другой тип государства — государство царской России. Проблем развития политической теории, способной охватить и проанализировать характер и механизм представительной демократии как зрелой формы буржуазной власти, было, таким образом, едва ли меньше, чем проблем, вставших в связи с быстрым ростом мировой капиталистической экономики в первые два последних десятилетия. Они также остались вне поля зрения основного потока марксистских трудов на Западе. 1. Лукач был сыном банкира, Беньямин — сыном торговца картинами, Адорно — сыном виноторговца, Хоркхаймер — сыном текстильного промышленника, Делла Вольпе — сыном землевладельца, Сартр — сыном морского офицера, Корш и Альтюссер родились в семьях управляющих банков, Коллетти был сыном банковского служащего, Лефевр — сыном государственного служащего, Гольдманн — сыном адвоката. Грамши был среди них единственным, кто воспитывался в настоящей нищете. Его дед был полковником полиции, а карьера отца — мелкого государственного гражданского служащего — закончилась, когда он попал в тюрьму по обвинению в коррупции, после чего его семья испытывала большие лишения. 2. Представляется, что Юго-Западная Германия сыграла важную роль как культурная область, питавшая эту школу. Адорно и Хоркхаймер здесь родились, Лукач и Маркузе учились. Со времен второго рейха Гейдельберг и Фрайбург поддерживали философские связи. О франкофильстве Беньямина свидетельствует его замечание, сделанное им еще в 1927 г.: «В Германии среди людей моего поколения я чувствую себя совершенно одиноким в своих устремлениях и интересах, в то время как во Франции есть определенные силы... которые заняты тем, чем и я». (См. Illuminations. — L., 1970. — Р. 22) 3. Очевидно, что классификация по признаку поколения должна быть основана приблизительно на 20-летнем периоде. Однако вопрос состоит в определении соответствующей исторической границы в пределах биологической продолжительности жизни в любую эпоху. Здесь не представляется возможным глубоко рассмотреть этот вопрос. В нашем случае, однако, важные разделительные линии достаточно четко проведены последовательными политическими сдвигами во времени. 4. Испанский феномен по-прежнему остается серьезной исторической загадкой. Почему в Испании никогда не появился свой Лабриола или Грамши, несмотря на исключительный боевой дух пролетариата и крестьянства, более высокий, чем в Италии, а также несмотря на ее культурное наследие XIX в., которое, хотя оно и не было таким значительным, как в Италии, нельзя не учитывать? Эта сложная проблема требует дальнейшего изучения. Ее решение могло бы занять центральное место в любом более широком анализе условий и развития исторического материализма как теории. В связи с проблемой, касающейся культурного наследия обеих стран, следует лишь упомянуть поразительный факт: в то время как Кроче в 1890-х годах изучал и пропагандировал труды Маркса в Италии, в Испании был обращен в марксизм наиболее близкий ему по взглядам мыслитель Унамуно. Однако Унамуно, в отличие от Кроче, активно участвовал в 1894— 1897 гг. в создании Испанской социалистической партии. Более того, если вклад Кроче в исторический материализм оказал большое влияние на развитие марксизма в Италии, то Унамуно не оставил в Испании никаких следов. Энциклопедизм итальянца резко контрастировал с эссеизмом испанца, что, несомненно, послужило одной из причин, определивших различную роль этих двух людей. Унамуно не был глубоким мыслителем. В более широком плане следует отметить, что его ограниченные возможности объяснялись отсутствием в Испании сколь-нибудь значительной традиции философского мышления, то есть того, чего недоставало испанской культуре от Ренессанса до Просвещения, несмотря на все виртуозное мастерство в ее литературе, живописи и музыке. Возможно, отсутствие этого катализатора помешало появлению в испанском рабочем движении XX в. сколько-нибудь заметного труда в области марксизма. Это, видимо, также поможет объяснить удивительную неспособность марксизма разработать традиционную теоретическую систему в Англии при свойственной ей школе эмпиризма (так внезапно и резко обозначившейся после 1900 г.) и в то же время его способность создать замечательную марксистскую историографию. Важное значение философского элемента в сложном социальном синтезе, что необходимо для зарождения марксизма в любой данной национальной формации, безусловно, классически подчеркнул Энгельс. Учитывая это, следует смягчить критическую оценку преобладания философии в западном марксизме и других странах Европы, наблюдавшегося позднее, однако не следует препятствовать проведению такой оценки. 5. О его эволюции см. Korsch H. Memories of Karl Korsch // New Left Review. — 1972. — Nov. — Dec. — No. 76. — P. 42—44. 6. Основные выдержки из так называемых «Тезисов Блюма» (Блюм — подпольная кличка Лукача) см. Lukáсs G. Political Writings 1919—1929. — L., 1972. — P. 240 251. 7. См. Fiori G. Antonio Gramsci. — L., 1970. — P. 249—258. 8. Jay. The Dialectical Imagination. — P. 11—17. 9. Ibid. — P. 26. 10. См. Der Spiegel. 1970. — Jan. 6. 11. Основные сведения об этой группе см. Lefebvre H. La Somme et Le Reste. P., 1959. — P. 389—414. 12. Critique des Fondements de la Psychologie.— P., 1928. Политцер был свидетелем Венгерской коммуны в молодости и отождествлял собой непрочную связь с центральноевропейским марксизмом. 13. См. впечатляющее эссе Сартра в Nizan P. Aden Arabie. — Р., 1960; Сартр и Низан были близкими друзьями. 14. Об этом эпизоде см. в автобиографическом произведении Лефевра La Somme et Le Reste. — P. 47. 15. См. Benjamin W. Eduard Fuchs, der Sammler und der Historiker // Angelus Novus. — Frankfurt, 1966. — P. 326—341. Парижские связи Беньямина — важный объект будущих исследований. 16. Довоенные лекции Кожева в 1947 г. были изданы под названием Introduction a la lecture de Hegel. Александр Кожев (Кожевников) родился в России в 1902 г., изучал философию в Германии с 1921 по 1927 г. под влиянием Ясперса и Хайдеггера. Затем он переехал во Францию, где другой русский эмигрант, Александр Койре, обращает его внимание на Гегеля, с лекциями о котором он выступает после Койре в Ecole Pratique des Hautes Etudes с 1934 г. до начала второй мировой войны. 17. Опубликована в 1969 г. в Лондоне на английском языке. 18. Соrпи A. Karl Marx et Friedrich Engels. — P., 1955—1970; с тех пор вышло четыре тома, в которых рассматривается период до 1846 г. 19. Две основные работы Альтюссера Pour Marx и Lire Le Capital вышли в свет в 1965 г. 20. О роли Мондольфо см. Riechers С. Antonio Gramsci. Marxismus in Italien. — Frankfurt, 1970. — P. 21—24. 21. См. Marxismo e Filosofia in Italia / F. Cassano. — Bari, 1973. — P. 7— 8, 14—19, 180—181. В этот том включены материалы основных теоретических дискуссий, проходивших в ИКП в 50-х и 60-х годах, включая ту, о которой упоминается ниже. 22. См. Colletti L. A Political and Philosophical Interview // New Left Review. — 1974. — July — Aug. — No. 86. — P. 3—9. Эта замечательная статья имеет очень важное значение для понимания целого ряда обсуждаемых в нашем обзоре теоретических и политических проблем. Некоторые из содержащихся в статье выводов фактически аналогичны ряду тезисов, выдвигаемых в нашем обзоре, хотя, естественно, они в определенной степени имеют самостоятельное значение. Некто из крупных мыслителей школы западного марксизма, кроме Коллетти, не определил так четко его характер и границы. Разумеется, бессмысленно предполагать, что он согласился бы со многими из доводов и мнений, приводимых в нашей работе. 23. См. The Question of Stalin // New Left Review. — 1970. — May—June. — No.61;Introduzione II / Il Future del Capitalismo — Сrollo о Sviluppo / С. Napoleoni, L. Colletti. — Bari, 1970. — P. LXXI—CXII. 24. Хорошо известно об отказе Барана и Суизи от концепции прибавочной стоимости — краеугольного камня «Капитала» Маркса. Однако в Monopoly Capital (N. Y., 1966) не столько критически рассматриваются и напрямую отвергаются такие концепции, как прибавочная стоимость или органическое строение капитала, сколько происходит молчаливый переход от них к туманным аналогиям, которые часто носят кейнсианское происхождение. В этом смысле книга находится вне рамок и методов классического марксизма. Следует отметить, что Баран в течение 1930 г. обучался в Институте социальных исследований во Франкфурте, что оказало большое влияние на становление его взглядов: последние разделы «Монополистического капитала» содержат явные признаки влияния полученной в Институте подготовки. Сам Суизи в последнее время подчеркивал, что он не считает понятие «прибавочный» в «Монополистическом капитале» противоречащим понятию «прибавочная стоимость» в «Капитале». См. об этом вMonthly Review. — 1974. — Jan. — P. 31—32. В целом следует отметить, что после опубликования Monopoly Capital (Баран умер незадолго до этого) исследования капитализма США, опубликованные Суизи в «Монтли ревью», терминологически носят более ортодоксальный характер. 25. Загадочная карьера Михаля Калеки — поляка по происхождению — свидетельствует, возможно, о самом пристальном внимании европейского марксизма этого периода к крупным изменениям развитого капитализма. М. Калеки родился в Лодзи в 1899 г. Будучи инженером по образованию и не имея диплома в области экономики, Калеки в своем сочинении «Эссе о теории цикла деловой деятельности» (1933 г.) предвосхитил большинство идей Кейнса за два года до появления его публикации «Общая теория занятости, процента и денег». В 1935 г. он через Швецию эмигрировал в Англию. В дальнейшем Калеки стал первым экономистом, предсказавшим послевоенную модель антициклического управления спросом на Западе (См. The political Aspects of Full // The Political Quarterly. — 1943. — No. 4). В 1955 г. он возвратился в Польшу, где возглавлял университетские кафедры, а также должности в плановых органах почти до самой своей смерти в 1970 г. Двойственный характер трудов Калеки объясняется, несомненно, неопределенностью отношения к марксизму, что требует дополнительного исследования его биографии. В 30-х годах, в период полудиктаторского режима полковников в Польше, Калеки, анонимно печатаясь в социалистических журналах, видимо, подвергался критике со стороны Польской коммунистической партии за «люксембургизм», поскольку он интересовался вопросами спроса и уровней инвестиций. В Англии и Америке его труды, которые никогда не соответствовали классическим марксистским категориям, воспринимались как одна из форм левого кейнсианства. Однако окончательно еще предстоит определить их направленность. Труды Калеки ставят вопрос о существовании в нашем столетии чисто польской школы марксистской политической экономии, берущей начало от Люксембург и к которой косвенно относятся Гроссманн, Можковска и Калеки. 26. В самой Англии всеобщее избирательное право введено лишь в 1929 г. Во Франции, Италии и Японии оно впервые введено в 1945 г. 3. Формальные изменения Постепенный отказ от теоретического исследования экономических и политических структур сопровождался существенно важным смещением центра тяжести европейского марксизма к философии. Наиболее яркая отличительная черта всей традиции (от Лукача до Альтюссера и от Корша до Коллетти) — полное преобладание в ней профессиональных философов. В социальном плане это изменение означало постоянное усиление академизма теории, создаваемой в новую эпоху. Во времена II Интернационала Люксембург и Каутского объединяло их презрительное отношение к Kathedersozialisten, то есть к преподававшим в университетах беспартийным профессорам-социалистам. До первой мировой войны теоретики-марксисты никогда не были интегрированы в университетские системы Центральной и Восточной Европы. Форма политического единства теории и практики, которую они воплощали, считалась несовместимой с занятием какой-либо университетской должности. Напротив, свое преподавание в партийных или воскресных школах для рабочих они рассматривали как свою партийную работу. Гильфердинг и Люксембург преподавали политическую экономию в школе СПГ в Берлине, Ленин и Рязанов читали лекции рабочим-большевикам в Лонжюмо, а Бауэр вел курсы в центре Социал-демократической партии Австрии (СДПА) в Вене. Первые теоретики западного марксизма по-прежнему придерживались этой традиционной практики. Лукач преподавал в радикальном кружке «Галилей» в Будапеште во время первой мировой войны; Корш читал лекции в экспериментальной «Школе Карла Маркса» в Берлине в 20-е годы. Создание Института социальных исследований во Франкфурте —независимого учреждения, все же входившего филиалом в местный Государственный университет,— знаменовало переходный период в Веймарской республике. Однако после второй мировой войны марксистская теория фактически полностью перемещается в университеты, ставшие одновременно и местом ссылки и прибежищем, отделявшими от политической борьбы внешнего мира. В этот период Лукач, Лефевр, Гольдманн, Корш, Маркузе, Делла Вольпе, Адорно, Коллетти и Альтюссер — все они занимали в университетах профессорские должности[1]. Сартр, преуспевавший в университетской карьере, оставил ее, добившись успеха как писатель. Во всех этих случаях речь идет о кафедрах философии. Внешние факторы, определявшие смещение главного фокуса марксистской теории из области экономики и политики в область философии, формально с партийных собраний на научные кафедры, вписаны в мрачную историю этого периода. Тем не менее, такого общего и резкого изменения никогда бы не произошло, если бы внутри самой марксистской культуры не действовал также сильный внутренний фактор. Решающим событием в этом смысле явилось запоздалое открытие наиболее ранней работы Маркса — «Парижских рукописей 1844 года». Впервые они были опубликованы в Москве в 1932 г., но не привлекли к себе должного внимания ввиду прихода нацистов к власти в Германии в 1933 г. — в стране, где они могли бы быть восприняты в то время очень благожелательно, а также ввиду репрессий, начатых в России в 1934 г. (Рязанов, подготовивший «Рукописи» для публикации в прокомментированном им издании трудов Маркса и Энгельса, был уволен из Института в Москве незадолго до того, как они увидели свет). Тем не менее, в это время три мыслителя, независимо друг от друга, оказались под глубоким и прочным воздействием «Рукописей». Лукач в 1931 г. под руководством Рязанова работал над расшифровкой рукописей. Опыт работы над «Рукописями» привел, по собственным словам Лукача, к тому, что он иначе стал трактовать марксизм[2]. В 1932 г. в Берлине Маркузе приветствовал публикацию «Рукописей», поместив по этому поводу статью в «Гезельшафт». Она начиналась с сенсационного заявления о том, что «Рукописи» поставили на «новую основу» всю теорию «научного социализма»; автор считал, что «Рукописи» показали ключевое значение философских основ исторического материализма на всех стадиях работы Маркса[3]. В Париже Лефевр отвечал за первые переводы отрывков из «Рукописей» на иностранные языки. Подготовленные им в сотрудничестве с Гутерманом переводы были изданы в 1933 г., а первая крупная теоретическая работа, имевшая целью перестроить все здание учения Маркса в свете его «Рукописей 1844 г.», была написана в 1934—1935 гг. («Диалектический материализм» Лефевра)[4]. Только в послевоенный период открытие ранних работ Маркса и включение их в историю становления его идей сказались на разработке моделей современного марксизма. В Италии Делла Вольпе внес свой первый вклад в теорию исторического материализма, переведя на итальянский язык новые тексты молодого Маркса — не только «Парижские рукописи», но и, прежде всего «Критику гегелевской философии права» (1947—1950 гг.) — и приняв участие в их обсуждении[5]. Версия марксизма, предложенная Делла Вольпе, вдохновившая целую школу, по-своему интерпретировала философские сочинения Маркса, хотя она значительно отличалась от интерпретации Лукача, Маркузе и Лефевра. Во Франции новые тексты молодого Маркса привлекли внимание Мерло-Понти и Сартра к марксизму после второй мировой войны. В труде «Материализм и революция» (1947 г.) — своем первом значительном исследовании вопроса в марксистской теории — Сартр обращался главным образом к «Парижским рукописям» как к источнику[6]. Влияние ранних философских сочинений Маркса достигло высшей точки в конце 50-х годов, когда затрагиваемые в них темы заинтересовали Западную Европу. Несмотря на то, что в своих первых работах Альтюссер недвусмысленно отвергал эти «Рукописи» в качестве составной части исторического марксизма, так или иначе они служили отправным пунктом любых дискуссий в рамках современного марксизма[7]. Даже если к ним относились отрицательно, «Рукописи» определяли область предварительных дискуссий. Более того, сама форма неприятия ранних сочинений Маркса зависела от соответствующего долговременного смещения теоретических ориентиров марксизма, что стало возможным благодаря обнаруженным «Рукописям». Это объясняется тем, что позитивная теория Альтюссера, разработанная в противовес предшествовавшим ей толкованиям Маркса, все же находилась в философской плоскости, непривычной до появления «Рукописей». Парадоксально, но западный марксизм в целом развивался в обратном эволюции Маркса направлении. Если основатель исторического материализма постепенно шел от философии к политике и затем к экономике как основной области исследования, то последователи школы, возникшей после 1920 г., чаще стали отходить от экономики и политики и концентрировать свое внимание на философии, практически не занимаясь тем, что особенно интересовало Маркса в пору его зрелости, то есть они поступали так же, как поступил Маркс с философскими вопросами, которые привлекали его внимание в юности. Казалось, в этом смысле произошел поворот на 360 градусов. Безусловно, на практике не произошло, да и не могло произойти простого поворота. Философская задача Маркса, прежде всего, состояла в том, чтобы определиться по отношению к Гегелю, а также к видным его последователям и критикам в Германии, особенно к Фейербаху. Объектом его теоретических исследований была в основном гегелевская система. Напротив, для западного марксизма — несмотря на бурное возрождение внутри него исследований философии Гегеля — основным объектом теоретических исследований стала сама система идей Маркса. Дискуссии никогда не сводились лишь к ранним философским сочинениям, поскольку этому препятствовало наличие многочисленных трудов Маркса, посвященных экономическим и политическим вопросам. Однако творчество Маркса в целом обычно рассматривалось как исходный материал. На его основе с помощью философского анализа формировались марксистские эпистемологические принципы систематизированного объяснения мира — принципы, которые сам Маркс четко так никогда и не изложил. Ни один философ, придерживавшийся традиции западного марксизма, никогда не утверждал, что главная и конечная цель исторического материализма — теория познания. Вместе с тем практически все они исходили из общего мнения о том, что предварительная задача теоретического исследования в рамках марксизма состоит в выделении методов социального исследования, открытых Марксом, но скрытых особенностями тематики исследования в его трудах, и в необходимой их доработке. В результате значительное количество работ западных марксистов было посвящено нескончаемым и сложным дискуссиям о методе. Маркс не уделял первостепенного внимания вопросу метода ни на одном из этапов эволюции своих взглядов. О степени преобладания эпистемологических тем в традиции всего западного марксизма можно судить по названию книг, изданных ее представителями. Работа Корша «Марксизм и философия» открыла эту дискуссию. В близкой по духу книге Лукача, опубликованной в том же году, в статье «Что такое ортодоксальный марксизм?» был сделан вывод о том, что термин «ортодоксальный» относится «исключительно к методу»[8]. В дальнейшем такое представление четко выразилось в чрезмерном методологизме, о чем свидетельствуют канонические труды западного марксизма: «Разум и революция» (Маркузе), «Разрушение разума» (Лукач), «Логика как позитивная наука» (Делла Вольпе), «Проблема метода» и «Критика диалектического разума» (Сартр), «Негативная диалектика» (Адорно), «Читать «Капитал»« (Альтюссер). Язык этих работ становился все более профессиональным и непонятным. На целый исторический период теория стала эзотермической дисциплиной, исключительно высокопрофессиональный язык которой определял степень ее отдаленности от политики. Труды самого Маркса, несомненно, ввиду сложности категориального аппарата, отнюдь не всегда легко воспринимались читателями как в его время, так и позднее. Однако его философские работы, исследования по экономике (наиболее трудные части в его учении) обязаны своей первоначальной терминологией существовавшим до них теоретическим системам (в основном Гегеля и Рикардо). Работы имели своей целью подвергнуть их критике и преодолеть путем создания понятий более четких и близких к материальной действительности, то есть менее «гипостазированных» (по выражению молодого Маркса) и менее «теологических» (по выражению зрелого Маркса). Кроме того, никогда не скрывая характерные трудности, которые испытывает читатель при усвоении любой научной дисциплины, Маркс после 1848 г. всегда стремился выражать свои мысли как можно проще и яснее, облегчая их понимание рабочим классом, которому они предназначались. Хорошо известно, с каким вниманием он отнесся в этой связи к переводу «Капитала» на французский язык. В отличие от языка Маркса, исключительная сложность языка трудов западных марксистов XX в. никогда не ориентировалась на непосредственную и активную связь с пролетарской аудиторией. Напротив, их язык, превышающий необходимый минимум вербальной сложности, свидетельствовал об отрыве от практики народной борьбы. Свойственный теории западного марксизма эзотермизм проявлялся в различных формах: у Лукача в тяжелой и трудной для понимания манере выражения, перегруженной академичностью; у Грамши — мучительной и загадочной отрывочностью; у Беньямина — афористической краткостью и уклончивостью; у Делла Вольпе — непостижимым синтаксисом и постоянной склонностью к самоцитированию; у Сартра — бесконечным и непроходимым лабиринтом неологизмов; у Альтюссера — пророческой риторикой умолчаний[9]. Большинство этих писателей могло выражать свои мысли четко и ясно. Некоторые из них — Сартр, Адорно, Беньямин — по сути были великолепными мастерами слова. Но практически ни один из них не писал простым и доходчивым языком свои главные теоретические труды. Субъективные причины не могут объяснить этого коллективного явления. Пример Грамши символизирует общий отход теории от классической марксистской терминологии. «Тюремные тетради» — самая значительная работа в традиции западного марксизма — были написаны революционным вождем рабочего класса, а не профессиональным философом, который по своему социальному происхождению стоял ниже любого видного ученогомарксиста как Западной, так и Восточной Европы до и после первой мировой войны. Однако в его «Тетрадях» содержится много все еще неразгаданных современными учеными загадок, что объясняется жесткой цензурой и тюремными ограничениями, которые заставляли его прибегать скорее к аллюзиям, чем к стройному изложению[10]. Физическая изоляция Грамши — результат поражения в классовой борьбе — была предвестником изоляции, в которой оказались теоретики в будущем. Правда, они были свободнее его, но гораздо дальше от масс. В этом смысле язык западных марксистов подвергался более жесткой исторической цензуре, которой стала почти полувековая пропасть, отделявшая социалистическую мысль от почвы народной революции. Продолжительный разрыв, определивший теоретическую форму западного марксизма, оказал на него иное и более общего характера сдерживающее воздействие: все происходило так, как если бы нарушение политического единства между марксистской теорией и массовой практикой неизбежно привело к смещению в другую плоскость той силы, которая должна была бы объединить теорию и практику. При отсутствии магнитного поля революционного классового движения стрелка компаса всего западного марксизма стремилась как можно дальше отклониться в сторону современной буржуазной культуры. Первоначальная связь между марксистской теорией и пролетарской практикой неуловимо, но постоянно заменялась новой связью — между марксистской теорией и буржуазной теорией. Исторические причины подобной переориентации, естественно, объясняются не просто отсутствием массовой революционной практики на Западе. Скорее всего, сами препятствия на пути сколь-нибудь заметного продвижения социализма в странах развитого капитализма существенно сказались на всей культурной среде этих стран. Кроме того, успех новой стабилизации империализма вкупе со сталинизацией коммунистического движения означал, что основные направления буржуазной мысли вновь обрели относительную жизнеспособность и верховенство над социалистической мыслью. Буржуазная система на Западе не исчерпала своего исторического потенциала: ее способность пережить две мировые войны и в течение двух послевоенных десятилетий стать в экономическом отношении более динамичной, чем когда-либо прежде, выразилась в ее способности к изменениям в культуре и ее развитию. Она сохранила привлекательность для самой многочисленной и высококвалифицированной интеллигенции мира, созидательное творчество которой продолжало играть существенную роль (при значительных национальных особенностях) в различных областях. Естественно, это достижение имело определенные пределы, обусловленные закатом капитализма в глобальном масштабе в эпоху, когда, несмотря ни на что, треть мира была вырвана из этой системы. Однако социалистическая культура, сдерживаемая или парализованная официальными репрессиями периода сталинизма и тем, что мировая революция не пошла дальше отсталых регионов Евразии, в общем была значительно слабее. После 1920 г. марксизм развивался медленнее, чем немарксистская культура. Эта горькая реальность тяжело сказалась на характере всей работы, проводимой в рамках исторического материализма в Западной Европе. Таким образом, пожалуй, самой примечательной характерной чертой западного марксизма является постоянное присутствие в нем последовательно возникавших разновидностей европейского идеализма, под чьим влиянием он находился. Причем диапазон взаимосвязей всегда был широким: от принятия идей до отказа от них, от заимствования—до критики. Они могли встречаться в сложных сочетаниях, варьируясь от случая к случаю. Однако основной принцип оставался поразительно неизменным начиная с 20-х годов и кончая 60-ми годами. Лукач написал свою работу «История и классовое сознание», когда он все еще находился под глубоким влиянием социологии Вебера и Зиммеля, а также философии Дильтея и Ласка. В частности, ключевые категории «рационализации» и «предписанного сознания» были заимствованы у Вебера. На толкование Лукачем концепции «овеществления» наложил заметный отпечаток Зиммель, в то время как Дильтей и немецкий витализм (Lebens-philosophie) в целом вызвали его враждебность по отношению к естественным наукам, что было совершенно не свойственно всей предшествующей марксистской литературе[11]. Грамши построил свои «Тюремные тетради» как продолжение диалога с Кроче и последовательную критику его взглядов, пользуясь при этом терминологией и разрабатывая темы философа-идеалиста, который был в то время главным действующим лицом в культурной жизни Италии, в частности разделяя его увлеченность проблемами этико-политической истории[12]. Одновременно он также развивал идеи литературного критика Де Санктиса, принадлежащего к старшему поколению. Начиная с 30-х годов коллективная работа Франкфуртской школы была проникнута концепциями и тезисами психоанализа Фрейда как организующего начала значительной части ее собственных теоретических изысканий. Крупная работа Маркузе «Эрос и цивилизация» была явно задумана им как философское переосмысление Фрейда, и все его термины, такие как «подавление» и «сублимация», «принцип реальности» и «принцип исполнения», «эрос» (инстинкт жизни) и «танатос» (инстинкт смерти), находились в универсуме дискурса Фрейда. Сартр — особый случай, поскольку он сам был выдающимся философом-экзистенциалистом во Франции, сформировавшимся под влиянием Хайдеггера и Гуссерля еще до того, как он перешел на позиции марксизма. Он перенес в свои марксистские работы интеллектуальное прошлое с присущим ему инструментарием и новациями. В результате получился кондуит концепций, содержащихся в работах разных периодов — от «Бытия и Ничто» до «Критики диалектического разума». Он включал в себя такие понятия, как «фактичность», ведущее к понятиям «нехватка» (в зависимости от контекста переводимого как «нужда», «недостаточность» и т.д. — Прим. ред.), «тождественность», к «сереальности» и нестабильности «для себя в себе», к понятию «спаянной группы»[13]. В последующих размышлениях Сартра продолжают присутствовать два главных источника его экзистенциалистской системы обращения к Гуссерлю — Хайдеггеру и ссылок на них в его объемном исследовании Флобера, опубликованном десятилетие спустя после выхода в свет работы «Критика диалектического разума». Работа Альтюссера была задумана как открытая и принципиальная полемика с его наиболее крупными предшественниками, и прежде всего с Грамши, Сартром и Лукачем. Однако его теоретическая система также обязана многими организующими терминами мыслителям-идеалистам. Понятия «эпистемологический разрыв», «проблематика» были заимствованы у философа Башляра и у историка Кангийема, причем оба явно склонны были к психологизму. Идеи «симптоматического чтения» и «централизованной структуры» были взяты у Лакана, психоаналитика, сочетавшего фрейдистскую ортодоксальность с хайдеггеровскими полутонами. Вместе с тем нет сомнения в том, что термин «сверхдетерминация» был заимствован непосредственно у Фрейда[14]. Такие культурные сопряжения, определяющие топографическое положение мысли Лукача, Грамши, Маркузе, Сартра и Альтюссера, представляют собой только наиболее важные и особые наборы понятий в рамках традиции западного марксизма. Аналогии могут быть найдены практически у всех его представителей[15]. Типичным примером является центральная роль, которую в работе Гольдманна занимала психология Пиаже, с которым он работал в Швейцарии во время войны. В рамках экономической теории это правило сохраняется[16]. Пример тому — взаимосвязь Суизи и Шумпетера. Проще говоря, влияние одного идеалистического мыслителя могло распространиться на несколько разных теоретиков-марксистов. Так, например, Башляр воодушевил не только Альтюссера: он был также почитаем Лефевром, Сартром и Маркузе, которые делали совершенно другие выводы из его трудов[17]. Фрейд прежде всего был общим открытием не только Адорно и Маркузе, но также Альтюссера и Сартра, хотя они и весьма по-разному принимали или интерпретировали его наследие[18]. Такое постоянное соотнесение с современными им теоретическими построениями, находящимися вне рамок исторического материализма и зачастую прямо антагонистическими ему, было неизвестно марксистской теории до первой мировой войны[19]. В этом состояла специфика западного марксизма, отличавшая его от предшествовавшей марксистской теории. Модель взаимоотношений между основными теоретиками этой традиции и современными мыслителями немарксистской культуры составляла, так сказать, горизонтальную ось интеллектуальной сети координат западного марксизма. Однако в то же время она имела и вертикальную ось отсчета, что также в основном не вписывалось в прежние марксистские традиции, то есть философская генеалогия обязательно уходила в домарксистский период. В этом отношении все основные теоретические системы западного марксизма характеризуются одним и тем же стихийно сложившимся механизмом. Все они без исключения обращались к домарксистской философии для обоснования, объяснения или дополнения философии Маркса. Это неизбежное возвращение в домарксистский период в поисках более ранней отправной точки для истолкования смысла работы Маркса опять же служит существенным показателем исторического положения западного марксизма. Как мы видели, преобладание в рамках традиции профессиональных философов было одним из признаков общих перемен в марксистской культуре после 1920 г. Вертикальные линии преемственности, на которую стал претендовать западный марксизм во имя Маркса и самого себя, появились благодаря профессиональной преемственности в его рамках. Действительно, Маркс не оставил после себя никакой работы, в которой в систематизированном виде излагалась бы его философия в классическом понимании слова. Оставляя в стороне свои ранние философские тезисы неопубликованных работ, он никогда не осмеливался заниматься чистой философией в пору своей зрелости. Даже сделанное им позднее сущностно важное изложение метода (Предисловие к «Критике политической экономии» 1857 г.) осталось лишь программным фрагментом, так никогда и не завершенным и не отредактированным для публикации. Невыявленный, скрытый потенциал и отрывочный характер философских изысканий Маркса компенсировали поздние работы Энгельса, и прежде всего «АнтиДюринг». Однако ценность его последних работ была поставлена под сомнение после 1920 г., когда все более ясной становилась несовместимость некоторых их центральных положений с проблемами и результатами естественных наук. По сути дела, западный марксизм берет начало с решительного двойного отрицания философского наследия Энгельса — со стороны Корша и Лукача в работах «Марксизм и философия» и «История и классовое сознание» соответственно. С тех пор неприятие поздних работ Энгельса стало обычным практически для всех течений западного марксизма — от Сартра до Коллетти и от Альтюссера до Маркузе[20]. Однако, после того как заслуги Энгельса были отвергнуты, стала более очевидной ограниченность наследия Маркса, и возникла необходимость дополнить его. Обращение в этих целях к более ранним авторам европейской мысли может рассматриваться как отход в теории от Маркса назад. Вряд ли случаен тот факт, что категоричная фраза Маркса, в которой он «разделывается» со своими предшественниками («Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»), так слабо отозвалась в западном марксизме. Ведь для философа западного марксизма исключалась возможность революционного единства теории и практики, которого требует одиннадцатый тезис о Фейербахе. Вместе с тем невозможно отделаться одной фразой от столетий развития мысли. Само по себе изречение Маркса не могло дать новую философию историческому материализму или же хотя бы подвести итог предшествующим ему философским направлениям. Кроме того, философская культура самого Маркса ни в коем случае не была исчерпывающей. Будучи в основном построенной на Гегеле и Фейербахе, она не отличалась сколь-нибудь близким знакомством с философией Канта, Юма, Декарта или Лейбница, Платона или Фомы Аквинского, не говоря уже о философии менее значительных фигур. Тем самым хронологическое возвращение в период, предшествующий Марксу, отнюдь не обязательно отбрасывало философию назад именно потому, что Маркс никогда не занимался анализом или стремился преодолеть всю прежнюю этику, метафизику, эстетику и даже не касался многочисленных коренных проблем классической философии. Иными словами, постоянные попытки западного марксизма установить интеллектуальную преемственность, уходящую в домарксистский период, были правомерны. Действительно, любое созидательное развитие марксистской философии неизбежно должно было бы пройти через фазу пересмотра сложной истории познания, которую Маркс сам игнорировал или обходил стороной. Отправные точки работ Маркса были слишком немногочисленными, чтобы не сделать установление преемственности обязательным. В то же время нет необходимости подчеркивать опасности, связанные с регулярным обращением к домарксистским философским традициям, так как хорошо известен подавляющий вес в них идеалистических или религиозных мотивов. Первую новую интерпретацию марксизма, сыгравшую существенную роль, представил Лукач. Он отвел центральное место домарксистской системе в построении своего собственного теоретического дискурса, предложив новое толкование Гегеля в работе «История и классовое сознание». Гегеля никогда широко не изучали во II Интернационале: как правило, его ведущие мыслители рассматривали Гегеля как утратившего влияние предшественника Маркса, менее значительного, чем Фейербах[21]. Лукач радикально пересмотрел эту оценку, впервые возвысив Гегеля и придав его философии абсолютно доминирующее значение в предыстории мысли Маркса. Влияние его переоценки на всю последующую традицию западного марксизма было глубоким и длительным независимо от того, соглашались ли с ней более поздние мыслители или нет. Но обращение Лукача к Гегелю пошло значительно дальше, чем это генеалогическое добавление. Действительно, два наиболее существенных теоретических тезиса, содержащихся в работе «История и классовое сознание», были заимствованы у Гегеля, а не у Маркса. Речь идет о концепции пролетариата как «идентичного субъекта-объекта истории», чье классовое сознание преодолевало проблему социальной относительности знания, и о тенденции рассматривать «отчуждение» в качестве внешней объективации человеческой объективности, обретение которой вновь было бы возвращением к первоначальной внутренней субъективности, что позволяло Лукачу относить достижение рабочим классом истинного сознания самого себя ко времени совершения социалистической революции. 40 лет спустя Лукач сам охарактеризовал эти отличительные тезисы работы «История и классовое сознание» как попытку «перегегельянить Гегеля»[22]. Однако высокая оценка значения Гегеля для марксизма, данная в работе «История и классовое сознание», нашла много последователей. Сам Лукач позднее стремился вновь открыть фундаментальные категории теории Маркса в теории Гегеля, а не вводить категории Гегеля в марксизм. Его исследование «Молодой Гегель» (1938 г.) было попыткой более высокого научного уровня установить прямую преемственность между Гегелем и Марксом, основанной на прочтении «Рукописей 1844 года» в Москве и на учете роли таких экономических концепций, как концепция труда в ранних работах Гегеля[23]. Три года спустя Маркузе опубликовал в Нью-Йорке свою работу «Разум и революция» с подзаголовком «Гегель и подъем социальной теории», что было первой попыткой провести марксистский анализ всего развития мысли Гегеля во всех ее фазах с точки зрения ее значения как подготовки и предпосылки работы Маркса. Маркузе никогда не изменял верности своей концепции роли Гегеля в становлении Маркса. Адорно, хотя и был значительно критичнее настроен, чем Лукач или Маркузе, по отношению к объективному идеализму как «философии тождества», тем не менее открыто строил свою работу на методологии «Феноменологии духа». Он заявил, что «метод Гегеля вышколил метод “Minima Moralis”» [24]. Bo Франции, хотя и соглашаясь с тем, что Гегелю придавалось принципиальное значение в формировании Маркса, Сартр пересмотрел эту оценку и, напротив, придал вес философии Кьеркегора как нейтрализующей влияние Гегеля на марксизм. Утверждая, что Маркс преодолел антиномию Кьеркегора и Гегеля, Сартр говорил, что в XX столетии марксизм превратился в застывшее неогегельянство, тем самым подкрепляя правомерность протеста экзистенциализма против всеохватывающей объективистской системы, впервые выраженного Кьеркегором, во имя индивидуального опыта[25]. В своей собственной реконструкции исторического процесса в «Критике диалектического разума» Сартр брал за основу начальный, далее не разложимый элемент индивидуальности, понимаемый именно в этом смысле, то есть как конечный предел любого социального класса. Даже после критики единственным философом, которому он посвятил отдельное исследование, был Кьеркегор[26]. В Италии Делла Вольпе и его школа критиковали гегелевскую философию, заявляя, что мысль Маркса представляет собой полный разрыв с Гегелем. Делла Вольпе усматривал место Маркса на нисходящей линии от Аристотеля через Галилея к Юму: как он утверждал, все они в свое время критиковали гипостазис, так же как Маркс по отношению к Гегелю[27]. Однако именно ученик Делла Вольпе Коллетти написал крупную в рамках западного марксизма систематизированную работу, направленную против гегельянства. Это была книга «Гегель и марксизм». Цель работы заключалась в том, чтобы продемонстрировать, что Гегель был христианским интуитивным философом, основной теоретической задачей которого было уничтожение объективной реальности и принижение разума в угоду религии, и что, следовательно, он был антиподом Маркса. Коллетти утверждал, что подлинным философским предшественником Маркса был не Гегель, а Кант. Говоря о независимости объективного мира от всех концепций познавания его, Кант предвосхитил материалистический тезис о несводимости бытия к мышлению. Таким образом, теория познания Канта предшествовала гносеологии Маркса, хотя последний не осознал масштабы своего долга перед ней[28]. Точно так же, по мнению и Делла Вольпе, и Коллетти, в своей политической теории Маркс, не сознавая того, опирался на труды предшественника — Руссо. Философская ограниченность Канта заключалась в признании им действия принципов обмена в либерально-капиталистическом обществе. Именно их решительно отвергал Руссо в радикальной демократической критике буржуазно-представительного государства, и Маркс, по сути дела, впоследствии лишь вторил ей[29]. Столь же глубокую переоценку идей Маркса провели Альтюссер и его школа, хотя и с противоположных позиций. Практически не затрагивая понятийный аппарат Маркса, Альтюссер включил всю домарксистскую философию в марксизм. В этом случае предшественником Маркса объявлялся Спиноза. Действительно, для Альтюссера «философия Спинозы была беспрецедентной теоретической революцией в истории философии, возможно, величайшей философской революцией во все времена»[30]. За исключением понятий, почерпнутых из современных дисциплин, почти все новые понятия и особенности марксизма Альтюссера были непосредственно заимствованы у Спинозы. Категориальное различие между «объектами знания» и «реальными объектами» было взято непосредственно из различия, проводимого Спинозой между idea и ideatum[31]. Скрытый монизм, объединяющий два полюса этого дуализма, был также добросовестно заимствован у Спинозы. Альтюссерианская «всеобщая сущность производства», которая была общей как для мышления, так и для бытия, являлась не чем иным, как переводом максимы Спинозы «Ordo et connexio idearum est, as ordo et connexio rerum» («Порядок и связь идей есть то же самое, что и порядок и связь вещей»)[32]. Радикальное устранение Альтюссером философской проблемы критериев знания и истины вновь следовало изречению Спинозы veritas norma sue et faisi, что опять же представляет собой логическое следствие любого жесткого монизма[33]. Точно так же центральная концепция «структурной причинности» способа производства в работе «Читать “Капитал”» являлась секуляризированной версией представления Спинозы о боге как о causa immanens[34]. Страстная критика Альтюссером идеологических иллюзий непосредственного опыта в противовес научному знанию, присущему только теории, и критика всех представлений о людях или классах как сознательных субъектах истории, а не невольных «носителей социальных отношений» точно воспроизводили обличения Спинозой experientia vaga как источника всех ошибок и его жесткого утверждения, типичных заблуждений веры людей в обладание свободой воли, в то время как ими постоянно управляли законы, действие которых они не осознавали: «Их представление о свободе есть просто незнание причин их действий»[35]. Апогеем непримиримого детерминизма Спинозы стало заключение о невозможности сбросить господство иллюзий даже в обществе, где угнетение всего слабее: «Те, кто верит, что народ или людей, разделенных в отношении общественных вопросов, можно побудить жить только по разуму, мечтают о золотом веке поэта или сказке»[36]. Альтюссер принял и это заключительное положение: даже в коммунистическом обществе люди все равно будут погружены в иллюзии идеологии как необходимой среды их спонтанного опыта. «Все людские общества выделяют идеологию в качестве элемента и атмосферы, жизненно необходимых для их исторического дыхания и жизни»[37]. Систематическое введение идей Спинозы в исторический материализм Альтюссером и его учениками с интеллектуальной точки зрения было наиболее амбициозной попыткой установить философское происхождение Маркса и, исходя из этого, дать толчки развитию новых теоретических направлений в современном марксизме[38]. Только в одном важном отношении Альтюссер обратился к другим источникам в истории философии в поисках ориентиров. Относительное безразличие Спинозы к истории заставило Альтюссера дополнить свою идею о философской родословной Маркса второй линией наследования от Монтескье, чтобы установить между ними связь, подобную той, что обнаружилась между Кантом и Руссо в генеалогии Коллетти. Альтюссер отдал должное работе Монтескье «Esprit des Lois» за имеющее огромное значение открытие концепции социальной тотальности, «детерминируемой в конечном счете» одним господствующим уровнем в ее рамках, которая была позднее обоснована Марксом в «Капитале»[39]. Последовательное обращение к домарксистскому периоду было наиболее заметным и существенным элементом западного марксизма. Однако на этом перечень не кончается. Как хорошо известно, Гольдманн избрал Паскаля в качестве ключевого предшественника диалектической теории в своей работе «Скрытый Бог»[40]. В юности Лефевр избрал Шеллинга в качестве философского предтечи[41]. В более глубоком и менее заметном отношении Адорно и Хоркхаймер, возможно, также были воодушевлены Шеллингом, когда вводили в марксизм концепцию «падшей природы»[42]. Со своей стороны, Маркузе обращался к эстетизму Шиллера для создания концепции будущего коммунистического общества[43]. И опять же, в некоторых случаях в рамках западной марксистской традиции, одному философу могли отдавать должное сразу несколько различных мыслителей. Например, как это ни парадоксально, Адорно и Сартр, Маркузе и Альтюссер приветствовали Ницше, который был анафемой для Лукача[44]. Возможно, случай Грамши является самым ярким примером скрытого постоянства, которое пронизывает весь западный марксизм, какими бы острыми ни были внутренние контрасты и противоречия в его рамках. Действительно, Грамши был единственным крупным теоретиком-политиком на Западе, а не теоретиком-философом. Чисто профессиональный интерес не смог бы заставить его обратиться к поискам предтечи домарксистского периода. Между тем он также организовал свою весьма оригинальную систему вокруг другого предшественника — Макиавелли. С точки зрения Грамши, предшественником из домарксистского прошлого не обязательно должен быть философ-классик, а им может быть и теоретик политики, как и он сам. Масштабы и характер заимствований Грамши из Макиавелли полностью аналогичны заимствованиям других западных марксистов. Он также перенес в свою собственную работу термины и темы системы флорентийца. В «Тюремных тетрадях» сама революционная партия превращается в современный вариант «государя», к единоличной власти которого призывал Макиавелли. Реформизм толковался как «корпоративное» мировоззрение, сходное с мироощущением, господствовавшим в итальянских городах, против разобщающей узости которого резко выступал Макиавелли. Проблема «исторического блока» пролетариата и крестьянства рассматривается через призму прообраза его планов в отношении флорентийской народной «милиции». Механизмам буржуазного правления дан сквозной анализ в двойном обличье «силы» и «обмана», которые представляют собой два облика Кентавра Макиавелли[45]. Типология государственных систем основывается на его триаде: «территория», «власть» и «согласие». С точки зрения Грамши, мысль Макиавелли также может быть названа «философией праксиса»[46] — определение марксизма, которое он дал в тюрьме. Таким образом, даже самый великий и наименее типичный представитель западного марксизма подтверждает его родовые черты. Фактическое единство, придававшее ценность западному марксизму при общем смещении осей, конечно, не исключало субъективных расхождений и антагонизмов в его рамках. Более того, эти расхождения в значительной степени способствовали поддержанию внутренней жизнеспособности и разнообразию этой традиции, после того как были исторически определены ее внешние границы. Однако для западного марксизма характерно то, что он сам никогда точно или в какой-либо степени не определял свой собственный интеллектуальный ландшафт. Такое положение является логическим следствием одной из поразительных и парадоксальных черт новой теоретической культуры, которая начала развиваться после 1920 г.,— отсутствия в ней интернационализма. Принятая модель была также радикальным отходом от канонов классического марксизма. Мы знаем, что Маркс и Энгельс переписывались и вели споры с социалистами по всей Европе и за ее пределами. Теоретики II Интернационала были более тесно связаны с политическими реалиями своих стран, чем основатели исторического материализма. Однако и они активно участвовали в международных дискуссиях социалистов. То, как была принята работа Лабриолы следующим поколением после Маркса и Энгельса, возможно, является наиболее ярким примером континентального общения того времени. Будучи первым теоретиком-марксистом в политически отсталой и забытой богом зоне Южной Европы, Лабриола с поразительной быстротой стал известен от Парижа до Петербурга. Действительно, первый крупный очерк был заказан ему Сорелем для «Ле Девенир сосиаль» во Франции в 1895 г.; не прошло и года, как журнал «Нойе цайт», издаваемый Каутским в Германии, заметил его и одобрил; в 1897 г. Плеханов опубликовал большой обзор работ Лабриолы в «Новом слове» в России; несколько месяцев спустя Ленин настойчиво рекомендовал своей сестре перевести их на русский, и в 1898 г. уже появляется русский перевод. Следующее поколение марксистов образовало еще более интернациональное сообщество мыслителей и полемистов, чьи страстные теоретические споры базировались в значительной степени на информации, полученной в результате внимательного изучения работ друг друга. Впечатляющим примером могут служить споры, возникшие в связи с выходом работы «Накопление капитала» Люксембург. Без сомнения, на этом фоне упорядоченное создание III Интернационала стало кульминацией исторического опыта, накопленного рабочим движением в Европе, а также причиной разрыва с этим опытом. Однако за победой «социализма в одной стране», в СССР, последовала нарастающая бюрократизация Коминтерна. Кроме того, в результате принятия европейским коммунистическим движением национальных перспектив во время и после второй мировой войны произошли коренные перемены основных направлений марксистских дискуссий. Они теперь все больше проходили в отдалении не только от внутренней политической борьбы, но также вдалеке от международных проблем. Теория мало-помалу разбегалась по национальным квартирам, и одна теория отгораживалась от другой стеной относительного безразличия и незнания. Такой поворот событий был тем более странным, что в подавляющем своем большинстве новые теоретики, как мы видели, были академическими учеными самого высокого уровня и в принципе имели идеальные возможности с точки зрения знания языков и свободного времени для серьезного изучения и знания интеллектуальных систем, существовавших за пределами своей собственной страны. Однако в действительности философы этой традиции, употреблявшие, как никогда, сложную и невразумительную терминологию, практически все без исключения проявили провинциализм и незнание теоретических культур соседних стран. Поразительно, но во всем западном марксизме нет ни одной серьезной оценки, как нет и собственной критики работы какого-либо одного крупного теоретика другим, где бы проявились хорошее знание текста и минимальная теоретическая осторожность при его разборе. В лучшем случае мы видели беглые наветы или легкую похвалу, которые и плохо читаются, и поверхностны. Примерами такой взаимной небрежности могут служить несколько туманных замечаний Сартра в адрес Лукача, разрозненные и анахроничные ссылки Адорно на Сартра, ожесточенные обвинения Коллетти против Маркузе, дилетантизм Альтюссера, путавшего Грамши с Коллетти, полное отрицание Альтюссера со стороны Делла Вольпе[47]. Все они представляют собой лишь случайные комментарии, содержащиеся в работах, предназначенных в основном для других целей. В западном марксизме нет ни одного случая обстоятельного теоретического обсуждения или спора между одним мыслителем и другим, обсуждения или конфликта между школами, не говоря уже о широком международном охвате традиции как таковой. Это также верно и применительно к отношениям между учителями и их учениками. Так, например, за приверженностью Гольдманна к работам раннего Лукача так никогда и не последовало хоть минимального критического интереса к его более поздним работам, их изучения. Эта общая узость интересов и равнодушие к развитию научной мысли за пределами своей страны препятствовали развитию сколь-нибудь целостного или ясного самосознания западного марксизма. Незнание теоретиками творчества друг друга держало систему отношений и различий между ними в состоянии туманной неопределенности. Нельзя сказать, что не предпринимались попытки провести четкие ограничительные линии внутри западного марксизма. По крайней мере, в 60-е годы были предприняты две такие попытки — соответственно Альтюссером и Коллетти. Обе они свелись к объединению без разбора всех других систем, кроме своей собственной, в единый философский блок и отрицанию этого конгломерата как восходящего к Гегелю и черпающего в нем силы. Одновременно они утверждали, что только их собственная работа имеет непосредственное отношение к Марксу. Однако в остальном эти два описания эволюции марксизма с позиций 20-х годов были несовместимы, поскольку по классификации Альтюссера Коллетти без обиняков был занесен в гегельянскую традицию, которую Альтюссер отвергал, в то время как в соответствии с логикой Коллетти Альтюссер принадлежал к последователям Гегеля, что он осуждал. Из двух ретроспективных построений эволюции марксизма толкование, предложенное Альтюссером, было более широким и комплексным. С его точки зрения, работы Лукача, Корша, Грамши, Сартра, Гольдманна, Делла Вольпе и Коллетти подлежали классификации как разновидности «историцизма» — идеологии, в которой общество становится круговой и экспрессивной тотальностью, история — однородным потоком линейного времени, философия — самосознанием исторического процесса, классовая борьба — битвой коллективных «субъектов», капитализм — универсумом, характеризующимся главным образом отчуждением, а коммунизм — состоянием подлинного гуманизма вне отчуждения[48]. Как утверждал Альтюссер, большинство этих тезисов исходит от Гегеля, опосредованы через Фейербаха и работы молодого Маркса, а научная теория исторического материализма была основана на радикальном разрыве с ними, что было сделано Марксом в «Капитале». В отличие от предыдущего, представление Коллетти об эволюции марксизма было более узко сформулировано, хотя шло дальше: Коллетти, раннего Лукача, Адорно, Маркузе, Хоркхаймера и Сартра объединяли общие нападки на науку и отрицание материализма, что коренилось в утверждении о том, что противоречие есть принцип реальности, а не разума — при том, что диалектический материализм, которого придерживались Лукач и Альтюссер, был лишь натуралистической разновидностью того же скрытого идеализма. Оба были производными метафизической критики мышления Гегелем, целью которой было философское уничтожение материи[49]. Эту критику роковым образом неправильно понял и принял Энгельс в «Анти-Дюринге», положившем начало нисходящей линии — линии полного отхода от рационального и научного материализма Маркса, примером которого может служить логический метод, примененный в «Капитале». Насколько ценны эти два представления об эволюции марксизма? Достаточно ясно, что школа Делла Вольпе и школа Альтюссера имели общие черты, которые отличали их от других систем, существовавших в западном марксизме. Их враждебность по отношению к Гегелю, развитая ранее и глубже в системе Делла Вольпе, выделяет их более явно в традиции, которая в остальном тяготеет преимущественно к Гегелю. Наряду с этим они едины, решительно подчеркивая научный характер «Капитала», особое место «Капитала» в самих трудах Маркса и кардинальное значение в последующем ленинской политической мысли. Они оба представляют собой резко отрицательную реакцию на предыдущие теоретические тенденции, которые отрицали или игнорировали многие положения классической традиции. Однако эти характеристики недостаточны для разделения всей сферы европейского марксизма после 1920 г. на два противоборствующих лагеря. Простые противоположности, предложенные Альтюссером и Коллетти, грубы, плохо продуманы и основаны на явно неполном сравнительном анализе, чтобы служить серьезным путеводителем по сложной констелляции философских тенденций в западном марксизме, включая их собственные. Было бы даже неточно говорить о более тонком и последовательном спектре, а не о явной поляризации систем. Действительно, установки отдельных теоретиков часто совпадали и даже перехлестывались произвольным образом, исходили из различных отправных точек, что исключало возможность их объединения в рамках единого философского процесса. Сама непримиримость типологий, предложенных Коллетти и Альтюссером, является показателем логических апорий обоих. Так, тема отчуждения была заклеймлена Альтюссером как архигегельянская, и ее отрицание рассматривалось в качестве предпосылки научного материализма. Однако Коллетти, который подверг Гегеля более радикальной и обоснованной критике, чем Альтюссер, считал концепцию отчуждения центральной в работе зрелого Маркса и в историческом материализме как науке. И наоборот, если Коллетти сконцентрировал наиболее интенсивный огонь своей критики на диалектике материи у Гегеля как религиозном пробном камне его идеализма и печальном наследии последующей социалистической мысли, то Альтюссер выделял тот же самый аспект работы Гегеля в качестве животворного зерна научного провидения, унаследованного марксизмом. Пересечение линий простирается далеко за пределы построений этих двух протагонистов. Система Альтюссера, преимущественно направленная против самого Сартра, доминировала во Франции в начале 60-х годов. В то время как Коллетти в основном критиковал Франкфуртскую школу, временно доминировавшую в Италии в конце 60-х годов. Как представляется, ни один из них не имел четкого представления о своем основном сопернике, и в результате ни один из них не осознавал определенного сходства, имевшегося у них. Коллетти все глубже уходил в изучение двойственности марксизма как «науки и революции» — как теории объективных законов капитализма, так и теории субъективной способности пролетариата сбросить способ производства, частью структуры которого он сам является[50]. Подобные изыскания были очень близки к основным методологическим посылкам исследования, которое вел Сартр. Еще более поразительным было невольное сходство между Альтюссером и Адорно — теоретиками, наиболее далекими друг от друга. С момента своего возникновения Франкфуртская школа находилась под большим влиянием Гегеля, чем какая-либо другая школа в Европе. К 60-м годам марксизм в интерпретации Адорно представлял собой крайнюю форму его отказа от любых рассуждений по поводу классов или политики, то есть именно тех предметов, которым предоставлялось первостепенное формальное значение в марксизме Альтюссера. Однако в работе «Негативная диалектика», которую Адорно впервые развил в лекциях в Париже в 1961 г. и завершил в 1966 г., воспроизводится целый ряд мотивов, которые можно обнаружить в работах Альтюссера «За Маркса» и «Читать “Капитал”», опубликованных в 1965г., не говоря уже о работе Коллетти «Гегель и марксизм”, опубликованной в 1969 г. Так, помимо других тем Адорно явно утверждал абсолютную гносеологическую первичность объекта; отсутствие всеобщего субъекта истории; пустоту концепции «отрицания отрицания». Он резко критиковал сосредоточенность философии на отчуждении и овеществлении как модную идеологию, которая может быть использована в религиозных целях, осуждал культ работ молодого Маркса в ущерб «Капиталу», антропоцентристские концепции истории и мягкую риторику гуманизма, сопутствующую им; мифы о труде как единственном источнике общественного богатства в отрыве от материальной природы, его неотъемлемого компонента[51]. Адорно даже повторял заповедь Альтюссера, в соответствии с которой теория есть специфический вид практики («теоретическая практика») и понятие практики должно само определяться теорией. Адорно писал, что «теория есть форма практики», а «сама практика есть в высшем смысле теоретическое понятие»[52]. Неприкрытый теоретический уклон этих заявлений, совершенно подавлявших материалистическую проблему единства теории и практики как динамичной связи между марксизмом и массовой революционной борьбой и объявивших с самого начала о лексической тождественности, может восприниматься как всеобщий лозунг западного марксизма в послевоенную эпоху. Они указывают на скрытую общность наиболее крайних интеллектуальных позиций, находящихся в его русле. Конечно же, в остальном теоретические системы Альтюссера и Адорно абсолютно различались по проблематике и ориентации. Любопытное пересечение некоторых существенных теоретических тем в их работах свидетельствует лишь о том, что нечеткий бинарный контраст между гегельянской и антигегельянской школами совершенно недостаточен для определения точного места различных школ в рамках западного марксизма или взаимоотношений между ними. Множественность философских привязанностей, обусловленная выше, включая не только Гегеля, но также Канта, Шеллинга, Спинозу, Кьеркегора, Паскаля, Шиллера, Руссо, Монтескье и других, делает невозможной такую полярную расстановку. Дополнительные связи каждого теоретика с различными течениями в современной буржуазной культуре углубляют проблему сходства и расхождения между ними. Они, в свою очередь, были обусловлены различием внутриполитического положения в соответствующих странах. Совершенно очевидно, что на каждую отдельную философскую систему, существующую в рамках этой традиции, воздействовало множество идей, рожденных различными мировоззрениями и созданных на разных уровнях социальных и идеологических структур как своего времени, так и прошлого, что породило большое разнообразие теорий в исторической ситуации, определившей границы марксистской традиции как таковой. Здесь нет места, чтобы исследовать действительное распределение взаимосвязей в этой области во всей его сложности. В наших целях более важно определить специфику каждой системы по сравнению с классическим наследием исторического материализма предшествующей эпохи. Действительно, при подведении итогового баланса определенной трансформации западного марксизма развитие новых концепций или возникновение новых тем служат самым верным критерием его природы и силы как традиции. 1. Лукач в Будапеште; Корш в Нью-Йорке; Маркузе в Брандесеймском университете и университете Лайомы; Лефевр, Гольдманн и Альтюссер в Париже; Адорно во Франкфурте; Делла Вольпе в Мессине; Кодлетти в Риме. Только Грамши и Беньямин не преподавали в университетах. 2. См. Lukaсs on His Life and Work // New Left Review. —1971. — July — Aug. No. 68. — P. 56—57; History and Class Consciousness. — L., 1971. — P. XXXVI. 3. См. Marcuse G. Studies in Critical Philosophy. — L., 1972. — P. 3-4. 4. Le Materialisme Dialectique. — P., 1939. Впервые опубликован в Париже в 1939 г. Перевод на английский Dialectical Materialism. — 1968. P. 61—167. 5. См. La Teoria Marxista dell'Emancipazione Umana (1945 г.) и La Libertá Communista(1946 г.), фокусирующие основное внимание на «Парижских рукописях» и «Критике гегелевской философии права». Переводы трудов Маркса, сделанные Делла Вольпе, были опубликованы в 1950 г. 6. См. Interary and Philosophical assays. L., 1955. 7. В частности, работы Фейербаха «Philosophical Manifestoes», «On the Young Marx», «The 1844 Manuscripts of Karl Marx» / For Marx. — L., 1969. 8. History and Class Consciousness. — P. 1. 9. В свое время авторы подвергались критике за трудность восприятия их языка. В 1920 г. в этой же связи орган французских социалистов «Юманите» критиковал Грамши, редактора «Ордине нуово». Грамши выступил (Ordine Nuovo. — 1920. — 10 Jan.) с ответом, в котором в пространной форме оправдывался. В 1949 г. Реве упрекал Лукача за «аристократизм стиля»: см. Revai J. Lukács and Socialist Realism.— L., 1950.— P. 18—19. С особой силой на терминологию Сартра обрушился Люсьен Севв Jean-Paul Sartre et la Dialectique // La Nouvelle Critique. — 1961. — Febr. — No. 123. — P. 79—82. 10. Условия содержания в тюрьме не являются, однако, причиной всех трудностей, связанных с прочтением «Тетрадей» Грамши. Как мы уже убедились, Грамши критиковали даже в Турине за неоправданную сложность его языка. Кроме того, некоторые из «загадок» его «Тетрадей» следует отнести за счет его собственных духовных метаний и неуверенности, возникавших при рассмотрении вопросов, на которые он так и не нашел ответов. 11. Влияние этих философов убедительно показано в очерках Гарета Стидмана Джонса The Marxism of the Early Lukács // New Left Review. — 1971. — No. 70. Вебер был личным другом и коллегой Лукача до первой мировой войны. 12. Сложность отношений Грамши к Кроче и его сдержанное восхищение предложенной последним категории «этико-политической истории», которая, по его мнению, должна служить «эмпирическим эталоном» для исторических исследований, отражены в // Materialismo Storico. — Turin, 1966. — С. 201, 202. В этой работе Грамши даже сравнивает Кроче и Ленина как двух теоретиков гегемонии, отвергавших экономизм. 13. Полный анализ концептуальной преемственности между Being and Nothingness иCritique of Dialectical Reason см. в Jameson F. Marxism and Form. — Princeton, 1971. — P. 230—274. Это, без сомнения, представляет собой наилучший критический анализ предмета. 14. Признания самого Альтюссера о заимствованиях у Башляра, Кангийема и Лакана см. в For Marx. — P. 257 и Reading Capital Р. 16. Башляр был научным руководителем Альтюссера, когда последний писал докторскую диссертацию. 15. Основным исключением является школа Делла Вольпе в Италии... Сам Делла Вольпе много заимствовал из лингвистики Хейлмслева для своей эстетической теории в Critica del Gusto. Однако школа в целом оставалась относительно свободной от немарксистских явлений по сравнению с аналогичными школами. Это, очевидно, было связано с отсутствием крупных нововведений в теории, что будет показано ниже, 16. См. the Theory of Capitalist Development. P. IX. 17. Cм. La Somme et le Reste. P. 142, 143; Being and Nothingness. L., 1957. — P. 600 603; Eros and Civilization. L., 1956. — P. 166, 209 и One Dimensional Man. P. 249, 250. Этих авторов в основном привлекала поэтика Башляра, а не его эпистемология. 18. См. Adorno Т. Sociology and Psychology // New Left Review. 1967. — No. 46, 47;Marcuse H. Eros and Civilization. — Passim; Althusser L,. Freud and Lacan / Lenin and Philosophy and Other Essays. — L., 1971; Sartre J.P. Between Existentialism and Marxism. — L., 1974. — P. 35—42. 19. Напрашивается сравнение с влиянием дарвинизма в век II Интернационала. Однако влияние эволюционизма было влиянием естественной науки, не посягавшей непосредственно на социальную сферу исторического материализма. Следовательно, оно могло бы быть одобрено или принято без каких-либо существенных внутренних модификаций последнего. Даже если взять Каутского, который, возможно, был наиболее восприимчив к влиянию дарвинизма, то для его основных работ довоенного периода были нетипичны прямые заимствования. Конечно, крайним случаем такого рода была привлекательность Маха для некоторых большевистских интеллектуалов, и прежде всего Богданова, что побудило Ленина написать «Материализм и эмпириокритицизм». И здесь вновь сказалось некоторое влияние развития физики на течения в марксизме. Однако они не оказали сколько-нибудь существенного влияния ни на одну крупную фигуру в третьем поколении теоретиков классического марксизма. 20. Единственным исключением из этого правила является итальянский марксист Себастьяно Тимпанаро, который в своей книге Sul Materialismo (Pisa, 1970. — P. 1—112) выступил в защиту философского наследия Энгельса. Масштаб работы Тимпанаро заслуживает того, чтобы его творчеству было уделено внимание в любом обстоятельном обзоре современного западного марксизма. Однако оно было явно направлено против всех других школ в рамках последнего и выражало совершенно особую позицию, поэтому ее включение в данный обзор представляется излишним. Вместе с тем даже эта непримиримая по позиции и оригинальная по характеру творческая деятельность не лишена известных характерных черт западного марксизма. См. ниже, раздел 4, сноска 1. 21. См. собственные комментарии Лукача в работе History and Class Consciousness. P. XXI. Основным исключением был Лабриола, который до своего знакомства с марксизмом был философом-гегельянцем. Отсюда неожиданное «открытие» Гегеля Лениным после дискредитации II Интернационала в 1916 г. 22. History and Class Consciousness — P. XXIII. 23. Из-за войны работа Der Junge Hegel не публиковалась до 1948 г. 24. Minima Moralia. — L., 1974. — P. 16. 25. The Problem of Method. — L., 1963. — P. 8—14. 26. См. Kierkegaard: The Singular Universal / Between Existentialism and Marxism. — P. 146—169. 27. Logica Come Scienza Positiva. — Messina, 1950. 28. Hegel and Marxism. — L., 1973. — P. 113—138. В эпоху II Интернационала Меринг и др. (Адлер) увлеклись этикой Канта, но ни в одном философском построении того типа, которое выдвинул Коллетти, никогда не связывалась гносеология Канта и Маркса. 29. См. Della Volpe. Rousseau e Marx. — Rome, 1964. — P. 72—77, а также крайнее изложение его взглядов см. во «Введении» Коллетти к ранним работам Маркса (См.Early Writings. — L., 1974). 30. Reading Capital. — P. 102. В данном случае в рамках II Интернационала явное первостепенное значение, отдаваемое Спинозе по сравнению с Марксом, действительно создало крупный прецедент. Плеханов полагал, что марксизм был в основном «разновидностью спинозизма», и писал, что «спинозизм Маркса и Энгельса есть материализм в его современной форме», см. Fundamental Problems of Marxism. — L., 1929. — P. 10, 11. Эти формулировки подверглись сильным нападкам со стороны Коллетти, для которого «Плеханов был одним из тех, кто рассматривал Маркса только как простое развитие и применение идей Спинозы». См. From Rousseau to Lenin. — L., 1972. — P. 71. В 20-х годах в СССР Деборин и его ученики придерживались Плеханова, рассматривая Спинозу как «безбородого Маркса». Здесь следует отметить, что если Маркс был в основном незнаком с трудами Канта или Декарта, то он в своей молодости внимательно читал Спинозу. Однако нет существенных признаков того, что последний оказал на него сколь-нибудь существенное влияние. В трудах Маркса можно обнаружить лишь несколько ссылок на Спинозу, да и то самого банального рода. 31. Reading Capital. — Р. 40. Представляется показательным в этом отношении для Спинозы «Idea vera est diversum quid a suo ideato: nam aluidest circilus, aluid idea circili» (De Ementatio Intellectus). 32. Для сравнения см. For Marx. — P. 169; Reading Capital. — P. 216; Ethica II, Proposition VII. 33. Reading Capital. — P. 59, 60. «Истина есть критерий как самой себя, так и лжи». См. Ethica II, Proposition XLIII, Scholium. 34. Там же. — P. 187—189; «Deus est omnium rerum causa immanens, non vero transiens» («Бог есть постоянная, а не преходящая причина всех вещей»), Ethica I, Prop. XVIII. 35. «Наес ergo est eorum libertatis idea, quod suarum actionum nullam cognoseant causam»: см. Ethica II, Prop. XXXV, Scholium. Конечно же, четвертая часть работы Ethica, озаглавленная «De servitute humana, seu de affectum viribus» («О рабстве человека или силе эмоций») — это центральная тема всей работы Альтюссера после того, как была произведена трансформация «эмоций» в «идеологию». См. For Marx. — P. 232—235; Reading Capital. — P. 180. 36. Spinosa. Tractatus Theologico-Politico, I. — S. 5. 37. For Marx. — P. 232. 38. В этом абзаце Альтюссер впервые признал свой долг перед Спинозой. См.Elements d'Autocritique. P., 1974. — Р. 65—83. Однако его рассказ об этом остается туманным и общим. В нем нет ссылок. В результате он не показывает истинные масштабы и полноту переноса мира Спинозы в его теоретическую работу. Дальнейшее филологическое исследование подтвердило бы это документально. 39. Politics and History. L., 1973. — P. 52—53. 40. The Hidden God. — L., 1964. P. 243, 244, 251, 252, 300—302. Гольдманн ранее избрал Канта в качестве главного предтечи марксистской концепции тотальности, см. Goldmann L. Kant I. — L., 1971. 41. La Somme et Le Reste. P. 415—424. Этот эпизод был сам по себе не столь значительным для последующей работы Лефевра, но показательным для более широкой системы этой традиции. Лефевр вспоминал, что он и Политцер остро ощущали отсутствие гносеологических корней, задались целью найти подходящие для них основы и в конце концов натолкнулись на Шеллинга. 42. Возрождение этого оккультного понятия в культуре немецких «левых» остается проблемой, подлежащей изучению. Возможно, ею впервые заинтересовался Эрнст Блох. 43. Eros and Civilization. — P. 165—193. 44. Ср. Лукач, Der Zerstorung der Vernunft. — Berlin, 1953. — S. 244-317 (единственный подробный анализ) с Adorno Т. Letters to Walter Benjamin // New Left Review. — 1973. — Sept. — Oct. — No. 81. — P. 72; Sartre J.-P. Saint Genet. — L., 1964. P. 346—350; Marcuse H. Eros and Civilization. — P. 119—124; Althusser L. Lenin and Philosophy. — P. 181. 45. Gramsci A. Prison Notebooks. — L., 1971. — P. 125—143, 147, 148, 169—175. 46. Ibid. P. 248. 47. Sartre J.-P The Problem of Method. — P. 21, 37—39; Adorno T. Negative Dialectic. — L., 1973. — P. 49—51; Colletti L. From Rousseau to Lenin. — P. 128—140; Althusser L. Reading Capital.—P. 134—138; Della Volpe. Critica dell'Ideologia Contemporanea. — Rome, 1967. — P. 25, 26n, 34, 35n, 37n. 48. См. Reading Capital. — P. 119—143. 49. Marxism and Hegel. P. 181—198. Альтюссер превозносил диалектику природы в качестве ценного элемента, который можно взять у Гегеля, если ее назвать «процессом без субъекта», что прямо подставило его под огонь критики со стороны Коллетти: см. Lenin and Philosophy. — P. 117—119. 50. См., напр., From Rousseau to Lenin. — P. 229—236. 51. См. Negative Dialectic. — P. 183, 184, 304, 158—160, 190—192, 67, 89, 117, 118. Следует отметить, что Адорно столь же упорно настаивал на первичности объекта, как и Коллетти, что делало в этом отношении постоянные нападки на Франкфуртскую школу последнего в значительной степени ненужными. 52. Stichoworte. — Frankfurt, 1968. — P. 171; Negative Dialectic. — P. 144. 4. Западный марксизм: новое в теории Некоторые аспекты общего характера можно выделить сразу. Как мы уже знаем, западный марксизм начиная с 20-х годов постепенно отходил от теоретических конфронтации по основным экономическим и политическим проблемам. Грамши был последним представителем марксистских мыслителей на Западе, поднимавшим жгучие вопросы классовой борьбы в своих работах. Однако и он ничего не писал о самой капиталистической экономике, если иметь в виду классический анализ законов развития этого способа производства[1]. Западные марксисты более позднего периода также обходили молчанием политическую систему буржуазного правления и ничего не говорили о способах его ниспровержения. В результате западный марксизм в целом, когда дело касалось вопросов не метода, а содержания, всецело сосредоточивался на изучении надстройки. Более того, западные марксисты в своих исследованиях уделяли самое пристальное внимание таким специфическим надстроечным элементам, которые, как сказал в свое время Энгельс, наиболее всего отделены от экономического базиса. Иными словами, типичными объектами изучения для западных марксистов были не государство и не закон — в фокусе их исследований оказалась культура. Характерно, что в сфере самой культуры интеллектуальные усилия и талант западных марксистов были обращены на искусство. Можно привести массу впечатляющих примеров на этот счет. Лукач, например, большую часть своей жизни посвятил литературоведческой работе, создав серию критических исследований немецкого и европейского романа. В поле его исследований было творчество известнейших авторов от Гёте и Скотта до Манна и Солженицына. Кульминацией его литературоведческой деятельности стало фундаментальное исследование «Aesthetics» («Эстетика») — самый объемистый и честолюбивый его труд[2]. Адорно написал с десяток книг по музыке, большое место в которых отводилось масштабному анализу развития музыкальной культуры XX столетия и исследованию произведений отдельных композиторов, таких как Вагнер или Малер. Кроме того, его перу принадлежат очерки по литературе, изданные в трех томах. Его исследования также венчает солидный и многогранный труд «Aesthetic Theory» («Теория эстетики»)[3]. Наиболее весомым теоретическим наследием, оставленным Беньямином марксизму, было его эссе «Art in the Age of its Mechanical Reproduction» («Искусство в эпоху его механического воспроизведения»), а наиболее значительным его достижением в 30-х годах стало исследование творчества Бодлера[4]. В сферу интересов Беньямина входили также произведения Брехта[5]. Основная работа Гольдманна «The Hidden God» («Скрытый Бог») посвящена анализу произведений Расина и янсенизму. Одновременно в ней были установлены общие принципы литературной критики исторического материализма. В других своих произведениях Гольдмани исследовал современный театр и роман (Мальро)[6]. Говоря о Лефевре, стоит прежде всего упомянуть его книгу «Contribution to Aesthetics» («Вклад в эстетику»)[7]. В свою очередь, Делла Вольпе помимо очерков о кино и поэзии предложил солидный труд по теории эстетики «Critique of Taste» («Критика вкуса»)[8]. Известно, что Маркузе не писал отдельных работ, посвященных тому или иному конкретному писателю или художнику, но он рассматривал эстетику как центральную категорию свободного общества, в котором «искусство как форма реальности» в конечном итоге определит объективные контуры самого социального мира. Эта мысль проходит красной нитью в его работах «Eros and Civilization» («Эрос и цивилизация») и «An Essay on Liberation» («Эссе об освобождении»)[9]. Первое знакомство Сартра с марксизмом совпало с публикацией его работы под названием «What is Literature?» («Что такое литература?»). В период, когда он начал работать в русле марксистской теории, он опубликовал интересную работу, посвященную творчеству и жизненному пути Жене; в этот же период он пишет книги о Маларме и Тинторетто[10]. После окончательного перехода на позиции марксизма он посвятил следующие 10 лет созданию монументального труда о Флобере, теоретическая ценность которого перевешивала все его ранние философские работы[11]. Несмотря на то что Грамши логически вписывается в галерею этих теоретиков, в его работах, как всегда, явно прослеживаются характерные особенности. Действительно, он достаточно много писал об итальянской литературе в «Prison Notebooks» («Тюремные тетради»), но все же основным объектом его теоретических исследований было не искусство как таковое, а целостная структура и функция культуры в системе политической власти в Европе с эпохи Возрождения[12]. Таким образом, его наиболее глубокие и оригинальные исследования носили характер институционального анализа исторического формирования и размежевания интеллигенции, социальной сущности образования и роли посредствующих идеологий в цементировании межклассовых блоков. В целом деятельность Грамши была постоянно нацелена на изучение надстроечных объектов, но, как никакой другой теоретик западного марксизма, он воспринимал самостоятельность и действенность культурной надстройки как политическую проблему, имеющую отношение к сохранению или свержению существующего социального порядка и заслуживающую теоретического осмысления именно с этой точки зрения. Альтюссер также в конце концов пришел к субстантивному анализу и сконцентрировал свое внимание исключительно на вопросах надстройки. Его наиболее объемное произведение по этой теме касалось идеологии и образования, а отправной точкой для него послужили теоретические концепции Грамши. Перу Альтюссера принадлежат также статьи, в которых он поднимал проблемы театра и живописи (Брехт, Кремонини), сущности искусства. Одновременно следует заметить, что его идеи нашли серьезное применение не только в философии, но и в теории литературы, где чувствовалось сильное влияние его личности[13]. Таким образом, исследования в области культуры и идеологии доминировали в марксистской мысли на Западе. Эстетика, которая начиная с эпохи Просвещения мостиком соединяла философию с реальным миром, оказалась в сфере особого и постоянного внимания западных марксистов[14]. Богатство и огромное разнообразие работ по эстетике, более содержательных и глубоких, чем что-либо написанное в рамках классического наследия исторического материализма, по всей видимости, могут в конце концов оказаться наиболее значительным коллективным достижением научной мысли этой традиции. Наряду с этим основные системы идей западного марксизма обычно генерировали совершенно новые теоретические темы, оказавшие широкое воздействие на исторический материализм в целом. Эти концепции отличала радикальная новизна по сравнению с классическим наследием марксизма. Доказательством может служить тот факт, что в работах и Маркса (как молодого, так и зрелого), и его последователей из II Интернационала не содержится ничего похожего. Оптимальным критерием оценки этих нововведений может служить не их обоснованность или совместимость с основными принципами марксизма, а их оригинальность. Оговоримся, что критическая оценка достоинств каждого из них не входит в задачи настоящей работы. На данном этапе вполне будет достаточным выделить их наиболее характерные концептуальные отличия от предшествующих теоретических построений западного марксизма. Разумеется, учитывая узость рамок настоящей работы, их отбор будет носить до некоторой степени произвольный характер, и, конечно же, наш анализ ни в коем случае не претендует на полный охват проблем[15]. Тем не менее некоторые темы бесспорно выделяются в исследуемом нами конгломерате теорий. С них можно было бы начать отсчет того нового, что внес в теорию собственно западный марксизм. В этом отношении прежде всего следует коснуться понятия «гегемония», предложенного Грамши. Происхождение самого термина уходит корнями в российское социалистическое движение, представители которого Плеханов и Аксельрод впервые ввели его в оборот во время дискуссий стратегического характера о руководстве рабочим классом грядущей революцией в России[16]. Грамши принял этот термин, но вложил в него совершенно новый для марксистского дискурса смысл. Он предназначался исключительно для осмысления политических структур власти капитала, чего не существовало в царской России. Отталкиваясь от мыслей Макиавелли о силе и обмане и незаметно перевернув их, Грамши сформулировал свою концепцию «гегемонии» для описания огромной силы и сложной организации буржуазного классового правления в Западной Европе, что воспрепятствовало повторению Октябрьской революции в развитых капиталистических странах континента. Система власти, основанная на гегемонии, определялась степенью согласия угнетаемых ею народных масс и соответственно уменьшением масштабов насилия, необходимого для их подавления. Контролирующим механизмом, обеспечившим получение согласия, служила разветвленная сеть институтов культуры — школа, церковь, пресса, партии и ассоциации. Они насаждали пассивное подчинение эксплуатируемых классов с помощью идеологий, сотканных из исторического прошлого и распространяемых группами интеллигенции, выражавшими интересы господствующего класса. В свою очередь, господствующий класс либо взял этих интеллектуалов из предыдущих способов производства («традиционная интеллигенция»), либо взрастил в своих социальных рядах («органическая интеллигенция») как новую категорию. Буржуазное правление еще более укреплялось за счет лояльности неосновных классов — союзников, сплотившихся в единый социальный блок под руководством буржуазии. На Западе гибкая и динамичная гегемония капитала по отношению к труду посредством этой стратифицированной структуры согласия представляла собой несравненно более сложную преграду для социалистического движения, чем ту, которую оно преодолело в России[17]. Экономические кризисы, в которых марксисты старшего поколения усматривали основной источник революции в эпоху капитализма, этот политический строй мог сдерживать и успешно преодолевать. Не могло быть и речи о фронтальной атаке пролетариата по российской модели. С этим политическим строем необходимо было вести затяжную и тяжелую «позиционную войну». Грамши, единственный среди мыслителей западного марксизма, пытался найти теоретическое объяснение основного исторического тупика, послужившего причиной возникновения самого западного марксизма и обусловившего его форму. Теория гегемонии Грамши обладает еще одной особенностью, выделяющей ее из традиции западного марксизма. В основе его теории лежал не только опыт личного участия в современных политических конфликтах, но и чрезвычайно глубокий сравнительный анализ европейской истории. Иными словами, это был продукт научного исследования эмпирического материала в классическом смысле, подобный тому, что проводили основатели исторического материализма, чего нельзя сказать ни об одном другом серьезном тематическом новшестве в западном марксизме. Последние были не чем иным, как спекулятивными построениями в привычном философском смысле слова: будучи априорными концептуальными схемами исторического познания, они могли совпасть с эмпирическими данными, но постоянно оставались неподтвержденными ими ввиду способа, которым они были представлены. Характерно, что они не давали сколько-нибудь жесткой системы периодизации истории, увязывавшей бы их с четкими историографическими категориями, которые Грамши строго уважал. Наиболее впечатляющей и неожиданной теорией этого типа была концепция взаимоотношений между человеком и природой, предложенная Франкфуртской школой. Она берет начало в философии Шеллинга, который в середине своего творческого пути обратился к контрэволюционистской метафизике, рассматривающей всю предыдущую историю человечества как регрессию от высшего к нижнему состоянию «падшей природы» после изначального «вытеснения» божественности из мира и до грядущего «воскрешения» природы при воссоединении божества и Вселенной[18]. Эта религиозно-мистическая доктрина была адаптирована Адорно и Хоркхаймером и переработана ими в светскую «диалектику просвещения». Следует отметить, что согласно классическому марксистскому представлению о ходе истории от первобытных коммун до капитализма господство человека над природой возрастает по мере развития производительных сил, то есть происходит прогрессивное освобождение человеческого общества от тирании естественной природной необходимости (Naturnotwendigkeit); плоды же этого освобождения в результате разделения труда присваивались сменяющими друг друга эксплуататорскими классами. С приходом коммунизма эти плоды будут присваиваться самими производителями, чтобы наконец создать общество всеобщего изобилия, в котором полное господство над природой ознаменует установление «царства свободы». Адорно и Хоркхаймер эту позитивную концепцию поставили под вопрос и даже превратили ее в негативную. По их мнению, изначальный разрыв человека с природой и последующий процесс его поступательного возвышения над ней не повлекли за собой необходимого прогресса в эмансипации человечества. Развивая это положение, они пишут, что господство над природой, неотъемлемой частью которой является сам человек, было достигнуто ценой социального и психического разделения труда, что навлекло на людей еще большее давление, даже при том, что оно создавало всевозрастающий потенциал их освобождения. Подчинение природы происходило одновременно с формированием классов и, следовательно, подчинением большинства людей социальному порядку, навязанному им в виде безжалостной второй природы над ними. Развитие техники только совершенствовало механизм тирании. Вместе с тем структура разума как предпосылка развития цивилизации была построена на подавлении природы в самом человеке, что привело к психологическому разрыву между эго (я) и ид (подсознанием). В свою очередь, стал возможным рациональный контроль над его спонтанными импульсами. Усовершенствование разума, воплощенное в логике и науке, медленно, но верно свело природный мир вокруг человека к обычным квантифицированным объектам манипулирования, стерев различия между материальными объектами и когнитивными концепциями до их практического отождествления. Возвращение подавленных инстинктов (что было роковым последствием покорения природы) постепенно обрело философскую форму в эпоху Просвещения, когда саму природу стали инверсивно отождествлять с Разумом, и в конце концов политическую форму в фашизме; именно на этом этапе пещерное варварство взяло реванш у цивилизации, которая тайно сохранила его, жестоко отомстив поруганной природе разума[19]. Совершенствование промышленной технологии достигло высшей точки, создав вероятность планетарного саморазрушения: все ее продукты оказались под угрозой уничтожения в результате либо катастрофического взрыва, либо загрязнения окружающей среды. Таким образом, освобожденное общество перестанет преследовать амбициозные цели; его исторической миссией будет не господство над природой, а примирение с ней. Произойдет отказ от жестоких и безнадежных попыток навязать тождество человека и природы путем подчинения последней первому, и будут признаны как различия, так и связи между человеком и природой. Другими словами, будет признано их уязвимое родство[20]. «Падение» природы тогда наконец-то приостановится как вне человека, так и внутри него. Однако нетождественность природы и человека будет все равно препятствовать установлению между ними гармонии, свободной от противоречий. Эта тема владела умами практически всех представителей Франкфуртской школы. Маркузе, однако, повернул ее по-своему. В его работах как природа, так и общество приобретают более отчетливые черты. Для Маркузе (в этом он точно следует Фрейду) инстинктивная природа в человеке представлена сексуальным либидо — эросом. К постулированному Фрейдом изначальному подавлению, которое было необходимо первобытному человеку для борьбы со своими желаниями и создания цивилизации, структура классового общества добавила последовательные исторические формы «прибавочного подавления», исходящего от неравенства и господства. Технологическое богатство развитого капитализма сделало уже возможным уничтожение «прибавочного подавления», открыв эру социализма изобилия[21]. Теперь принцип удовольствия — с противоположным парным принципом страха боли, названный Фрейдом «танатосом», — наконец мог быть согласован с принципом реальности внешнего мира, раз устранены ограничения, налагаемые отчужденным трудом. Эмансипация человека и эмансипация природы сольются в эротическом освобождении. Это будет означать не только полиморфное высвобождение сексуальности, но и распространение либидного потенциала на сам труд и социальные отношения, что придаст всей практике умиротворенного существования чувственные качества эстетической игры. В этом орфическом мире, не руководимом «принципом исполнения», присущим капитализму, сублимация перестанет подавлять; эротическое удовольствие будет свободно пронизывать всю общественную жизнь; человек и природа наконец сольются в гармоническом единстве субъекта и объекта[22]. Это утверждение резко отличает Маркузе от Адорно, который не предлагает подобных чувственных вариантов решения проблемы. Согласно Маркузе, действительный ход истории отрицает ее возможный результат: современный капитализм реализовал саму противоположность подлинной эмансипации либидо «репрессивную подавляющую десублимацию», поставленную на коммерческую основу, псевдовседозволяющую сексуальность, сдерживая и заглушая любой всплеск эротических импульсов на более глубоком уровне. Подобная судьба постигла и искусство, некогда критическое, а в настоящее время инкорпорированное и нейтрализованное реальной жесткой культурой. Технология, в свою очередь, перестала содержать скрытую возможность альтернативного общества: развитие современных производительных сил превратилось в инволюцию, увеличивающую существующие производственные отношения. Изобилие, созданное современной технологией, позволило капитализму просто-напросто интегрировать пролетариат в монолитный социальный порядок подавления и конформизма, в котором он перестал сознавать себя отдельным и эксплуатируемым классом[23]. Демократия, таким образом, превратилась просто в личину, прикрывающую господство терпимости, в гибкое орудие манипулирования в единообразной, гомогенной системе, в которой массы, лишенные всякого негативного сознания, механически сами себе выбирают правителей и хозяев. Использование идей Фрейда для разработки нового направления в марксизме характерно не только для Маркузе, но и, как это ни парадоксально, для Альтюссера. Однако последний совершенно иначе отбирал и перерабатывал концепции психоанализа. Если Маркузе воспользовался метапсихологией Фрейда для формулирования новой теории инстинктов, то Альтюссер позаимствовал фрейдовскую концепцию бессознательного для создания новой теории идеологии. Радикальный разрыв Альтюссера с традиционными концепциями исторического материализма проявился в его твердом заявлении, что «идеология не имеет истории», потому что она, как и бессознательное, «неизменна» по своей структуре и действию в человеческом обществе[24], по аналогии с авторитетным для Альтюссера высказыванием Фрейда, для которого бессознательное «вечно». Идеология, согласно Альтюссеру, — набор мифических и иллюзорных представлений о реальности, выражающих воображаемые отношения людей к реальным условиям своего существования и присущих их непосредственному опыту; идеология — система бессознательных детерминации, а не форма сознания в общепринятом смысле. Вечность идеологии как сферы проживаемых иллюзий была, в свою очередь, обусловлена ее социальной функцией, направленной на соединение людей в общество, адаптируя их к своему объективному месту в общественной структуре, заданному господствующим способом производства. Таким образом, во все времена идеология была неотъемлемым элементом, скрепляющим единство общества. По Альтюссеру причина того, что идеология неизбежно оставалась совокупностью ложных убеждений и представлений, заключалась в том, что все социальные структуры, по определению, были скрыты для понимания индивидов, занимавших определенное место в этих структурах[25]. Действительно, формальная структура всей идеологии имела вид инвариантной инверсии этой реальной связи между общественными формациями и индивидами внутри них: основной целью любой идеологии всегда было конституирование индивидов в воображаемые «субъекты» (центры свободной инициативы) общества, чтобы обеспечить их действительное подчинение социальному порядку, отводя им роль либо слепых его сторонников, либо жертв. Религия вообще («связка» человека с богом) и христианство в частности представляли в этом отношении архетип идеологии и ее функций внушения иллюзий свободы для обеспечения действия необходимости. Спиноза в свое время дал полную картину этой характерной функции идеологии, а что касается религии, то его наблюдения были более глубокими, нежели наблюдения Маркса. Однако в настоящее время бессознательная природа идеологии может быть отнесена к выдвинутой Фрейдом научной концепции бессознательного психического, самого «вызванного» формами идеологии, присущими семье как объективной структуре[26]. Итак, внеисторичность идеологии как бессознательной сферы проживаемого опыта означает, что даже в бесклассовом обществе сохранится ее система ошибок и обмана, чтобы придать жизненно важное единство социальной структуре самого коммунизма, точно так же невидимой и непроницаемой для индивидов внутри ее[27]. В силу этого марксизм как наука никогда не совпадет с проживаемыми идеями и убеждениями масс при коммунизме. В идеях Сартра можно обнаружить некое любопытное сходство с положениями, высказанными Альтюссером. Однако систему Сартра от всех остальных отличает выведенная им категория «нехватки» (в зависимости от контекста переводится как недостаточность, нищета, бедность.— Прим. ред.). Этот термин был введен итальянским философом эпохи Просвещения Гальяни, который впервые дал определение стоимости как соотношения между полезностью и нехваткой (rarita) в любой экономической системе. Прикладное понятие «нехватки» в какой-то мере принял Рикардо, но фактически игнорировал Маркс[28]. Однако впоследствии оно возникло вновь после Маркса, но уже в виде центральной категории неоклассической экономической теории. Характер же использования этого термина Сартром фактически не имел ничего общего с его изначальным толкованием самим Гальяни. Последний полагал, что первоначальное состояние человечества было состоянием изобилия: полезности предметов соответствовало их обилие в природе[29]. Высказывания Маркса по этому вопросу были более расплывчаты. Однако, касаясь первобытного состояния бедности[30], он обычно имел в виду первоначальное богатство природы по сравнению с бедностью человеческих потребностей в эпоху, предшествующую цивилизации[31]. Более того, в его теории стоимости не было никаких ссылок на понятие «нехватки», в то время как Рикардо (пусть и номинально) упоминал его. Сартр считал нехватку «фундаментальным отношением» и «условием возможности» человеческой истории, условной точкой отправления и «пассивным двигателем» всего исторического развития. Никакого изначального единства человечества и природы никогда не существовало: напротив, абсолютный факт нехватки обусловил природу как «отрицание человека» с самого начала, а историю, наоборот, как антиприроду. Борьба с нуждой вызвала к жизни разделение труда и далее борьбу классов, а сам человек стал отрицанием человека. Насилие, бесправное угнетение и эксплуатация во всех существовавших обществах есть интернационализированная нужда[32]. Суровое господство природного мира над людьми и раздробленный антагонизм усилий последних, направленных на преобразование этого мира, чтобы сохранить себе жизнь, породили серийные коллективы — бесчеловечные объединения, каждый член которых чужд любому другому и самому себе тоже и в которых конечные результаты деятельности всех их членов конфискуются ради формирования общего результата их действий. Подобные серии всегда были доминирующей формой социального сосуществования в каждом из имевших место до сих пор способов производства[33]. Формальной антитезой им является «спаянная группа», в которой каждый видит в каждом себя, в которой все объединены в братское предприятие для достижения общей цели в условиях нужды и одновременно для борьбы с ней. Основным примером спаянной группы служит массовое движение в апокалиптический момент успешного революционного восстания. Однако для поддержания своего существования в неравной схватке в мире насилия и нужды такая группа, в свою очередь, должна придать себе организационную инерцию и провести функциональную специализацию, теряя братство и динамизм, чтобы «институциализироваться». Теперь эту группу ждут деградация и распад: на следующей ступени единство группы передается «суверену, чтобы достичь вертикальной стабилизации». Государство становится конечным воплощением такой суверенности, а его неизменная структура принимает вид узкой авторитарной вершины общества, от которого исходит авторитарное манипулирование распавшимися сериями внизу посредством бюрократической иерархии и репрессивного террора. С укреплением государства активная группа, первоначально создавшая его, повторно деградирует в сериальную пассивность[34]. Если, по Сартру, группы и серии составляют «формальные элементы любой истории», то действительная история общественных классов наносит на историческую карту сложные комбинации или взаимопревращения этих форм. Сами классы, однако, никогда не составляют спаянных целостных групп, будучи всегда неустойчивым соединением аппаратов, групп и серий. Таким образом, классическое марксистское понятие «диктатура пролетариата» содержало невероятное внутреннее противоречие, было противоестественным компромиссом между активной суверенностью и пассивной сериальностью[35]. Ведь ни один класс не может совпасть с государством: политическая власть не может осуществляться всем рабочим классом, а государство по-настоящему никогда не представляет даже его большинства. Бюрократизация и репрессии во всех известных послереволюционных государствах, порожденных историей, связаны с самой природой и состоянием пролетариата как социальной совокупности, и это будет продолжаться до тех пор, пока существуют глобальная нужда и разделение на классы. Бюрократия остается неустранимым спутником и противником социализма в нынешнюю эпоху. Введенные западным марксизмом новые, сущностно важные темы отразили и предварили реальные и острые проблемы, поставленные историей перед социалистическим движением с момента окончания первой мировой войны. Грамши был поглощен концепцией гегемонии, которая как бы предвосхитила стабилизацию на основе согласия капиталистического государства на Западе еще за два десятилетия до того, как стабилизация стала долговременной и всеобщей. Размышления Адорно о природе, в свое время представлявшие побочную ветвь теоретических изысканий Франкфуртской школы, неожиданно обрели актуальность позднее в экологических дебатах, охвативших развитые капиталистические страны. Анализ сексуальности, сделанный Маркузе, был предчувствием самоинституциальных эротических ограничений, эмансипации как расслабления, характерного для буржуазной культуры с середины 60-х годов. Погружению Альтюссера в проблемы идеологии дала толчок волна студенческих выступлений в развитых капиталистических странах. Разработанное Сартром понятие «нехватки» наметило схему неизбежного формирования и разрастания бюрократии после социалистических революций в отсталых странах, а его диалектика групп и серий в значительной степени предвосхитила внешний ход первого массового выступления против капитализма в развитых странах после второй мировой войны (Франция, 1968 г.). В данной работе мы не беремся судить об относительной ценности и адекватности решений, предложенных этими системами идей. В нашу задачу входит выяснить и подчеркнуть общее теоретических нововведений, характерных для западного марксизма. Сколь бы далеко ни отклонять друг от друга теоретические построения западных марксистов, все они отмечены невидимой печатью пессимизма. От классического наследия исторического материализма прорывы западного марксизма в области теории отличали скрытый смысл идей и неоднозначность выводов. В этом отношении оптимизм марксизма на Западе постепенно (в 1920—1960 гг.) сменил общий пессимистический настрой. Уверенность и оптимизм основоположников исторического материализма и их идейных преемников неуклонно таяли. Практически в каждой более или менее значительной новой теме, разработанной в интеллектуальной атмосфере того времени, обнаруживаются разочарование и утрата уверенности. В теоретическом наследии Грамши отражена перспектива длительной, изнурительной войны против невероятно прочной структуры капиталистической власти, представлено больше доказательств против возможности экономического краха капитализма, чем в работах его предшественников. Согласно Грамши, окончательной ясности относительно исхода борьбы не было. Революционные настроения Грамши, вся жизнь которого была неразрывно связана с политической судьбой рабочего класса его времени и его страны, были глубоко символично выражены в его изречении «Пессимизм интеллекта — оптимизм воли». Он единственный почувствовал тональность нового, еще не давшего о себе знать марксизма. Работы представителей Франкфуртской школы, проникнутые меланхоличностью, не шли ни в какое сравнение по силе духа. Адорно и Хоркхаймер поставили под сомнение саму мысль о полном покорении человеком природы как «царстве свободы» вне капитализма. Маркузе обратился к утопической возможности высвобождения природы в человеке, но только для того, чтобы отвергнуть ее более решительно как объективную тенденцию в реальности и сделать вывод о том, что сам промышленный рабочий класс, возможно, безвозвратно интегрирован в капиталистическую систему. Пессимизм Альтюссера и Сартра распространился на другую, не менее важную сферу — структуру самого социализма. Альтюссер заявил, что даже коммунизм (как социальное устройство) останется непостижимым для людей, живущих в этих условиях, вводя в заблуждение вечной иллюзией их свободы как субъектов. Сартр отрицал саму идею подлинной диктатуры пролетариата как неосуществимую и объяснял бюрократизацию социалистических режимов как неизбежный результат «нужды», устранение которой немыслимо в этом столетии. Новые теоретические положения резко отличались смещением акцентов и понижением оптимистического настроя, что было совершенно не свойственно для раннего периода социалистического движения. Все это было косвенным, но безошибочным признаком необратимой перемены исторического климата, надвинувшейся на марксизм в западных странах. Никто из прежних мыслителей, работавших в традиции исторического материализма, не мог писать в таком тоне и создавать такие образы, как Адорно, Сартр, Альтюссер или Грамши. Взгляд Франкфуртской школы на историю наилучшим образом выразил Беньямин на языке, который был бы немыслим для Маркса и Энгельса: «Ангела истории можно описать следующим образом. Его лик обращен в прошлое, там, где мы видим цепь событий, он видит одну всеобщую катастрофу, которая нагромождает друг на друга обломки крушения и швыряет их к его ногам. Ангел хочет остаться пробудить мертвых и восстановить в целостности то, что было разрушено, но ураганный ветер из Рая раздувает крылья ангела с такой силой, что он не может их сложить. Этот шторм неумолимо несет его в будущее, к которому он обращен спиной, и руины нагромождаются до небес. Этот шторм и есть то, что мы называем прогрессом». Очень характерно он писал об анналах всей классовой борьбы: «Даже мертвые не спасутся от врага, если он победит; и этот враг продолжает побеждать»[36]. Тем временем Грамши, заключенный в тюрьму и побежденный, с горестным стоицизмом размышлял о предназначении революционера-социалиста того времени: «Что-то изменилось и изменилось основательно. Это абсолютно ясно. Но что же это? Раньше они все хотели быть пахарями истории и играть активные роли, причем абсолютно каждый из них хотел играть активную роль. Никто не хотел быть «навозом» истории. Но возможно ли пахать землю, не удобрив ее сначала навозом? Таким образом, получается, что и пахарь и навоз необходимы в равной степени. Абстрактно все признают это. Но на практике? На практике никто не хотел быть навозом, так как это означало бы остаться в тени и неизвестности. Сейчас что-то изменилось, находятся люди, которые «философски» приспосабливаются к роли «навоза», которые осознают, что они должны быть им... Никто не оставляет нам выбора: жить ли один день жизнью льва или сто лет жизнью овцы. Вы не живете жизнью две даже минуты, напротив, вы живете жизнью гораздо более низшего существа, чем овца, годами и знаете, что именно так вы должны жить»[37]. Беньямин и Грамши пали жертвами фашизма. Однако и в послевоенный период в западномарксистской мысли преобладал не менее пессимистический тон. Возможно, хорошим примером тому служит яркий эмоциональный очерк Альтюссера. С жестокой силой он описывает социальное развитие человека от рождения до детских лет, когда возникает подсознательное как испытание, «которому подвергались все взрослые: они свидетели, которые ничего не забыли, но чаще жертвы этой победы, скрывающие в самых потаенных уголках своей кричащей души раны, слабости и боль борьбы человека за свою жизнь. Некоторые, даже большинство, выходят из этой борьбы более или менее невредимыми или хотят казаться таковыми; многие из этих ветеранов носят ее отметины всю свою жизнь; многие умирают даже после борьбы, когда вдруг открываются старые раны в психотическом взрыве, в сумасшествии, в этом конечном принуждении «негативной терапевтической реакции». Есть и другие (и их гораздо больше), которые умирают «нормально», если будет угодно, «органически» загнивая. Человечество лишь заносит в списки жертв войны официальную смерть тех, кто смог. умереть вовремя, прожив достаточно долгую жизнь как человек в человеческих войнах, в которых только человеческие волки и боги рвут на части и приносят друг друга в жертву[38]. Для описания взаимоотношений между людьми в мире нужды Сартр воспользовался еще одной беспощадной метафорой: «Наш собрат представляется нам контрчеловеком в том смысле, что он, будучи таким же, как и мы, кажется нам совершенно другим, чуждым, то есть носителем смертельной угрозы для нас. Другими словами, мы в общем понимаем его цели (они совпадают с нашими), его методы (мы их также применяем) и диалектическую структуру его действий, но мы воспринимаем их так, как если бы они были чертами, присущими существу другого рода — нашему демоническому двойнику. Фактически ни одно существо — ни дикий зверь, ни микроб — не несет такую смертельную угрозу человеку, как разумное, плотоядное, жестокое существо, способное понимать и ставить в тупик человеческий разум, и цель которого как раз и состоит в разрушении человека. Конечно же, это и есть сам человек, и в условиях нужды каждый человек видит в другом именно такое существо»[39]. Подобные пассажи принадлежат литературе, совершенно чуждой миру Маркса, Лабриолы и Ленина. В них явственно проглядывает скрытый пессимизм, независимо от субъективных намерений или открытых заявлений их авторов, никто из которых не отказывался от оптимизма воли в борьбе против фашизма и капитализма[40]. Их устами марксизм выражал мысли, ранее немыслимые в социалистическом движении. Сейчас можно свести воедино черты, выделяющие западный марксизм в самостоятельную традицию мышления, порожденную поражением пролетарских революций в развитых капиталистических странах Европы после первой мировой войны: он развивался в условиях возраставшего разрыва между социалистической теорией и практикой рабочего движения. Пропасть между ними, вначале образовавшаяся в результате империалистической изоляции Советского государства, институционально расширилась и углубилась бюрократизацией СССР и Коминтерна при Сталине. Для представителей нового марксизма, который возник на Западе, официальное коммунистическое движение представляло единственное подлинное воплощение интересов международного рабочего класса, имеющее для них значение,— вступали ли они в него, поддерживали ли его или отрицали. Структурный разрыв между теорией и практикой, характерный для коммунистических партий современной эпохи, препятствовал единой политико-теоретической деятельности в том виде, какой был присущ классическому марксизму. В результате теоретики уединились в университетах, оторвавшись от жизни пролетариата своих стран, а теория ушла из политики и экономики в сферу философии, что сопровождалось усложнением языка изложения вследствие отдаленности западного марксизма от масс. Как ни странно, наряду с этим сократились международные контакты и уменьшился интерес друг к другу у самих теоретиков разных стран. В свою очередь, утратив динамичную связь с практикой рабочего движения, марксистская теория фактически сместилась ближе к современным немарксистским и идеалистическим системам взглядов, с которыми она развивалась уже в тесном, хотя и противоречивом симбиозе. В то же время, профессионально занимаясь философией и открыв для себя ранние работы самого Маркса, теоретики начали ретроспективный поиск предшествующих марксизму теорий в ранней европейской философской мысли и в их свете интерпретировать сам исторический материализм. Результат подобной практики был трояким. Во-первых, наблюдалось явное преобладание работ эпистемологического направления, посвященных в основном проблемам метода. Во-вторых, основным полем практического приложения методологических исследований стала эстетика или культурная надстройка в более широком смысле. И, втретьих, практически всем новым прорывам в теории вне эстетики, развивавшим темы, отсутствовавшие в классическом марксизме (по большей части в спекулятивной форме), сопутствовал последовательный пессимизм. Метод как бессилие, искусство как утешение и пессимизм как покой — все эти черты нетрудно найти в облике западного марксизма. Ведь корни данной традиции уходят в поражение — долгие десятилетия отступлений и застоя (ужасные с точки зрения любой исторической перспективы), через которые рабочий класс на Западе прошел после 1920 г. Однако если взять традицию западного марксизма в целом, то она не сводится к этим проявлениям. Несмотря ни на что, ее основные представители не пошли по дороге реформизма[41]. Будучи в отрыве от масс, никто из них, тем не менее, не капитулировал перед победившим капитализмом, подобно теоретикам II Интернационала вроде Каутского, стоявшего гораздо ближе к классовой борьбе. Более того, исторический опыт, отраженный в их творчестве, вопреки всем препятствиям и запретам был (в определенных решающих отношениях) самым передовым в мире: он охватил высшие формы капиталистической экономики, старейший промышленный пролетариат и самые устойчивые интеллектуальные традиции социализма. Богатство и сложность этого исторического опыта, равно как его слабость и неудача, отразились в той версии марксизма, которую он породил или дал породить — пусть в скрытой и незавершенной форме. В некоторых избранных им областях этот марксизм достиг большего совершенства, чем исторический материализм на любой предшествующей стадии своего развития. Глубина разработок была достигнута за счет сужения масштаба анализа. Однако если фокус интересов западного марксизма сузился, то его теоретический потенциал не был радикально подорван. В настоящее время опыт последних 50 лет империализма должен быть обязательно серьезно исследован в рабочем движении. Западный марксизм всегда был неотъемлемой частью его истории, и ни одно новое поколение революционеров-социалистов в капиталистических странах не должно игнорировать или обходить его стороной. Выяснение отношений с этой традицией (как изучение ее, так и полный разрыв с ней) — одно из предварительных условий частичного обновления марксистской теории в настоящий момент. Конечно, задача не ограничивается исключительно необходимым одновременным действием — изучением и разрывом. Природа изучаемого объекта препятствует этому. В конечном счете сама привязка этой традиции к географическому местоположению также отражала его зависимость и слабость. В принципе марксизм стремится стать универсальной (всеобщей) наукой, зависящей от национальных и континентальных особенностей не больше, чем любая другая система объективного познания действительности. В этом смысле термин «западный» содержит безусловные ограничения. Отсутствие универсальности (всеобщности) свидетельствует о неполной истинности. Западный марксизм неизбежно был менее марксистским в той мере, в какой он был западным. Исторический материализм сможет проявить себя в полную силу только тогда, когда он вырвется за рамки узких ограниченных интересов любого свойства. Ему предстоит вновь набрать силу. 1. Грамши хранил полное молчание по экономическим проблемам. Ирония и загадка судьбы Грамши заключаются в том, что одним из его самых близких и давних друзей был Пьеро Сраффа, который помогал ему поддерживать связь с КПИ, находившейся за пределами Италии, в последние годы его заключения. Но всей видимости, П. Сраффа был последним, с кем Грамши обсуждал вопросы международной политики за несколько месяцев до своей смерти в 1937 г. Довольно странные отношения между величайшим политическим мыслителем-марксистом Запада и наиболее оригинальным экономическим теоретиком послевоенной эпохи, проникнутые личной близостью и духовными разногласиями, символичны. Миры их мыслей никак не соприкасались. Годы спустя критика Сраффой неоклассической экономической теории была более разрушительной и жестокой, чем критика ее со стороны самого марксизма. Характерно, однако, что это его знаменательное достижение стало возможным благодаря возврату к Рикардо с отходом назад от Маркса, а возникшая в результате концепция содержала не менее суровую критику по отношению к теории стоимости, изложенной в «Капитале». 2. Aesthetik. — Berlin / Neuwied, 1963. Наиболее важные исследования в области марксистской литературной критики, переведенные к настоящему времени на английский язык: Studies in European Realism (1950), The Historical Novel (1962), The Meaning of Contemporary Realism (1963), Essays of Thomas Mann (1964), Goethe and His Age (1967), Solzhenitsyn (1970). Все эти работы, за исключением первой, были опубликованы издательством «Мерлин Пресс», в котором также была переведена его домарксистская работа «Theory of the Novel» (1971). 3. Aesthetische Theorie. —Frankfurt, 1970. Из всех его музыковедческих исследований только «Philosophy of Modern Music» (L., 1973) переведена до настоящего времени на английский язык. Трехтомник Nothen zur diteratuz был издан на немецком языке в Западном Берлине и Франкфурте-на-Майне, 1958— 1961 гг. 4. См. Illuminations. — P. 219—253; Baudelaire Ch. A. Lyric Poet in the Era of High Capitalism — L., 1973. 5. Беньямин, конечно же, близко общался с Брехтом, когда тот был в изгнании. Создание собственно эстетических концепций, существенно обогативших западноевропейский марксизм своего времени, Брехт всегда подчинял своей драматургической деятельности, и поэтому их анализ не входит в настоящую работу. О взаимоотношениях Брехта с Беньямином и Лукачем см. Inderstanding Brecht. — Р. 105—121; Against Georg Lukacs // New Left Review. —1974. — N. 84. Критику Адорно в адрес Беньямина и Брехта см. Letters to Walter Benjamin // Ibid. — 1973. — N. 81., Commitment // Ibid. — 1974. — No. 87/88. Сложный обмен мнениями, отраженный в названных работах, был одной из основных дискуссий по вопросам культуры в западном марксизме. 6. Pourune sociologie du roman. — Р., 1964. 7. Contribition a t'esthetique. — P., 1953. 8. Critica del Gusto. — Milan, 1960; Il Verisimile Filmico. — Rome, 1954. 9. В наиболее четкой форме его концепция содержится в статье Art as a Form of Reality // New Left Review. —1972. — No 74. 10. Частично опубликованные работы о Маларме и Тинторетто были фактически полноценными законченными книгами: см. Contat М., Rybalka М. Les ecrits de Sartre. — P., 1970. — P. 262, 314—315. 11. Можно проследить странное сходство между работой Сартра, посвященной Флоберу, и работой Беньямина о Бодлере, несмотря на разительный контраст между размахом одной работы и миниатюрностью другой. Исследование Беньямина можно было бы разделить на три части: Бодлер как аллегорист; социальная атмосфера Парижа, в которой он творил; и товар как поэтический объект, синтезирующий значение и поэта и капитала. Исследование Сартра также строилось по трехчастной схеме: субъективное формирование личности Флобера; Вторая Империя как объективная область восприятия его как художника; и «Мадам Бовари» как уникальное историческое единство обоих. 12. Том Letterature e Vita Nazionale, наиболее пространен в «Тюремных тетрадях» (издание Эйнауди). Однако в него включены ранние театроведческие работы Грамши, написанные им до заключения в тюрьму. 13. См. Ideology and Ideological State Apparatuses, Cremonini. Painter of the Abstract. A Letter on Art / Lenin and Philosophy and Othe Essays, «The “Piccolo Teatro”»: Bertolazzi and Brecht / For Marx; Macherey P. Pour une theorie de la production litteraire /Théorie L. Althusser./ — P., 1966. 14. Знаменательно, что единственной серьезной работой, выходящей далеко за рамки западного марксизма, стало исследование по эстетике: Jameson F. Marxism and Form. 15. Можно заметить, что крупные концептуальные системы, в которых не предлагалось ничего радикально нового в смысле отхода от канонов ранней марксистской теории, были разработаны Делла Вольпе и Лукачем. В обоих случаях это было связано текстуальным следованием самому Марксу (хорошо это или плохо?). Обращение молодого Лукача к темам «отчуждения» и «овеществления» нельзя классифицировать как подлинное новаторство, как бы позднее ни использовались эти два понятия в западном марксизме, по той простой причине, что ими были наполнены ранние работы Маркса. 16. Эволюция и значение понятия «гегемония» будут более подробно рассматриваться в специальном очерке о Грамши в журнале New Left Review, готовящемся к публикации. 17. Более подробно эти позиции Грамши изложены в его «Тюремных тетрадях» (перевод на англ.). См. С. 5—14, 52—58, 229—239. 18. Шеллинг: «Разве все вокруг не говорит о том, что жизнь гибнет? Разве эти горы раньше были такими же высокими, как и сейчас? Разве земля, на которой мы стоим, всегда была на своем теперешнем уровне, не повышалась и не понижалась?.. О, разве эти обломки первозданного величия человека, в поисках которых любознательный путешественник углубляется в просторы Персии и пустыни Индии, не настоящие руины? Вся земля представляет собой гигантскую руину, где звери бродят как призраки, люди как духи и где многие скрытые силы и сокровища прочно удерживаются как будто какой-то невидимой силой или волшебными заклинаниями». См. Werke IV. — Erg. Bd. — Munich, 1927. — P. 135. 19. Adorno Т., Horkheimer М. Dialectic of Enlightenment, — L.. 1973. — P. 81—119, 168—208. 20. Minima Moralia. — P. 155—157, Negative Dialectic. — P. 6, 191—192, 270. 21. Eros and Civilization — P. 25—37, 151—153. 22. Ibid. — P. 116, 164—167, 194—195, 200—208. 23. One-Dimensional Man. — P. 60—78. XVI 19—52. 24. Lenin and Philosophy. — P. 151—152. 25. См., напр., Théorie, Practque Théorique el Formation Theorique. Ideologic et l.utte Ideologique. Текст, который в виде книги издан только в испанском переводе: La pilosufia como Arma de la Revolucion. — Cordoba, 1968. Содержащиеся здесь тезисы весьма недвусмысленны: «В бесклассовом обществе, так же как в обществе, раз деленном на классы, в функции идеологии входит обеспечение связи между людьми в совокупности форм их существования, обеспечения связи людей со своими задачами, закрепленными за ними социальными структурами... деформация идеологии социально необходима как функция самой природы социального целого: точнее, как функция ее детерминации его структурой, что делает это социальное целое скрытым для индивидов, которые занимают в нем место, детерминируемое этой структурой. Представление о мире, необходимое для достижения социального единства, обязательно носит мифический характер в силу того, что социальная структура скрыта». — Р. 54—55. 26. Lenin and Philosphy. — P. 160—165. 27. For Marx. P. 232; La Philosofia como Arma de la Revolution — P. 55. 28. Galiani F. Dalla Moneta. — Milan, 1963: «Ценность есть отношение между двумя элементами — полезностью и редкостью» — (Р. 39). Предложенный им термин был впоследствии принят Кондильяком. Согласно Рикардо: «Обладая полезностью, товары приобретают свою меновую стоимость (ценность) из двух источников: из своей (нехватки) и из затрат труда, необходимых для их получения». См. The Principles of Political Economy and Taxation. L., 1971. P. 56. На практике, однако, Рикардо в основном игнорировал нехватку в своей теории стоимости, так как он рассматривал ее только применительно к очень ограниченным категориям предметов роскоши (статуи, картины, вина). 29. «Благодаря чудесному провидению этот мир совершенно устроен для нашего блага, и полезность, вообще говоря, никогда не совпадает с нехваткой... Все необходимые для поддержания жизни вещи так щедро рассредоточены по всей земле, что они не имеют или почти не имеют стоимости (ценности)». См. Dalla Moneta. — Р. 47. 30. В «Немецкой идеологии» Маркс писал, что «развитие производительных сил является абсолютно необходимой практической предпосылкой еще и потому, что без него имеет место всеобщее распространение бедности, а при крайней нужде должна была бы снова начаться борьба за необходимые предметы и, значит, должна была бы воскреснуть вся старая мерзость». Этот отрывок был приведен Троцким в его анализе причин сталинизма в России, который сделал нужду основной категорией для его объяснения. См. The Revolution Betrayed. — N. Y., 1965. — P. 56—60. 31. Наиболее показательное высказывание можно обнаружить у Маркса: «Изначально все дары природы имеются в изобилии или, по меньшей мере, в достаточном количестве для удовлетворения практических потребностей. С самого своего развития естественно возникшая ассоциация (семья), разделение труда и кооперация соответствуют такому положению. Это происходит потому, что сами потребности изначально неразвиты». См. Grundrisse — L., 1973. — Р. 612. В это же время, конечно, и для Маркса и для Энгельса «царство свободы» определялось материальным сверхизобилием вне «царства необходимости», господствовавшего как в доклассовых, так и классовых обществах. 32. C.ritique de la Reason Dialectique. P. 200—204. Часто проводимая аналогия между Сартром и Гоббсом неуместна. Для Гоббса, так же как и для Гальяни, природа обеспечила изначальное изобилие для человека, которому оставалось просто принять его как дар земли. См. Leviathan. — L. 1968. — XXXIV. — Р. 294—295. 33. Ibid — P. 306—319, 384—396. 34. Ibid — P. 573—594, 608—614. 35. Ibid — P. 629—630, 644. 36. Illuminations. — P. 257, 259—260. 37. Prison Notebooks. — P. XCIII. 38. Lenin and Philosophy — P. 189—190. 39. Critique de la Raison Dialecticue — P. 208. 40. Здесь уместно сказать несколько слов об упоминавшихся ранее работах Себастьяне Тимпанаро (род. в 1923 г.). В них содержалось самое последовательное и красноречивое во всей послевоенной литературе по этому вопросу отрицание того, что сам Тимпанаро назвал «западным марксизмом». В этой связи вызывает удивление тот факт, что в некоторых решающих аспектах его собственная работа невольно соответствует модели западного марксизма, представленной выше. Ведь творчество Тимпанаро в основном носит философскую, а не политическую или экономическую направленность. Более того, в нем также можно проследить обращение к интеллектуальному предшественнику Маркса, в свете идей которого суть марксизма получает новое толкование. В данном случае в качестве основного предшественника Маркса выступает поэт Джикамо Леопарди. Особая форма его материализма представлялась Тимпанаро полезным и необходимым дополнением материализма Маркса и Энгельса в силу четкого осознания непреодолимых ограничений бренности и смертности, наложенных на человека враждебной ему природой. Через все творчество Тимпанаро красной нитью проходит тема неизбежной конечной победы природы над человеком, а не человека над природой. В итоге его творчество пронизывают больший пессимизм и классическая для западного марксизма печаль; возможно, это распространяется и на теорию любого другого из социалистических мыслителей нашего столетия. Свойственные работам Тимпанаро черты, как это ни парадоксально, позволяют безошибочно признать его представителем традиции западного марксизма, которой он сам себя противопоставляет. Можно сказать, что известное значение филологии античности — дисциплины, в которой полностью преобладали немарксисты (от Виламовича до Паскуали), — в его становлении как ученого также соответствует модели, предложенной в этой книге. Вместе с этим необходимо сразу же подчеркнуть, что в других отношениях работы Тимпанаро абсолютно не соответствуют нормам западного марксизма. Дело в том, что его философия никогда не сводилась к эпистемологии: Тимпанаро стремился выработать самостоятельное мировоззрение, придерживаясь (что важно) идей Энгельса. Использование им наследия Леопарди отнюдь не исходило из убеждения, что Маркс знал о нем или каким-то образом испытывал влияние поэта или что системы мышления этих двух людей однородны — в том смысле, что идеи Леопарди представляли собой нечто отсутствующее, а не что-то скрытое в идеях Маркса. О своем пессимизме Тимпанаро сознательно заявляет и открыто защищает его. Наконец, можно сказать, что наряду с этими особенностями Тимпанаро обладал большей степенью свободы от официального коммунистического движения, чем любой другой представитель западного марксизма. Тимчанаро единственный из всех никогда не был ни членом коммунистической партии, ни независимым интеллектуалом, а был активным членом другой партии рабочего класса — Итальянской социалистической партии (ее нового крыла), а затем Итальянской социалистической партии пролетарского единства. 41. Единственным исключением в этом отношении был Хоркхаймер, однако следует иметь в виду, что во Франкфуртской школе он считался второстепенным мыслителем. 5. Сравнения и выводы Мы находимся в преддверии нового периода в рабочем движении, который положит конец длительной паузе в классовой борьбе, отделявшей теорию от практики. События мая 1968 г. во Франции ознаменовали в этом смысле глубокий исторический поворот. Впервые за прошедшие 50 лет массовые революционные волнения произошли в развитых капиталистических странах в мирное время, в условиях процветания империализма и буржуазной демократии. Первые раскаты этого грома Французская коммунистическая партия не услышала. В этих обстоятельствах два ключевых условия исторического несовпадения теории и политики в Западной Европе впервые начали разрушаться. Революционность масс, вновь проявившаяся уже вне контроля бюрократизированной партии, создала потенциальную возможность нового объединения марксистской теории, и практики рабочего движения. Следует оговориться, что майский бунт не был революцией, а основные силы французского пролетариата ни организационно, ни идеологически не отошли от компартии. Конечно, разрыв между революционной теорией и массовой борьбой был далеко не преодолен в мае — июне 1968 г., но в Европе он был сокращен до минимума с момента поражения всеобщей забастовки во время волнений в Турине в 1920 г. Более того, бунт во Франции не остался отдельным эпизодом. В последующие годы мир стал свидетелем нарастающей волны выступлений международного рабочего движения в развитых капиталистических странах, не имевших аналога с начала 20-х годов. В 1969 г. итальянский пролетариат поднял волну крупнейших забастовок, которые когда-либо видела страна; в 1972 г. уже британский пролетариат провел наиболее успешное в своей истории наступление на капитал, парализовав национальную экономику; в 1973 г. продемонстрировал свою силу японский рабочий класс. В 1974 г. мировую капиталистическую экономику охватил первый после войны кризис, разразившийся во многих странах одновременно. Вероятность того, что марксистская теория и массовая практика сомкнутся в единую революционную цепь, связанные звеньями реальной борьбы промышленного рабочего класса, постепенно возрастала. Соединение вновь теории и практики могло бы вызвать преобразование самого марксизма, воссоздав условия, которые в свое время выдвинули основателей исторического материализма. Тем временем серия потрясений, последовавших за майским восстанием, оказала еще одно, решающее воздействие на ближайшие перспективы развития исторического материализма в развитых капиталистических странах. Западный марксизм (от Лукача и Корша до Грамши и Альтюссера) во многих отношениях занял авансцену интеллектуальной истории левого движения в Европе после утверждения власти Сталина в СССР. Однако в это же время существовала и исподволь развивалась еще одна традиция мысли, носившая совершенно иной характер. Впервые она стала объектом пристального внимания политического интереса непосредственно во время и после выступлений во Франции. Мы, конечно же, имеем в виду теорию и наследие Троцкого. Как мы уже говорили, западный марксизм ориентировался на официальное коммунистическое движение как единственное историческое воплощение международного пролетариата как революционного класса. Западный марксизм никогда не признавал сталинизма, но в то же время никогда активно ему не противодействовал. Однако, какие бы оттенки ни принимало отношение многих мыслителей к сталинизму, все они не видели другой реальной силы или сферы социалистического действия вне его. Западный марксизм и троцкизм принадлежали в этом смысле к разным политическим мирам. Надо сказать, что вся жизнь Троцкого после смерти Ленина была посвящена практической и теоретической борьбе за освобождение международного рабочего движения от бюрократического господства, с тем чтобы оно могло вновь приступить к свержению капитализма в мировом масштабе. Троцкий потерпел поражение во внутрипартийной борьбе в 20-х годах и был изгнан из СССР, поскольку представлял постоянную угрозу режиму, который символизировал Сталин. В изгнании он приступил к основательной разработке марксистской теории[1]. Его новая работа вышла из чрева величайшего переворота, совершенного массами, — Октябрьской революции. Однако троцкизм как система идей была поздним ребенком: он сложился значительно позже революции, когда обусловившая его появление ситуация ушла в прошлое. В силу этого первое крупное произведение, написанное Троцким в изгнании, было посвящено (что совершенно необычно для теоретика-марксиста его масштаба) конкретному историческому событию. Его «История Русской революции» (1939 г.) во многих отношениях до сегодняшнего дня остается наиболее ярким примером солидного марксистского исторического анализа и единственным воспроизведением прошлого, в котором мастерство и страсть историка сплелись с опытом политического лидера и организатора. Следующее достижение Троцкого было в определенных отношениях еще более значительным. Живя в изоляции на маленьком турецком острове, вдалеке от центра Европы, Троцкий написал серию работ о подъеме нацизма в Германии, качество которых как конкретных исследований текущей политической ситуации не имеет себе равных в историческом материализме. В этой области даже Ленин не написал ничего подобного по глубине и степени разработки. Работы Троцкого о германском фашизме, по сути дела, стали первым настоящим марксистским анализом капиталистического государства XX столетия, становления нацистской диктатуры[2]. Интернационализм, характерный для этих исследований, направленных на то, чтобы вооружить германский рабочий класс перед лицом смертельной опасности, вообще был присущ Троцкому до конца жизни. Изгнанный из своей страны и преследуемый повсеместно, лишенный прямых контактов с пролетариатом, он продолжал политический анализ положения в Западной Европе высочайшего уровня. Францию, Англию и Испанию он мастерски исследовал, учитывая национальную специфику их общественных формаций. Ленин, всецело поглощенный анализом обстановки в России, этим никогда не занимался[3]. Наконец, он положил начало строгой и всеобъемлющей теории сущности Советского государства и судьбы СССР в правление Сталина. Ценность этой теории придают богатый фактический материал и громадный собственный опыт ее автора[4]. Исторический масштаб научного достижения Троцкого невозможно полностью осознать даже в настоящее время. К сожалению, объем моей книги не позволяет раскрыть его теоретическое наследие и рассказать о деятельности Троцкого более детально. Мы уверены, что наступит такой день, когда эту традицию, которую и преследовали, и поносили, и изолировали, и раскалывали, будут изучать во всем ее многообразии. В данной связи будет уместным упомянуть о некоторых идейных наследниках Троцкого. Характерно, что два самых талантливых представителя следующего после него поколения были оба из интеллигенции — выходцами из Восточной Европы (точнее, из пограничных районов Польши и России). Исаак Дойчер (1907—1967 гг.), родившийся вблизи Кракова, был активным членом нелегальной Коммунистической партии Польши. Дойчер порвал с Коминтерном из-за политики последнего по отношению к подъему нацизма в 1933 г. Пять лет своей жизни он отдал политической борьбе в составе существовавшей в польском рабочем движении оппозиционной троцкистской группы Пилсудского. Накануне второй мировой войны он отрицательно отнесся к решению Троцкого организовать IV Интернационал, отказавшись, таким образом, от попытки сохранить политическое единство теории и практики, что он считал в то время нереальным, и эмигрировал в Англию[5]. В Англии, уже после окончания войны он стал профессиональным историком и написал несколько крупных работ об Октябрьской революции, принесших ему мировую известность. Несмотря на расхождения с Троцким, их научные интересы были очень близки: перед смертью Троцкий работал над биографией Сталина, а первой работой Дойчера было продолжение биографии Сталина с того периода, на котором остановился его предшественник. Впоследствии наиболее значительной работой Дойчера предстояло стать биографии самого Троцкого[6]. Его наиболее заметным единомышленником и современником был другой историк, Роман Роздольский (1898—1967 гг.). Он родился во Львове и был одним из основателей Коммунистической партии Западной Украины. Работая под руководством Рязанова в качестве члена-корреспондента Института Маркса — Энгельса в Вене, он примкнул к Троцкому в его критике укрепления сталинизма в СССР и политики Коминтерна в отношении фашизма в Германии в начале 30-х годов. Возвратившись во Львов, он с 1934 по 1938 г. был членом местного троцкистского движения в Галиции, работал над исследованием, посвященным истории крепостничества в этом регионе. Во время войны он попал в плен к немцам и был брошен в нацистские концентрационные лагеря. Освободившись в 1945 г., он эмигрировал в США, где, отказавшись от непосредственной политической деятельности, посвятил себя самостоятельной научной работе (Нью-Йорк, Детройт). Там он написал одну из немногочисленных серьезных марксистских работ по национальной проблеме в Европе со времен Ленина[7]. Его основным произведением, однако, стало фундаментальное исследование «Предисловия Маркса к “Критике политической экономии” и его связи с “Капиталом”», опубликованное посмертно (1968 г.) в Западной Германии[8]. Роздольский пытался воссоздать ход экономической мысли зрелого Маркса, чтобы соединить современный марксизм с основной традицией экономической теории в рамках исторического материализма, нарушенной уходом со сцены австромарксизма в межвоенный период. Сам Троцкий не написал серьезных экономических работ в отличие от большинства теоретиков его поколения. Роздольский же, не имея специальной экономической подготовки, задумал свое исследование, руководствуясь чувством долга перед грядущими поколениями, будучи единственным оставшимся представителем восточноевропейской культуры, которая в свое время породила большевизм и австромарксизм[9]. Его надежды не были тщетными. Четыре года спустя Эрнест Мандель, бельгийский троцкист, активный участник движения Сопротивления, прошедший через фашистские застенки, заметная фигура в IV Интернационале после войны, опубликовал в Германии развернутое исследование «Поздний капитализм», в котором использовал многие положения Роздольского[10]. В работе Манделя был дан первый теоретический анализ глобального развития капиталистического способа производства после второй мировой войны, изложенный в категориях классического марксизма. Таким образом, направление, родоначальником которого был Троцкий, представляло прямую противоположность традиции западного марксизма. Троцкизм сосредоточил усилия на политике и экономике, а не на философии. Он носил отчетливо интернациональный характер, никогда не замыкаясь на проблемах одной страны или ограничивая свой кругозор рамками национальной культуры. Работы этого направления отличали ясный и страстный порыв, а литературным достоинством работы, особенно исследования Троцкого и Дойчера, не уступали или даже превосходили другие направления. Его представители не руководили кафедрами в университетах. Их преследовали и объявляли вне закона. Троцкого убили в Мексике, Дойчер и Роздольский жили в эмиграции, не имея возможности вернуться на родину — в Польшу и Россию. Манделю запрещен въезд во Францию, ФРГ и США и до сего дня. Этот список можно продолжить. Цена, которую пришлось заплатить за попытку поддержать марксистское положение о единстве теории и практики, даже в тех случаях, когда от него в конце концов отреклись, была высока. Вместе с тем и польза для будущего социализма была огромна: сегодня это политико-теоретическое наследие имеет большое значение для возрождения революционного марксизма в международном масштабе. Следует признать, что теоретические приобретения троцкизма страдали своими слабостями и изъянами. Тезис Троцкого о том, что опыт Русской революции послужит моделью для всех стран, остается проблематичным; его работы по Франции и Испании не обладают той глубиной, которая отличает его работы по Германии; его суждения о второй мировой войне, в отличие от анализа нацизма, следует признать ошибочными. Оптимизм Дойчера относительно перспектив внутренних реформ в СССР после смерти Сталина не имел оснований. Главные произведения Роздольского были по сути скорее констатирующими, чем аналитическими. Книга Манделя, появившаяся после долгого затишья в экономических исследованиях, имела очень характерный подзаголовок: «Попытка дать объяснение». Итак, развитие марксистской теории не смогло «перепрыгнуть» через материальные условия своего собственного развития — реальной социальной практики пролетариата своего времени. Сочетание вынужденной изоляции от основных отрядов организованного рабочего класса во всем мире и длительного отсутствия выступлений революционных масс в ведущих центрах индустриального капитализма неминуемо наложило свой отпечаток на троцкизм в целом. Троцкизм также в конце концов подчинился диктату времени в условиях длительного исторического периода поражения рабочего класса на Западе. Особенно отрицательно сказалось на троцкизме игнорирование им новой ситуации, что отличало его от западного марксизма. Троцкисты по-прежнему пытались обосновать необходимость и возможность социалистической революции и пролетарской демократии, несмотря на многочисленные факты, говорящие об обратном, и это неминуемо толкало их к консерватизму. Сохранение классических марксистских доктрин стало превалировать над их развитием. Убежденность в триумфе дела рабочего класса и экономическом крахе капитализма, основанная больше на воле, чем на интеллекте,— типичный порок этого течения марксизма. Следовало бы провести историческую опись достижений и неудач троцкизма. Необходимость системного критического анализа наследия Троцкого и его последователей, подобного тому, что в потенциале уже можно было бы провести по наследию западного марксизма, давно назрела. В то же время рост международной классовой борьбы с конца 60-х годов (впервые после поражения «левой оппозиции» в России) начал создавать возможность возрождения идей троцкистского толка в основных сферах дискуссий и деятельности рабочего движения. Когда они соединятся, ценность идей троцкизма пройдет испытание практикой массового пролетарского движения. Тем временем изменения в политическом климате, происходившие с конца 60-х годов, не могли не отразиться на западном марксизме. Конец этому течению может положить объединение теории и практики в массовом революционном движении, свободном от бюрократических предрассудков. Как историческая форма западный марксизм исчезнет, как только разрыв между теорией и практикой, его породивший, будет преодолен. Первые признаки его преодоления различимы уже теперь, но процесс этот далек от завершения. Современный период все еще носит переходный характер. Крупнейшие коммунистические партии Европы, которые всегда были полем притяжения для западного марксизма, отнюдь не исчезли, и их позиции в рабочем классе своих стран не были заметно подорваны, хотя доверие интеллигенции к ним как к революционным организациям ослабело. Многих видных представителей западного марксизма, о которых мы говорили, уже нет в живых. Остальные пока что оказались неспособны отразить новую ситуацию, сложившуюся после событий во Франции в 1968 г., в сколь-нибудь весомых теоретических разработках. Представляется, что свой интеллектуальный путь они уже прошли. Среди молодого поколения, сформировавшегося под влиянием традиции западного марксизма, наметился явный сдвиг в сторону экономических и политических исследований, в отличие от предшественников, чье основное внимание было уделено философским вопросам[11]. Этот сдвиг, однако, зачастую сопровождался простым смещением фокуса внимания с советской модели социализма к китайской. Организационно и идеологически недостаточно подкрепленная ориентация на Китай вместо СССР в остальном способствовала сохранению скрытой политической разнородности западного марксизма. Явное или неявное смещение ориентации представителей старшего поколения теоретиков, таких как Альтюссер и Сартр, от СССР к Китаю лишь подтверждает сохранение структурной связи между их философскими позициями[12]. Отличия новых течений в рамках западного марксизма можно считать весьма незначительными до тех пор, пока эта связь существует. Старшие теоретики этого направления, еще оставшиеся в живых, могут сейчас в любом случае довольствоваться лишь повторением прежних выкладок ввиду истощения философских идей. Будущее их учеников, вполне естественно, открыто. Как бы ни складывалась судьба западного марксизма в регионах, где он укоренился первоначально (Германия, Франция, Италия), в последние годы он начал распространяться в новых регионах мира капитализма, а именно в англосаксонских и северных странах. Последствия трудно предвидеть. В этих странах исторически не сложилось сильное коммунистическое движение, и ни в одной из них не родилось сколь-нибудь значимого течения марксистской теории. Некоторые из этих стран, однако, обладали своими преимуществами. Например, особенность Англии заключалась в том, что промышленный рабочий класс страны всегда был одним из самых мощных в мире, а марксистская историография солиднее, чем в любой другой стране. Относительно скромные до сих пор масштабы распространения марксистской культуры в этих странах вполне могут значительно и интенсивно расшириться. Ведь закон неравномерного развития верен и в отношении скорости распространения на разные регионы и глубины влияния теории. Согласно этому закону, отстающая в отношении теории страна может в сравнительно короткий срок превратиться в передовую, пользуясь преимуществом более позднего вступления на путь, проложенный другими. Во всяком случае, с некоторой долей уверенности можно сказать, что, до тех пор пока марксизм не найдет себе сторонников в США с их богатейшим классом буржуазии и в Англии с ее старейшим рабочим классом в мире, он не сможет предложить действительного решения тех проблем, которые ставит перед ним цивилизация капитала во второй половине XX столетия. Неспособность III Интернационала даже в период своего расцвета при жизни Ленина серьезно продвинуться в англосаксонских странах, в то время когда США и Британия были двумя крупнейшими центрами капиталистического мира, указывает на незавершенность разработки исторического материализма даже в эпоху его величайших свершений как живой революционной теории. В настоящее время социалистическое движение стоит перед лицом сложнейших проблем научного характера, связанных с современным этапом развития капиталистического способа производства. При этом последний занимает сейчас сильные, а не слабые позиции. Марксизму в этом смысле еще предстоит решить наиболее сложные для себя теоретические задачи. В то же время он вряд ли может рассчитывать на успех, пока не найдет опоры в бастионах империализма англосаксонского мира. Дело в том, что вопросы, на которые в свое время не дало ответа поколение Ленина, невозможно было решить ввиду разрыва между теорией и практикой в эпоху Сталина. Несмотря на продолжительные поиски и окольные пути их решения западным марксизмом, они до сих пор ждут ответа. Эти вопросы лежат вне сферы компетенции философии. Они касаются центральных экономических и политических реалий, господствующих в мировой истории в последние 50 лет. Рамки нашей работы не позволяют дать анализ этих вопросов, и мы ограничимся лишь простым их перечислением. Прежде всего надо ответить на вопрос: «Какова подлинная природа и структура буржуазной демократии как типа государственной системы, ставшей нормальным, обычным способом капиталистического правления в передовых странах? Какой тип революционной стратегии способен свергнуть эту историческую форму государства, в столь многом отличающейся от той формы, что была характерна для царской России? Какими могли бы быть институциональные формы социалистической демократии на Западе вне ее?» Марксистская теория практически не затрагивала эти три вопроса (особенно в их взаимосвязи). Какова роль и позиция нации как социального образования в мире, разделенном на классы? Более того, каковы сложные механизмы национализма как воплощения массовых стихийных сил, сложившиеся за последние два столетия? Начиная со времен Маркса и Энгельса эти вопросы не получили адекватного ответа. Каковы современные законы развития капитализма как способа производства, и существуют ли новые формы кризиса как их проявление? Каковы действительные характеристики империализма как мировой системы экономического и политического господства? В настоящее время над этими вопросами только что стали вновь задумываться, но только уже в условиях, значительно изменившихся со времен Ленина или Бауэра. Наконец, каковы основные черты и динамика бюрократических государств, возникших в результате социалистических революций в отсталых странах? Что роднит и отличает эти режимы друг от друга? Как стало возможным, что за разрушением пролетарской демократии после революции в России последовали революции в Китае и других странах, где пролетарской демократии не существовало с самого начала? Есть ли определенные границы у такого процесса? Троцкий начал анализ революции в России, но не дожил до следующих революций. Именно этот ряд вопросов составляет задачу, которую необходимо решить историческому материализму в настоящее время. Предпосылкой для ее решения, как мы уже говорили, стал рост массового революционного движения, свободного от организационных ограничений, в сердце индустриального капитализма. Только при этом условии станет возможным новое объединение социалистической теории и практики рабочего движения, способное вдохновить марксизм на обретение знания, которым он сегодня не обладает. В каких формах новая теория может возникнуть и кто будет ее носителями, предугадать трудно. Было бы ошибочным думать, что эти формы будут обязательно повторять классические модели прошлого. Практически все основные теоретики исторического материализма от Маркса и Энгельса до российских большевиков, от видных теоретиков австромарксизма до выдающихся мыслителей западного марксизма были интеллигентами, вышедшими из имущих классов чаще всего крупной, а не мелкой буржуазии[13]. Только Грамши родился в бедной семье, однако и его происхождение было далеко не пролетарским. Невозможно не видеть в такой закономерности свидетельство временной незрелости международного рабочего класса в целом с точки зрения всемирно-исторической перспективы. Достаточно вспомнить о последствиях для Октябрьской революции нестойкости большевистской старой гвардии, политического руководства, в большинстве своем интеллигентов по происхождению, вставшей над все еще малограмотным рабочим классом. Легкость, с которой и старая гвардия, и пролетарский авангард были уничтожены Сталиным в 20-х годах, в немалой степени объяснялась социальным разрывом между ними. Рабочее движение, способное к достижению окончательной самоэмансипации, не воспроизведет подобный дуализм. «Органическая интеллигенция», о которой говорил Грамши и которая вышла бы из рядов самого пролетариата, до сих пор не заняла той структурной позиции в революционном социализме, которая, как он считал, должна была бы ей принадлежать[14]. Крайние формы эзотермизма, характерные для западного марксизма, по терминологии Грамши, были присущи «традиционной интеллигенции» в период, когда связь между социалистической теорией и пролетарской практикой была слабой или вовсе прерывалась. В долгосрочном плане будущее марксистской теории будет принадлежать органической интеллигенции, рожденной самим промышленным рабочим классом империалистического мира по мере обретения им культурных навыков и уверенности в своих силах. Последнее слово остается за Лениным. Его знаменитое высказывание о том, что «без революционной теории не может быть революционного движения», повторяют часто и вполне справедливо. Однако у него есть еще другие, не менее важные слова: «Правильная революционная теория... обретает свою конечную форму только в тесной связи с практической деятельностью подлинно массового и подлинно революционного движения»[15]. Все абсолютно верно! Революционную теорию можно разрабатывать в относительной изоляции — Маркс писал свои работы в Британском музее, а Ленин в окруженном войной Цюрихе. Однако свою правильную и конечную форму революционная теория приобретает только в том случае, если будет увязана с коллективной борьбой самого рабочего класса. Простое формальное членство в партийной организации (весьма характерное явление в недавней истории) совершенно не заменит такой контакт, ведь необходима тесная связь с практической деятельностью пролетариата. Боевитости небольших революционных групп также мало, так как должна быть связь с действующими, активными массами, и, наоборот, связи с массовым движением все же недостаточно, ввиду того что оно может быть реформистским: только в том случае, когда массы сами революционны, теория может выполнить свою благородную миссию. Совокупности этих пяти условий, необходимых для успешного продвижения марксизма после второй мировой войны, нигде на Западе не существовало. В наше время наконец усиливаются перспективы для их появления вновь. Когда по-настоящему революционное движение зародится в зрелом рабочем классе, «конечная форма» теории не будет иметь точного прецедента. Можно лишь сказать, что, когда говорят сами массы, теоретики (такие, каких Запад производил на свет 50 лет назад) обязательно молчат. 1. Хотя, конечно, пророческим началом теоретической работы Троцкого следует считать его дореволюционную книгу «Результаты и перспективы». 2. Такая оценка может показаться парадоксальной, и мы вернемся к ней несколько позже. Весьма характерно для судьбы наследия Троцкого то, что его работы о Германии не были опубликованы в виде книги вплоть до 1970 г., когда вышло первое немецкое издание. См. английский перевод этой книги The Struggle Against Fascism in Germany. — N. Y., 1971. 3. В настоящее время эти материалы собраны соответственно в нью-йоркских изданиях Whither France (1970); on Britain (1973); The Spanish Revolution (1973). Работы о Британии в основном охватывают период начиная с 20-х годов, но в вышеуказанном сборнике опущены некоторые важные материалы, относящиеся к 30-м годам. 4. Прежде всего это The Revolution Betrayed: The Class Nature of Soviet State; In Defeuse of Marxism (N. Y., 1965). 5. Более подробно о начальном этапе деятельности Дойчера см. Singer D. Armed with a Pen / Horowitz D., Deutscher I. The Man and His Work. — L., 1971. — P. 20—37. 6. The Prophet Armed (1954); The Prophet Unarmed (1959); The Prophet Outcast (1963). 7. «F. Engels und das Problem der «Geschichtslosen Völker»«. — Hanover, 1964. О биографии Роздольского см. Quatrieme Internationale. — 1968. — No. 33. 8. Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen Kapitals. — Frankfurt, 1968. 9. «По своей профессии автор не является ни экономистом, ни философом. Он бы никогда не взялся писать комментарии к предисловию Маркса, если бы в настоящее время существовала школа марксистских теоретиков, более подготовленных для выполнения этой задачи, подобно той, которая существовала в начале нашего столетия. Последнее поколение выдающихся марксистов в большинстве своем пало жертвой террора Гитлера или Сталина». См. Zur Entstehinsgeschichte. — Р. 10—11. 10. Der Spátkapitalismus (Versuch einer Erklärung). — Frankfurt, 1972; посвящение Роздольскому. — P. 9. (Расширенное английское издание (L., 1975) не содержит подзаголовка немецкого издания.) 11. Наиболее заметные работы этого направления написаны Никосом Пулантзасом: см. Political Power and Social Classes. — L., 1973; Fascigman and Dictatorship. — L, 1974. 12. Анализ сущности и влияния маоизма не входит в задачу данной работы. Подробное обсуждение этой проблемы должно найти место в других работах. 13. Традиционный ярлык «мелкобуржуазный интеллигент» не подходит для большинства из обсуждаемых нами деятелей. Многие из них были выходцами из семей богатых промышленников, торговцев и банкиров (Энгельс, Люксембург, Бауэр, Лукач, Гроссманн, Беньямин, Маркузе, Суизи), крупных землевладельцев (Плеханов, Меринг, Лабриола), видных юристов и высших чиновников (Маркс, Ленин). 14. Возможно, что наиболее заметным социалистическим мыслителем выходцем из рядов западного рабочего класса был британец Раймонд Уильямс. Следует, однако, заметить, что, хотя его работы с точки зрения их эстетической и культурной направленности близко соприкасались с западным марксизмом, они никогда не были марксистскими. Вместе с тем классово-историческая сущность этих работ придает им те качества, которые отсутствуют в каких-либо других современных социалистических произведениях и которые в любом случае войдут составной частью в будущую революционную культуру. 15. Left-Wing Communism: Aп Infantile Disozder // Selected Works. Vol. III. P. 378. Послесловие Утверждения, которыми заканчивается данная работа, требуют комментария. Первое, что следует сказать, это то, что им недостает обязательных оговорок и замечаний, без которых логику этих суждений нельзя назвать иначе, как редукционистской. Их апокалиптический тон сам по себе является тревожным показателем трудностей, которые я безапелляционно игнорировал или избегал. Адекватный анализ этих сложностей, не говоря уже о путях их разрешения, выходит за пределы данной книги. Самое большое, что можно сделать, так это указать на основные слабые моменты в построении вышеизложенного материала, которые мы постараемся изложить в сжатом виде. Через всю работу проходит мысль о том, что марксистская теория приобретает свои подлинные очертания только в прямой связи с массовым революционным движением. Если же этого движения не существует или оно потерпело поражение, то марксистская теория неминуемо деформируется или отходит на второй план. Посылкой этой основной темы является, конечно, принцип «единства теории и практики», который по традиции определяет марксистскую гносеологию как таковую. Однако в данной работе представлены соображения, указывающие на то, что отношения между ними (т. е. теорией и практикой) более сложны, чем обычно предполагали. В целом же материал подтверждает наличие коренной связи между наукой и классом, историческим материализмом и бунтарским духом пролетариата в нашем веке. Реальные условия или четкий горизонт постулируемого единства теории и практики нигде, однако, не исследуются. В результате выводы этого эссе как бы приглашают к «активному» его прочтению, поскольку они могут быть научно несостоятельными и политически безответственными. Дело в том, что любое толкование марксизма, как, например, предложенное на последних страницах данной работы, вызывает серьезные возражения. Представляется странным, что раньше их почти не выдвигали. Если подлинным предназначением марксизма является исторический материализм, то он прежде всего должен быть теорией истории. Однако, как мы знаем, история — это в основном прошлое. Настоящее и будущее также историчны, и именно к ним невольно относится традиционное понимание роли практики в марксизме. Вместе с тем прошлое нельзя изменить никакой практикой в настоящем. Следующие поколения всегда будут давать разные толкования его событиям, а смысл прошлых эпох будут открывать заново, но с материалистической точки зрения изменить их невозможно. С политической точки зрения судьба людей в действительном настоящем и обозримом будущем несравненно более важна для социалиста, чем что-либо другое. С научной же точки зрения явно преобладающей сферой достоверного знания является царство мертвых. Прошлое, которое нельзя исправить или переделать, можно исследовать с большей точностью, чем настоящее, действия в котором еще предстоит совершить. И это еще не все. Так, в любой исторической науке всегда сохранится сущностный разрыв между знанием и действием, между теорией и практикой. Ни один ответственный марксист не откажется от задачи постичь необъятный мир прошлого и не потребует прав на его материальное преобразование. Марксистскую теорию, таким образом, невзирая на всяческие соблазны, нельзя отождествлять с революционной социологией. Ее нельзя сводить к «анализу» («сочленению») по модной ныне терминологии. Ведь, по определению, текущее проходит. Ограничивать марксизм современностью — значит обрекать его на вечное забвение, в котором настоящее становится непознаваемым, как только оно превращается в прошлое[1]. Немногие социалисты будут это отрицать. Характерно, однако, что до сих пор не была адекватно проанализирована действительная роль истории как науки в историческом материализме. Она несовместима с философским прагматизмом. В этом смысле, очевидно, марксизму еще предстоит со всей серьезностью отнестись к своей претензии на то, чтобы быть «наукой истории». Гордый титул исторического материализма можно заслужить смиренным уважением реального его существования в двух ипостасях. Это уважение вызывает необходимость очертить границы понятия единства теории и практики. Решение крупнейших политических проблем, стоящих перед международным рабочим классом XX в., игнорирование которого в западном марксизме подчеркивалось в настоящей работе, зависит от наличия этого единства. Однако точные формы воплощения и смещения акцентов единства теории и практики никогда по-настоящему не изучались. Все же отказ марксистов от некритической точки зрения на союз теории и практики как на нечто всеобщее и универсальное может им помочь сфокусировать внимание на определенных социальных условиях возникновения революционной теории и ее научном обосновании. Это отнюдь не означает, что в историческом материализме должны быть выделены две отдельные и изолированные сферы: «активная» политика и пассивная «история» — одна целиком управляемая приливами-отливами движения масс, другая — идеально свободная от них. Здесь уместно рассмотреть незаслуженно забытый вопрос о взаимоотношении (действительном и потенциальном) между «историографией» и «теорией» в марксистской культуре вообще. Политическая обусловленность современных марксистских и немарксистских работ по истории хорошо известна. (Она, конечно, не является формой единства теории и практики в классическом смысле.) Исторические знания, содержащиеся в современных исследованиях по политической или экономической теории в рамках марксизма или необходимые для них, рассматривались не так часто. Следует отметить, что на самом деле достижения марксизма в области историографии потенциально очень важны для развития марксистской теории. Несмотря на формирование крупных школ марксистской историографии почти во всех развитых капиталистических странах, исторический материализм как теоретическая система от этого мало что выиграл. До сих пор не наблюдалось ощутимой интеграции результатов марксистских исследований по истории с марксистской политологией и политэкономией. Эта аномалия покажется более значительной, если вспомнить, что в эпоху классического марксизма профессиональная историография этого типа не существовала, а ее появление на более позднем этапе не повлияло сколь-нибудь существенным образом на постклассический марксизм. Ее новизна и значение для структуры исторического материализма в целом не вполне еще ясны. По меньшей мере можно предположить, что в марксистской культуре будущего, какой бы она ни была, будет восстановлено равновесие между «историей» и «теорией», что, в свою очередь, повлечет за собой изменение ее нынешних очертаний. Имеется еще одна мысль в работе, которую необходимо прокомментировать. Символом единства теории и практики пользуются тогда, когда хотят подчеркнуть структурное различие между классическим и западным марксизмом. Это различие действительно существует, но способ его подачи в этой книге имеет цель увести классический марксизм от критического разбора. Практическое единство последнего с борьбой рабочего класса своего времени, которое действительно возвышает его над появившейся позднее традицией, служит эталоном для сравнения различных течений в рамках исторического материализма. Как только единство теории и практики становится относительным, даже наука, связанная тесными узами героизма с рабочим классом, нуждается в постоянной и тщательной переоценке. В данном обзоре классическому марксизму и не приписывается совершенство, но его недостатки видятся в пробелах, которые могут быть восполнены дальнейшим развитием теории, а довершить его западные марксисты не смогли. Вероятность наличия в классическом наследии элементов, не столько недоработанных, сколько неверных, не принималась с достаточной серьезностью. Первым поколениям марксистов отчасти не хватало именно исторического знания прошлого, которое они проживали как настоящее. Такое знание позволяет провести новый научный анализ их работ и требует его проведения. Короче говоря, классический марксизм должен быть подвергнут самому глубокому осмыслению и критической оценке в не меньшей степени, чем порожденные им постклассические направления. Переосмысление классического марксизма потребует большей смелости и спокойствия, чем анализ западного марксизма, особенно если учесть то благоговение, с которым почти все серьезные социалисты относились к основоположникам исторического материализма, а также если учесть отсутствие интеллектуальной критики в их адрес, которая оставалась бы столь же решительно революционной с точки зрения своей политической позиции. Величайшее уважение вполне совместимо с абсолютной ясностью. Сегодня анализ классического марксизма требует сочетания научного знания и честного скептицизма, чего так недоставало прошлым исследованиям. В послевоенную эпоху самые блестящие и наиболее оригинальные работы в этой области обычно принимали форму искусных толкований какого-либо из канонических трудом какого-либо классика, будь то Маркс, Энгельс или Ленин, для опровержения традиционных представления о другом. Зачастую это делалось для противодействия буржуазной критике или неправильному истолкованию марксизма в целом. В настоящее время необходимо отказаться от такой практики и приступить к суровой проверке верительных грамот самого классического марксизма. Как нам представляется, основная обязанность современных социалистов заключается в том, чтобы выделить основные теоретические слабости классического марксизма, объяснить их исторические причины и устранить их. Никакая наука не застрахована от ошибок. Заявление об их отсутствии лишь дискредитировало претензии исторического материализма на научность. Если уж сравнивать Маркса с Коперником или Галилеем, то всерьез. Нашим современникам совершенно ясно, что труды, например, Галилея не свободны от существенных ошибок и противоречий. Сам статус Коперника и Галилея — пионеров современной астрономии или физики — предопределяет неизбежность ошибок, совершенных ими на заре развития новой науки. Это же априори верно и для марксизма. Мы не имеем возможности рассмотреть здесь основные проблемы, возникающие при чтении текстов классического марксизма. Однако простое формальное утверждение о необходимости их анализа без уточнения конкретных проблем было бы не более чем знаком благоговения. Таким образом, считаем в заключение необходимым выделить некоторые важнейшие вопросы, решение которых в классическом марксистском наследии представляется неудовлетворительным. Вполне естественно, что краткие комментарии к ним не претендуют на полноту охвата темы. Наши комментарии только высвечивают те проблемы, которые могут быть подробнее рассмотрены в дальнейшем. Для простоты и удобства ограничимся работами трех выдающихся представителей классического направления — Маркса, Ленина и Троцкого. Величие заслуг Маркса не нуждается в дополнительных доказательствах. Однако сам масштаб общего видения будущего в некотором смысле послужил причиной его отдельных иллюзий и близорукости в анализе современного ему настоящего. Маркс не мог бы остаться в фокусе политического и теоретического внимания вплоть до конца XX в., если бы он не перешагнул рубежа XIX в., в котором жил. Ошибками и упущениями он, можно сказать, закономерно заплатил за свое предвидение. Только совокупное научное знание об истории капитализма, которым мы располагаем в настоящее время (и намного превышающее, что имелось в его распоряжении), позволит историческому материализму сегодняшнего дня преодолеть их. Так, можно обозначить три круга проблем, в которых теория Маркса представляется наиболее уязвимой с точки зрения современного видения перспективы. Во-первых, речь идет о его отношении к капиталистическому государству. В своих ранних работах Маркс, по существу, предпринял попытку теоретического исследования (пусть на весьма абстрактном философском уровне) структуры буржуазной демократии. Затем, в 1848—1850 гг., он провел единственное конкретное историческое исследование своеобразного диктаторского государства, созданного Наполеоном III во Франции. В дальнейшем он никогда, например, не анализировал вплотную английское парламентское государство, в условиях которого он прожил до конца своих дней. Обобщая, Маркс употреблял оскорбительный ярлык «бонапартизма» в применении к современному буржуазному государству вообще, считая бонапартизм типичной его формой и руководствуясь воспоминаниями о его политической роли в контрреволюции 1848 г. Впоследствии он был не в состоянии дать анализ Третьей республике во Франции, возникшей после поражения в 1870 г. Наконец, в силу его сосредоточенности на «милитаристском» бонапартизме Маркс, наоборот, недооценивал репрессивный характер «пацифистских» государств — Англии, Дании и Соединенных Штатов: временами у него проскальзывала мысль, что именно в этих государствах к социализму можно прийти мирным, парламентским путем. В результате Марксу не удалось представить сравнительный анализ или создать стройное учение о политических структурах классовой власти буржуазии. Существует и заметная несогласованность между ранними политико-философскими трудами Маркса и его более поздними экономическими работами. Во-вторых, в одном ряду с этой неудачей Маркса стоит непонимание им многих особенностей более позднего периода XIX в. Хотя Маркс был единственным теоретиком своего времени, разобравшимся в экономической динамике капиталистического способа производства после 1850 г., которому впоследствии будет суждено изменить лицо мира, он, как нам представляется, не уловил огромные сопутствующие сдвиги в международной государственной системе. Поражение 1848 г. привело к возникновению у Маркса ошибочного представления о невозможности в будущем буржуазных революций из-за повсеместного страха капитала перед рабочим классом (отсюда предательства во Франции и Германии в том же году). На самом же деле весь оставшийся период жизни Маркса совпал с триумфальным шествием буржуазных революций в Германии, Италии, США, Японии и других странах. Все эти революции проходили под знаменем национализма, а не демократии. Маркс предполагал, что капитализм со временем может ослабить и устранить национальные различия в новой общности, фактически же развитие капитализма вызвало и усилило национализм. Неспособность Маркса осознать это вылилась в серьезные политические ошибки 1850-х и 1860-х годов, когда все крупнейшие драматические события европейской политики были переплетены с национальными движениями. Отсюда его неприязнь к Рисорджименто в Италии, игнорирование им бисмаркизма в Германии, превознесение политики Линкольна в США и одобрение им оттоманизма на Балканах (последнее определялось другим его «анахроническим» предметом внимания 1848 г. — его страхом перед Россией). Таким образом, следующим поколениям социалистов были оставлены теоретические пустоты в исследовании сущности наций и национализма. И, в-третьих, экономические идеи «Капитала», величайшего произведения Маркса, небезупречны. Прежде всего, в этом отношении заслуживает внимания марксова теория стоимости. Помимо трудностей, вытекающих из игнорирования им понятия «нехватки» как детерминирующего фактора (сравн. Рикардо), имеются проблемы с исчислением самих затрат труда (сравн. Сраффа) и прежде всего с превращением последних в цены как квантифицируемого средства (что идет вразрез с принятыми критериями научности и условным сравнением открытия прибавочной стоимости с открытием кислорода). Другим условным моментом всей теории стоимости следует считать различие между производительным и непроизводительным трудом, важное для его теории, но так никогда и не обоснованное ни теоретически, ни эмпирически ни им самим, ни его последователями. Наиболее сомнительными положениями «Капитала» были общий постулат о тенденции нормы прибыли к снижению и постулат о постоянно увеличивающейся классовой поляризации между буржуазией и пролетариатом. До сих пор ни одно из этих положений также не получило адекватного подтверждения. Первое подразумевало экономический крах капитализма в результате действия собственных внутренних механизмов; второе — социальный крах, если не из-за обнищания пролетариата, то вследствие конечного абсолютного численного превосходства громадной армии промышленного рабочего класса (производительных рабочих) над крохотной кучкой буржуазии. Наличие каких-либо промежуточных слоев Маркс практически не предусматривал. Само отсутствие какой-либо политической теории у зрелого Маркса можно, таким образом, логически связать со скрытой темой краха капитализма в его экономической теории, что делало излишним развитие первой. При анализе наследия Ленина выступают проблемы несколько другого характера, так как, в отличие от Маркса и Энгельса, Ленин был не только автором новой теории, но и творцом политической практики, благодаря которой произошла социалистическая революция и было создано пролетарское государство. Отношения между его теорией и практикой, таким образом, не менее важны, чем отношения между самими его теоретическими положениями. Основные проблемы, которые практика ставила перед Лениным, касались в основном пролетарской демократии (в партии и государстве) и буржуазной демократии (на Западе и на Востоке). 1. Первоначально теория Ленина об ультрацентрализованной неоякобинской партии, содержащаяся в работе «Что делать?», учитывала различия между условиями подполья в царской России и легальности в конституционной Германии. В эту теорию были внесены некоторые поправки в связи с массовыми выступлениями во время революции 1905—1906 гг. Вместе с тем Ленин ее официально не пересматривал и не изменял. В 1917 г. возникновение Советов навело Ленина на мысль, что Советы рабочих являются необходимой революционной формой пролетарской власти в отличие от универсальных форм капиталистического правления в Европе. Именно в это время он создал произведение, в котором развил политическую теорию Маркса,— «Государство и революция». Ленин, однако, не увязывал свою доктрину партии со своим видением Советов ни в России, ни где бы то ни было еще. Его работы о партии практически не содержат упоминания о Советах и наоборот. В результате был допущен резкий поворот от радикального Совета демократизма, каким он виделся в книге «Государство и революция», к радикальному партийному авторитаризму реального Российского государства в начале гражданской войны. Речи Ленина уже после войны отражают упадок института Советов, что, впрочем, не вызывало у него серьезного беспокойства или сожаления. Он считал, что для оживления пролетарской демократии перед лицом роста шовинистического бюрократизма в СССР достаточно произвести ограниченные внутрипартийные изменения, но не внутри самого класса или страны в целом! В своем политическом завещании он не упоминал о Советах. Теоретическую несостоятельность в этом вопросе можно отнести на счет практических ошибок Ленина и большевиков во время и после гражданской войны. Эти ошибки заключаются в проведении и оправдании политических репрессий против оппозиции, которые, по мнению марксистских историков, со всей честностью анализировавших ситуацию в России, были большей частью излишними и реакционными. 2. Ленин начал свою карьеру с признания фундаментального исторического различия между Западной и Восточной Европой в книге «Что делать?». Время от времени он возвращался к этой теме (особенно в книге «Детская болезнь “левизны” в коммунизме»). Вместе с тем эта тема не была для него объектом марксистского политического анализа. Знаменательно, что, возможно, самый значительный его труд «Государство и революция» о буржуазном государстве носит слишком общий характер. Действительно, Российское государство, которое было только что уничтожено Февральской революцией, разительно отличалось от Германии, Франции, Англии, США и других государств, к которым относились высказывания Маркса, положенные Лениным в основу своей работы. Не сумев провести четкую линию между феодальной автократией и буржуазной демократией, Ленин невольно породил замешательство среди более поздних марксистов, что в итоге не позволило им создать стройную революционную стратегию на Западе. Создать ее можно было только на основе четкой и систематизированной теории представительного буржуазно-демократического государства развитых капиталистических стран и теории характерного для него сочетания механизма согласия и аппарата подавления, что было чуждо царской России. Вследствие этих теоретических заблуждений III Интернационалу, созданному и руководимому Лениным, не удалось утвердиться в крупнейших центрах современного империализма 20-х годов — в Британии и США. Эти страны нуждались в совершенно иного типа партии и совершенно иного типа стратегии, а их так никто и не предложил. Экономические выкладки Ленина в книге «Империализм как высшая стадия капитализма» (1916 г.) были серьезным достижением для своего времени. Однако она оставалась в достаточной степени описательной и, более того, предсказывала неспособность современного капитализма оправиться от всех поразивших его потрясений. Это положение нашло свое официальное отражение в многочисленных документах Коминтерна. Таким образом, снова молчаливое допущение экономического краха капитализма как бы освободило социалистических активистов от тяжелой задачи разработать политическую теорию государственных структур, которыми им приходилось довольствоваться на Западе. До сих пор отсутствует серьезный анализ деятельности Троцкого как политика и теоретика. Книга Дойчера о Троцком, несмотря на свою содержательность,— это популярная биография революционера и не может рассматриваться как серьезное исследование его теорий и идей. Возможно, достоинства книги Дойчера затмили необходимость такого исследования. Идеи Троцкого, оставаясь более актуальными применительно даже к политической полемике современности, чем идеи других теоретиков классического марксизма, заслуживают спокойного и непредвзятого анализа, которого до сих пор, к сожалению, сделано не было. Давайте остановимся на некоторых моментах теоретических разработок Троцкого. 1. Понятие «перманентная революция» было выдвинуто Троцким для объяснения и предсказания хода Русской революции. Это понятие доказало свою состоятельность. В России не было буржуазной революции; не было промежуточной стабилизации капитализма; восстание рабочего класса создало пролетарское государство всего по прошествии нескольких месяцев с момента свержения царизма; и это государство не смогло построить социализм в одной отдельно взятой стране. Однако после 1924 г. Троцкий обобщил свою схему Русской революции и распространил ее на весь колониальный и эксколониальный мир, декларировав невозможность успешных буржуазных революций в отсталых странах. Одновременно он утверждал, что пролетарской революции не может предшествовать фаза стабилизации капитализма. Обретение национальной независимости и решение аграрного вопроса были именно этими двумя достижениями колониальной буржуазии, которые считались невозможными. Послевоенные события в мире отличались еще большей сложностью. Характерно, что пример алжирской революции противоречил первому утверждению, а случай боливийской революции шел вразрез со вторым постулатом. Далее, очень редко упоминают невозможность установления представительной (парламентской) демократии, но многолетний опыт Индийого Союза красноречиво говорит об обратном. Могут, конечно, сказать, защищая позицию Троцкого, что ни одна бывшая колониальная страна не отвечала трем перечисленным условиям в их совокупности. Иными словами, принимая во внимание роль империализма, наличие ростовщичества и коррупции, ни одной такой стране не удалось добиться подлинной независимости, решить аграрную проблему и установить демократию. Однако любая неправомерная привязка этих условий к буржуазным революциям этого типа либо превращает саму теорию перманентной революции в тавталогию (только социализм, по определению, может полностью вырвать страну из мирового рынка и решить все проблемы крестьянства), либо требует предъявления доказательств ее реальности, чего никто не сможет сделать в отношении развитых капиталистических стран (где на развитие буржуазной демократии потребовались целые столетия при частых отступлениях и возвращении назад, как, например, в современной Индии). Таким образом, теория перманентной революции не получила научного подтверждения как общая теория. Слабости теории перманентной революции кроются в слишком буквальном следовании положениям Маркса, высказанным им в 1850 г. Такого рода каноническое следование Марксу не может служить гарантией научной состоятельности. 2. Работы Троцкого о фашизме являются, по сути дела, единственным непосредственным и развернутым анализом современного капиталистического государства в классическом марксизме. Отличающиеся в лучшую сторону от всего того, что можно встретить по данному вопросу у Ленина, эти работы, тем не менее, касаются, как мы уже знаем, нетипичной формы современного буржуазного государства, сколь бы актуальными они ни были в свое время. Анализируя особенности фашистского государства как злейшего врага рабочего класса, Троцкий, конечно, был вынужден создать своего рода контртеорию буржуазно-демократического государства, чтобы подчеркнуть разницу между этими двумя формами государства. Так или иначе, но у Троцкого мы можем обнаружить более широкое исследование буржуазной демократии, чем у кого бы то ни было из его предшественников. Однако Троцкому не удалось разработать систематизированную теорию по этому вопросу. Отсутствие такой теории, по всей видимости, сказалось решающим образом на его политических суждениях, относящихся к периоду восхождения нацизма. В частности, в то время как в своих очерках о Германии он подчеркивал настоятельную необходимость для рабочего класса заручиться поддержкой мелкой буржуазии (приводя пример блока против Корнилова в России), в очерках о французском Народном фронте он отвергал традиционную организацию местной мелкой буржуазии — радикальную партию как партию «демократического империализма», которую в принципе следовало исключить из какого-то ни было антифашистского союза. Аналогичные мысли проскальзывают у Троцкого в его статьях о гражданской войне в Испании, хотя и с некоторыми оговорками. Тогда, в самом начале второй мировой войны, Троцкий осуждал этот международный конфликт (видя в нем простую репетицию межимпериалистических противоречий, послуживших причиной первой мировой войны), в котором рабочий класс не должен принимать ни одну из сторон, несмотря на фашистский характер одной и буржуазно-демократический характер другой. Такая позиция оправдывалась утверждением, что поскольку весь империалистический мир в любом случае скатывался в 30-х годах к экономической катастрофе, то различия между этими двумя формами капиталистического государства перестали иметь какое-либо практическое значение для рабочего класса. Ошибочность этого теоретического посыла очевидна. Ранние работы Троцкого о Германии опровергали его более поздние высказывания о войне. Троцкий, конечно, вынужден был бы изменить свои взгляды на вторую мировую войну, если бы он мог быть свидетелем нападения Германии на СССР. Тем не менее тот же постулат об экономическом крахе капитализма в значительной степени послужил причиной теоретических ошибок Троцкого в поздний период его жизни, и на него же уповал III Интернационал с момента его основания Лениным, руководствуясь авторитетом теоретического наследия Маркса. 3. Троцкий был первым марксистом, выдвинувшим теорию бюрократизации государства рабочих. Его анализ положения дел в СССР в 30-х годах остается подлинно научным достижением. Однако все особенности и парадоксы понятия «государство рабочих», которое систематически подавляло и эксплуатировало рабочий класс, фактически оставались за пределами внимания Троцкого. В частности, теория Троцкого, в том виде, в котором она дошла до нас, не предусматривала и не объясняла возникновения новых государств этого типа, кроме России, в странах, где не было ни сопоставимого по численности промышленного пролетариата (Китай), ни сопоставимых революций снизу (Восточная Европа), но где, тем не менее, была создана аналогичная историческая система, правда, без предварительных тяжелых жертв. Полемика, развернувшаяся несколько позднее относительно понятия «сталинизм», отразила эти сложности. Следующим важным моментом, которого коснулся Троцкий в своей теории о сущности бюрократизированного государства рабочих, является тезис о неизбежности насильственной политической революции для восстановления пролетарской демократии там, где она была устранена кастой должностных лиц-узурпаторов. Перспективы подобной ситуации виделись в развитии событий в СССР, опровергавших надежды теоретиков, подобных Дойчеру, веривших в возможность постепенных и мирных реформ бюрократического правления сверху. Это положение Троцкого подразумевало в качестве предпосылки существование изначально пролетарской демократии, которая была уничтожена и которая могла бы быть восстановлена посредством прямого политического переворота. В Китае, Вьетнаме и на Кубе, однако, понятие «политическая революция» было в историческом плане явно менее убедительным ввиду отсутствия в этих странах с самого начала Советов, которые нужно было бы восстанавливать. Другими словами, применительно к этим странам как бы был поставлен вопрос о «датировании» периода, когда политическая революция могла бы стать своевременной и неутопичной целью. У Троцкого мы не можем найти достаточно четких рекомендаций на этот счет относительно России. Точно так же мы вряд ли можем вспомнить о каких-либо современных дискуссиях, в которых бы затрагивались аналогичные вопросы применительно к Китаю или Кубе. Таким образом, есть все основания утверждать, что наиболее важные проблемы, связанные с понятиями «государство рабочих» или «политическая революция», остались неразрешенными. *** Мы рассмотрели некоторые из канонических проблем, возникающих при изучении классического наследия исторического материализма. Перечисление этих проблем ни в коем случае не умаляет достижений величайших представителей этого направления, которые по-прежнему заслуживают самого глубокого уважения. Было бы нелепо предполагать, что Маркс, Ленин или Троцкий смогли бы решить все проблемы своего времени, не говоря уже о тех, которые возникли после них. То, что Маркс не смог разгадать загадку национализма, Ленин не смог проследить динамику буржуазной демократии, а Троцкому представлялось невозможным осуществление революций при отсутствии Советов, отнюдь не удивительно и, конечно же, не подлежит осуждению. Заслуги этих мыслителей настолько огромны, что не могут быть подорваны никаким упоминанием их упущений или ошибок. Поскольку в своих исследованиях представители классического марксизма делали упор на экономику и политику, в отличие от философской ориентации западного марксизма, те же проблемы постоянно встают вновь как общие универсальные проблемы перед социалистическим движением современного мира. Итак, мы с вами получили некоторое представление о всей сложности, многообразности и актуальности этих проблем. Какова сущность буржуазной демократии? Каковы функции и будущее нациигосударства? Каков действительный характер империализма как системы? Каков исторический смысл государства рабочих без демократии для рабочих? Как может быть совершена революция в развитых капиталистических странах? Как превратить интернационализм из благородного идеала в практическую действительность? Каким образом бывшие колониальные страны могут избежать судьбы предшествующих революций (в сходных условиях)? Каким образом можно устранить установившуюся систему бюрократических привилегий и притеснений? Какой должна быть структура подлинно социалистической демократии? Таковы вкратце наиболее важные неразрешенные проблемы, остро стоящие в повестке дня марксистской теории. 1. Это не воображаемая доктрина. В одной недавно выпущенной книге говорится: «Марксизм как теоретическая и политическая практика ничего не выигрывает от своей связи с историческим исследованием. С политической и научной точки зрения изучение истории представляется бесполезным. Предмет истории прошлое, независимо от того, как его понимают, — не может влиять на условия настоящего. Исторические события не существуют и не могут оказывать материального воздействия на настоящее. Условия существования настоящих общественных отношений с необходимостью существуют в настоящем и постоянно воспроизводятся в нем, а не “настоящее”, которым прошлое соизволило нас удостоить. Объектом исследования марксистской теории и объектом воздействия для марксистской политической практики является “текущая ситуация”. Вся марксистская теория, какой бы абстрактной она ни была, какой бы всеобщей ни была область ее приложения, существует, чтобы сделать возможным анализ текущей ситуации... Исторический анализ “текущей ситуации” невозможен». См.Hindness B., Hirst Р. PreCapitalist Modes of Production. — L., 1975. Авторы этого заявления, отдаленные преемники Альтюссера, достаточно точно указали на несуразные последствия логики, исходные посылки которой могли показаться случайными и противоречивыми в традиционной марксистской трактовке единства теории и практики в историческом материализме.