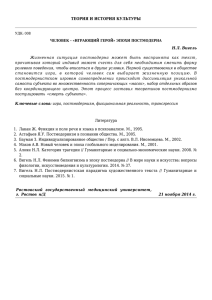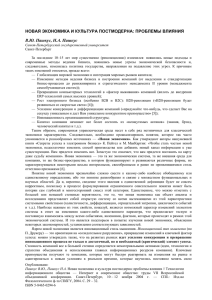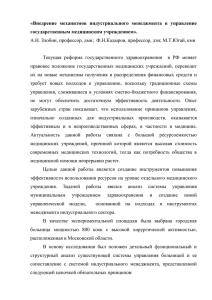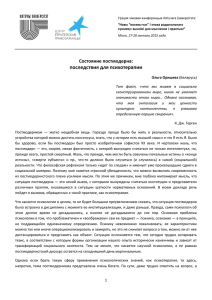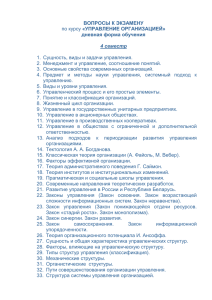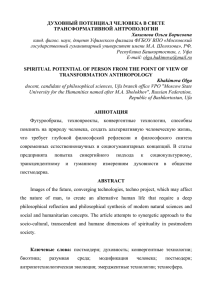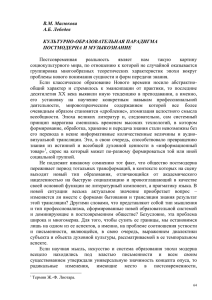Inglhart Postmodern-menyayushchiesya-cennosti-i-izmenyayushchiesya-obshchestva RuLit Me 745017
реклама
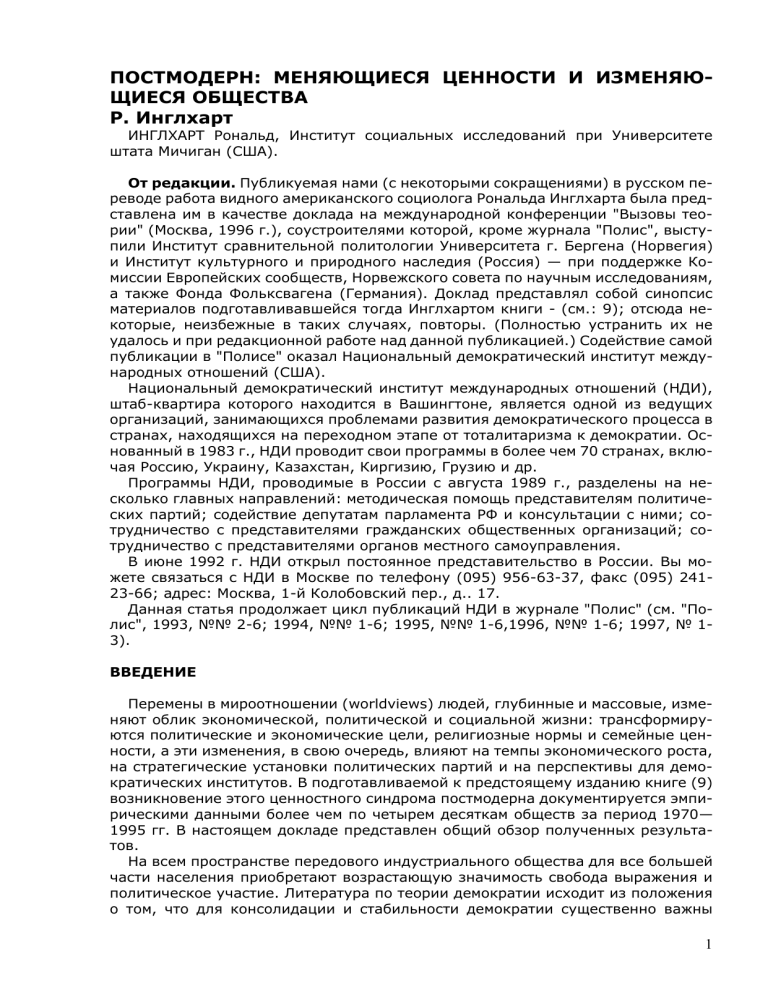
ПОСТМОДЕРН: МЕНЯЮЩИЕСЯ ЦЕННОСТИ И ИЗМЕНЯЮЩИЕСЯ ОБЩЕСТВА Р. Инглхарт ИНГЛХАРТ Рональд, Институт социальных исследований при Университете штата Мичиган (США). От редакции. Публикуемая нами (с некоторыми сокращениями) в русском переводе работа видного американского социолога Рональда Инглхарта была представлена им в качестве доклада на международной конференции "Вызовы теории" (Москва, 1996 г.), соустроителями которой, кроме журнала "Полис", выступили Институт сравнительной политологии Университета г. Бергена (Норвегия) и Институт культурного и природного наследия (Россия) — при поддержке Комиссии Европейских сообществ, Норвежского совета по научным исследованиям, а также Фонда Фольксвагена (Германия). Доклад представлял собой синопсис материалов подготавливавшейся тогда Инглхартом книги - (см.: 9); отсюда некоторые, неизбежные в таких случаях, повторы. (Полностью устранить их не удалось и при редакционной работе над данной публикацией.) Содействие самой публикации в "Полисе" оказал Национальный демократический институт международных отношений (США). Национальный демократический институт международных отношений (НДИ), штаб-квартира которого находится в Вашингтоне, является одной из ведущих организаций, занимающихся проблемами развития демократического процесса в странах, находящихся на переходном этапе от тоталитаризма к демократии. Основанный в 1983 г., НДИ проводит свои программы в более чем 70 странах, включая Россию, Украину, Казахстан, Киргизию, Грузию и др. Программы НДИ, проводимые в России с августа 1989 г., разделены на несколько главных направлений: методическая помощь представителям политических партий; содействие депутатам парламента РФ и консультации с ними; сотрудничество с представителями гражданских общественных организаций; сотрудничество с представителями органов местного самоуправления. В июне 1992 г. НДИ открыл постоянное представительство в России. Вы можете связаться с НДИ в Москве по телефону (095) 956-63-37, факс (095) 24123-66; адрес: Москва, 1-й Колобовский пер., д.. 17. Данная статья продолжает цикл публикаций НДИ в журнале "Полис" (см. "Полис", 1993, №№ 2-6; 1994, №№ 1-6; 1995, №№ 1-6,1996, №№ 1-6; 1997, № 13). ВВЕДЕНИЕ Перемены в мироотношении (worldviews) людей, глубинные и массовые, изменяют облик экономической, политической и социальной жизни: трансформируются политические и экономические цели, религиозные нормы и семейные ценности, а эти изменения, в свою очередь, влияют на темпы экономического роста, на стратегические установки политических партий и на перспективы для демократических институтов. В подготавливаемой к предстоящему изданию книге (9) возникновение этого ценностного синдрома постмодерна документируется эмпирическими данными более чем по четырем десяткам обществ за период 1970— 1995 гг. В настоящем докладе представлен общий обзор полученных результатов. На всем пространстве передового индустриального общества для все большей части населения приобретают возрастающую значимость свобода выражения и политическое участие. Литература по теории демократии исходит из положения о том, что для консолидации и стабильности демократии существенно важны 1 массовое участие, межличностное доверие, терпимость к группам меньшинства и свободное слово. Но анализировать зависимости между такого рода позициями на индивидуальном уровне и устойчивым существованием демократических институтов на уровне социетальном до недавнего времени не представлялось возможным: исследования по политической культуре ограничивались лишь демократическими обществами, характеризуясь притом малочисленностью наблюдаемых субъектов и недостаточностью или отсутствием данных, выстраиваемых во временные ряды. Для достоверного межуровневого анализа, между тем, требуются данные по значительному числу обществ, варьирующих по всему экономическому и политическому спектру; в уже упоминавшейся книге в качестве источника как раз и используется уникальная база данных — "Всемирные обзоры ценностей", — открывающая новые возможности для анализа того, каким образом влияет на мир мироотношение людей. Эти обзоры охватывают небывало широкий диапазон переменных для анализа массового воздействия людей в различных странах на политическую и социальную жизнь. В них имеются данные по 43 обществам, представляющим 70% населения земли и варьирующим от обществ с годовым доходом на душу населения всего лишь в 300 дол. до обществ с душевым доходом в сто раз более высоким и от давно утвердившихся демократий с рыночной экономикой до авторитарных и бывших социалистических государств. Для обзора за 1990 г. сбор данных проводился в следующих странах и их регионах: Аргентина, Австрия, Беларусь, Бельгия, Бразилия, Болгария, Канада, Чили, Китай, Чехословакия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия (с отдельными выборками по Восточной и Западной), Великобритания, Венгрия, Исландия, Индия, Ирландия, Северная Ирландия, Италия, Япония, Южная Корея, Латвия, Литва, Мексика, Большая Москва, Нидерланды, Нигерия, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словения, ЮАР, Испания, Швеция, Швейцария, Турция и Соединенные Штаты. Обзоры за 1981 г. дают временной ряд данных по двадцати двум из этих обществ, позволяя нам анализировать изменения в ценностях и позициях, происшедшие с 1981 по 1990 г. Мы привлекаем также данные из обзоров Евробарометра, подготавливаемых ежегодно во всех странах — членах Европейского союза с 1970 г. по 90-е годы; это позволяет анализировать изменения, используя еще более длинный и подробный временной ряд. Измерениями в рамках "Всемирного обзора ценностей" охватываются массовые позиции в достаточно большом числе стран, благодаря чему и становится возможным статистически значимый анализ межуровневых зависимостей, в частности между политической культурой и демократическими институтами. Мы обнаруживаем поразительно сильные зависимости между макроуровневыми характеристиками — такими, как стабильная демократия, и микроуровневыми — такими, как наличие между индивидами доверия, терпимости, как значимость для них постматериальных ценностей и субъективное благополучие. Сильные межуровневые зависимости обнаруживаются и между многими другими существенными переменными социетального уровня (от количества разводов до возникновения движений защитников окружающей среды), с одной стороны, и глубинными ценностями и позициями — с другой. Можно изменения в культуре рассматривать как порождаемые социетальными изменениями, а можно в них самих усматривать фактор последних; можно, наконец, считать эти влияния взаимными; но, как бы то ни было, вышеупомянутые данные ясно говорят о том, что системы убеждений на массовом уровне и глобальные перемены тесно связаны. В рамках "Всемирных обзоров ценностей" исследуется гипотеза о том, что системы убеждений на массовом уровне изменяются таким образом, что характер этих изменений имеет значительные экономические, политические и социальные последствия. Мы не занимаем позицию ни экономического, ни культурного детерминизма: наши наблюдения и выводы сводятся к тому, что связь между 2 ценностями, экономикой и политикой является взаимной, а какова в точности природа зависимостей в конкретных случаях, — вопрос эмпирический, а не из разряда решаемых a priori. На замысел этих обзоров повлияли различные теории, включая теорию межгенерационного изменения ценностей (см.: 6; 7; 8). В них исследуется гипотеза о том, что после второй мировой войны в большинстве индустриальных стран в результате быстрого экономического роста, а также усиленного развития государства благосостояния опыт личностного формирования в когортах более поздних годов рождения — в силу его фундаментальных отличий — приводил к выработке иных приоритетов ценностей по сравнению с когортами более ранних годов рождения. На протяжении истории большинство людей было серьезнейшим образом озабочено угрозой суровых экономических лишений, а то и голода. Однако исторически беспрецедентная степень экономической безопасности, какую узнало послевоенное поколение в индустриальных обществах, вела к постепенному сдвигу приоритета от "материалистических" ценностей (когда упор делается прежде всего на экономической и физической безопасности) к ценностям "постматериальным" (когда на первый план выдвигаются самовыражение и качество жизни). Сбор данных о межгенерационных ценностных изменениях на межстрановой основе начался в 1970 г.; к настоящему моменту выстроен длинный временной ряд, с помощью которого можно проверить эти гипотезы. Теория межгенерационных ценностных изменений явилась предметом споров: за последние 20 лет в США и за рубежом опубликованы десятки работ с критикой различных ее аспектов. Многие из исследований ценностных изменений предпринимались с целью попытаться опровергнуть тезис о сдвиге к постматериальным ценностям либо предложить его альтернативные объяснения. Концептуализация, применявшаяся в этой дискуссии, отчасти устарела: данные из "Всемирных обзоров ценностей" показывают, что сдвиг в направлении от материалистических к постматериальным ценностям представляет собой лишь одну компоненту гораздо более широкого культурного сдвига, охватывающего около четырех десятков переменных из числа включенных в обзоры. Эти переменные подключают к картине сдвига целый набор разнообразных ориентаций, от религиозных воззрений до сексуальных норм; но все они обнаруживают крупные генерационные различия, выраженно коррелируют с постматериальными ценностями и в большинстве обществ с 1981 по 1990 г. смещались в направлении, поддававшемся предвычислению. Эта широко распространяющаяся перестройка мироотношения и обозначается нами как "постмодернизация". В ней сдвиг от материалистических к постматериальным ценностям представляет собой наилучшим образом документированную, но не обязательно самую значительную компоненту всей более широкой культурной перемены: еще сильнее изменились гендерные роли, а также, например, отношение к геям и лесбиянкам. Итак, собранные к настоящему времени данные указывают на широко распространяющиеся изменения в базовых ценностях населения индустриальных и индустриализирующихся обществ во всем мире. Изменения эти обнаруживают связь с процессами смены поколений и, таким образом, происходят постепенно, но обладают немалым долговременным импульсом. Мы считаем, что экономическое развитие, культурные, а также политические изменения идут рука об руку, образуя целостные и даже до некоторой степени предсказуемые паттерны*. Утверждение это вызывает споры. Оно подразумевает, что одни траектории социально-экономического развития более вероятны, чем другие, и, следовательно, определенные изменения предвидимы. Если, например, то или иное общество вступило на путь индустриализации, то должен последовать целый синдром связанных с этим изменений, от массовой Под "паттерном" здесь понимается самовоспроизводящаяся объективная структурная схема, обеспечивающая распознаваемую устойчивость явления во многих его вариантах. — Ред. * 3 мобилизации до уменьшения различий в гендерных ролях. Это, разумеется, есть центральное утверждение теории модернизации; оно было выдвинуто Марксом и дебатировалось в течение более чем столетия. Несмотря на то, что каждая его упрощенческая версия рассыпалась, мы все же поддерживаем ту идею, что некоторые сценарии социальных перемен намного вероятнее, чем другие, и намерены представить изрядное количество эмпирических данных, говорящих в пользу такой пропозиции. "Всемирные обзоры ценностей" раскрывают целостные культурные паттерны, тесно связанные с экономическим развитием. В то же время нам представляется очевидным, что модернизация не линейна. В передовых индустриальных обществах превалирующее направление развития в последнюю четверть века изменилось, и перемены в происходящем настолько фундаментальны, что уместно охарактеризовать их скорее как "постмодернизацию", а не " модернизацию". Модернизация есть прежде всего процесс, в ходе которого увеличиваются экономические и политические возможности данного общества: экономические — посредством индустриализации, политические — посредством бюрократизации. Модернизация обладает большой привлекательностью благодаря тому, что она позволяет обществу двигаться от состояния бедности к состоянию богатства. Соответственно, ядром процесса модернизации является индустриализация; экономический рост становится доминирующей социетальной целью, а доминирующую цель на индивидуальном уровне начинает определять достижительная мотивация. Переход от доиндустриального общества к индустриальному характеризуется "всепроникающей рационализацией всех сфер общества" (по Веберу), приводя к сдвигу от традиционных, обычно религиозных, ценностей к рационально-правовым ценностям в экономической, политической и социальной жизни. Но модернизация — не финальный этап истории. Становление передового индустриального общества ведет еще к одному совершенно особому сдвигу в базовых ценностях — когда уменьшается значение характерной для индустриального общества инструментальной рациональности. Преобладающими становятся ценности постмодерна, неся с собой ряд разнообразных социетальных перемен, от равноправия женщин до демократических политических институтов и упадка государственно-социалистических режимов. ПОЧЕМУ ПРОИСХОДИТ СДВИГ К ПОСТМОДЕРНУ? Сдвиг к ценностям постмодерна — не первый в истории случай крупного культурного сдвига. Так, переход от аграрного общества к индустриальному был облегчен сдвигом, означавшим отход от мироотношения, формируемого неподвижно-устойчивой экономикой. Такое мироотношение характеризовалось неприятием социальной мобильности, и упор в нем делался на традиции, наследуемом статусе и обязательствах перед общиной, подкрепляемых абсолютными религиозными нормами; его сменило мироотношение, поощрявшее экономические достижения, индивидуализм и инновации, — при социальных нормах, все более становившихся светскими. Некоторые из этих тенденций, связанных с переходом от "традиционного" общества к "современному", в настоящее время достигли своих пределов в передовом индустриальном обществе, где перемены принимают новое направление. Эта смена направления перемен отражает действие принципа убывающего приращения пользы. Индустриализация и модернизация требовали слома культурных препятствий, сдерживающих накопление, имеющихся в любой неподвижно-устойчивой экономике. В западноевропейской истории эта задача была успешно выполнена благодаря становлению протестантской этики, которая (хоть 4 она и имела длительную интеллектуальную историю) с функциональной точки зрения выглядела мутацией, осуществленной наудачу. Если бы ее становление произошло двумя столетиями раньше, она могла бы отмереть. В среде же своего времени она нашла для себя нишу: технологическое развитие делало возможным быстрый экономический рост, и кальвинистское мироотношение прекрасно дополняло это развитие, образуя культурно-экономический синдром, который вел к становлению капитализма и, со временем, к промышленной революции. После того, как это произошло, экономическое накопление (для индивидов) и экономический рост (для обществ) становились высшими приоритетами для все большей части населения земли и до сих пор составляют главнейшие цели для значительной части человечества. Но постепенно убывание отдачи от экономического роста ведет к постмодернистскому сдвигу, который в некоторых отношениях знаменует упадок протестантской этики. Передовые индустриальные общества в настоящее время изменяют свои социально-политические траектории в двух кардинальных отношениях: 1. Системы ценностей. Все больший упор на индустриальных экономических достижениях явился одной из центральных перемен, сделавших возможной модернизацию. Этот сдвиг к материальным приоритетам повлек за собой уменьшение значения обязательств перед общиной и приятие социальной мобильности: социальный статус становился скорее чем-то достигаемым, нежели чем-то данным индивиду от рождения. Экономический рост стал приравниваться к прогрессу, и в нем стали видеть признак преуспевающего общества. Место экономических достижений как высшего приоритета в настоящее время в обществе постмодерна занимает все большее акцентирование качества жизни. В значительной части мира нормы индустриального общества, с их нацеленностью на дисциплину, самоотвержение и достижения, уступают место все более широкой свободе индивидуального выбора жизненных стилей и индивидуального самовыражения. Сдвиг от "материалистических" ценностей, с упором на экономической и физической безопасности, к ценностям "постматериальным", с упором на проблемах индивидуального самовыражения и качества жизни, — наиболее полно документированный аспект данной перемены; но он составляет, как уже говорилось, лишь одну компоненту гораздо более широкого синдрома культурных перемен. 2. Институциональная структура. Мы приближаемся также к пределам развития иерархических бюрократических организаций, способствовавших созданию современного общества. Бюрократическое государство, дисциплинированная олигархическая политическая партия, сборочная линия массового производства, профсоюз старого образца и иерархическая корпорация сыграли неимоверно важную роль в мобилизации и организации энергии масс людей; они сделали возможными промышленную революцию и современное государство. Но они подошли к поворотному пункту — по двум причинам: во-первых, они приближаются к пределам своей функциональной эффективности; а во-вторых — к пределам их массового приятия. Рассмотрим оба фактора. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДЕЛЫ РАСШИРЕНИЯ БЮРОКРАТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА На примере возвышения и падения Советского Союза можно наглядно видеть пределы централизованного, иерархического государства. В первые десятилетия своего существования СССР был поразительно эффективен в мобилизации масс относительно неквалифицированных работников и огромных количеств сырья на строительство крупнейших в мире: сталелитейного предприятия, гидроэлектростанции, а также на достижение самых высоких в мире темпов экономического роста. Несмотря на то, что Сталин заставил голодать и уничтожил миллионы 5 советских граждан, экономические и военные успехи Советского государства были настолько впечатляющими, что убеждали множество людей во всем мире в том, что данный тип общества знаменует собой неудержимо наступающее будущее. Экономический рост в Советской стране был поразительным в 50-е, был попрежнему впечатляющим в 60-е, снизился до минимума в 70-е и остановился в 80-е годы. Отчасти это произошло потому, что гипертрофированная бюрократия парализовала адаптационные и инновационные процессы. Бюрократии свойственно глушить новое, и эта проблема приобрела остроту, как только Советский Союз прошел стадию простого импортирования уже апробированной технологии с Запада и стал пытаться внедрять новшества, соревнуясь с Западом и с Японией. Но проблема состояла не только в том, что централизованное экономическое планирование не совладало с возрастающей сложностью общества и его быстрым изменением. В ней отразился также срыв в сфере мотивации и морального духа. Абсентеизм вырос до массовых масштабов, в громадную проблему превратился алкоголизм, и выветривалось доверие к руководству, пока в конце концов не рухнула вся экономическая и политическая система. Хотя советский пример — самый ошеломительный, подобные проявления убывающей эффективности иерархических, централизованных бюрократических институтов можно видеть на всем пространстве индустриального общества. Хозяйственные системы с государственным управлением уступают место рыночным силам; политические партии и профсоюзы старого образца находятся в упадке; а бюрократические корпорации отступают перед более свободно устроенными и партиципаторными по типу организациями. Эти организационные и мотивационные изменения тесно связаны между собой. Одна причина упадка классических бюрократических институтов индустриального общества состоит в том, что они по своей внутренней сути менее эффективны в обществах высоких технологий с высокоспециализированной рабочей силой, чем на первых стадиях индустриального общества. Но другая причина — в том, что они стали также менее приемлемы для людей в обществе постмодерна с их изменившимися ценностями. Массовое производство на линии поточной сборки разбило процесс производства на простые стандартизированные привычные и бесконечно повторяемые действия. Это давало превосходный эффект при массовой выработке относительно простых, стандартизированных изделий. Но платой за возросшую в итоге производительность явилось то, что рабочие становились винтиками в громадных, координируемых из одного центра машинах. Маркс, Вебер и др. были озабочены отчуждением и обезличиванием индустриального общества, которые делали труд работника неинтересным, дегуманизирующим, лишенным смысла. В обществах, где жилось скудно, люди были готовы принять эти издержки ради экономических достижений. В обществах изобилия они на это не столь готовы. Современная бюрократия совершает подобную же сделку, в которой ценой утраты индивидуальной идентичности и автономии достигается более высокая продуктивность; это позволяет ей посредством стандартизированных рутинных процедур обрабатывать тысячи или миллионы людей. Она также, в силу своей природы, обезличивает: в рациональной бюрократии индивиды сведены к взаимозаменяемым ролям. Бюрократия отбрасывает прочь непринужденность и непосредственность, личные склонности и пристрастия, индивидуальное самовыражение и творчество. Тем не менее она явилась эффективным инструментом для координации усилий сотен или даже миллионов индивидов в крупных организациях современного общества. Но ее эффективность и ее приемлемость ныне сходят на нет. Ценности постмодерна отдают более высокий приоритет самовыражению, чем экономической эффективности: люди становятся менее готовы принять человеческие издержки, с какими сопряжены бюрократия и жесткие социальные нормы. Общество 6 постмодерна характеризуется упадком иерархических институтов и жестких социальных норм и расширением сферы индивидуального выбора и массового участия. Вплоть до середины XX в. в термин "модернизация" вкладывалось вполне определенное содержание. Он подразумевал урбанизацию, индустриализацию, секуляризацию, бюрократизацию, а также основанную на бюрократизации культуру, требующую сдвига от статуса придаваемого к статусу достигаемому, от форм диффузной к формам точно определенной власти, от персоналистских обязанностей к безличным ролям и от партикуляристских к универсалистским правилам. В некоторых ареалах этот процесс модернизации все еще идет. В других же главнейшие для процесса модернизации тенденции кардинально сменили направление. Например, одним из самых поразительных феноменов последних двух столетий было стремительное расширение пределов управления. Индустриальные общества становились все более централизованными, иерархичными и бюрократизированными. До недавнего времени высокоцентрализованные, управляемые государством хозяйственные системы и общества, такие как Советский Союз, казались логическим завершением, к которому устремлена модернизация. Можно было, вместе с марксистами, считать эту тенденцию глубоко прогрессивной или, вместе с Шумпетером (1947) и Оруэллом (1948) сожалеть о ней как об угрозе свободе человека, — но рост управления казался неумолимым. В начале XX в. государственные расходы в большинстве обществ поглощали от 4 до 10% внутреннего валового продукта (ВВП). К 1980 г. они составляли от 33 до 60% стоимости намного увеличившегося ВВП в западных и 70—80% — в некоторых социалистических обществах. Казалось, что возрастание государственной собственности и государственного контроля над экономикой — знак нахлынувшего будущего. Это было не так. В течение 80-х годов дальнейшая экспансия государства достигла точки убывания отдачи — как в функциональном отношении, так и в смысле массового приятия. Сначала она натолкнулась на растущую политическую оппозицию на Западе, а затем последовал ее полный крах в восточном блоке. Массовое производство на линии поточной сборки и массовое бюрократическое производство являлись двумя ключевыми организационными инструментами индустриального общества, которые в начальной фазе модернизации приносили высокую отдачу, позволяя фабрикам производить миллионы вещей, а правительствам — обрабатывать миллионы индивидов посредством стандартизированных рутинных процедур. Но тенденция к бюрократизации, централизации, а также к государственной собственности и контролю обратилась вспять. Современные хозяйственные системы теряют свою эффективность, когда общественный сектор становится подавляющим. А общественное доверие к иерархическим институтам убывает, сходя на нет, на всем пространстве передового индустриального общества. КУЛЬТУРНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ, ВЕДУЩИЕ К ПОСТМОДЕРНИЗАЦИИ Столь же основательной переменой в самом направлении перемен явился сдвиг в преобладающих нормах и мотивациях, лежащих в основе поведения людей. По сути, для всех аграрных обществ были характерны системы ценностей, осуждавшие социальную мобильность. Это было неизбежным в условиях устойчиво-неподвижных хозяйственных систем. Главным источником богатства была земля, запас которой неизменен: единственный способ стать богатым состоял в том, чтобы захватить землю, принадлежащую кому-то другому, — для чего могло потребоваться убить владельца. Такое внутреннее насилие — а оно угрожало 7 самому выживанию любого общества — подавлялось нормами, которые делали упор на приятии статуса, данного рождением, и клеймили честолюбца и карьериста. В то же время в традиционных обществах подчеркивалась обязанность делиться и благотворить — что помогало компенсировать неимущим отсутствующую социальную мобильность, но вместе с тем также подрывало легитимацию экономического накопления. Возникновение материалистической системы ценностей, не только терпимой к экономическому накоплению, но и поощрявшей его как нечто похвальное и героическое, знаменовало ключевую культурную перемену, открывшую путь капитализму и индустриализации. Вебер рассмотрел этот процесс в книге "Протестантская этика и дух капитализма" (16), однако его работу можно представить как исследование частного случая более общего феномена. В настоящее время функциональный эквивалент протестантской этики самым энергичным образом действует в Восточной Азии и сходит на нет в протестантской Европе, поскольку технологическое развитие и культурные перемены стали глобальными феноменами. Именно из-за достижения высоких уровней экономической безопасности население стран, первыми осуществивших индустриализацию, постепенно стало делать упор на постматериальных ценностях, отдавая более высокий приоритет качеству жизни, чем экономическому росту. Этот сдвиг происходил на всем пространстве индустриального общества на протяжении последних двух десятилетий (2), сопровождаясь сдвигом от политики классового конфликта к политическому конфликту по таким проблемам, как защита окружающей среды, положение женщин и сексуальных меньшинств. Марксистская идеология, основанная на экономическом детерминизме, была чрезвычайно влиятельным руководством для объяснения перехода от аграрного общества к обществу "модерна", или индустриальному обществу. Но она устарела для анализа общества "постмодерна". Чтобы пояснить, какое значение мы вкладываем в этот термин, рассмотрим специфические изменения, связанные с ценностями постмодерна <...> ИСТОЧНИКИ ЦЕННОСТЕЙ ПОСТМОДЕРНА: ЧУВСТВО ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Мироотношение, господствовавшее в западном обществе со времени промышленной революции, постепенно сменяется новым. Последствия этой трансформации еще только складываются, а элементы прежней культуры все еще широко распространены, но можно, тем не менее, различить основные черты нового паттерна. Этот сдвиг в мироотношении и мотивациях проистекает из фундаментального различия между взрослением, когда оно сопровождается сознанием негарантированности выживания, и взрослением, которое сопровождается чувством, что выживание можно принять как должное. Стремление к выживанию является общим для всех существ, а выживание обычно не гарантировано. В этом отражается основной экологический принцип: популяция любых организмов имеет тенденцию расти вплоть до достижения соответствия наличию пищевых ресурсов; затем ее численность удерживается на постоянном уровне голодом, болезнями и хищниками. На протяжении большей части истории этот принцип управлял жизнями всех живых существ, включая человечество. До весьма недавнего времени человек по большей части существовал в условиях негарантированности выживания. Со временем конкуренцию за выживание между человеческими существами стала смягчать культура. Хотя то, как это происходило, гигантски разнилось в деталях от одного общества к другому, практически все традиционные общества устанавливали культурные нормы, которые ограничивали применение насилия и 8 подавляли устремления к социальной мобильности. С одной стороны, такими нормами подчеркивалась необходимость — для относительно обеспеченных — делиться и благотворить, а накопление клеймилось как алчность; а с другой — ими оправдывалось приятие существующего социального порядка неимущими. А культурные нормы, ограничивающие репродуктивность, смягчали жестокую конкуренцию за выживание, связанную с перенаселением. Несколько столетий тому назад культурные перемены в протестантской Европе привели к снятию традиционного запрета на экономическое накопление как на нечто позорное, и началось распространение материалистического мироотношения. С применением новой технологии и методов организации производства последнее стало опережать рост населения. Тем не менее еще на протяжении значительной части XX в. оставалась широко распространенной суровая экономическая нужда: марксистская точка зрения, что людьми, как и историей, движет в первую очередь борьба за экономические блага, явилась, в первом приближении, довольно точным определением движущей силы, лежащей в основе модернизирующей фазы индустриального общества. Возникшие после второй мировой войны явления экономического чуда вместе с государствами благосостояния открыли новый этап истории и в конечном счете проложили путь возвышению ценностей постмодерна. Глубокие перемены в опыте личностного формирования способствовали складыванию особой системы ценностей среди все большей части тех, кто вырос в передовых индустриальных обществах после второй мировой войны. У возрастных когорт послевоенных годов рождения в этих обществах взросление происходило в условиях, совершенно не похожих на те, в которых формировались предшествующие поколения. Различие условий было двояким. Во-первых, послевоенное экономическое чудо привело к беспрецедентным в человеческой истории уровням процветания. Реальный душевой доход в большинстве индустриальных обществ увеличился в несколько раз против наивысшего довоенного, а в некоторых случаях (как в Японии) — поднялся до уровня в 20-30 раз выше, чем когда-либо прежде. Экономический "пирог" стал намного больше; одно это могло бы способствовать большему чувству экономической безопасности. Но влияние беспрецедентного процветания взаимодействовало со вторым фактором — возникновением современного государства благосостояния. Не абсолютное богатство, а чувство экзистенциальной безопасности является решающей переменной, и государство благосостояния подкрепляло собою действие экономического роста как фактора, порождающего чувство безопасности. "Пирог" был больше, чем когда-либо прежде, и распределялся он равномернее и надежнее, чем прежде. Впервые в истории люди в массе своей — значительная их часть — выросли, усвоив ощущение, что выживание можно принимать как должное. Этим был вызван процесс межгенерационного изменения ценностей, постепенно трансформирующий политику и культурные нормы передовых индустриальных обществ <...> Сдвиг от материалистических к постматериальным ценностным приоритетам выдвинул на первый план новые политические проблемы и во многом стимулировал новые политические движения. Позднейшие исследования указывают на то, что становление постматериализма самого по себе есть лишь один аспект еще более широкого процесса культурных изменений, переформирующих политические воззрения, религиозные ориентации, гендерные роли и сексуальные нравы в передовом индустриальном обществе (8). Эти изменения связаны с общей заботой: необходимостью иметь чувство безопасности, какое традиционно давали религия и абсолютные культурные нормы. Достижение беспрецедентно высоких уровней процветания в передовых индустриальных обществах в послевоенные десятилетия вместе с относительно высокими уровнями социального обеспечения, какие предусматривает 9 государство благосостояния, способствовало ослаблению существующего чувства уязвимости. С точки зрения широких слоев населения человеческая судьба более не испытывает столь тяжелого воздействия со стороны непредсказуемых сил, как то было в аграрном и раннем индустриальном обществе. Это благоприятствовало распространению ориентаций постмодерна, не столь акцентирующих традиционные культурные нормы, особенно те, что ограничивают индивидуальное самовыражение. ТЕОРИЯ МЕЖГЕНЕРАЦИОННОЙ ПЕРЕМЕНЫ ЦЕННОСТЕЙ Рассмотрим наново теорию межгенерационной перемены ценностей в свете последних данных. Наша теория основывается на двух ключевых гипотезах (9): 1. Гипотеза ценностной значимости недостающего (A Scarcity Hypothesis). Приоритеты индивида отражают состояние социально-экономической среды: наибольшая субъективная ценность придается тому, чего относительно недостает. 2. Гипотеза социализационного лага (A Socialization Hypothesis). Состояние социально-экономической среды и ценностные приоритеты не соотносятся между собой непосредственно: между ними вклинивается существенный временной лаг, ибо базовые ценности индивида в значительной степени отражают условия тех лет, которые предшествовали совершеннолетию. Гипотеза о придании ценности недостающему аналогична принципу убывающего приращения пользы в экономической теории. Концепция дополнительности в иерархии потребностей (14) помогла сформулировать позиции, по которым в обзорах производится измерение ценностных приоритетов. В своей простейшей форме идея иерархии потребностей, вероятно, встретила бы почти всеобщее согласие. То, что неудовлетворенные физиологические потребности первенствуют по отношению к социальным, интеллектуальным или эстетическим, слишком часто демонстрировалось в человеческой истории: голодные люди пойдут почти на все что угодно, чтобы добыть пропитание. По своей значимости человеческие потребности ранжируются различным образом, если на той или иной шкале прослеживать потребности помимо непосредственно относящихся к выживанию; так, иерархия потребностей, предложенная Маслоу (14), не выдерживает детальной проверки временем. Но налицо, как представляется, основное разграничение между "материальными" потребностями в физиологическом поддержании собственного существования и собственной невредимости и нефизиологическими потребностями, такими как потребности в признании, в самовыражении и в эстетическом удовлетворении. Недавняя экономическая история передовых индустриальных обществ имеет важные импликации в свете гипотезы ценностной значимости недостающего. Ибо в господствующем историческом паттерне эти общества являют поразительное исключение: в них все еще имеются бедняки, но большинство населения не живет в условиях голода и экономической необеспеченности. Это привело к постепенному сдвигу, в ходе которого более высокую значимость приобрели потребности в общении, в признании, в самовыражении и в интеллектуальном и эстетическом удовлетворении. При прочих равных условиях можно, по нашему мнению, ожидать, что продолжительные периоды высокого благосостояния будут способствовать распространению постматериальных ценностей; экономический спад имел бы противоположный эффект. Впрочем, дело обстоит отнюдь не так просто: не существует прямой и непосредственной связи между экономическим уровнем и превалированием постматериальных ценностей, ибо эти ценности отражают субъективное чувство безопасности человека, а не уровень его экономического положения per se. Если богатые индивиды и нации склонны ощущать себя в большей мере в 10 безопасности, чем бедные, то в этих ощущениях сказывается и та среда — в виде культурной обстановки и институтов социального обеспечения, — в которой человек вырос. Таким образом, гипотезу ценностной значимости недостающего надо раскрывать в связи с гипотезой социализационной. Одним из самых распространенных концептов социальной науки является понятие о базовой структуре человеческой личности, которая обычно складывается к моменту достижения индивидом зрелости и относительно мало меняется в дальнейшем. Эта концепция проходит через литературу от Платона до Фрейда и далее до результатов исследований по материалам современных наблюдений. Ранняя социализация представляется более весомой, чем поздняя. Это, конечно, не означает, что никаких изменений не бывает в зрелые годы. Известно, что в индивидуальных случаях происходят резкие поведенческие сдвиги, а процесс развития человека никогда полностью не останавливается. Тем не менее развитие человека происходит гораздо стремительнее в годы до достижения зрелости, чем после, и, по данным огромного большинства наблюдений, статистическая вероятность глубокой личностной перемены резко снижается после достижения зрелости (11; 10). Вместе обе гипотезы рождают целый набор прогнозов относительно ценностных перемен. Так, если, согласно гипотезе ценностной значимости недостающего, процветание ведет к распространению постматериальных ценностей и ценностей постмодерна, то социализационная гипотеза подразумевает, что ни ценностям индивида, ни ценностям общества в целом не предстоит перемениться мгновенно. Наоборот, фундаментальная перемена ценностей осуществляется постепенно; в масштабном виде это происходит по мере того, как во взрослом населении общества на смену старшему поколению приходит молодое. Следовательно, после некоторого периода резкого повышения экономической и физической безопасности можно ожидать обнаружения существенных различий между ценностными приоритетами старших и более молодых групп: их, как окажется, сформировал различный опыт в годы личностного становления. Но налицо будет изрядный временной лаг между экономическими переменами и их политическими последствиями. Через 10-15 лет после начала эры процветания возрастные когорты, чьи годы личностного становления пришлись на этот период, станут пополнять электорат. Может пройти еще десятилетие или около того, прежде чем эти группы начнут занимать в своем обществе позиции власти и влияния; еще одно десятилетие, или около того, — прежде чем они достигнут высших уровней принятия решений. Правда, их влияние станет значительным задолго до этой финальной стадии. Постматериалистам свойственна более высокая развитость, они лучше артикулируют свои позиции, политически более активны — в сравнении с "материалистами". Следовательно, политическое влияние первых, в тенденции, способно быть значительнее, чем вторых. Социализационная гипотеза дополнительна по отношению к гипотезе ценностной значимости недостающего. Она помогает объяснить кажущееся отклоняющимся поведение: с одной стороны — скряги, испытавшего бедность в юные годы и упорно продолжающего копить богатство много спустя после достижения материальной обеспеченности; с другой — праведника, даже в суровой нужде сохраняющего верность целям высшего порядка, внушенным его (или ее) культурой. В обоих случаях объяснение как будто бы отклоняющегося поведения таких индивидов заключено в их ранней социализации. Это не значит, что ценностные приоритеты взрослого не подвержены изменению. Просто они трудно меняются. Лишь в экстремальных условиях необычных экспериментов были зафиксированы изменения приоритетов у взрослых. Например, в одном таком эксперименте человека, отказывавшегося от военной службы по идейным соображениям, долго держали на полуголодном пайке. После нескольких недель он потерял интерес к общественным идеалам и стал говорить, 11 думать и даже видеть сны о еде. Аналогичные модели поведения наблюдались у узников концлагерей. Беспрецедентная экономическая и физическая безопасность послевоенной эпохи привела к межгенерационному сдвигу от материалистических к постматериальным ценностям. Молодые в гораздо большей степени, чем пожилые, акцентируют постматериальные ценности, что, как показывает анализ по соответствующим когортам, отражает скорее генерационное изменение, чем возрастные эффекты. В 1970 — 1971 гг., в годы наших первых обзоров, численное преобладание представителей материалистических ценностных приоритетов было подавляющим: они превосходили постматериалистов в соотношении четыре к одному. К 1990 г. соотношение резко изменилось — численное преобладание материалистов выражалось уже только в соотношении четыре к трем. Экстраполяции, основанные на расчетах смены поколений в населении, указывают на то, что к 2000 г. во многих западных странах материалисты и постматериалисты численно примерно сравняются (1). Постматериалисты не являются нематериалистами, а тем более антиматериалистами. Термин "постматериалист" указывает на группу целей, акцентируемых после того, как люди достигли материальной безопасности, и потому, что они ее достигли. Таким образом, разрушение безопасности привело бы к постепенному откату вспять, в сторону материальных приоритетов. Появление постматериализма отражает не оборачивание полярностей, а смену приоритетов: экономической и физической безопасности постматериалисты придают отнюдь не негативную ценность — они, как всякий, оценивают ее положительно; но, в отличие от материалистов, они еще более высокий приоритет отводят самовыражению и качеству жизни. Так, автор (7, с. 179—261) обнаружил, что в старые классовые расколы индустриального общества привносится, заявляя о себе, акцентирование проблем качества жизни. Хотя количественные показатели голосования по социально-классовому признаку снижались, оно никоим образом не исчезло (да и в дальнейшем исчезновение его не предвиделось). Но если некогда в политической жизни доминировала классовая поляризация вокруг собственности и контроля над средствами производства, то со временем к этим проблемам все более и более добавлялись новые — постматериальные. Расколы и индустриальной, и доиндустриальной эпох хоть и продолжали существовать, но — наряду с новыми проблемами, встававшими поверх прежних барьеров. Сдвиг от материалистических к постматериальным приоритетам — ядро процесса постмодернизации. В раннеиндустриальном обществе акцентирование экономической достижительности вышло на беспрецедентные уровни. Если традиционные общества отвергали социальную мобильность и индивидуальное экономическое накопление как недостойные, то общества эпохи модерна, индустриальные общества придали экономической достижительности положительную ценность. "Капитан индустрии" стал культурным героем; а Верховный Суд США в XIX в. истолковал "стремление к счастью" как "свободу накопления собственности". Ведущей общественной целью процесса модернизации явился экономический рост. В этом была немалая доля смысла. Первые индустриализировавшиеся страны лишь незадолго до того обрели технологические средства, чтобы справляться с хронической нуждой. В таких обществах, где недоедание составляет главную причину смертности, экономическая достижительность — важнейшая часть стремления к счастью. Переход от доиндустриального к передовому индустриальному обществу увеличил среднюю продолжительность жизни с 3540 до 75-80 лет. Это огромное продвижение. По мере превращения для большинства людей вероятности голода из насущной заботы в почти незначащую перспективу ценности переменились. Экономическая безопасность по-прежнему всеми желаема, но она более не является 12 синонимом счастья. В передовых индустриальных обществах люди стали проявлять все большую озабоченность проблемами качества жизни, порой отдавая защите окружающей среды приоритет перед экономическим ростом. Таким образом, акцентирование экономической достижительности, резко возрастая с процессом модернизации, затем, однако, с наступлением постмодернизации, выравнивается. В обществах, где более всего постматериалистов, ниже темпы роста по сравнению с теми, где подавляющим образом преобладают материалисты, зато, по тенденции, более высокие уровни субъективного благополучия. С постмодернизацией ослабляется акцентирование не только самого экономического роста, но и создающего его возможность научно-технического развития; с обеспечения выживания акцент сдвигается на максимизацию субъективного благополучия. СТРЕСС, СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ И СИСТЕМЫ УБЕЖДЕНИЙ Восхождение постматериальных ценностей, сколь бы ни был этот процесс далеко идущим, — лишь один аспект еще более широкоохватного процесса культурных изменений, переформирующего у людей в передовом индустриальном обществе имеющиеся ориентации по отношению к власти, религии, политике, гендерным ролям и сексуальным нормам. Под действием чего происходит этот масштабный сдвиг от ценностей выживания к ценностям благополучия? Данный вопрос проясняет недавнее исследование по социальной психологии — о соотношении между стрессом, стратегиями преодоления и системами убеждений. Когда люди чувствуют, что под угрозой их выживание, они реагируют напряжением, стрессом; это стимулирует усилия по преодолению угрозы. Но высокие уровни напряжения могут становиться дисфункциональными и даже опасными для жизни. Опосредует ответную реакцию человека на новые или угрожающие ситуации система его убеждений, помогая индивиду справляться со стрессом и формируя стратегию, которая может быть применена для преодоления угрозы. Если у человека есть система убеждений, обеспечивающая определенное чувство предсказуемости и контроль, это ослабляет стресс до уровня, благоприятствующего поведению преодоления. При отсутствии же такой системы убеждений люди испытывают ощущение беспомощности, приводящее к поведению отступления, а не преодоления; эти реакции отступления могут принимать форму депрессии, фатализма, безропотного смирения или форму злоупотребления алкоголем или наркотиками. Практически во всех значительных культурах мира имеются системы убеждений, обнадеживающие насчет того, что ждет впереди и чего сам индивид постигнуть или предвидеть не может, — а именно: это неведомое — в руках благожелательной высшей силы, и пусть будущее человека непредсказуемо, эта высшая сила обеспечит удачный исход. И религия, и светские идеологии дают заверения в том, что универсум не случаен, а следует некоему плану, которым гарантируется, что (если не в этом мире, то в следующем) все окажется хорошо. Это убеждение ослабляет стресс, позволяя заблокировать тревогу и сосредоточиться на какой-либо безотлагательной стратегии преодоления. Без такого рода системы убеждений крайнее напряжение скорее всего способно порождать реакции отступления. Преобладающим фактором влияния на системы убеждений в большинстве доиндустриальных обществ является религия. В религиозном мировидении высшей силой выступает всеведущий и благожелательный Бог. Ослаблению стресса способствует система абсолютных правил, управляющих многими аспектами жизни и максимизирующих предсказуемость. В секулярных обществах роль высшей силы выполняет государство или могущественный политический лидер. В условиях большой непредсказуемости люди испытывают мощную потребность видеть власть не только сильной, но и благожелательной — даже перед лицом 13 свидетельств обратного. Коммунистическая идеология предоставляла некоторый функциональный эквивалент религии, предлагая объяснение того, как функционирует универсум и куда движется история. Хотя многие из предсказаний Маркса в конце концов оказались неверны, эта идеология обеспечивала чувство предсказуемости и обнадеживала людей на тот счет, что обо всем заботятся непогрешимые вожди. АВТОРИТАРНЫЙ РЕФЛЕКС В обществах, переживавших исторический кризис, наблюдался феномен, который можно назвать авторитарным рефлексом. Стремительные изменения ведут к глубокой неуверенности, рождающей мощную потребность в предсказуемости. В таких обстоятельствах авторитарный рефлекс принимает две формы: 1) форму фундаменталистских или нативистских реакций. Этот феномен часто имеет место в доиндустриальных обществах, когда они сталкиваются со стремительными экономическими и политическими переменами в результате контактов с индустриальными обществами; он нередко встречается также в индустриальных обществах — среди более традиционных и менее защищенных слоев, особенно в моменты стресса. В обоих случаях реакция на перемены принимает форму отрицания нового, а также форму вменяемого всем вокруг в обязанность отстаивания непогрешимости старых, привычных культурных моделей; 2) форму раболепного преклонения перед сильными светскими лидерами. В секуляризованных обществах состояние глубокой неуверенности порождает готовность положиться на таких лидеров как на лучших людей с железной волей, способных вывести свой народ туда, где безопасно. Это явление часто наступает вслед за военным поражением, экономическим или политическим крахом. Так, возникновение реакций авторитарности, а также ксенофобии, часто присуще дезинтегрирующимся обществам. В царской России в годы ее заката прошли погромы; а после ее падения власть захватили правители еще более жестоко-авторитарные, чем цари. Подобным образом великая депрессия 30-х годов помогла привести Гитлера к власти в Германии и способствовала восхождению фашистских диктаторов в ряде других стран, от Испании и Венгрии до Японии. Глубокая неуверенность в будущем способствует возникновению не только потребности в сильных властных фигурах, которые защитили бы от угрожающих сил, но и ксенофобии. Пугающе быстрые перемены рождают нетерпимость к изменениям в культуре и к иноэтническим группам. Так, в США в конце XIX — начале XX в., когда упали цены на хлопок, на Юге стали учащаться случаи линчевания негров. Это была реакция на неуверенность в завтрашнем дне, а не действия, осознанно предпринятые из убеждения в том, что негры манипулируют ценами на хлопок: линчеватели понимали, что негры мало влияют на рынок хлопка. Подобным же образом великая депрессия 30-х годов породила двойной феномен Гитлера и антисемитизма — и, в конце концов, холокост. Это произошло в обществе, которое до той поры было толерантнее к евреям, чем Россия и Франция, и которое имело в своем составе одну из самых социально интегрированных еврейских общин в Европе. В происшедшей ужасающей истории не было ничего неизбежного; в ней отразилась травматическая неуверенность в будущем, вызванная военным поражением и политическим и экономическим крахом, а не нечто присущее Германии. По навязчивой аналогии явлений, крах экономических и политических систем некоторых восточноевропейских обществ породил ультранационализм и этнические чистки. ПОСТМОДЕРНИЗМ: МЕНЬШАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ И НАУЧНОГО АВТОРИТЕТА 14 Все общества нуждаются в какой-либо легитимирующей формуле власти: решения их лидеров только в том случае не опираются исключительно на принуждение, когда они воспринимаются как легитимные. Одной из центральных компонент модернизации был сдвиг от религиозной к рационально-бюрократической власти, оправдываемой претензиями на то, что правящие институты содействуют общему благу. Важной же компонентой сдвига постмодерна является сдвиг, отвращающий и от религиозной, и от бюрократической власти и приводящий к снижению значимости любых видов власти и авторитета. Ибо послушание власти сопряжено с высокими издержками: личные цели индивида приходится подчинять целям более широкой субьектности. Но в условиях неуверенности в завтрашнем дне люди более чем охотно идут на это. При угрозе вторжения, внутренних беспорядков или экономического краха они усердно ищут сильных авторитетных личностей, способных защитить их. Наоборот, условия процветания и безопасности способствуют плюрализму вообще и демократии — в частности. Это помогает объяснить давно установленную закономерность: богатые общества с большей вероятностью демократичны, чем бедные. На эту закономерность указал Липсет (13), и она совсем недавно была подтверждена Бэркхартом и Льюис-Беком (4). Причины этого сложны; но один из факторов состоит в том, что авторитарный рефлекс сильнее всего в условиях небезопасности. До недавнего времени небезопасность была существеннейшей составляющей положения человека. Лишь недавно появились общества, где большинство населения не ощущает неуверенности относительно выживания. Так, и досовременное аграрное общество, и современное индустриальное были сформированы ценностями выживания. Сдвиг же постмодерна привел к явственному уменьшению значения, придаваемого любым формам власти и авторитета. ИЗМЕНЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ, ТЕНДЕРНЫХ РОЛЕЙ И СЕКСУАЛЬНЫХ НОРМ Восхождение постмодернизма есть противоположность авторитарного рефлекса: постматериальные ценности характеризуют самый защищенный сегмент передового индустриального общества. Они получили развитие в той обстановке исторически беспрецедентного экономического роста, а также функционирования государств благосостояния, которая возникла после второй мировой войны. И они составляют ядро того сдвига постмодерна, который переформирует политическое мировоззрение, религиозные ориентации, гендерные роли и сексуальные нормы передового индустриального общества. Два фактора в таких обществах способствуют упадку традиционных политических, религиозных, социальных и сексуальных норм. Первый состоит в том, что усиление ощущения безопасности снижает потребность в абсолютных правилах. В состоянии сильного стресса индивиды нуждаются в твердых предсказуемых правилах. Им нужна уверенность насчет того, что будет происходить, ибо они в опасности — у них имеется скудный допуск на ошибку, и им нужна максимальная предсказуемость. Постматериалисты олицетворяют противоположную позицию: выросшие в условиях относительной безопасности, они могут терпимо отнестись к большей неопределенности; им вряд ли требуется та надежность абсолютных твердых правил, какую обеспечивают религиозные санкции. Психологические издержки отклонения от каких-либо норм, с которыми человек повзрослел, ему труднее выдержать в состоянии стресса, чем при ощущении безопасности. Разбирать на составные части и затем складывать заново собственный мир — это способно вызывать крайне сильный стресс. Но постматериалисты — люди, которым даны относительно высокие 15 уровни безопасности, — могут принимать отклонение от привычных моделей с большей готовностью, чем те, кто испытывает тревогу за свои базовые экзистенциальные потребности. Следовательно, постматериалисты, в сравнении с другими, проявляют больше готовности принять культурные изменения. Второй фактор заключается в том, что общественные и религиозные нормы, как правило, функциональны. Такие основные нормы, как "не убий" (иудео-христианская версия практически универсальной социальной нормы), выполняют важную социетальную функцию. Ограничение насилия узкими, предсказуемыми рамками имеет решающе важное значение для жизнеспособности того или иного общества. Без таких норм общество растерзало бы себя. Многие религиозные нормы, такие как "не прелюбодействуй" или "почитай отца твоего и мать", связаны с обеспечением сохранности семейной ячейки. Различные варианты этих норм также встречаются практически в каждом обществе на земле, потому что они выполняют решающе важные функции. Но в передовых индустриальных обществах некоторые из этих функций утратили прежнее значение. Роль семьи стала менее решающей. Если когда-то семья была ключевой экономической единицей, то в передовом индустриальном обществе трудовая жизнь индивида в основном осуществляется вне дома. Равным образом и воспитание ныне происходит большей частью вне семьи. Кроме того, государство благосостояния забрало у семьи — и взяло на себя — ответственность за выживание. Выживание детей прежде зависело от того, обеспечат ли их средствами к существованию родители; а выживание постаревших родителей зависело от их детей. Сегодня, хотя семейные отношения все еще важны, это уже не те отношения, в которых решается вопрос жизни и смерти; роль семьи во многом взяло на себя государство благосостояния. Новое поколение способно выживать в случаях распада семьи или даже в случаях отсутствия обоих родителей. Неполные семьи и бездетные старики в современных условиях располагают лучшими шансами на выживание, чем когда-либо прежде. Развод — поскольку он ставит под угрозу выживание детей — общество обычно абсолютно не приемлет: он подрывает жизнеспособность общества в долгосрочной перспективе. Сегодня функциональная база этой и других норм, нацеленных на укрепление полной семьи, оказалась размыта. Значит ли это, что общество осуществляет смену ценностей? Нет — во всяком случае, в непосредственном смысле не значит. Культурные нормы обычно очень прочно интернализируются в раннем возрасте, подкрепляясь дорациональными санкциями. Сопротивление людей разводу не просто отражает рациональный расчет индивида: мол, "семья — важная ячейка общества, и потому я сохраню брак". Дело скорее в том, что к разводу склонны подходить с позиций добра и зла, применяя абсолютные нормы. Нормы, понуждающие людей к определенному поведению, даже когда они испытывают сильное желание делать что-то другое, — это нормы, которые были им преподаны как абсолютные правила и внушены таким образом, что при их нарушении человека мучает совесть. Такие социетальные нормы обладают немалой инерцией. Сам по себе факт, что функция какой-либо культурной модели ослаблена или исчезла, не означает исчезновения самой нормы. Однако такие нормы начинают в подобных случаях постепенно ослабевать, особенно если они вступают в конфликт с сильными противоположно направленными импульсами. В силу ряда причин — от появления государства благосостояния и до резкого снижения детской смертности (означающего, что супругам для воспроизводства населения уже не обязательно производить на свет четверых — пятерых детей) — происходит ослабление норм, поддерживающих полную гетеросексуальную семью. Идет экспериментирование, старые правила подвергаются испытанию; исподволь возникают отклоняющиеся от традиционных норм новые формы поведения, и группами, скорее склонными принять их, оказываются в большей мере 16 молодые, чем пожилые, и в большей мере те, кто чувствует себя в относительной безопасности, чем ощущающие отсутствие таковой. Со сдвигом постмодерна сопряжены межгенерационные изменения в обширном ряде основных социальных норм, от культурных норм, связанных с обеспечением выживания и продолжения рода человеческого, и до норм, связанных со стремлением к достижению индивидуального благополучия. Например, постматериалисты и молодые явно более терпимы к гомосексуализму, чем "материалисты" и пожилые. Это — часть широко проявляющейся закономерности. Постматериалистов формировали условия безопасного существования, пришедшиеся на годы их личностного становления, и они гораздо снисходительнее, чем "материалисты", в своем отношении к аборту и эвтаназии, разводу, внебрачным отношениям, проституции. "Материалисты же, противоположным образом, скорее склонны быть приверженцами традиционных социетальных норм, поощрявших деторождение — но только в рамках традиционной полной семьи — и резко клеймивших всякую сексуальную активность вне этих рамок. Традиционные нормы, касающиеся гендерных ролей, повсюду, от Восточной Азии и исламского мира до западного общества, противодействовали тому, чтобы женщины поступали на работу вне дома. Практически во всех доиндустриальных обществах упор делался на рождении и воспитании детей как на главной задаче любой женщины, ее важнейшей функции в жизни и величайшем источнике удовлетворения. В последние годы такая перспектива все более ставится под вопрос, по мере того как растет число женщин, откладывающих деторождение или полностью отказывающихся от материнства ради карьеры вне дома. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПОСТМОДЕРНА БЕЗОПАСНОСТЬ И ВОСХОЖДЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ На всем пространстве передового индустриального общества налицо свидетельства долговременного отхода от традиционных религиозных и культурных норм, что тесно связано со сдвигом от материалистических к постматериальным ценностям. В номинальном смысле это не очевидно: ни в одном из пунктов, использовавшихся в обзорах для измерения материальных/постматериальных ценностей, нет никакого упоминания о религии или о сексуальных или гендерных нормах. Тем не менее все эти ценности причастны к широкой культурной перемене, связанной с переходом от индустриального общества к постиндустриальному. Сдвиг к постматериализму и упадок традиционных религиозных и сексуальных норм идут нераздельно, ибо оба процесса имеют общую причину: беспрецедентно высокие уровни экзистенциальной безопасности, достигнутые в современном передовом индустриальном обществе, вырастающем из явлений экономического чуда (и западного, и азиатского) последних нескольких десятилетий; а также восхождение государства благосостояния. В весьма ненадежном мире обществ, где доминировала забота о средствах к существованию, несомненно, важной психологической потребностью была потребность в абсолютных критериях, а также в представлении о некоей непогрешимой высшей силе, заботами которой все в конечном счете уладится. Одной из ключевых функций религии было дать чувство надежности в не внушающей чувства безопасности среде. Не только экономическая небезопасность порождает эту потребность: старая поговорка "в окопах нет атеистов" отражает тот факт, что и физическая опасность вызывает потребность верить в высшую силу. Но в отсутствие войны процветание и государство благосостояния создали небывалую атмосферу гарантированности выживания для индивида, и это уменьшило потребность в том утешении, которое традиционно давала религия. Эти же самые факторы ослабили функциональную базу широко распространенного набора норм (от осуждения развода, аборта и гомосексуализма до 17 отрицательного отношения к практике постоянной работы вне дома для замужней женщины), связанных с некогда решающим значением традиционной полной семьи для выживания детей, а следовательно, и общества. Как мы увидим, именно в наиболее продвинутых государствах благосостояния претерпела наиболее стремительный спад массовая приверженность традиционным религиозным и семейным нормам. Это не случайное совпадение. Эти факторы привносят перемену еще в один важный аспект мироотношения людей: повсюду в передовом индустриальном обществе падает уважение к власти и авторитету. Разница между ощущением безопасности и небезопасности в плане выживания является настолько существенной, что соответствующая перемена привела к обширному синдрому взаимосвязанных изменений в направлении от ценностей "выживания", какими характеризовалось аграрное и раннеиндустриальное общество, к ценностям "благополучия", характерным для передового индустриального общества <...> Эти контрастирующие ценностные системы, разветвляясь, охватывают политику, экономику, религию и сексуальные и семейные нормы, как показывает Таблица 1. Таблица 1. В условиях безопасности и в условиях небезопасности: две различающиеся системы ценностей Характеристики ценностных систем при восприятии перспективы выживания как: Негарантированной Гарантированной 1. В политике Потребность в сильных лиде- Меньшая значимость политичерах. Приоритетность поского авторитета. Приоритетность рядка. Ксенофобия, фунда- самовыражения, политического ментализм. участия. Экзотика/новизна — стимулирующий фактор. 2. В эконоПриоритетность экономиче- Высшая приоритетность качества мике ского роста. Достижительная жизни. Субъективное благополумотивация. Противопоставле- чие. Снижение авторитета как ние индивидуальной и госу- частной, так и государственной дарственной собственности. собственности. 3. СексуНа первом плане — максими- Сексуальное удовлетворение в соально-семей- зация репродуктивности, но ответствии с индивидуальным выная норматив- только в рамках полной (ге- бором. Индивидуальное самовыраность теросексуальной) семьи. жение. 4. В религии Акцент на значимости высМеньшая значимость религиозного шей силы. Абсолютные пра- авторитета. Гибкие правила, ситувила. Акцент на предсказуе- ационная этика. Акцент на смысле мости. и назначении жизни. Сдвиг от ценностей модерна к ценностям постмодерна ведет к постепенному разрушению многих из ключевых институтов индустриального общества. Это осуществляется посредством характеризуемых ниже изменений. 1. В политической области с восхождением ценностей постмодерна падает уважение к власти; и усиливается акцент на участии и самовыражении. Эти две тенденции способствуют: в авторитарных обществах — демократизации, а в обществах, уже являющихся демократическими, — развитию демократии в направлении большей партиципаторности, ориентированности на конкретные проблемы. Но они осложняют положение правящих элит. Уважение к власти, как было отмечено, претерпевает эрозию. А долгосрочная тенденция к возрастанию массового участия не только продолжается, но она приобрела новый характер. В крупных аграрных обществах политическое 18 участие ограничивалось узким меньшинством. В индустриальном обществе мобилизацию масс осуществляли дисциплинированные, руководимые элитами политические партии. Это было немалое продвижение на пути демократизации, и результатом его стал небывалый рост политического участия в виде голосования, — однако выше этого уровня массовое участие поднималось редко. В обществе же постмодерна акцент смещается с голосования на все более активные и более проблемно-специфицированные формы массового участия. Массовая приверженность давно утвердившимся иерархическим политическим партиям размывается; не желая долее быть дисциплинированным войском, общественность переходит ко все более автономным видам участия, бросая при этом вызов элитам. Следовательно, хотя участие в выборах остается на прежнем уровне или снижается, люди участвуют в политике все более активными и более проблемноспецифическими способами. Кроме того, растущий сегмент населения начинает в свободе выражения и политическом участии усматривать скорее нечто самоценное, чем просто возможное средство достижения экономической безопасности. Но эти изменения травмирующим образом подействовали на традиционные политические механизмы индустриального общества, которые почти повсеместно разладились. На протяжении всей истории индустриального общества размах государственной активности быстро увеличивался; казалось естественной закономерностью дальнейшее расширение государственного контроля над экономикой и обществом. Однако эта тенденция достигла ныне естественных пределов по ряду позиций — как в силу функциональных причин, так и вследствие утраты общественного доверия к государственному управлению и нарастающего противодействия государственному вмешательству. Люди повсюду обычно склонны считать, что такое убывание доверия вызывают факторы, единственно свойственные их собственной стране; на самом же деле оно происходит на всем пространстве передового индустриального общества. Для ксенофобии питательной средой является обстановка быстрых перемен и неуверенности в завтрашнем дне. Ненависть на этнической почве не исчезла как явление и в тех индустриальных обществах, которые обеспечивают относительную уверенность в завтрашнем дне, но по сравнению с обществами, характеризующимися обстановкой неуверенности, ксенофобия в них не столь распространена, а в долгосрочной перспективе в них наблюдается развитие в сторону большего приятия многообразия. Наконец, политику постмодерна отличает сдвиг в направлении от политического конфликта на классовой основе, характерного для индустриального общества, к усиливающемуся акцентированию проблем культуры и качества жизни. 2. В экономической области экзистенциальная безопасность ведет к усилению акцента на субъективном благополучии и качестве жизни, становящихся для многих более высокими приоритетами, чем экономический рост. Стержневые цели модернизации, экономического роста и экономических достижений попрежнему остаются в ценностном смысле положительными, но их относительная значимость снижается. Налицо также постепенный сдвиг в мотивации людей к труду: с максимизации получаемого дохода и с обеспеченности работой акцент сдвигается в сторону более настоятельного запроса на интересную и осмысленную работу. Наряду с этим происходит двоякий сдвиг в области отношений между собственниками и менеджерами. С одной стороны, мы обнаруживаем усиливающийся акцент на придании менеджменту большей коллегиальности и демократичности. Но в то же время можно наблюдать вообще отход от тенденции искать решения таких проблем в сфере управления, т.е., иными словами, готовность положиться на капитализм и рыночные принципы. Обе тенденции связаны с возрастающим неприятием иерархических моделей власти и большим упором на автономию индивида. 19 Со времен капитализма неограниченной свободы конкуренции (laissez faire) люди всегда почти автоматически обращались к управлению, чтобы скомпенсировать властную мощь частного бизнеса. Ныне, по широко распространенному мнению, рост управления становится функционально неэффективен и превращается в угрозу для автономии индивида. 3. В области сексуального поведения, репродуктивности и семьи имеет место продолжающаяся длительная тенденция отхода от тех жестких норм, которые в аграрном обществе являли собой функциональную необходимость. В аграрных обществах традиционные способы контрацепции были ненадежны, и дети, если только они не рождались в семье с мужчиной-кормильцем, скорее всего оказывались обреченными на голод; в свою очередь, половое воздержание вне брака являлось ключевым средством сдерживания роста численности населения. Развитие эффективной технологии регулирования рождаемости вместе с процветанием и государством благосостояния подорвали функциональную основу традиционных норм в этой области; налицо общий сдвиг в сторону их большей гибкости для индивидуального выбора в сфере сексуального поведения, а также гораздо большая терпимость в восприятии гомосексуализма. В этом не только находят продолжение некоторые из тенденций, ассоциируемых с модерном, — есть и прорыв на новые уровни. Геи перестали прятаться в туалетах, а сюжет о внебрачном материнстве — обычная часть прайм-тайма телевизионных программ. 4. В области высших ценностей мы также обнаруживаем как преемственность, так и поразительные изменения. Одной из ведущих тенденций, ассоциировавшихся с модернизацией, была секуляризация. Эта тенденция продолжилась, если говорить об официальных религиозных институтах: публика в большинстве передовых индустриальных стран демонстрирует снижение доверия к церквам, реже посещает церковь и придает меньшее значение организованной религии. Это, однако, не означает исчезновения духовных запросов; ибо мы обнаруживаем также равномерно-межстрановую тенденцию, в соответствии с которой люди проводят больше времени в размышлениях о смысле и назначении жизни. Господство инструментальной рациональности уступает место растущей озабоченности высшими целями. Рассмотренные тенденции отражают создавшееся в обществе постмодерна невиданное ранее состояние безопасности [уверенности в завтрашнем дне] (security). Главную цель индустриального общества составляло экономическое накопление ради экономической безопасности. По иронии судьбы, достижение этой двоякой цели дало ход процессу постепенных культурных изменений, который не только понизил статус бывшей главной цели, но и порождает теперь также неприятие иерархических институтов, способствовавших ее достижению. ПРОГНОЗ КУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ Теория [межгенерационной] перемены ценностей позволяет сделать ряд отчетливых прогнозов. В Таблице 1 обрисован набор качественных сдвигов, связанных с ростом экзистенциальной безопасности. Здесь своеобразно раскрывается рубеж постмодернизации: показано, какие, по нашим ожиданиям, виды ценностей должны в связи с постмодернизацией получать большее распространение. Но указанная теория не ограничивается качественными прогнозами, касающимися общего направления культурных изменений. Она генерирует также набор количественных прогнозов относительно локализации и скорости этих изменений. Гипотеза ценностной значимости недостающего постулирует, что ощущение экзистенциальной безопасности способствует выдвижению ценностей постмодерна. Из этого вытекают нижеследующие прогнозы: 1. В общей межстрановой перспективе: ценности постмодерна получат 20 наибольшее распространение в обществах, где уровень богатства и степень уверенности в будущем — наивысшие; для населения скудно живущих обществ на первый план будут выдвигаться по преимуществу ценности выживания. 2. Внутри каждого конкретного общества ценности постмодерна наибольшее распространение получат среди слоев, сильнее других ощущающих уверенность в будущем: наиболее состоятельные и имеющие наилучшее образование будут скорее всего держаться целого диапазона ценностей, характерных для ситуации [экзистенциальной] безопасности, включая ценности "постматериализма"; слои, чье положение наименее надежно, будут делать упор на приоритетах выживания. 3. Краткосрочные колебания будут соответствовать импликациям гипотезы ценностной значимости недостающего: в периоды процветания будет усиливаться тенденция к акцентированию ценностей благополучия; экономический спад, гражданские беспорядки или война заставят людей делать упор на ценностях выживания. 4. В долгосрочных изменениях также найдут отражение положения гипотезы ценностной значимости недостающего. В обществах, проживших в условиях высокого уровня [экзистенциальной] безопасности на протяжении нескольких десятилетий, мы обнаружим долговременный сдвиг от ценностей выживания к ценностям благополучия. Это не универсальная тенденция, охватывающая весь мир, подобно распространению поп-культуры, взлелеянной мировыми масс-медиа. Отнюдь нет: сдвиг к ценностям благополучия происходит главным образом в обществах, достигших настолько высокого уровня процветания и безопасности, что существенная доля населения принимает выживание как должное; такой сдвиг не обнаруживается в обществах, не испытавших подъема благосостояния. С другой стороны, это не исключительно западный феномен: его следует ожидать в любом обществе, которое испытало переход к высокому уровню массовой [экзистенциальной] безопасности. Социализационная гипотеза постулирует, что ни ценности индивида, ни ценности общества в целом не меняются мгновенно. Из этого — в сочетании с гипотезой ценностной значимости недостающего — следуют еще три прогноза: 5. В обществах, испытавших длительный период повышения экономической и физической безопасности, мы обнаружим существенные различия между ценностными приоритетами старших и более молодых возрастных групп: для последних гораздо более вероятно выдвижение на первый план ценностей благополучия, чем для старших. В этом отражается тот факт, что в годы своего личностного становления более молодые познали более высокую степень безопасности, чем, соответственно, в аналогичном возрасте — старшие. Фундаментальные ценностные перемены в том или ином данном обществе наступают главным образом по мере того, как когорты более ранних годов рождения сменяются когортами последующих годов. 6. Эти межгенерационные ценностные различия должны удерживаться довольно стабильно во времени: хотя в каждый данный момент непосредственные условия безопасности или небезопасности будут вызывать краткосрочные колебания, основополагающие различия между когортами более поздних и более ранних годов рождения будут сохраняться на протяжении длительных периодов. Молодые не переймут ценностей старших по мере собственного созревания и старения, как то случилось бы, если бы межгенерационные различия отражали эффекты жизненных циклов; в действительности молодые когорты и по прошествии двух или трех десятилетий будут по-прежнему демонстрировать отличительные ценности, характеризовавшие их в начале периода. 7. В общей межстрановой перспективе крупные массивы межгенерационных [ценностных] изменений будут обнаружены в тех странах, которые пережили относительно высокие темпы экономического роста. Если бы различия между 21 ценностями младших и старших представляли обычное свойство человеческого жизненного цикла, они обнаруживались бы повсюду. Но если, как это подразумевается в нашей теории, данный процесс вызывают исторические изменения степени [экзистенциальной] безопасности, испытываемой в годы, предшествующие повзрослению, тогда повозрастные различия [в ценностях], обнаруживаемые в данном обществе, отражают экономическую историю этого общества: разница между ценностями младших и старших будет наиболее значительной в таких странах, как Западная Германия и Южная Корея, переживших наибольший подъем благосостояния в последние 40 лет; и напротив, эта разница в ценностях будет невелика или даже будет отсутствовать в таких странах, как Нигерия и Индия, где с 1950 по 1990 г. имело место относительно незначительное приращение душевого дохода. Итак, высокие уровни процветания должны отзываться высокими уровнями постматериализма и других ценностей постмодерна; высокие темпы экономического роста должны порождать относительно быстрые темпы ценностных изменений и относительно крупные межгенерационные [ценностные] различия. 8. Наконец, теория межгенерационных ценностных изменений не только позволяет прогнозировать, какие виды ценностей и где именно должны выходить на поверхность, но и предсказывает, насколько значительный массив ценностных перемен должен наблюдаться в определенный период времени. Поскольку изменения базируются на смене поколений в населении, то, зная распределение ценностей по когортам годов рождения и величину когорт, можно оценить, насколько большой массив изменений будет произведен за тот или иной промежуток времени в результате смены поколений <...> Некоторые расчеты такого рода производились Абрамсоном и Инглхартом (1). СОЦИЕТАЛЬНЫЕ КОРНИ СДВИГА ПОСТМОДЕРНА: СОКРАЩЕНИЕ ОТДАЧИ ОТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Хотя культура способна оказывать формирующее воздействие на экономическую и политическую жизнь, столь же верно и то, что значительные социальноэкономические изменения переформировывают культуру. Сдвиг от модернизации к постмодернизации отражает сокращение приращиваемой полезности экономического детерминизма: экономическим факторам выпадает играть решающую роль в условиях скудости экономики, но с уменьшением нехватки облик общества в возрастающей степени определяют другие факторы. Так, посредством процессов случайной мутации и естественного отбора культура адаптируется к данной среде. В своей книге (9) мы исследуем действие этого процесса на индивидуальном уровне через смену поколений в населении. Ниже он будет рассмотрен на социетальном уровне. 22 Рисунок 1. Соотнесение средней продолжительности жизни с уровнем экономического развития Средняя вероятная продолжительность жизни соотнесена с ВНП на душу населения в 124 странах. Источник : Данные Всемирного банка: World Development Report, 1993. N.Y., Oxford Univ.Press, 1993. Рисунок 1 иллюстрирует уменьшение воздействия экономического развития на среднюю вероятную продолжительность жизни людей. Как здесь показано, продолжительность жизни тесно привязана к уровню экономического развития, особенно в нижней части шкалы экономического показателя. В бедных странах люди в среднем живут относительно недолго. Гвинея-Бисау находится на самом низком уровне как по доходу: ВНП на душу населения составляет здесь 180 дол., — так и по средней продолжительности жизни: 39 лет. Чуть выше этого уровня располагается группа стран с уровнем ВНП на душу населения менее 300 дол. и средней продолжительностью жизни 45 лет. Далее следует группа обществ с ВНП на душу населения от 1000 до 3000 дол. и показателями средней продолжительности жизни от 60 до 75 лет. В верхней части шкалы располагаются Япония и Швейцария, у которых показатели ВНП на душу населения составляют соответственно 28000 и 33000 дол., а средняя продолжительность жизни — 79 и 78 лет, т.е. вдвое выше, чем в Гвинее-Бисау. Не всегда подобные межстрановые соотношения отражают продвинутость в развитии, однако в данном случае это так: исторические факты свидетельствуют, что показатели продолжительности жизни действительно становились выше по мере экономического развития. Кривая круто поднимается вверх при относительно скромных приращениях уровня состоятельности, пока не проходит над точкой, соответствующей 3000 дол. на душу населения, после чего она выравнивается. Значимость экономических факторов уменьшается, и решающими во все большей степени становятся 23 факторы жизненного стиля. Среди наиболее бедных из стран, представленных на Рисунке 1, показатель ВНП на душу населения объясняет 51% различий в средней продолжительности жизни; в оставшейся "богатой" половине спектра он объясняет лишь 15% таких различий. Долголетие, при всей изрядной межстрановой вариации, все меньше зависит от достаточного питания и санитарных условий и все больше — от содержания холестерина в пище, от потребления табака и алкоголя, от подвижного образа жизни, уровней стресса и загрязнения окружающей среды. Продолжительность жизни все в большей мере определяется жизненным стилем и моделями поведения, а не экономикой. Некоторые поразительные культурные феномены последних лет можно считать рациональной ответной реакцией на этот сдвиг от экономических факторов к факторам образа жизни в качестве главных определяющих факторов выживания. Например, еще только поколение тому назад американцы слыли людьми, которых не заставишь пройти пешком даже небольшое расстояние. Шутили, что следующее их поколение уродится с колесами вместо ног. Ничего подобного: два десятилетия спустя распространилось новое увлечение — бег трусцой, поддержанию хорошей физической формы американцы стали уделять особое внимание. Они стали также усердно избегать холестерина и пищевых добавок, все успешнее развертывались в США движения против загрязнения окружающей среды и за запрещение курения в общественных местах, возрастал интерес к выработке менее напряженного образа жизни; все это говорит о распространяющемся осознании того, что долголетие ныне больше обусловлено образом жизни, чем доходом как таковым. Выравнивание кривой происходит отнюдь не по причине достижения предела. В 1975 г. лишь в нескольких странах средняя вероятная продолжительность жизни мужчин превышала 70 лет, а в последующие годы данный показатель уже в большинстве стран превысил эту отметку на несколько лет. К 1990 г. средняя продолжительность жизни женщин в Швейцарии и Японии превзошла уровень 80 лет, и это почти наверняка не является биологическим пределом. В передовом индустриальном обществе наиболее быстро увеличивающийся демографический сегмент составляют те, кому 100 и более лет. В большинстве развитых стран еще можно многое улучшать, но динамика продолжительности жизни уже не связана столь тесно с экономическим развитием, как во времена, когда главной причиной смертности было недоедание. Так, продолжительность жизни мужчин в бывшем Советском Союзе резко снизилась в 70—80-е годы и продолжала падать после развала СССР. В значительной части это, как представляется, отражает действие культурно-исторических факторов, таких как рост алкоголизма и нарастание психологического стресса. Совершенно иначе обстоит дело в восточноазиатских странах, издавна имеющих сверхвысокие показатели продолжительности жизни. Китай, Северная Корея, Южная Корея, Тайвань, Гонконг и Япония (ныне — мировой лидер по продолжительности жизни) — все они исторически демонстрировали более высокую продолжительность жизни, чем можно было бы ожидать, судя по их экономическому уровню. Страны бывшего Советского Союза являли противоположную тенденцию: почти все они десятилетиями имели более низкие показатели продолжительности жизни, чем можно было бы предполагать, исходя из их экономического уровня. Недавние перемены резко прорисовали эти тенденции — вплоть до того, что по сравнению с Россией в Китае сейчас продолжительность жизни выше, хотя ВНП на душу населения по-прежнему гораздо выше в России. Причины сложны, но они, как представляется, содержат значимую культурную компоненту: причем традиция злоупотребления алкоголем негативно сказывается на продолжительности жизни российских мужчин, а пища с низким содержанием холестерина, традиционная для Восточной Азии, возможно, позитивно влияет на продолжительность жизни в этом регионе. Как это и предполагает наша гипотеза уменьшающейся отдачи от 24 экономического развития, показатели ВНП на душу населения в логарифмически преобразованном виде демонстрируют лучшую, чем в линейной модели, соотносимость с показателями продолжительности жизни. На Рисунке 1, впрочем, представлены в непреобразованном виде показатели ВНП на душу населения, с тем чтобы продемонстрировать уменьшающееся воздействие экономических достижений. Подобного рода картину уменьшения отдачи от экономического развития можно получить и для любого из многочисленных других социальных индикаторов. Потребление калорий, уровень грамотности, количество врачей на единицу населения и др. объективные показатели — все они круто поднимаются вверх в нижней части шкалы, но среди передовых индустриальных обществ выравниваются. Словом, узкая сконцентрированность на экономических достижениях приносила колоссальную отдачу на ранних стадиях индустриализации: инструментальная рациональность, ассоциируемая с модернизацией, весьма хорошо вознаграждалась. Но с выходом на определенный достаточно высокий уровень индустриализации (соответствующий уровню ВНП надушу населения в 6—7 тыс. дол. по курсу 1990 г.) общество достигает точки, начиная с которой отдача уменьшается. Эта закономерность уменьшения приращиваемой отдачи от экономического развития не ограничивается объективными аспектами существования, такими как потребление калорий или продолжительность жизни. Данные из " Всемирного обзора ценностей" за 1990 г. показывают, что ее действие распространяется и на субъективное благополучие. Этот момент и демонстрируется на Рисунке 2, который составлен на основе ответов людей из 43 обществ на вопросы о том, насколько они счастливы и удовлетворены своей жизнью в целом. Как считается, такие вопросы зарекомендовали себя и в качестве отличных индикаторов общего субъективного благополучия, и в качестве относительно стабильных культурных характеристик (см. 3; 8, chapter 7). Как можно было бы и ожидать, субъективное благополучие повышается вместе с уровнями экономического развития: в таких богатых и характеризующихся [экзистенциальной] безопасностью (secure) обществах, как Швеция, люди более счастливы и удовлетворены своей жизнью в целом, чем живущие там, где распространены болезни и голод, например, в Индии. Общее отношение связи выражено впечатляюще сильно (г = 0,74). Но и здесь мы, опять-таки, обнаруживаем заметное выравнивание по достижении определенного порога. Этот эффект настолько отчетливо выражен, что прежние исследования, проводившиеся главным образом в богатых странах, завершались выводом об отсутствии на межстрановом уровне отношения связи между экономическим развитием и субъективным благополучием. Выше порога примерно в 6 тыс. дол. (по курсу 1991 г.) и впрямь практически отсутствует отношение связи между состоятельностью и субъективным благополучием. Так, ирландцы демонстрируют более высокий уровень субъективного благополучия, чем западные немцы, хотя последние вдвое богаче; а южнокорейцы субъективно столь же благополучны, что и японцы, хотя те более чем вчетверо богаче. Наше объяснение в данном случае является более умозрительным, чем предлагавшееся в связи с соотнесением экономического развития и продолжительности жизни. Мы знаем наверно, что многочисленные объективные показатели (от количества потребляемых калорий на человека и числа телефонов и автомобилей на душу населения и до средней продолжительности жизни) располагаются по кривой в соответствии с уменьшающейся отдачей: полные исторические данные показывают, что по мере экономического развития обществ все эти показатели поначалу резко возрастали — вплоть до достижения пункта, где отдача уменьшается, после чего дальнейший экономической рост вызывал лишь умеренные их приращения. Однако мы просто не располагаем такого же рода исторической информацией о соотношении между экономическим развитием и 25 субъективным благополучием: последнее лишь несколько десятилетий как стало измеряться, причем до недавнего времени оно измерялось лишь в небольшой группе богатых западных обществ. "Всемирный обзор ценностей" за 1990 г. явился первым исследованием, в котором его измерение осуществлялось по репрезентативным национальным выборкам, представляющим большинство населения мира. Рисунок 2. Экономическое развитие и субъективное благополучие N- 40; г - 0,74; р< 0,00001 Источник: Данные о субъективном благополучии — из "Всемирного обзора ценностей": World Development Report, 1993. N.Y., Oxford Univ.Press, 1993. Примечание: В индексе субъективного благополучия отражено среднее арифметическое между: (1) процентом тех в каждой стране, кто называет себя "очень счастливым" или "счастливым", минус процент тех, кто называет себя "не очень счастливым" или "несчастливым", и (2) процентом тех, кто помещает себя в диапазоне с пунктов 7-го по 10-й, минус процент тех, кто помещает себя в диапазоне пунктов с 1-го по 4-й, на шкале из 10 пунктов, где "1" означает, что данное лицо испытывает сильную неудовлетворенность своей жизнью в целом, а "10" — что данное лицо в высшей степени удовлетворено своей жизнью в целом. Одно из возможных объяснений Рисунка 2 могло бы состоять в том, что представленный на нем паттерн не имеет никакого отношения к экономическому развитию: по какой-то причине (может быть, культурной, или же в связи с климатом, или с географическим положением) Нигерия, Индия и Россия могли всегда иметь 26 низкий уровень субъективного благополучия; а Швеция, Дания и Нидерланды — по причинам, не имеющим ничего общего с экономическим развитием, — всегда высокий. Мы не можем опровергнуть такое объяснение, но оно представляется чрезвычайно неправдоподобным. Связь между уровнем экономического развития и субъективным благополучием весьма сильно выражена и обладает значимостью на уровне 0,00001: вряд ли она могла бы явиться результатом простой случайности. К тому же увязанность экономического уровня и субъективного благополучия проявляется не только в межстрановом ракурсе, но и внутри отдельных обществ: как и следовало бы, руководствуясь здравым смыслом, ожидать, люди с высокими доходами имеют в тенденции более высокие уровни субъективного благополучия, чем люди с низкими доходами. Более того, Восточная и Западная Германия являют своего рода контролируемый эксперимент, в котором национально-государственная принадлежность и культура — величины постоянные, но в Восточной Германии душевой доход намного ниже, чем в Западной: как и предполагает наш способ объяснения, западные немцы демонстрируют существенно более высокие уровни субъективного благополучия, чем восточные. Мало того, это же самое сравнение помогает объяснить, почему воздействие экономического развития в конце концов сглаживается: по придаваемому значению, экономические факторы (такие, как доход) имеют гораздо более высокий ранг у восточных немцев, чем у западных; и наоборот, неэкономическим аспектам жизни (таким, как свободное время) западные немцы придают намного более важное значение по сравнению с восточными (15, с. 441). То объяснение, согласно которому процветание и [экзистенциальная] безопасность способствуют субъективному благополучию, подтверждается далее чрезвычайно низкими уровнями благополучия в экс-советских обществах. Как было замечено выше, данное обстоятельство можно было бы приписать чему-то внутренне присущему славянской (а также балтийской) культуре или советскому типу социализма. Однако гораздо более очевидное объяснение указанного факта — его связь с распадом экономической, политической и социальной ткани этих обществ. Если еще во "Всемирном обзоре ценностей" за 1981 г. выборка по Тамбовской области России продемонстрировала относительно низкие уровни субъективного благополучия, то уровни 1990 г. были вообще ниже всех зарегистрированных когда-либо прежде — будь то в Тамбовской области России или в какой бы то ни было другой стране. Мы должны отметить, что эти феноменально низкие уровни субъективного благополучия проявились до политического распада Советского Союза в декабре 1991 г.: они были важным знаком глубокой деморализации и неудовлетворенности в массах, а не просто ответной реакцией на политический крах. Наша интерпретация сводится к тому, что государства, в скором времени ставшие преемниками Советского Союза, в 1990 г. переживали глубоко болезненное состояние, чреватое драматическими последствиями. До получения данных, необходимых для выстраивания более длинных временных рядов, не будет возможности окончательно доказать или опровергнуть нашу трактовку, состоящую в том, что экономический рост ведет к повышению субъективного благополучия вплоть до достижения некоего пункта, с которого наступает уменьшение отдачи. Хотя эта трактовка подкрепляется тем фактом, что среди процветающих обществ Европейского союза субъективное благополучие является примерно постоянным с 1973 г.: его уровень слегка повышался в одних из этих обществ (например, в Западной Германии) и несколько снижался в других (например, в Бельгии), но все-таки ясной общей тенденции нет. Внутри богатых обществ корреляция между доходом и субъективным благополучием относительно слаба. В обществах, где более высокий доход может составить разницу между выживанием и голодом, это и оказывается, в первом приближении, вполне подходящим выражением реального смысла благополучия; но в богатых 27 обществах различия в доходах на удивление мало сказываются на субъективном благополучии: богатые счастливее и удовлетвореннее бедных, но лишь в скромной мере (3; 5; 8). Общие данные подкрепляют тезис об уменьшении приращения пользы от экономических достижений. Как можно судить по Рисунку 2, с переходом от общества скудости к обществу [экзистенциальной] безопасности резко повышается субъективное благополучие. Но по достижении порога (он примерно соответствует экономическому уровню Ирландии 1990 г.) экономический рост, кажется, больше уже не увеличивает в существенной мере субъективное благополучие. Это может быть связано с тем, что при указанном уровне голод уже не составляет реальной проблемы для большинства людей. Выживание начинает приниматься как должное. Начинают появляться, в значительном числе, постматериалисты, а им дальнейшие экономические достижения не добавляют субъективного благополучия. Более того, если дальнейший экономический рост принесет с собой ухудшение нематериального качества жизни, это фактически может привести к снижению уровней субъективного благополучия. Все готово для начала сдвига постмодерна. Рисунок 3. Экономическое развитие ведет к сдвигу в стратегиях выживания С позиций рационального актора можно ожидать, что экономическое развитие в конце концов приведет к сдвигу в стратегиях выживания. Рисунок 3 позволяет судить о том, как срабатывает механизм такого сдвига. При низких уровнях экономического развития даже скромные экономические достижения отзываются большой отдачей, выражающейся в потребляемых калориях, одежде, жилье, медицинском обслуживании и в конечном счете в самой продолжительности жизни. В высшей степени эффективная стратегия выживания для индивидов — отдавать высший приоритет максимизации экономических достижений, а для общества — экономическому росту. Но с выходом общества на определенный порог в развитии — примерно на уровень развития Советского Союза до его распада, или на 28 уровень нынешних Португалии или Южной Кореи — достигается точка, начиная с которой дальнейший экономический рост дает лишь минимальные приращения как продолжительности жизни, так и субъективного благополучия. Пусть все еще имеет место немалая межстрановая вариация — все равно, начиная с этой точки все более важными факторами продления и улучшения человеческой жизни становятся ее неэкономические аспекты. После достижения указанной точки рациональная стратегия состояла бы во все большем преимущественном внимании к проблемам качества жизни, а не в упрямом стремлении к экономическому росту, как если бы он был благом сам по себе. Инструментальная рациональность начинает уступать место ценностной рациональности. Культура обычно меняется медленно; но она в конце концов все-таки отвечает на вызов меняющейся среды. Перемены в социально-экономической среде, воздействуя на жизненный опыт индивидов, тем самым способствуют переформированию убеждений, позиций и ценностей на индивидуальном уровне. Культуры не меняются вдруг. Раз достигнув зрелости, люди обычно сохраняют усвоенное мироотношение, каким бы оно ни было. Следовательно, существенные перемены в среде обычно значительнее всего влияют на те поколения, представители которых жили при новых условиях в годы личностного становления. Наилучшим образом документированный пример развития событий в рамках данного феномена — сдвиг от "материалистических" к постматериальным ценностям в западных обществах в последние несколько десятилетий. Это тот редкий случай, когда, изучая постепенный культурный сдвиг, в основе которого — смена поколений в населении, мы можем проследить, как он происходил во времена процветания и спада и притом в самых разнообразных условиях различных обществ. Вряд ли для каких-либо других культурных переменных имеются в наличии сравнимые данные; однако нет причин считать, что данная модель не приложима к переменам в других основных ценностях. Культура противится переменам — отчасти потому, что люди склонны верить всему, что им внушают институты их общества. Но на мироотношение человека влияет и его собственный непосредственный опыт, которому он может довериться с еще большей готовностью. В этом одна из причин, почему политические системы, даже тоталитарные, обладают лишь ограниченной способностью переформировывать свою культуру. Люди чутки к тем аспектам реальности, которые прямо их затрагивают. Это было решающим в сдвиге к ценностям постмодерна. Представители когорт более поздних годов рождения почувствовали в годы своего личностного становления, что выживание не является проблемой, дающей повод для опасений, и что они могут принять его более или менее как должное. То, с чем столкнулись они, глубоко отличалось от условий, в которых складывалась жизнь большинства людей на протяжении большей части истории. Это повело к всеохватным переменам в мироотношении. Максимизация экономических обретений уже не максимизировала для этих генерационных когорт субъективное благополучие, как то было у прежних поколений. Речь не шла об осознанном намерении изменить свое мироотношение. По ряду разнообразных причин, подобно случайным мутациям, возникали новые воззрения и новые манеры поведения — и некоторые из них получали распространение. Даже в пределах той или иной генерационной когорты многие продолжали принимать установившиеся нормы индустриального общества; но другие усваивали новые ориентации и передавали их некоторым из сверстников через процессы социального обучения. Изменения были неравномерны. Но новые жизненные стили постепенно распространились — и в конечном счете это произошло потому, что они представляют более эффективные способы максимизировать выживание и субъективное благополучие в новых условиях. На гораздо более раннем этапе истории новые нормы, связанные с восхождением общества модерна (такие, как протестантская этика), постепенно распространились в чем-то 29 похожим манером. Мы не располагаем подробной информацией о том, как это было, но представляется, что все происходило медленнее, чем восхождение ценностей постмодерна, которое в некоторых отношениях представляет собой процесс, обратный первому. В обоих случаях культуру постепенно переформировывали изменения в социально-экономической среде; а эти культурные изменения в конечном счете оказывали обратное воздействие, способствовавшее переформированию политической и экономической жизни. Постмодернизация представляет собой сдвиг в стратегиях выживания. Она движется от максимизации экономического роста к максимизации выживания и благополучия через изменения образа жизни. После того как некогда стала возможной индустриализация, модернизация сконцентрировалась на быстром экономическом росте как наилучшем способе максимизации выживания и благополучия. Но никакая стратегия не является оптимальной на все времена. Модернизация ознаменовалась потрясающим успехом в деле увеличения продолжительности жизни, но отдача от нее в передовых индустриальных странах стала уменьшаться. Акцентируя конкуренцию, она уменьшает риск голода, зато приводит к нарастанию психологического стресса. С переходом от модернизации к постмодернизации траектория перемен сдвинулась от максимизации экономического роста к максимизации качества жизни. ЛИТЕРАТУРА 1. Abramson P.R., Inglehart R. Generational Replacement and Value Change irt Eight West European Societies. — "British Journal of Political Science", 1992, № 22, p. 183 — 228. 2. Abramson P.R., Inglehart R. Value Change in Global Perspective. Ann Arbor, 1995. 3. Andrews F. (ed.). Research on the Quality of Life. Ann Arbor, 1986. 4. Burkhart R.E., Lewis-Beck M.S. Comparative Democracy: the Economic Development Thesis. — "American Political Science Review", 1994, vol. 88, № 4, p. 903 — 910. 5. Campbell A., Converse Ph.E., Rodgers W. The Quality of Life. N.Y., 1976. 6. Inglehart R. The Silent Revolution in Europe. — "American Political Science Review", 1971, № 4, p. 991 — 1017. 7. Inglehart R. The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles. Princeton, 1977. 8. Inglehart R. Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton, 1990. 9. Inglehart R. Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies. Princeton, Princeton Univ. Press, 1997. — (Forthcoming). (К настоящему времени эта книга уже вышла в свет. —Ред.) 10. Jennings M.K., Mark us G. Partisan Orientations over the Long Haul. Results from the Three-Wave Socialization Panel. — " American Political Science Review", 1984, vol. 78, p. 1000— 1018. 11. Jennings M.K., Niemi R.G. Generations and Politics. Princeton, 1981. 12. Lipset S.M. Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy. — "American Political Science Review", 1959, vol. 53, p. 69 — 105. 13. Lipset S.M. Political Man, N.Y., 1960. 14. Maslow A.K. Motivation and Personality. N.Y., 1954. 15. Statistisches Bundesamt, Datenreport, 1994. Bonn, Bundeszentrale fur politische Bildung, 1994. 16. Weber M. [1904— 1905]. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, N.Y., 1958. 30