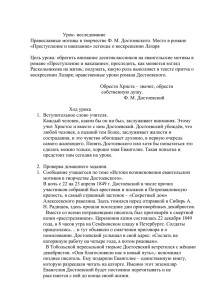Белокурова С.П. "Проект "Современная
реклама
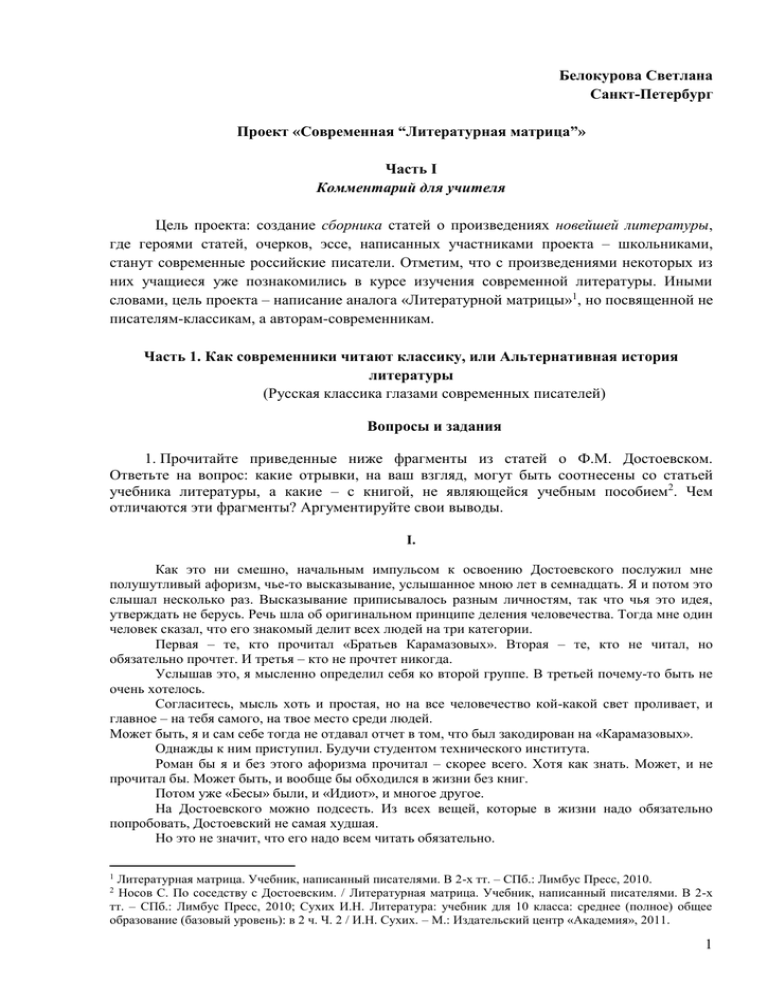
Белокурова Светлана Санкт-Петербург Проект «Современная “Литературная матрица”» Часть I Комментарий для учителя Цель проекта: создание сборника статей о произведениях новейшей литературы, где героями статей, очерков, эссе, написанных участниками проекта – школьниками, станут современные российские писатели. Отметим, что с произведениями некоторых из них учащиеся уже познакомились в курсе изучения современной литературы. Иными словами, цель проекта – написание аналога «Литературной матрицы»1, но посвященной не писателям-классикам, а авторам-современникам. Часть 1. Как современники читают классику, или Альтернативная история литературы (Русская классика глазами современных писателей) Вопросы и задания 1. Прочитайте приведенные ниже фрагменты из статей о Ф.М. Достоевском. Ответьте на вопрос: какие отрывки, на ваш взгляд, могут быть соотнесены со статьей учебника литературы, а какие – с книгой, не являющейся учебным пособием2. Чем отличаются эти фрагменты? Аргументируйте свои выводы. I. Как это ни смешно, начальным импульсом к освоению Достоевского послужил мне полушутливый афоризм, чье-то высказывание, услышанное мною лет в семнадцать. Я и потом это слышал несколько раз. Высказывание приписывалось разным личностям, так что чья это идея, утверждать не берусь. Речь шла об оригинальном принципе деления человечества. Тогда мне один человек сказал, что его знакомый делит всех людей на три категории. Первая – те, кто прочитал «Братьев Карамазовых». Вторая – те, кто не читал, но обязательно прочтет. И третья – кто не прочтет никогда. Услышав это, я мысленно определил себя ко второй группе. В третьей почему-то быть не очень хотелось. Согласитесь, мысль хоть и простая, но на все человечество кой-какой свет проливает, и главное – на тебя самого, на твое место среди людей. Может быть, я и сам себе тогда не отдавал отчет в том, что был закодирован на «Карамазовых». Однажды к ним приступил. Будучи студентом технического института. Роман бы я и без этого афоризма прочитал – скорее всего. Хотя как знать. Может, и не прочитал бы. Может быть, и вообще бы обходился в жизни без книг. Потом уже «Бесы» были, и «Идиот», и многое другое. На Достоевского можно подсесть. Из всех вещей, которые в жизни надо обязательно попробовать, Достоевский не самая худшая. Но это не значит, что его надо всем читать обязательно. Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. В 2-х тт. – СПб.: Лимбус Пресс, 2010. Носов С. По соседству с Достоевским. / Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. В 2-х тт. – СПб.: Лимбус Пресс, 2010; Сухих И.Н. Литература: учебник для 10 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень): в 2 ч. Ч. 2 / И.Н. Сухих. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. 1 2 1 Если вам все в себе понятно, если у вас не возникает трудных вопросов – ни к себе, ни к окружающему вас миру… если вы уверены, что так у вас будет всегда да и вы сами всегда будете и ни в чем не убудете, на кой леший вам этот Достоевский? Зачем душу зря тревожить? Он и нравиться всем не обязан. <…>. Нет, было бы вполне нормально, если бы «нормальный» человек как-нибудь впал в оторопь, только лишь поглядев на тридцать томов, не умещающихся на одной полке. Как можно столько понаписать было? Без компьютера и не шариковой ручкой даже – пером, которое окунают в чернильницу?! Это ж надо было всю жизнь, поди, сидеть в кабинете, писать и писать, жизни не видя? Да было ли у него в жизни что-нибудь, кроме этого неустанного сочинительства? Если мы говорим о Достоевском (а мы говорим о нем), то тут нам надо подивиться другому: как это при такой бурной жизни, вообще оставалось место писательству? Есть такая достаточно редкая категория творческих людей, сознательно создающих свою жизнь, как художественное произведение (скажем, к ним относился поэт Байрон). Достоевский не был художником жизни, о красоте своей биографии не заботился, специально приключений не искал, не позволял себе красивых жестов, обязанных запомниться потомкам, он просто жил, но вся жизнь его состоит из таких ярких и выразительных эпизодов, что может показаться, будто она кем-то выдумана, изобретена – слишком уж много событий на долю одного человека. Если представить невозможное – конкурс писателей всех времен и народов на самый крутой эпизод в биографии, пожалуй, Достоевскому равных не будет. И не обязательно писателей представлять – да хоть любого возьмем: в самом деле, выслушать на морозе – с барабанной дробью – смертный себе приговор и в белой длинной рубашке-саване мысленно попрощаться с жизнью, такое не со всяким случается. Судьба распорядилась так, что молодой и успешный писатель Федор Достоевский оказался в тайном обществе, хотя какое это было «общество» – так, просветительские собрания на квартирах. Чаще всего собирались у Петрашевского, был он за лидера, отчего и назвали потом всю компанию петрашевцами. «Потом» – это когда объявили государственными преступниками. Лично Достоевскому, главным образом, вменялось в вину публичное чтение письма Белинского Гоголю. Белинский сегодня не самый популярный литератор, но, если кто пожелает ощутить себя в коже государственного преступника, которого приговорят к «расстрелянию», пусть прочтет это письмо и непременно вслух – как тогда Достоевский. Итак: арест – следствие – приговор. Представьте: Снег. Площадь. Войска. Осужденные под конвоем. До сего дня каждый из них провел восемь месяцев в одиночной камере Петропавловской крепости. Вот три врытых в землю столба. К ним уже привязали первых троих с завязанными глазами. Достоевский на очереди, он смотрит на небо. Солдаты с заряженными ружьями строятся в линию. Звучит команда «прицель!». Сейчас будет «пли!». В этот момент, в «последний момент», и оглашается другой приговор: всем дарована жизнь. Каждому – свое. Достоевскому – четыре года каторги, а потом в рядовые. Ошеломленных «злоумышленников» одевают в теплую одежду. Петрашевского прямо отсюда отправляют в Сибирь. Остальных – назад, в Петропавловскую крепость. Пока. <…>. Ладно – казнь на плацу, каторга, острог – это все очень и очень индивидуальное, почти небывалое, совершенно в своем роде исключительное (с кем еще могло приключиться такое?). Но возьмем то, что свойственно всем, – вот, скажем, любовь. Каждый рано или поздно влюбляется. И пусть любая любовь сама по себе всегда чем-то особенна, у Достоевского и здесь уж слишком все получается по-особенному. (Он-то влюблялся, это мы знаем..) Любовь вчерашнего каторжника, солдата, к замужней женщине: страсть, экзальтация, самопожертвование, отчаянные поступки вроде рывка из одного сибирского города в другой – без позволенья сурового начальства (в самоволку, сказали бы мы); свадьба, омраченная тяжелым припадком… Бурный роман со взбалмошной красавицей, студенткой, из первой генерации русских нигилисток, она требует от него жертвенной самоотдачи и подчиненья, он старше ее на девятнадцать лет; биографы скажут: «роковая любовь». Анна Григорьевна, его вторая жена и мать его детей – это уже «тихая гавань» (относительно тихая – с учетом множества житейских приключений), да только обстоятельства их знакомства и предложенья руки «эксклюзивны» настолько, что можно точно утверждать: ничего подобного ни с кем другим не было и не будет. 2 II. В 1850 году А. И. Герцен составил мартиролог (список мучеников) русской литературы. В нем были писатели, погибшие на дуэлях и в сражениях (как Пушкин, Лермонтов и БестужевМарлинский), повешенные (как Рылеев) и даже «убитые обществом» (как Кольцов и Веневитинов). Но даже на этом трагическом фоне судьба Достоевского уникальна. Он побывал на самом краю, в минуте от смерти, и внезапно вернулся оттуда, чтобы рассказать человеку и человечеству о самых важных вещах, последних вопросах. Зимой 1849 года в Петербурге в присутствии трех тысяч человек состоялась казнь арестованных по делу петрашевцев. «Сегодня 22 декабря нас отвезли на Семеновский плац. Там всем нам прочли смертный приговор, дали приложиться к кресту, переломили над головою шпаги и устроили наш предсмертный туалет (белые рубахи). Затем троих поставили к столбу для исполнения казни. Я стоял шестым, вызывали по трое, следовательно, я был во второй очереди и жить мне оставалось не более минуты. Я вспомнил тебя, брат, всех твоих; в последнюю минуту ты, только один ты, был в уме моем, я тут только узнал, как люблю тебя, брат мой милый! Я успел тоже обнять Плещеева, Дурова, которые были возле, и проститься с ними. Наконец ударили отбой, привязанных к столбу привели назад, и нам прочли, что его императорское величество дарует нам жизнь. Затем последовали настоящие приговоры». Настоящим приговором было четыре года каторги и последующая бессрочная сдача в солдаты. Рассказав историю своего чудесного спасения брату, двадцативосьмилетний «преступник» дает свою «аннибалову клятву». «Как оглянусь на прошедшее да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неуменье жить; как не дорожил я им, сколько раз я грешил против сердца моего и духа, — так кровью обливается сердце мое. Жизнь — дар, жизнь — счастье, каждая минута могла быть веком счастья. Si jeunesse savait! <Если бы молодость знала. - И. С.> Теперь, переменяя жизнь, перерождаюсь в новую форму. Брат! Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте. Я перерожусь к лучшему. Вот вся надежда моя, всё утешение мое». «Каждая минута могла быть веком счастья…» Такие клятвы будет давать себе и Толстой. Так, вообще, строят в юности планы целеустремленные люди. Никогда не осуществляясь до конца из-за предельности требований, подобные мечты, тем не менее, позволяют человеку далеко продвинуться по жизненному пути к намеченной цели. Если, конечно, такая цель существует. А о своей цели, своем призвании Достоевский не забывает даже в эту минуту. «Неужели никогда я не возьму пера в руки? <…> Боже мой! Сколько образов, выжитых, созданных мною вновь, погибнет, угаснет в моей голове или отравой в крови разольется! Да, если нельзя будет писать, я погибну. Лучше пятнадцать лет заключения и перо в руках» (М. М. Достоевскому, 22 декабря 1849 года). Перо в руки он сможет взять лишь через десять лет. Но и на Семеновский плац он пришел уже известным писателем и много пережившим человеком. <…>. III. Весной 1847 года Достоевский начинает посещать «пятницы» М.В. БуташевичаПетрашевского. Члены кружка спорили об отмене крепостного права и свободе книгопечатания, обсуждали литературные проблемы. На одном из собраний Достоевский читает письмо недавно умершего Белинского к Гоголю (запрещенное к распространению, оно будет опубликовано в России лишь в 1905 году). Споры и разговоры закончились трагически. В кружок Петрашевского внедрили тайного агента. Участники кружка (в русской истории они навсегда останутся «петрашевцами») после суда и следствия были приговорены к смертной казни и разным срокам заключения. Виной Достоевского, достаточной для расстрела, следователи посчитали «недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского». О замене расстрела каторгой Достоевский вместе с товарищами узнал лишь на Семеновском плацу после той самой минуты ожидания неминуемой смерти. 3 «Каторжные» годы учения сменились настоящей каторгой, которую Достоевский отбыл в Омском остроге. Потом он служил рядовым в Семипалатинске, после смерти императора Николая был произведен в унтер-офицеры и лишь в декабре 1859 года, после недолгого пребывания в Твери, вернулся в Петербург. Как он не раз утверждал – вернулся другим человеком. Столкнувшись на каторге со злобой и ненавистью народа к «образованным», Достоевский переживает «перерождение убеждений». От либерального западничества (которое отчетливо проявилось в читанном им письме Белинского к Гоголю) он переходит к почвенничеству. Почвенники, как и близкие им славянофилы, пытались понять и обосновать своеобразие русского национального развития в его отличиях от европейской истории. Образованные люди, интеллигенция должны обратиться к «народному корню, к узнанию русской души, к признанию духа народного», – считает Достоевский. Основой этого духа является религиозная вера. Следовательно, на смену атеизму, ведущему к нигилистическому отрицанию, должна придти вера в Создателя, определяющая жизнь простого народа. «Этому, порвавшему с народом, “интеллигентному” русскому удивительно было бы услышать, что этот безграмотный мужик вполне и незыблемо верует в Божие единство, в то, что Бог един и нет другого Бога, такого, как он. <…> Прежде всего, интеллигентный русский, порвавший с народом, не захочет допустить даже возможности того, чтоб русский мужик, ничему не учившийся, мог иметь такие знания: “Он так необразован, так темен, его ничему не учат, где его учитель?” Он не поймет никогда, что учитель мужика “в деле веры его” – это сама почва, это вся земля русская, что верования эти как бы рождаются вместе с ним и укрепляются в сердце его вместе с жизнию» («Дневник писателя», 1877, январь). Борьба с нигилизмом за обретение этой народной веры, возвращение к почве станет пафосом позднего творчества Достоевского. Начав с романа в духе Ч. Диккенса «Униженные и оскорбленные» (1861), Достоевский «возобновил литературную репутацию» «Записками из «Мертвого дома» (1860 -1861). Книга, опирающаяся на личный опыт, дала поразительную картину русской каторги. Образ Мертвого дома одновременно стал символом предреформенной русской жизни. Л. Толстой утверждал, что не знает «лучше книги изо всей русской литературы, включая Пушкина». Страницы, посвященные каторжной бане, современники сравнивали с картинами дантовского ада. «Записки из Мертвого дома» встают в ряд замечательных книг-поступков, имевших огромное общественное значение («Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, «Остров Сахалин» А. П. Чехова, «Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Солженицына). IV. Парадокс в том, что душегуб Раскольников – объективно честный, порядочный человек. Действительно, что мы можем сказать о нем плохого, помимо того, что он убийца? Ну да, раздражителен, необщителен, замкнут в себе, что еще?.. Индивидуалист, не замечен в особой любви к человечеству… Да ладно! Попрекнем занудством еще и угрюмостью… Бедность, неудачи, депрессия – существует достаточно причин, которыми можно объяснить не лучшие проявления индивидуальности Родиона Романовича. Важнее другое. Раскольников – человек, не способный на подлость. Представления о справедливости обострены в нем. Там, где иные не замечают зла, он способен совершить поступок. Даст отпор негодяю. Не допустит, чтобы пьяная девочка стала объектом притязаний уличного развратника. Не будь он убийцей, мы бы смело зачислили Раскольникова в ранжир так называемых положительных героев (с трудным характером). Да ведь он и на преступление решается по справедливости – по странно им понятой справедливости, будто бы исправляющей какую-то мировую погрешность. Жесткий экспериментатор Достоевский действительно доводит своего героя «до крайности». Если убийство процентщицы еще хоть как-то согласуется с сумасбродной теорией Раскольникова, то Лизавета – жертва безвинная во всех отношениях, никакими концепциями не предусмотренная, никакими теориями не санкционированная. Лизавета из всех персонажей, населивших этот роман, – существо самое беззащитное и покорное. И именно ей, Лизавете, суждено погибнуть под топором идейного убийцы, в иной, более счастливой ситуации способного ей в чем-то, возможно, сочувствовать и, быть может, даже чем-нибудь помогать. Но та пьяная, уснувшая на скамейке девочка, незавидным положением которой обеспокоится Раскольников, оказалась бы она в иной ситуации – случайно здесь, в квартире Алены Ивановны, на месте этой 4 несчастной Лизаветы, и что бы? – Раскольников не занес бы над ней свой топор? Опуская топор на голову человека, идейный исправитель несправедливости становится (логикой не абстрактных теорий, а конкретного преступления) простым палачом, мясником, грязным убийцей – сказать посовременному, отморозком. Убивая другого, он убивает себя. Все связано в этом мире. Взять только одну деталь: как-то раз Лизавета чинила Раскольникову рубашку, теперь одежда Раскольникова запачкана ее кровью. А потом кровь будет (по слову Настасьи) «кричать» – в ушах ли, в мозгу ли, в печенках ли Родиона Романовича. Добро пожаловать в ад. Сны такие бывают, когда ты, хороший, правильный, честный, понимаешь вдруг, что совершил нечто непоправимое, преступное, не свойственное твоей доброй натуре, и что с этим ужасным надо что-то делать теперь, перед лицом всевозможных угроз, а делать нечего, уже ничего не поправишь, – это кошмар безысходности. И только когда просыпаешься в холодном поту, понимаешь, как хороша жизнь – куда лучше, чем ты представлял еще вчера вечером. Не знаю, как у других, а у меня большая часть «Преступления и наказания» оставляет смутное ощущение подобного приглушенного кошмара, только не со мной, сновидцем, случившегося, а с другим – другим хорошим, правильным, честным. Еще бы! – волею автора мы, читатели, обречены до известного, конечно, предела, но все же отождествлять себя с героем романа, одновременно ощущая почти постыдную тихую радость от осознания счастливой разницы между собой и им. Что до него, до Раскольникова, он свое получил сполна. Убийство – это всегда самоубийство. «Разве я старушонку убил? Я себя убил», – и никакое не прозрение это, а трезвая констатация состояния души: ее мертвенности. Финальная сцена в эпилоге романа – на вековечном просторе над широкой рекой (степь, стада, звучащая песня…) – возвращение к жизни Раскольникова-каторжанина, со слезами и обниманием Сониных колен, и предвещанием ей и ему «нестерпимой муки» и «бесконечного счастья» на годы вперед – многим кажется сентиментальной и лишней. Воля ваша, господа, но без нее не было бы и романа. Потому что «Преступление и наказание» всеми своими силовыми линиями стягивается к этой точке: не про то роман, что убивать плохо, и не просто про то, что возмездие всегда настигнет преступника, – о чем бы ни был роман, он еще и о возможности возвращения к жизни, спасения. О возможности воскресения и преодоления личного ада. V. Уже в первой части романа сюжет и фабула начинают двигаться в разных направлениях. С той же неумолимостью и неотвратимостью, с какой обстоятельства способствуют совершению преступления (Раскольников случайно узнает, что старуха будет дома одна, незаметно крадет топор, чудом спасается после убийства), случайности жизни начинают опровергать так хорошо продуманное «дело».<…>. Главным зеркалом героя оказывается Софья Семеновна Мармеладова. Соня – не двойник, а оппонент, носительница иной, принципиально отличной от раскольниковской, идеи. Убийство, по мысли Достоевского, отрезает человека от человечества. Раскольников после убийства начинает почти ненавидеть самых близких людей, мать и сестру. Но зато он чувствует тягу к беседам с Свидригайловым, тоже нарушившим вечные человеческие законы. И только знакомство, и постепенное сближение с Соней становится началом его медленного, мучительного перерождения. В судьбе Сони совмещаются преступление и жертва. «Разве ты не то же сделала? Ты тоже переступила... смогла переступить. Ты на себя руки наложила, ты загубила жизнь... свою (это всё равно!)», – говорит Раскольников. Именно потому, что Соня оказывается по ту сторону нравственной границы, она кажется самым близким герою человеком. «Стало быть, нам вместе идти, по одной дороге! Пойдем!» (ч. 4, гл.4). Однако внешнее сходство между «преступившими» героями оборачивается их принципиальным различием. Соня нарушает нравственные нормы не экспериментируя, а спасая ближних. И жертвует она не чужой жизнью, а собственной. <…>. «Свидригайлов – отчаяние, самое циническое. Соня – надежда, самая неосуществимая (Это должен высказать сам Раскольников.). Он страстно привязался к ним обоим», – замечает Достоевский в черновиках романа. 5 Если со Свидригайловым герой чувствует страшное взаимное родство, и потому избегает его, отталкивается от него, то Раскольников и Соня с первой же встречи тянутся друг к другу, как притягиваются друг к другу разноименные полюса магнита. Раскольников (как и Свидригайлов) – это доведенные до предела человеческая гордыня, отрицание мира, презрение к людям. Соня – смирение, страдание и «ненасытимое сострадание», самопожертвование. Поступки героя, начиная с его теории, диктуются взбесившимся, потерявшим контроль разумом. Соня живет сердцем, душой, чувством. Раскольников, как мы узнаем из беседы со Свидригайловым, не верит в будущую жизнь. Вера Сони только и поддерживает ее в жизни, избавляет от мыслей о самоубийстве. «Что ж бы я без Бога-то была?» – быстро, энергически прошептала она, мельком вскинув на него вдруг засверкавшими глазами, и крепко стиснула рукой его руку». Процесс возвращения героя к людям начинается с совместного чтения Евангелия. В этой сцене отчетливо проявляется философский характер романов Достоевского. Оказывается, герои «Преступления и наказания» – вариации вечных типов, корни которых уходят в Евангелие. «Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги (ч. 4, гл. 4). Историю чудесного воскресения Лазаря герои воспринимают как свою историю – с надеждой на чудо собственного нравственного воскресения. Именно блудница с помощью «вечной книги» спасает убийцу. Раскольников исповедуется Соне, открывает ей тайну своего преступления, под ее влиянием идет на добровольное признание. Но этот процесс тоже оказывается сложным, психологически напряженным приключением духа. <…>. Временами герой чувствует «едкую ненависть» и к самой Соне, все время напоминающей ему о нравственном законе, который «кричит в нас». Но она непрерывно сопровождает его «скорбное шествие». Даже его признание в полицейском управлении происходит не сразу. Герой появляется в конторе, так и не решается ничего сказать, выходит на улицу и видит там бледное, помертвевшее, отчаянное лицо Сони. Только после этого он возвращается и делает окончательное признание. Но и это признание – лишь очередная кульминация романа, но не его развязка. <…>. VI. Есть два типа эпилогов. Последняя глава-эпилог «Отцов и детей» кратко рассказывает о жизни героев после окончания основного действия. Это закрытый финал. Эпилог «Преступления и наказания» (как ранее окончание «Евгения Онегина», как позднее эпилог «Войны и мира») относится к типу открытых финалов. Эпилог Достоевского не досказывает, а открывает новую перспективу, оказываясь еще одним важным сюжетным звеном романа. Крушение героя и развенчание идеи разведены у Достоевского по времени. Уже признавшись и отбывая наказание, Раскольников по-прежнему не раскаивается в идее. «… в чем одном признавал он свое преступление: только в том, что не вынес его и сделал явку с повинною. Он страдал тоже от мысли: зачем он тогда себя не убил». Возвращаясь назад, в прежнее состояние духа, герой снова с симпатией вспоминает Свидригайлова и его самоубийство. Ненависть других каторжан, ощущение бездны между собой и ними, образует для героя очередной нравственный тупик. Выход из него намечен на последних страницах эпилога. Достоевский часто использует «вещие сны» как важный художественный прием. Детский сон о забитой лошади предваряет преступление Раскольникова. Сон о моровой язве в эпилоге предваряет его последнее перерождение. Упорство уверенных в своей «непоколебимой истине» людей превращает их в «бесноватых и сумасшедших». Отсутствие общих представлений о добре и зле ведет к страшным войнам и убийствам, моровой язве, уничтожающей все человечество, за исключением нескольких «чистых и избранных, предназначенных начать новый род людей». Такова судьба мира, если бы он полностью состоял из Наполеонов или Раскольниковых. Очнувшись от этого мучительного сна-болезни ранним утром, герой видит пустынную реку и необозримую степь, слышит какую-то песню. «Там была свобода и жили другие люди, 6 совсем не похожие на здешних, так как бы самое время остановилось, точно не прошли еще времена Авраама и стад его». Два хронотопа, два образа мира – гибельного безумия и древней (и вечной) гармонии – символически сопоставлены друг с другом. «Вдруг» (в романах Достоевского чрезвычайно важны подобные вдруг, через несколько строк оно повторится еще раз) рядом с героем появляется Соня – и происходит, наконец, настоящее возрождение Раскольникова, его возвращение в покинутый когда-то христианский мир. <…>. Работая над романом, Достоевский специально помечает для себя: «ПОСЛЕДНЯЯ СТРОЧКА: Неисповедимы пути, которыми находит Бог человека». Последняя строчка, в конце концов, оказалась другой, но смысл финала «Преступления и наказания» остался именно таким. Бог нашел человека. Самоотверженная, самозабвенная любовь воскресила, переродила героя, вернула его в мир «живой жизни», о которой когда-то предупреждал Порфирий Петрович. «Что ж, страданье тоже дело хорошее. Пострадайте. Миколкато, может, и прав, что страданья хочет. Знаю, что не веруется, – а вы лукаво не мудрствуйте; отдайтесь жизни прямо, не рассуждая; не беспокойтесь, – прямо на берег вынесет и на ноги поставит». Теперь Раскольников готов к страданию и будущему подвигу. ««Вместо диалектики наступила жизнь…» <…>. Идея Раскольникова в романе прошла полный цикл и изжила себя: убийство и отпадение от человечества – страдание, признание, наказание – раскаяние, любовь, обретение Бога и возвращение к людям. Но жизнь, изображенная в романе, страшная судьба многих униженных и оскорбленных оказывается шире философской идеи и не поддается окончательному разрешению. Раскольникова спасает Соня. Судьбы ее брата и сестры устраивает перед самоубийством Свидригайлов. Дуню выручает влюбленный в нее Разумихин. Человека спасает другой человек, но дыра в бытии затягивается лишь в этом месте. Все остальные проблемы остаются нерешенными. Хватит ли на всех любви «вечной Сонечки»? Кто спасет погибающий от безумия мир? Всегда ли находит Бог человека и как быть, если человек не находит его? Эти вопросы философский роман Достоевского оставил решать двадцатому веку. 2. Предположите, о каком авторе-классике XIX или ХХ вв. идет речь в «Литературной матрице» в статьях с такими названиями: «Ум – хорошо, а сердце лучше»3, «Муза мести и радости»4, «Человечкина душа»5, «Сам себе человек»6, «Тайна золотого ключика»7, «Идеальный писатель»8. Аргументируйте свое мнение. 3. Прочитайте 3 - 4 статьи (по выбору) в книге «Литературная матрица» и напишите небольшое рассуждение на тему: «Как современники читают классику, или Альтернативная история литературы (Русская классика глазами современных писателей)». Выскажите свои впечатления от прочитанных статей, свое согласие или несогласие с трактовкой классических произведений современными писателями. Включите в свои размшления отсылки у учебникам 9 – 11 классов И.Н. Сухих. 4. Попытайтесь составить по прочитанной статье «портрет» современного писателя: каково его отношение к автору и классическому произведению, о котором он пишет, что его интересует в классическом тексте, что характерно для стиля и языка автора статьи и т. д. 5. Прочитайте отрывки из критических отзывов о «Литературной матрице». С мнением кого из критиков вы склонны согласиться и почему? Москвина Т. Ум – хорошо, а сердце лучше (А.Н. Островский). Мелихов А. Муза мести и радости (Н.А. Некрасов). 5 Бояшов И. Человечкина душа (Н.С. Лесков). 6 Быков Д. Сам себе человек (Максим Горький). 7 Терехов А. Тайна золотого ключика (А.И. Солженицын). 8 Кабаков А. Идеальный писатель (И.А. Бунин). 3 4 7 1) “Литературная матрица” – никакой не учебник. Одно название. Как признаются сами издатели, они и пытаться не будут получить гриф. Так что в руки школьнику эта книга если попадет, то случайно. И уж точно ничему не научит. Поскольку пишут ее авторы вовсе не о русской литературе, а, как и положено настоящим писателям, о себе» (Ян Шенкман. Выбирая самовыражения9) 2) Этот двухтомник – не игра в учебник, а именно что учебник по литературе, причем долгожданный, это я вам говорю как опытный педагог. У нас в школах долгое время вообще не было ничего приличного, только либо нечто занудное, либо что-то очень претенциозное… (Дмитрий Быков. Интервью журналу «The New Times»10). 3) Возможно, сегодняшнему читателю нужна не стройная концепция, а мозаика, хаос, из которого он сам смог бы сконструировать свою собственную русскую литературу, – подобно мозаике “Литературной матрицы”. (Юрий Угольников. Литературная матрица11) 4) Притом что “Литературная матрица” бесспорно удалась как целое, притом что в ней немало прекрасных эссе (и несколько воистину триумфальных), притом что и чтение всей книги подряд доставляет, с известными оговорками, несомненное удовольствие – при всём при этом дуалистическая природа развёрнутого коллективного высказывания сильно осложняет практическое использование двухтомника именно как учебника, пусть и факультативного. Осложняет, однако не исключает (Виктор Топоров. Как обмануть профессора?12) 5) Очень хорошая идея: современники о классиках, «наше все» сегодняшнее, пока еще текучее, зыбкое, несформировавшееся – про «наше все» забронзовевшее, оформившееся, окаменевшее. Реализация — не идеальная. <…> И не принимайте за чистую монету подзаголовок – «Учебник»: таких неровных учебников, пусть даже и «альтернативных», быть не может. (Лев Данилкин. Прекрасный дилетантизм13) 6) Цель и идея были замечательными: поговорить о любимых классиках доверительно и остроумно, блестяще и оригинально, языком своей прозы и поэзии, делясь накопленными за писательским столом размышлениями Но ведь это разговор для людей своего круга и одного контекста, когда общепринятые характеристики подразумеваются, взгляды современников и потомков учитываются, кругозор и углубленные знания восклицателя не подлежат сомнению. А получат ли такое же удовольствие от чтения (как от застольной беседы в своем кругу) те, кому адресовано издание – школьники?! Приглашать к подобному разговору школьников – это не демократизация процесса, а уничтожение иерархии ценностей, призыв к анархии, который, судя по историческому опыту, оборачивается максимами Шарикова... Огонёк. – 2010. – 1 нояб. (№ 43). – С. 46. – Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/1528647. – (23.08.2011). 10 The New Times. – 2010. – 18 окт. (№ 34). – Режим доступа: http://newtimes.ru/articles/detail/28925/ 11 Октябрь. – 2011. – № 7. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/october/2011/7/u12.html 12 Частный корреспондент. – 2010. – 2 нояб. – Режим доступа: http://www.chaskor.ru/article/kak_obmanut_professora_20788 13 Афиша. – 2010. – 8 нояб. – Режим доступа: http://www.afisha.ru/book/1728/ 9 8 А впрочем, иные страстные признания в любви могут и пригодиться школьникам в том случае, если автор наделен педагогической жилкой, позволяющей читателю разделить восторг, а не только понаблюдать за ним. Точных попаданий в книге все-таки больше, чем равнодушно-кичливых размышлений со своего шестка. Самый главный итог — школьная программа все еще состоит из писателей живых, волнующих, вызывающих споры и размышления, не без желания, конечно, присвоить себе исключительное право понимания и суждения. Учебник «Литературная матрица», все-таки, при всех издержках – это глоток свежего воздуха среди учебнической казенщины (Елена Скульская. Классики в положении наших друзей14). 7) Все тексты сборника, если судить по подзаголовкам, – микромонографии о русских классиках двух последних веков. Статья о писателе – жанр понятный и привычный.<…> Формула этого жанра проста: биографическая канва плюс более или менее подробные разборы отдельных произведений с выделением ключевых, входящих в канон и акцентированием смысловых и эстетических доминант. В отдельных случаях (Островский, Тютчев, Некрасов, А. Толстой) Автор “Матрицы” точно чувствует жанр и создает четкий графический силуэт своего героя... Такие главы можно спокойно включить в хороший школьный учебник без всяких скидок на дилетантизм и субъективизм. В большинстве же своих ипостасей Автор, как ни странно, предпочитает биографию творчеству, в результате чего возникают причудливые изображения классиков, больше похожие на кубистские портреты, дружеские шаржи, а иногда и вовсе карикатуры. <…>. Автор “Матрицы” чаще оборачивается напористожизнерадостным клоуном-зазывалой, работающим в жанре эпатажа. Послушайте, Чацкий – это панк, да еще “инопланетный гость”, да еще “по нраву богоборец”! А гоголевская поэма – “образец приключенческой литературы” и даже “безупречный приключенческий роман”!! И “Обломов” не то, что вы (и все) думали, но — “современный русский триллер”!!! <…>. Автопортрет современной литературы, если рисовать его по “Литературной матрице”, предстает вызывающе контрастным. Профиль Автора вполне симпатичен и привлекателен: честный поденщик, который в меру сил и возможностей пытается рассказать условному адресату о том, чем была и остается для тех, кто пока еще умеет читать, Руслит, великая русская литература двух последних веков. Но его накрывает жирный анфас: амбициозный халтурщик, не знающий очевидных вещей, но демонстрирующий модные побрякушки идей и имен, чем-то уязвленный, шпыняющий то школьную учительницу, то глупые учебники, то критика Добролюбова, похлопывающий подопечного по плечу (“Ну что, брат Пушкин…”), восхваляющий или критикующий его, но на самом деле равнодушный к предмету, отбывающий номер. <…>. Внимательное чтение “Литературной матрицы” заставило меня изменить взгляд на современную литературу в худшую сторону. Задача же была противоположной. Хотелось бы думать, что это только моя проблема» (Игорь Сухих. Панк Чацкий, брат Пушкин и московские дукаты: «Литературная матрица» как автопортрет15). Postimees.ru. – 2011. – 13 янв. – Режим доступа: http://rus.postimees.ee/371284/klassiki-v-polozhenii-nashihdruzej/ 15 Нева. – 2011. – № 6. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/neva/2011/6/su11.html 14 9 6. Филолог и литературовед И.Н. Сухих в «Приложении» к статье «Панк Чацкий, брат Пушкин и московские дукаты: “Литературная матрица» как автопортрет”» составил алфавитный перечень ошибок, которые встретились ему на страницах книги: «В мои университетские годы аспирантский семинар вел профессор Исаак Григорьевич Ямпольский. Неподкупный эмпирик, архивист и комментатор, он прохладно относился к литературным теориям, но страстно – к фактам, в том числе к ошибкам и вранью. Его любимым жанром последних лет были “Заметки буквоеда”, в которых “старик Ямпольский” (прозвище у аспирантов) выискивал (часто с помощью коллег) и ехидно поправлял историко-литературные ляпы. В условиях всесторонней свободы, в том числе и свободы от редактуры, корректуры и какой-то проверки фактов, подобные заметки кажутся донкихотским чудачеством. Но поскольку “Матрица” по замыслу — просветительское предприятие, уточнения все же необходимы. Ниже то, что должен заметить при обычном пристальном чтении любой хороший учитель или дотошный школьник. Исправлений хватило почти на все буквы алфавита. Пристрастная и пристальная проверка, думаю, увеличит этот список в два-три раза». Прочитайте примеры изысканий литературоведа на буквы «А» и «И» и попытайтесь, выступив в роли «дотошных школьников», увеличить «этот список», обратившись к статьям «Литературной матрицы» по вашему выбору. А. …Будущий мученик, поэт и философ Чаадаев… (Т. 1. С. 41). – Не только мне, но и всем интересующимся хотелось бы знать о поэтическом творчестве П. Я. Чаадаева. Доселе, во всяком случае, об этом ничего не известно. И. В статье о “Севастопольских рассказах” Толстого — его дебютной книге — Чернышевский отметил… (Т. 1. С. 333). – И дебютная книга Толстого (точнее, журнальная публикация) была иной: повесть “Детство” (1852), а севастопольские очерки писались в 1854 – 1855 годах. И статья Чернышевского посвящена не только им: ее заглавие повторяет заголовки вышедших толстовских книг: “Детство и отрочество. Сочинение графа Л. Н. Толстого, СПб., 1856. Военные рассказы графа Л. Н. Толстого. СПб., 1856”. 10