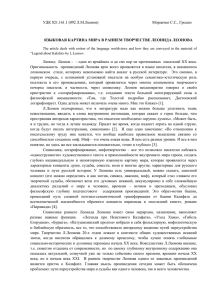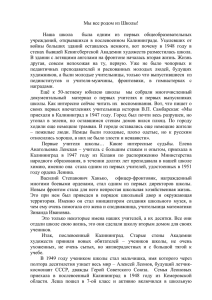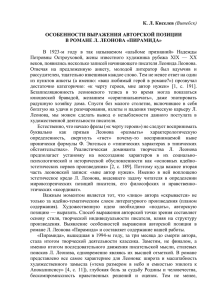Leonid Leonov
реклама
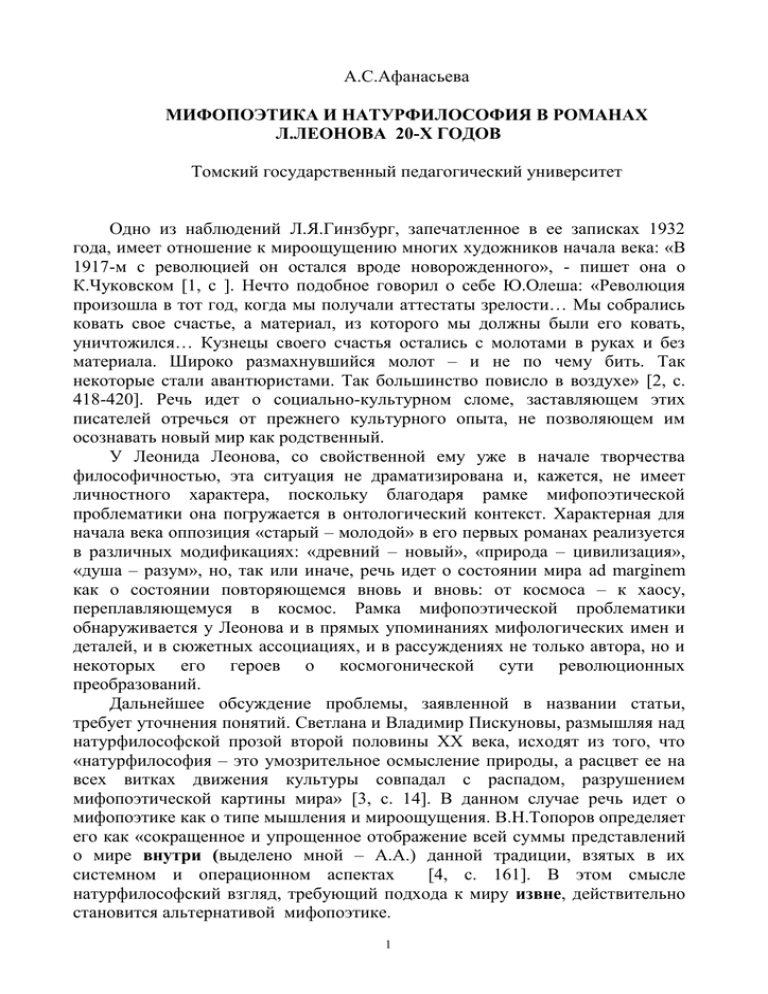
А.С.Афанасьева МИФОПОЭТИКА И НАТУРФИЛОСОФИЯ В РОМАНАХ Л.ЛЕОНОВА 20-Х ГОДОВ Томский государственный педагогический университет Одно из наблюдений Л.Я.Гинзбург, запечатленное в ее записках 1932 года, имеет отношение к мироощущению многих художников начала века: «В 1917-м с революцией он остался вроде новорожденного», - пишет она о К.Чуковском [1, с ]. Нечто подобное говорил о себе Ю.Олеша: «Революция произошла в тот год, когда мы получали аттестаты зрелости… Мы собрались ковать свое счастье, а материал, из которого мы должны были его ковать, уничтожился… Кузнецы своего счастья остались с молотами в руках и без материала. Широко размахнувшийся молот – и не по чему бить. Так некоторые стали авантюристами. Так большинство повисло в воздухе» [2, с. 418-420]. Речь идет о социально-культурном сломе, заставляющем этих писателей отречься от прежнего культурного опыта, не позволяющем им осознавать новый мир как родственный. У Леонида Леонова, со свойственной ему уже в начале творчества философичностью, эта ситуация не драматизирована и, кажется, не имеет личностного характера, поскольку благодаря рамке мифопоэтической проблематики она погружается в онтологический контекст. Характерная для начала века оппозиция «старый – молодой» в его первых романах реализуется в различных модификациях: «древний – новый», «природа – цивилизация», «душа – разум», но, так или иначе, речь идет о состоянии мира ad marginem как о состоянии повторяющемся вновь и вновь: от космоса – к хаосу, переплавляющемуся в космос. Рамка мифопоэтической проблематики обнаруживается у Леонова и в прямых упоминаниях мифологических имен и деталей, и в сюжетных ассоциациях, и в рассуждениях не только автора, но и некоторых его героев о космогонической сути революционных преобразований. Дальнейшее обсуждение проблемы, заявленной в названии статьи, требует уточнения понятий. Светлана и Владимир Пискуновы, размышляя над натурфилософской прозой второй половины ХХ века, исходят из того, что «натурфилософия – это умозрительное осмысление природы, а расцвет ее на всех витках движения культуры совпадал с распадом, разрушением мифопоэтической картины мира» [3, с. 14]. В данном случае речь идет о мифопоэтике как о типе мышления и мироощущения. В.Н.Топоров определяет его как «сокращенное и упрощенное отображение всей суммы представлений о мире внутри (выделено мной – А.А.) данной традиции, взятых в их системном и операционном аспектах [4, с. 161]. В этом смысле натурфилософский взгляд, требующий подхода к миру извне, действительно становится альтернативой мифопоэтике. 1 Однако мифопоэтика как язык, как средство освоения действительности, как поэтика в литературоведческом смысле слова не только не исключается при обращении к натурфилософским проблемам, но и позволяет осмыслить их, не ограничиваясь реалиями конкретных социально-исторических обстоятельств. Можно сказать, что мифопоэтика как тип сознания становится источником для мифопоэтики как особого языка, на котором описывается и оценивается у Леонова переход к сознанию совершенно иного типа. Космологическая схема, характерная для мифопоэтического мышления героев «Барсуков», реализуется в истории Зинкина луга, осознаваемого самими героями как ось мира, как залог целостности, космизованности бытия. Но уже в «Барсуках» представление о «сотворении мира» становится не только признаком мифопоэтического сознания героев, но и метафорой, необходимой для описания социальных катаклизмов. Так, Павел Рахлеев считает своей задачей «подправить» человеческий образец. Увадьев в «Соти», с точки зрения окружающих, предназначен не только для осуществления инженерного проекта, но и для того, чтобы «мять людскую глину» Претензия демиурга присуща Векшину, стремящемуся «вперед и выше», относящемуся к НЭПу как к подвластной стихии: «Захотел – и стало, повелю – и уйдут».:. Эту претензию угадывает в нем Арташез: «Или ты думаешь, что сейчас даже тебе все можно, как огню при сотворении мира?» (выделено мной – А.А). В «Барсуках» ощутима и такая характерная черта мифопоэтического сознания, как использование «системы бинарных различительных признаков, набор которых является средством описания семантики» [4, с. 162]. Набор оппозиционных пар в этом романе может быть предметом специального исследования, ограничимся лишь перечислением тех из них, которые используются неоднократно и благодаря этому приобретают акцентированно знаковый характер: земля – небо, день – ночь, снег – огонь, мужское – женское. Однако обращение к оппозиционным парам не только характеризует сознание героев, но и становится средством выражения авторского сознания. Двоичная система организует в «Барсуках» систему персонажей по принципу оппозиции (Семен –Павел, Калафат – Чмелев)) и по принципу двойничества (Павел –Калафат). Этот композиционный принцип Леонов будет использовать и в «Воре», характеризуя Митьку Векшина. Известно, что в мифопоэтике среда (природа) описывается на языке антропоцентрических понятий. Изображение природы предстает не как результат ее непосредственного восприятия, а как «перекодировка первичных данных с помощью знаковых систем» [4, с. 161]. Этой характеристике соответствуют пейзажные картины в «деревенских» главах «Барсуков». Они оттеняются по контрасту «овеществленными» пейзажами в предшествующих «городских» главах: Так, Егор Брыкин, который «женихаться едет», осматривает ландшафт по-хозяйски снисходительно и покровительственно, как человек, владеющий всем, что видит. «Вишь – и небушко милое, не каплет! И ржица доцветает, а ветер бежит по ней, играя облаком дурманной ржаной пыльцы. И теленочек, рябенький голубок, у загороды привязи стоит. И солнышко над дальним синим лесом, усталое за день, медленно клонится к 2 закатной черте. И впрямь, отдохни, родное: надоест еще тебе мужицкую жатву полуденным жаром обдувать» [5, с. 8]. Этот утрированно лубочный пейзаж заставляет вспомнить цитирование опуса о деревенской жизни, принадлежащего «писателю-середнячку» из «Золотого теленка» И.Ильфа и Е.Петрова. Основание для сближения этих фрагментов заключается не только в использовании стилизации, но и в авторской иронии по отношению к сознанию, выразившемуся в ней. «Овеществление» пейзажа характерно в начальных главах и для Семенаа Рахлеева. Он видит в небе Зарядья «синие и розовые ленты, словно в брыкинской галантерее», «золотое полотенчико померкающей зари», солнце, широкое и красное, как цветок разбухшей герани» (выделено мной – А.А.). Однако его восприятие природы в следующих частях обнаруживает мифопоэтическую позицию с присущим ей гилозоизмом. Пространство перестает быть всего лишь фоном и предметом созерцания. Возвращающийся домой Семен Рахлеев чувствует, как «…тесно стало от звуков. И было понятно, что о том же кричит и корова, и овца, о чем и листок, и птица, и всякая лесная мелюзга» [5, с. 154]. Пейзажные картины «деревенских глав» Барсуков сохраняют сказовую манеру, но она лишается иронически утрированной окраски, разделяющей автора и героя. Ощущение целостности природного мира, в который вписан и человек, задается у Леонова рамкой земли и видимого с нее неба. Одно и то же видят в финале «Барсуков» герои, локально разделенные, но объединенные пространством между небом и землей и включенные, вписанные в него: «Антон молчал и глядел теперь на то же, на что в эту минуту смотрели и Настя с Мишкой – на месяц – свежую березовую стружечку, игрой и удальством ветра занесенную за облака» [5, с. 355]. В «Соти» «игра и удальство» станут привилегией человека, и соответственно изменится ракурс не снизу вверх, а сверху вниз будут смотреть на реку Увадьев и автор архитектурного проекта, «нарисованного как бы с облаков». Анализируя универсальные архаические схемы мифопоэтического мышления, В.Н.Топоров отмечает, что ему присуща особая роль пространства и времени: они активны и, следовательно, сопоставимы в известной степени с сюжетом. Сужение пространства, «укрупняющее» человека, исключающее его из «фона» - из сферы цикличного природного бытия, осознается в «Барсуках» как источник опасных умозрительных заблуждений. Семен Рахлеев, выйдя после долгой болезни из своей землянки, « увидел лес, поле, снеговые пространства, с изнеможением ощутил непрочность всего того, о чем надумалось под душным потолком его зимницы» [5, с. 298]. Противопоставление замкнутого и широкого, разомкнутого пространства получает развитие в реплике Павла-Антона: «…думать о большом и главном всегда на просторе нужно, под звездным небом, например» [5, с. 342]. Таким образом, мифопоэтический идеал родства человека и природы присущ не только Семену, но и его антагонисту Павлу. Как это свойственно мифопоэтике, в «Барсуках» природные стихии обретают активность наравне с человеком, а иногда и главенствуют над ним: 3 «…ветер – хозяин ночного поля. А у хозяина в подслужье и волк, и мороз. И обманная метельная морока, а порой и самая человеческая суть. Ими правит хозяин, хлещет, как ямщик коней» [5, с. 110]. Более того, природный мир в такой степени обретает активность, что становится не объектом, а субъектом восприятия, его жизнь составляет особую сюжетную линию. «И месяц, гость ночи, зачарованный, не спешил уходить, хоть и сгонял его с неба умножающийся свет. Временами нежданная, как соглядатай, перебегала оголившуюся полянку неба луна и зарывалась в давящую мякоть облаков. И опять, как и Половинкин, терзаемый смертным любопытством, выскальзывала на долю минуты и опять пугливо пряталась. Было чему пугаться [5, с. 199]. Среди «персонажей» природного сюжета особое место в романах Леонова занимает можжевельник, осмысленный в духе мифопоэтической традиции как дерево, с которым связывается символика смерти и ее преодоления как начала вечной жизни.. «Можжевел – дерево скрытное, колкое, не допускающее в себя, замкнутое, строгое к жизни, самое мудрое из наших дерев; голубые и розовые кольца свои кладет скупо, неторопливо, в каждом кольце запах покоя. Молчания, знания…»[5, с. 342-343] В можжевельнике происходит встреча братьев Рахлеевых (финал «Барсуков») причем значимость, выбора пространства подчеркнута названием главы. Дерево становится знаком переходного состояния, завершения одного и начала другого психологического, социального, космогонического этапа, когда «все перегнило и начало расти новое». В «Соти» же можжевельник не более чем метафорический образ, воплощающий необратимое отступление природного мира под натиском Homo faber: «Уже и на старичка простирался колдовской зуд весны, уже и сам был готов скакать и кататься заедино с обезумевшей птищью, но тут северный ветерок скользнул ему в ноздри. Он чихнул, заморщился и отступил в тень. Стоит ноне сохлый можжучный кусток у ручья, и самой неистовой весне не разбудить его» [6, с. 7-8]. Именно в природном мире, ощутимее всего характерное для мифопоэтического сознания «вечное возвращение». После сотворения мира оно как обращение к началу времен становится для человека образцом преодоления хаоса. Традиционный природный цикл - «Не случалось в тот год ни бездорожья, ни долгой пасмури. В неделю сошли льды с Мочиловки, а снега с полей. Засверкал зеленью Зинкин луг, веселая вставала озимь. Потом буйно вскурчавились леса, и дни пошли заметно крупнеть» [5, с. 328] подкрепляется в последних главах «Барсуков» картиной преодоления хаоса в жизни людей. Картина эта заключена в характерную для Леонова рамку земли и неба: «Пахали, - хорошо было птицам смотреть сверху на распаханные квадраты земли. Сеялось вольготно, даже радостно, точно яровым хотели заслонить от памяти тяжкий грех минувшей осени» [5, с. 329]. «Тяжкий грех» - бунт, бегство из космизованного пространства дома - «воры» ощущают как нарушение сакрального порядка, а возвращение становится искуплением греха и подкрепляется «строительной жертвой» (гибель Марфутки). Возвращение домой удается герою «Барсуков», Семену Рахлееву, но не состоится в «Воре» 4 для Векшина и даже не мыслится как путь восстановления своей целостности Увадьевым в «Соти». Натурфилософская проблематика с характерным для нее драматизмом единства и борьбы природного и человеческого проявляется в легенде о Калафате .Этот драматизм подчеркнут сравнением с противоборством матери и сына. В первом романе Леонова оно не изображается, а лишь рефлектируется, причем не автором, а его героями. Может быть, благодаря этому вторжение натурфилософской проблематики не разрушает мифопоэтической целостности «Барсуков». Но сам вопрос «одолит» человек природу или нет «программирует» натурфилософскую проблематику следующих романов. Эта «программа» не только исключает однозначный ответ, но и задает амбивалентность утвердительного ответа: превращение природы в вещь может быть и победой и поражением, и торжеством разума и безрассудством. Установка на неоднозначность осмысления натурфилософской проблемы, свойственная уже «Барсукам», реализуется в системе персонажей. С одной стороны, очевидно авторское неприятие стремления Калафата «поклеймить звезды», основанное на превращении природы в вещь как предмет учета и обладания. Калафат получает своих двойников - Половинкина и ПавлаАнтона, и обреченность позиции демиурга на поражение в легенде - прогноз поражения Половинкина, повторяющего тезис Калафата «Каждой травине счет!», и Павла, мечтающего «подправить» человеческий образец. Но, когда Павел-Антон в финале романа говорит «Мы строим процесс природы», при очевидной оксюморонности этого выражения оно может быть истолковано двояко: и как проявление демиургической интенции, и как стремление к переустройству, ориентированному не на волюнтаризм, а на теургическое проникновение в природный космизованный мир. Второй вариант получает развитие в связи с оппозицией Калафат – Чмелев. Представляется, что Леонову близок тот идеал синтеза природы и культуры, который С.Семенова усматривает в произведениях М.Пришвина 20х –30-х годов: «И если русская религиозная мысль выдвинула идею богочеловечества, сотрудничества Божественных и человеческих энергий в деле спасения мира, так сказать идею богочеловекосотворчества, то у Пришвина в конце 1920-х годов – начале 1930-х акцент сдвинут на природочеловекосотворчество» [7, с. 456]. Хотя замысел «докинуться умом» до звезд Чмелев называет дерзким, но эта дерзость, стремление раздвинуть границы (пре-делы) не связана с претензией на переустройство (пере-дел): «… ходят звезды по большому мраку…всегда ходили и всегда будут ходить, нигде им не поставлен срок. Задрав голову, Чмелев глядел в ночное небо и таким удивляюще прекрасным видел его в первый раз. И уже казалось Пантелею Чмелеву, что врастает он сам головой в эту черную зовущую пучину, в которой вдруг нашелся свой план и смысл [4, с. 184]. (Выделено мной – А.А.). Таким образом, сама постановка вопроса «одолит» человек природу или нет? приобретает альтернативу - постижение «плана и смысла», существующего вне зависимости от человека. 5 Отпадение человека от мира природы становится почвой и условием возникновения натурфилософской проблематики и порождает ее трагедийный характер, связанный с неразрешимым противоречием между природной сутью человека и его стремлением к приоритету над природой. Это «грех культуры против природы (хотя истоки этого греха – уже в самой природе, в жизни). А конкретнее, этот грех заключается во вторжении культуры в природу и в разрушении ее органических форм ради «самовластного утверждения себя» с помощью создания и воспроизводства вещей, субстратом которых выступает природа» [8, с. 91]. Однако «творение вещей» – это не только проявление самодовольной интенции Homo faber , но и завершающий этап сотворения самого человека:. «Доведя человека до некоей пограничной черты, божественный демиургический персонаж как бы «отпускает» его, передавая свою «творящую» функцию самому человеку в надежде и уповании на то, что он уже усвоил уроки «творения» [8, с. 8-9]. Однако связь человека с вещью в цивилизации ХХ века содержит в себе симптомы глубокой болезни. Вещь как представитель тварного мира воспринимается все более и более как навсегда ушедшая из мира духовного и богооставленная, лишенная подлинной значимости и ценности. В начале «Вора» Леонов сталкивает два представления об обновлении мира и человека. “Вот лежат просторы незастроенной земли, чтоб на них родился и, отстрадав свою меру, окончился человек. Иди же, владей, вступай на них смелее! Вверху, в пространствах тысячекратно повторенных, во все стороны, бушуют звезды, а внизу всего только люди… но какой ничтожной пустотой cтало бы без них все это! Наполняя собой, подвигом своим и страданием мир, ты, человек, заново творишь его!» [9, с.12] Так в начале «Вора» утверждается «от автора» право человека на созидание - заполнение «пустого», оставленного для его творчества пространства Но тут же романтический пафос «уравновешивается» скепсисом народной мудрости: «То лишь нерушимо стоит, чего человек не коснулся… Окроме звзд в небе, настоящего почти не видим мы мира, все больше видим руками сделанный… Берегися временного, внучек, а напротив того, устремляйся к вечному» [9, с. 15] - наставляет дед Николку Заварихина. Другой аспект этой проблемы в романах Леонова заключается в том, что культура, родившаяся как результат деятельности человека-демиурга, в масштабах космологических становится признаком не только его силы, но обреченности, признаком ветшающего мира. Неприятие культурного опыта парадоксальным образом сближает социальных антагонистов Увадьева и Буланина («Соть»), хотя мотивы неприятия у них разные. Скепсис Увадьева обусловлен «качеством» культуры предшествующей исторической эпохи, для Буланина же проблема природы и культуры имеет не социальный, а онтологический смысл: человек, «отягощенный» культурой, слаб, несостоятелен в космологическом масштабе. И для Буланина, и для Сузанны мифопоэтическое «вечное возвращение» связано с обновлением мира как с возвращением к первоначалу, не отягощенному культурой: «Иногда, сидя за пулеметом в своей тачанке, двигаясь в смертельную беспредельность, она 6 (Сузанна –А.А.) воистину веселилась о гибели проклятого и чем-то дорогого мира… Именно по его руинам, сквозь гам и пыль, грохоча и взвизгивая, летели эти полугуннские колесницы, и призрак иного, желтого пращура незримо шествовал над людским потоком» [6, с. 83]. Разрушители цивилизации – гунны и Чингисхан - оказываются сродни тем, кто причастен или хочет причаститься к новой эпохе, к «наивной дерзости молодых». Космогония в «Соти» выступает и как метафора социалистического строительства и как прямо заявленная тема рефлексии. Хотя мифопоэтический мир в этом последнем романе Леонова 20-х годов лежит в руинах, подобно монастырю, разрушенному ради бумажного комбината, но и “за пределами мифопоэтической эпохи космологическое мировоззрение и совокупность выработанных в его пределах операционных приемов продолжает оказывать сильное влияние на способ интерпретации собственно не космологического материала [4, с. 6]. Сотворение мира предстает в “Соти” как дело рук культурного героя, претендующего на роль демиурга и переворачивающего вверх ногами привычное пространство: «Плотными хлопьями туман оседал на ветвях, расстилаясь от реки к реке… Глухой треск наполнял ночь; огонек из Макарихи потерянно сиял в тумане, как заблудившаяся звезденка» [5, с. 9]. Созидательная деятельность Увадьева, этого «обмозолившегося чловека, которым новорожденная идея замахивалась на обветшалый мир» [5, с. 20], дана в контексте разрушения первозданной красоты, принесенной в жертву комбинату: «День огненно плавился на горизонте; слепительный металл его стекал вниз, чтоб завтра же вскинуться в новые, еще не бывалые на Соти формы. «Эва, крови-то, ровно из свиньи текет…» – от глупости или от тоски сказал про закат сухоногий мужичок, шумно покидая чайную; пугало его преждевременное заклание сотинского дня»[6, с. 53] Увадьевым унаследованы от Павла из «Барсуков» признаки нечистой силы, более того, они перенесены и на его дело – строительство комбината: «…вышел, застегиваясь, черный коренастый мужик в меховом картузе, незнаемый дотоле… - Трудишься, отец? – полюбопытствовал бес, причмокивая конфетку… Чего ж присматриваешься, аль признал? - Ты бес…- путаясь в мыслях, сказал Вассиан». «Книголюбу, ведомы ему были обличье и повадки всех именитых бесов, но этот не походил ни на одного из них. Вассиан не знал тогда, что на деле еще большая их разделяет пропасть, чем та, которая лежит между чертом и монахом. Уже ссорясь с разумом, все домогался он имени новоявленного беса, а беса звали Бумага»[6, с. 19]. Развитие этого мифологического мотива завершает упоминание о запахе серы, который исходил то ли от спички закурившего гидротехника, то ли от архитектурного чертежа комбината. В обсуждении натурфилософских проблем оказывается важной брошенная автором будто мимоходом фраза об Увадьеве: «В этот день он мешал везде, где ни появлялся, потому что все сущее в мире вовсе не для человека, а само по себе» [6, с. 165].Она может, на мой взгляд, служить камертоном авторской позиции, которая, как всегда у Леонова, неоднозначна 7 и отдана многим, иногда совершенно далеким, казалось бы, от автора и случайным персонажам. Таков один из рабочих Сотстроя, Фаддей: «И как мне досталось понять ноне, душа, милый навсегда уходит из мира, а ейное место заступет разум… Солнце, к примеру, ровно овца… утром выгони, к вечеру само прибежит. А рази я, скажем, Фаддей, гожусь ему в пастухи… какая вещь! Оммана боязно» [6, с. 115]. Леонов признает право человека на со-творчество с природой, но «оммана боязно»: «новорожденная идея» может обернуться не только заасфальтированной дорогой, по которой поедут на велосипедах загорелые комсомольцы, о которой мечтает Увадьев; не только коллективным поеданием многокалрийного обеда, который привиделя Потемкину, но и «лютой машиной, которая неминуемо пожрет и несуесловную прелесть места и тишину, наследие дедов» [6, c. 26}. . Мир, создаваемый Увадьевым и Потемкиным, декларативно «неодушевлен»: «Чудаковое слово – красота!…Будем строить большой завод, каких праведники твои и в видениях не имели…и станешь ты трудовой гражданин, на работу поступишь, зазнобину себе заведешь…и будет она, Шура или Аня, мой шелк на себе носить. И отсюда поведется красота! Душа, еще одно чудное слово. Видишь ли, я знаю ситец, хлеб, бумагу, мыло.. я делал их, или ел, или держал в руках…я знаю их на цвет и на ощупь. Видишь ли, я не знаю, что такое душа. Из чего это делают? Где это продают?» [6, с. 46]. Homo faber видит красоту только в том, что создано им самим: в электрическом свете, калорийном обеде, асфальтовой дороге - и отвергает ту свободу развития, которая есть в природе. Мифопоэтическое космизованное существование в единстве с природой уступает место обладанию и потреблению, Так, Потемкину кажется, что «лесные массивы простирались бесконечно и столь разумно были изветвлены реками, точно природа провидела их будущее назначение» [6, с. 58] – строительство комбината, а Увадьев «зачерпнул воды в ладонь и пытался сжать в руке эту частицу стихии, которую предстояло покорять» [6, с. 46]. Схватка с рекой заканчивается поражением, и в повествовании, лишенном признаков стилизации, сказа, неожиданно проявляется гилозоизм, присущий мифопоэтическому сознанию и приписанный Потемкину, будто прозревшему незадолго до смерти: «Она (река – А.А.) правильно выбрала минуту, чтобы отомстить человеку, замыслившему запрячь ее в работу. Она не хотела в трубы. Она хотела течь протяжным прежним ладом, растить своих тучных рыб, хранить свою сонливую мудрость Она как будто молчала и теперь, но Потемкин-то слышал, как она кричала пространствам, чтоб поддержали ее бунт» [6, с. 184]. Вопрос «Одолит ли человек природу?» в «Соти» уже не обсуждается героями романа, но Леонов преподносит Потемкину, Увадьеву, Жеглову тот же урок, который когда-то получил Калафат. P.S. Возвращаясь к началу статьи, заметим, что в «Соти», в отличие от не вписывающихся в эпоху современников Леонова и некоторых его героев, «новорожденным» назван Увадьев - воплощение молодой дерзости, энергии, достойных зависти Кавалерова.. Но быть «новорожденным» у Леонова означает быть не только причастным к сотворению мира, но и неискушенным, 8 самонадеянным профаном: «Ты новорожднный, Увадьев, тебе и насос чудо, а это только старая диафрагмовая кляча, выхлебавшая сотни тысяч ведер до тебя. Мы рыли сотни таких котлованов, обходясь и без романтики; о них написаны книги, которые инженер обязан знать в самом начале ученья. А новорожденному чудесно все, приходящее извне» [6, с.. 299], - говорит Бураго. «Новорожденность» Увадьева это еще и наивность, ничего не ведающая о «вечном возвращении». Литература 1. Гинзбург Л.Я.. Записные книжки. М.., 1999. 2. Ю.Олеша. Мой знакомый// Ю.Олеша. Зависть. Ни дня без строчки. Рассказы. М., 1989. 3. Пискунова С., Пискунов В. В пространствах новых… Миры и антимиры натурфилософской прозы.// Литературное обозрение. 1986. № 12. 4. Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2 т. Т.2. М., 1992. 5. Леонов Л. Барсуки: Собр. соч.: В 9 т. Т.2. М., 1960. 6. Леонов Л. Соть: Собр. соч. : В 9 т. Т.4. М., 1962. 7. Семенова С. Русская поэзия и проза 1920-1930-х годов. Поэтика – Видение мира – Философия. М., 2001. 8. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М., 1995. 9. Леонов Л. Вор.: Собр. соч. в 9 т. Т.3. М., 1961. 9