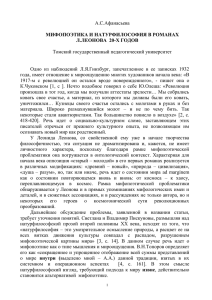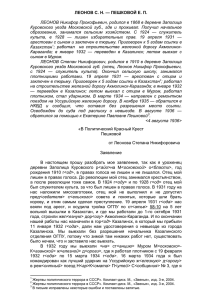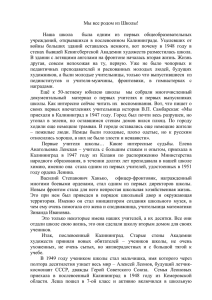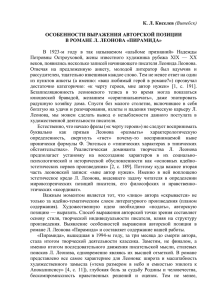УДК 821.161.1 (092 Л.М.Леонов) Мордечко С.С., Гродно
реклама

УДК 821.161.1 (092 Л.М.Леонов) Мордечко С.С., Гродно ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА В РАННЕМ ТВОРЧЕСТВЕ ЛЕОНИДА ЛЕОНОВА The article deals with notion of the language worldviews and how they are conveyed in the material of “Legend about Kalafat» by L.Leonov. Леонид Леонов - – один из ярчайших и до сих пор не прочитанных писателей XX века. Оригинальность произведений Леонова ярче всего проявляется в языке писателя, в знаменитом леоновском стиле, которому невозможно найти аналог в русской литературе. Это связано, в первую очередь, с осознанной установкой писателя на особую семантико-эстетическую роль подтекста в его произведениях, который проявляется через многие компоненты творческого почерка писателя, в частности, через символику. Леонов неоднократно говорил о своём пристрастии к «логарифмированию», т.е. созданию текста большой интегрирующей силы и философской насыщенности. «Там, где Толстой подробно рассказывает, Достоевский логарифмирует. Одна деталь может включать очень много. Мне это ближе» [1]. Л.Леонов подчеркивал, что в литературе надо как можно больше уплотнить ткань повествования, вводить в слова внутреннюю интонации, которая скажет о герое больше, чем пространная авторская характеристика, что писателю необходимо «крупно думать». «Может быть, я и труден, но тогда я лучше подожду. Придет же время, когда надоест играть на одной струне, когда будут писать интегралами, синкопами» [2]. И еще одно замечание: «По отношению к писательскому труду мне кажется, что вообще наиболее правильное мышление связано со способностью создавать миф. Миф – это очень емкая вещь. В нем есть разные уровни. И все в нем понятно, но здесь же все закладывается основательно, точно и глубоко» [3]. Символика, логарифмирование, мифотворчество – все это позволяло писателю избежать «однострунности» художественного текста и прямолинейности внутреннего мира героев, создать глубоко индивидуальную и неповторимую языковую картину мира, которая проявляется через характерные концепты души, судьбы, совести, воли и многие другие, характерные для русского человека и пути русской истории. У Леонова есть универсальный, можно сказать, сквозной концепт (его можно определить и как мотив, символ, наконец, миф), который стал «знаком его творческой судьбы, обозначил вехи его духовных исканий, аккумулировал в себе сложнейшую диалектику раздумий о мире и человеке, времени – вечном и преходящем, обусловил философскую глубину подтекстового содержания произведений. Это образ-мотив башни, прошедший путь сложной поэтико-семантической трансформации от башни Калафата до всечеловеческой масштабности образного концепта пирамиды в «последней книге», романе «Пирамида» [4]. Символика раннего Леонида Леонова имеет свою иерархию, назначение, выполняет разные важные функции. «Легенда про Неистового Калафата», «Уход Хама», «Гибель Егорушки», «Бурыга», «Петушихинский пролом» вобрали в себя фольклорную, мифологическую и библейскую образность, все то, что способствовало авторскому видению путей переустройства мира. Творчество Л.Леонова 20-х годов лежало в контексте общих художественных исканий эпохи, когда писатели обращались к далекому прошлому, чтобы лучше понять глобальные социально-исторические и духовные перемены начала ХХ века. Новеллистика Л.Леонова внешне, т.е. сюжетно отдалена от современности, но по своему глубокому внутреннему содержанию она оказалась актуальной, созвучной уже не только событиям своего времени, времени начала ХХ века, но и начала века ХХI. В раннем творчестве Леонова одним из знаковых произведений является притча о Калафате. Главная мысль произведения сегодня может быть обозначена проблемно: пути переустройства мира и судьбы как одного человека, так и всего человечества. В 1916 году было написано стихотворение о Калафате. Затем в 1922 году был создан одноименные рассказ, но по цензурным соображениям не напечатан. В 1923 году Калафат вошел в форме притчи, рассказанной Евграфом Подпрятовым, в роман «Барсуки». И только в 2004 году в журнале «Наш современник» отрывки из запрещенного рассказа были напечатаны дочерью писателя, Н.Л.Леоновой. В основе «Калафата» лежит библейская легенда о Вавилонской башне. «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они (народы) после потопа нашли на земле Саннаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем их. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать, сойдем же и смешаем там языки их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город и башню. Посему дано имя ему: Вавилон, ибо там смешал Господь языки всей земле» (Бытие, 11: 1-9). Смешав языки, Бог заставил народы говорить на разных языках и тем самым уничтожил средство взаимного обмена мыслями. А рассеяние строителей башни было естественным разъединением их интересов. Насколько единство языка связывает людей и обусловливает их единство, настолько различные языки разобщают их, создают противостоящие друг другу группы. Леонов трансформирует библейский миф и создает такое пространственно-временной концепт, где идейно-нравственное и философское содержание раскрывается через образную и словесную символику. Ключевыми в легенде являются слова «папаша», «сыночек», «башня», «старичок», «природа», которые прочитываются как метафоры и выражают авторский замысел: через показ вечного единства и противостояния поколений привлечь внимание человека к ценности и уникальности жизни, к мысли что человек – мера всех вещей, к тому накопленному человеческому опыту, без которого человек перестает быть человеком и без которого нет движения вперед. Мысль Леонида Леонова лежала в контексте поисков начала ХХ века, когда в условиях крушения религиозных опор морали проблемы смысла жизни, смерти и бессмертия, выбора добра и зла, личного и общего, «я» и целого становились не только вечными, но и «проклятыми». В небольшом произведении писатель показывает и что происходит, и размышляет, почему так происходит. Мы видим важные черты стиля леоновской прозы: лаконизм, афористичность, использование разговорной и просторечной лексики, использование фольклорных поэтических приемов, сказовая манера повествования. Все это раскрывает авторский замысел: привлечь внимание читателя к нравственным проблемам общества и сделать образы естественными и достоверными. В «Калафате» Леонов размышляет об эпохе переустройства мира, о возможных путях изменения существующего миропорядка, о связи и зависимости человека и природы. В основе притчи и рассказа – сюжетная коллизия Калафата и «папаши», царя «державы огромной древних времен» [5,]. Недоволен выросший сын тем, как царствует отец. Конфликт, начавшийся как семейная коллизия, в развитии действия приобретает характер столкновения различных жизненных позиций, которые отражают важные формы отношения личности и общества: право, свобода, ответственность, справедливость и мораль. Традиционный для поэтики Леонова прием проверки основных идей на разных героях и с разных точек зрения позволяет осветить основные коллизии во всей сложности и глубине. Двуплановость сюжета и конфликта позволяет писателю широко использовать систему символов, переводящих смысл происходящего в онтологическометафизический план. Образ-символ становится у Леонова заглавием произведения. Калафат – «до всего доберусь» – имя, вызывающее ассоциации разворачивающихся действий с самим героем, который в притче «стал расти и разумом возвышаться. И по девятому году пришел сынок к папаше: «Ты, говорит, папаша, нескладно живешь. Все твое царство вразброд… А вот есть наука еометрия, тебе по ней нужно жить» [5, 222]. «Тут он папашу отстранил и стал трудиться в поте лица. На рыб поставил клейма, птицам выдал пачпорта, каждую травинку записал в книгу. И все кругом погрустнело… полный ералаш в природе… А уж Калафат задумал башню строить до небес. «Посмотрю, сказал, какой оттуда вид открывается. Кстати, и звезды поклеймим!». Отсюда, как и задумал, пошел конец земному шару» [5, 223]. В рассказе Калафат настроен более агрессивно, решительно: «Три дня тебе даю до скончания, - сказал он отцу. – Мешаешь ты мне, Андрагон… По смерти твоей смерчем пройду я по земле, пройду и делов наделаю. Спросят потом: - Кто такие большие дела делал? Ответят: Калафат, большой человек из Мамура-Города… В ту ночь с огорчением помер Старый царь, Калафатов родитель…» [6]. В притче Калафат самостоятельно изучал «еометрию» и сам же «задумал башню строить до небес». В рассказе ради сотворения себе «наибольшой мирской славы» герой призвал на помощь звездочета, который дал Калафату совет: «А ты царствие покори! Никакого ты до сей поры не покорил царствия… чужую кровь пролей… А покоренных-то людей, сгони их в Мамур, да и заставь башню, до небес высокую, строить…» [6]. Трансформация библейского сюжета и акцент на охваченной жаждой безмерной славы личности позволили Л.Леонову предостеречь от возможного засилья и власти сверх идеи, сверх силы и сверхчеловека. Началом строительства новой башни писатель показал, как произошла подмена понятия самой жизни понятием ее строительства. Калафат предстает в образе «сверхчеловека», заявившего о себе в момент кризиса гуманистического сознания, повсеместного забвения идеи самоценности земной жизни и человеческой любви. Леонов увидел опасность героя, утверждавшегося за счет преодоления «человеческого, слишком человеческого». И Леонид Андреев показал, на каком свирепом ветру стоит «героический индивид», поднявшийся «к звездам» и всматривающийся в то, как «с холодным бешенством, покорные железной силе тяготения, несутся в пространстве по своим путям бесконечные миры». В этот же мир всматривался и сверхчеловек Ницше, и «стоик» Льва Шестова, но все они неизбежно, выходя за пределы самой идеи самоценности жизни отдельного человека и всего человечества, меняли свои «земные» опоры на потусторонние. И дальнейший ход истории ХХ века (как русской, так и мировой) подтвердил, что так противостоять миру и при этом сохранить культ человека в истинно гуманистическом смысле невозможно. Леонова беспокоит, какой груз несет на себе новый человек на новом витке истории. Смысл имени Калафата – «до всего доберусь» – раскрывается в конкретных действиях героя, которые вносят в мир хаос, страх, растерянность. Негативную, нарочито сниженную эмоциональную окраску несут слова (в первую очередь это относится к глаголам), которые характеризуют так называемую деятельность Калафата: «пошел воевать», «шарахнул к морю», «и вот тогда все пухнуть стало», «пока строил башню, уйма жулья развелась». В рассказе о Калафате читаем: «бичом склоню под пяту мою», «зверем ринулся побеждать башню», «так и пошел конец земному шару». От таких действий и создается образ разбушевавшейся и безудержной в своей силе стихии. В подтексте произведения возникает образ «царства», охваченного бессмысленным хаосом. По сути дела, Калафатовы дни – это емкая метафора нравственного падения, испытания душевных, идейно-нравственных сил человека всеми неизбежными сложностями исторического движения вперед. И Калафат, и ему подобные герои – это «не уникумы Ренессанса, не творческие гении Возрождения, это личности, выделенные в бесчисленном количестве экземпляров в одной и той же лаборатории… обезличенные до номера и цифры» [7]. Таким образом Леонов создает свою поэтику, показывая действительность в некрасивом, неправильном, иногда даже отталкивающем виде. Образ Калафата вобрал в себя семантику образов фольклора и литературы, связанных в этической памяти народа с торжеством нечистой, темной силы. Эта страшная сила, появляющаяся то в виде «заблудившегося попа» («а тот поп – не поп был»), то черноризца с «навьим лицом», то звездочета, советчика Калафата, вместе с монахом Агапием из «Гибели Егорушки» и соблазнителем в «партикулярном платье» из притчи Пчхова в «Воре», не любит бросать на произвол судьбы своих возлюбленных подопытных «человеков». Антиподом Калафата в притче является «лесной старичок», в рассказе – «Божий мужичок Семен». Все Калафатовы деяния он оценивает одной единственной фразой: «Так ведь туда и другие дороги есть» [5. 223]. Калафат – старичок, «до всего доберусь» - «так ведь туда и другие дороги есть» - это как зло и добро, воинствующий индивидуализм и универсальный в своем единстве духовно-нравственный опыт человечества, удерживающий это человечество на «окольной дорожке» «вдали от царских врат». Калафат, как и ему подобные «рожденные революцией», горел идеей абсолютной новизны, желанием войти в новый мир без груза веков за плечами, не осознавая, что «с е г о д н я есть лишь промежуточное звено между в ч е р а и з а в тр а,.. все мы нынешние – лишь головной отряд бесчисленных поколений, пускай запутанных гдето далеко позади, однако отнюдь не исчезнувших вчистую, а посмертно взирающих нам вдогонку» [8]. В «Калафате» есть еще один образ-символ – образ солнца. Писатель следует фольклорной и древнерусской литературной традиции, согласно которой солнце – не только источник света и тепла, красоты, радости и веселья, но, прежде всего, сама жизнь: «уж больно солнце макушку жжет…», да и «поднебесная жара» карает людей за своеволие. Поэтому «вокруг сызнов леса шумят, а в лесах – лисицы. Благоуханно поля цветут, а в полях птицы. Поскидала в себя природа Калафатовы пачпорта» [5, 224]. Рассказ о Калафате заканчивается более выразительно. Множество восклицательных предложений, прямых обращений и глаголов в повелительном наклонении содержат открытую дидактическую составляющую авторской позиции: «Ну что ж: нагрешили, теперь и каяться впору! Ты б не лежал, Калафат, колодой… Ты б надел армячок, за плечи котомку, пошел бы за стены Мамура-Города… Великое, широкое место лежит под небом. По тому месту посеяны Вышнею рукою моря, и горы, и равная степь. По морям ходят смелые корабельщики, по горам носятся вольные птицы, а по ровным местам – странички Божии ходят! И ты с ними, Калафат! Как выйдешь в поле, пади на земь… губы об землю исцарапай, целуя, – много она выстрадала!.. Походи так лет седьмь, да попроси под окнами, – не дадут тебе погибнуть с голоду, – знай, Калафат: хорошие, добрые люди на земле живут… попробуй – горька ли полынь бездомного жития опосля ирхаильской победы» [6, 239]. Одним из приемов поэтики Леонова на языковом уровне является переосмысление автором народных пословиц и поговорок, а также изобретение собственных. Выражение «и доучился до точки», относящееся к Калафату, представляет, на наш взгляд, иронические переосмысление поговорок «дойти до точки» и «дойти до ручки». Выражение «дойти до точки» имеет значение «ограничивать, исчерпать свои возможности», а формула «дойти до ручки», при существующей множественности значений, содержит в себе амбивалентность: это и достижение какого-либо высокого уровня, предела, степени, и вероятность падения до предельно низкого уровня. Фразеологизм «дойти до ручки» может использоваться и в некотором другом, негативном, значении: испортиться в высшей степени, обнаглеть, потерять чувство меры. Ответ «папаши»: «Вы, умные, пойте, а мы, дураки, послушаем!» [5, 223] может рассматриваться как вариант пословицы «встречают по одежке, провожают по уму». Система образов-символов в притче и рассказе о Калафате создает сложный в его единстве и борьбе противоположностей мир, укрупняет ту же диалектическую связь человека с природой (шире – мирозданием), с самой историей не только в горизонтальной, но – что важнее для Леонида Леонова – и в вертикальной плоскости. Символические образы создают язык подтекста леоновской прозы, передающий авторское осмысление вечного противоборства добра и зла, созидания и разрушения. Оптимизм Леонова зиждется на вере в духовные силы народа. Образы-символы наделены и философской содержательностью, способностью проникнуть в причинно-следственную сущность происходящего. Они же углубляют смысл изображаемого, усиливают звучание идейной стороны произведения, активизируют читательское восприятие. Тень Калафата присутствует во многих произведениях Леонова, что говорит о постоянном глубоком и обстоятельном размышлении писателя обо всем, что тревожило умы и сердца людей. Это и «строительная жертва», и «мораль без бога», и противоречия между естественным ходом истории и желанием изменить этот ход революционным путем, и трагедия научного мышления, ставшая столь очевидной в ХХ веке. Конечно, и Леонид Леонов об этом говорит всем своим творчеством, путь познания и преобразования мира сопряжен с двумя неразрывными началами: верой и разумом. Но как найти ту золотую середину, где эти начала сойдутся в гармоническом сочетании и спасут мир от бездуховности и агрессивности, присутствующих в глубинах цивилизации? Список использованной литературы 1. Ковалев В.А. Романы Леонида Леонова / В.А.Ковалев. – М.,Л.: Наука, 1954. – С.104. 2. Перхин В.В. Л.М.Леонов в 1957 году (по страницам дневника Е.Д.Суркова)// Леонид Леонов и русская литература ХХ века. – СПб., 2000. – С. 137. 3. Лысов А.Г. О беседе с Леонидом Леоновым 30 октября 1981 г. / А.Г.Лысов // Литература XXY (2) / А.Г.Лысов. – Вильнюс, 1983. – С. 94. 4. Якимова Л.П. «… Отвечающие времени формулы мифа» (некоторые особенности поэтики в произведениях Леонида Леонова / Л.П.Якимова // Русская литература. – 2002. - № 4. – С.186. 5. Леонов Л.М. Барсуки / Л.М.Леонов// Собр. соч.: в 10 т. Т.1. – М.: Худож.лит., 1982. – С.222. 6. Леонова Н.Л. Притча о Калафате /Н.Л.Леонова //Наш современник. – 2004. - № 4. – С.238. 7. Рейснер М. //Цитата по: Лысов А.Г. О культурно-историческом прототипе в творчестве Леонида Леонова/ А.Г.Лысов // Литература. XXY (2). – Вильнюс, 1983. – С.20. 8. Леонов Л.М. Раздумья у старого камня /Л.М.Леонов//Собр.соч.: в 10 т. Т.10. – М.: Худож.лит., 1982. – С.549.