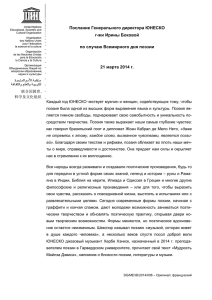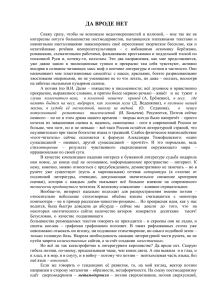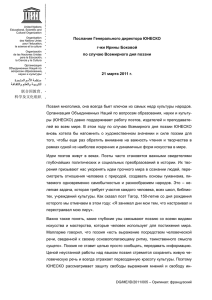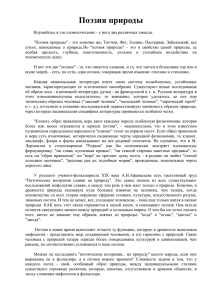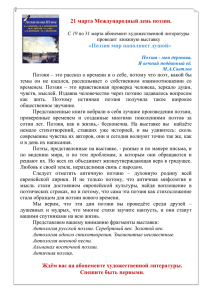Поэзия как метафизическая память
реклама
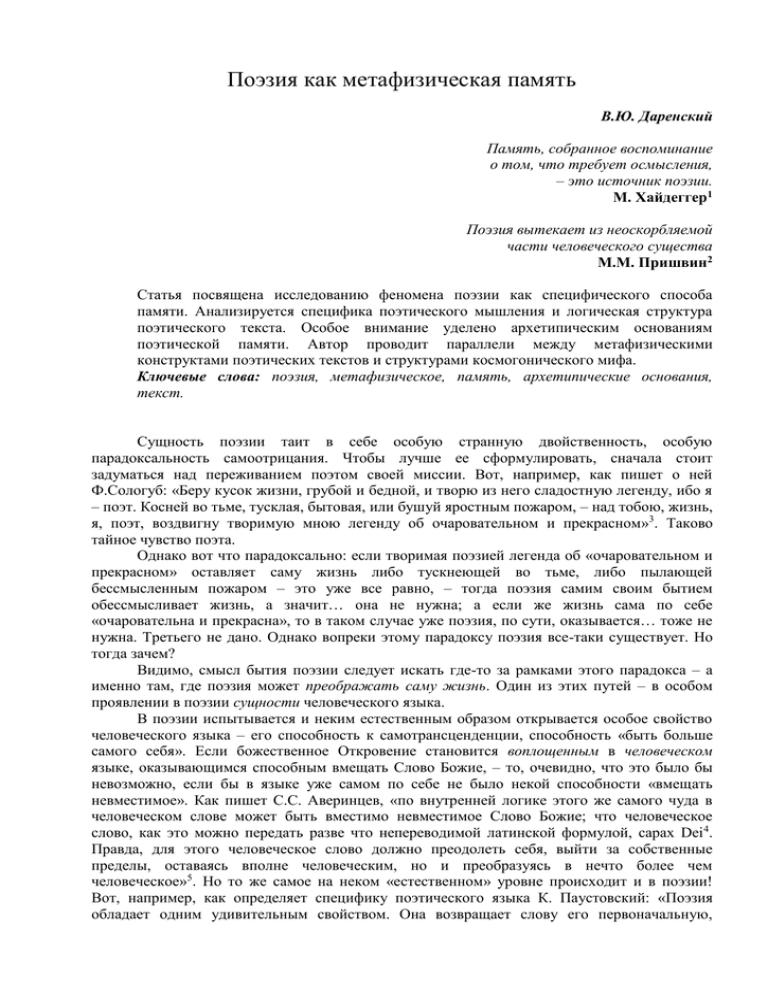
Поэзия как метафизическая память В.Ю. Даренский Память, собранное воспоминание о том, что требует осмысления, – это источник поэзии. М. Хайдеггер1 Поэзия вытекает из неоскорбляемой части человеческого существа М.М. Пришвин2 Статья посвящена исследованию феномена поэзии как специфического способа памяти. Анализируется специфика поэтического мышления и логическая структура поэтического текста. Особое внимание уделено архетипическим основаниям поэтической памяти. Автор проводит параллели между метафизическими конструктами поэтических текстов и структурами космогонического мифа. Ключевые слова: поэзия, метафизическое, память, архетипические основания, текст. Сущность поэзии таит в себе особую странную двойственность, особую парадоксальность самоотрицания. Чтобы лучше ее сформулировать, сначала стоит задуматься над переживанием поэтом своей миссии. Вот, например, как пишет о ней Ф.Сологуб: «Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из него сладостную легенду, ибо я – поэт. Косней во тьме, тусклая, бытовая, или бушуй яростным пожаром, – над тобою, жизнь, я, поэт, воздвигну творимую мною легенду об очаровательном и прекрасном»3. Таково тайное чувство поэта. Однако вот что парадоксально: если творимая поэзией легенда об «очаровательном и прекрасном» оставляет саму жизнь либо тускнеющей во тьме, либо пылающей бессмысленным пожаром – это уже все равно, – тогда поэзия самим своим бытием обессмысливает жизнь, а значит… она не нужна; а если же жизнь сама по себе «очаровательна и прекрасна», то в таком случае уже поэзия, по сути, оказывается… тоже не нужна. Третьего не дано. Однако вопреки этому парадоксу поэзия все-таки существует. Но тогда зачем? Видимо, смысл бытия поэзии следует искать где-то за рамками этого парадокса – а именно там, где поэзия может преображать саму жизнь. Один из этих путей – в особом проявлении в поэзии сущности человеческого языка. В поэзии испытывается и неким естественным образом открывается особое свойство человеческого языка – его способность к самотрансценденции, способность «быть больше самого себя». Если божественное Откровение становится воплощенным в человеческом языке, оказывающимся способным вмещать Слово Божие, – то, очевидно, что это было бы невозможно, если бы в языке уже самом по себе не было некой способности «вмещать невместимое». Как пишет С.С. Аверинцев, «по внутренней логике этого же самого чуда в человеческом слове может быть вместимо невместимое Слово Божие; что человеческое слово, как это можно передать разве что непереводимой латинской формулой, сарах Dei 4. Правда, для этого человеческое слово должно преодолеть себя, выйти за собственные пределы, оставаясь вполне человеческим, но и преобразуясь в нечто более чем человеческое»5. Но то же самое на неком «естественном» уровне происходит и в поэзии! Вот, например, как определяет специфику поэтического языка К. Паустовский: «Поэзия обладает одним удивительным свойством. Она возвращает слову его первоначальную, 2 девственную свежесть. Самые стертые, до конца «выговоренные» нами слова, начисто потерявшие для нас свои образные качества, живущие только как словесная скорлупа, в поэзии начинают сверкать, звенеть, благоухать! Чем это объяснить, я не знаю… Прав отчасти был Владимир Одоевский, когда сказал, что “поэзия есть предвестник того состояния человечества, когда оно перестанет достигать и начнет пользоваться достигнутым”»6. Чем же объяснить такую природу поэтического языка? У Р.-М.Рильке есть высказывание (явно автобиографического характера), которое наверняка должно показаться парадоксальным и даже совсем непонятным в контексте тривиальных представлений о природе поэзии и поэтического творчества: «Он был поэтом, а значит – не терпел приблизительности»7. В рамках представлений о поэзии как «образноэмоциональном отражении мира» – в отличие от науки и даже просто обыденного рассудка, стремящихся к точному и объективному отражению реальности без «поэтических вольностей» – оно кажется почти скандальным, рассчитанным скорее на эпатаж, чем на серьезное обсуждение. «Не выносить приблизительности», в соответствии с обычными представлениями, может разве что математика, однако и она на самом деле далеко не такова по целому ряду причин (например, невозможность полной аксиоматизации, работа с «нечеткими множествами», вероятностное исчисление и т.д.). Поэтому не стоит особенно доверять ходячим представлениям и торопиться с выводами. Не лучше ли всерьез задаться вопросом, в каком смысле можно говорить о точности в поэзии? Ведь, например, выражение «точный поэтический образ» не встречает возражений – но на каком тогда основании оно употребляется, если действительно невозможно говорить о точности в поэзии как таковой? Естественно, что под «точностью» в поэзии следует понимать нечто иное, чем в математике, в том смысле что точность здесь имеет иные формы и критерии, чем в науке или в обыденном мышлении. Впрочем, сразу же может возникнуть вопрос: зачем говорить о «точности», если это понятие здесь употребляется иначе, чем в науке и т.д.? Такое употребление, на наш взгляд, вполне обосновано и необходимо. Ведь понятие точности само по себе вовсе не привязано к определенной сфере употребления и имеет более широкий смысл, чем её значение в науке или в быту, но должно распространяться и на иные сферы человеческого опыта, в том числе, художественного, нравственного и религиозного. Точность как таковая, в своем первичном, самом широком смысле, соответствующем внутренней форме слова, означает «попадание в точку», «собранность в точку», т.е. существенное соответствие чего-то чему-то и вместе с тем некую сфокусированность, сосредоточенность. Точность в широком смысле слова может быть определена как степень адекватности фиксации некоторого содержания в определенной знаковой системе, а также как степень внутренней организованности и эвристической продуктивности данной знаковой системы. Причем известно, что любое фиксируемое содержание представляет собой конструктивный феномен, опосредованный средствами «настройки восприятия» и их рациональной обработки, т.е. особенностями самой знаковой системы. Тем самым, можно говорить об особой логике в любой сфере человеческой деятельности и творчества именно в смысле степени выполненности названных условий. Поиск логики поэтического мышления по-своему традиционен, хотя и не всегда выступает в своей непосредственной форме. Начиная с Аристотеля этот предмет исследовался под именем поэтики; в ХІХ веке свои права на разгадку тайны поэзии предъявила лингвистика, в первую очередь неустаревающие работы А. Потебни. Среди философских направлений герменевтика немыслима без рефлексий над поэтическими текстами как «являющими истину бытия» (М. Хайдеггер). Из новейших украинских авторов наиболее близко к поставленной проблеме подошел В. Базилевский в исследовании «Математика поэзии» (2001), в котором он, в частности, делал следующий вывод: «У математики – своя точность, у поэзии – своя. Хотя на уровне всеобщности точки пересечения прослеживаются. Если объект математики – пространственные формы мироздания, то объект поэзии, выражаясь фигурально, – пространственные формы души, 3 которая его вмещает. Как математика не может обойтись без абстракций, так же стремится к ним, в смысле отбора и синтеза, и поэзия»8. Для нашей темы чрезвычайно важен тезис о поэзии как особом способе мышления, имеющем свою инвариантную, по-своему строгую логику и, более того, в определенном смысле являющемся первичным способом человеческого мышления вообще – универсальным языком Памяти. Под логикой поэтического мышления предварительно будем понимать такой способ организации письма / речи, при котором возникает особое содержание, принципиально отличающееся от той заключенной в них информации, которая представляет собой лишь суммарный результат семантики отдельных слов, их сочетаний и даже целых предложений. Поэтическое содержание, как известно, есть нечто, что не может быть «определено по объему и содержанию» и в этом смысле, хотя и воплощено в предметных образах, но остается в определенном смысле автореферентным. Специфика этого содержания состоит в том, что оно представляет собой особый способ восприятия и переживания реальности – как отдельных жизненных ситуаций, так и мира как целого – в модусе особо высокой гармонизированности и смысловой «плотности», вызывающих чувство воодушевления и специфическое душевно-интеллектуальное наслаждение. Причем последние обладают особым свойством успокаивать, редуцировать простые жизненные чувства и эмоции – «Болящий дух врачует песнопенье…» Поэтому некорректно говорить об «эмоциональном воздействии поэзии» без необходимого прояснения терминов, поскольку поэтическое переживание имеет качественно иной характер по отношению к обычным жизненным чувствам и эмоциям – его можно назвать иночувственным (по аналогии с термином М.М. Бахтина «инонаучный»). Как писал Н.В.Гоголь, «высшее состояние лиризма… чуждо движений страстных и есть твердый взлет в свете разума, верховное торжество духовной трезвости»9. К этому типу переживаний хорошо применим термин В.И. Шинкарука «духовные чувства». Однако субъективно-переживательный аспект поэтического содержания, будучи основным критерием самого его наличия, тем не менее, еще ничего не говорит о том, по каким объективным законам языка и речи оно возникает. Для начала сошлемся на мысль Н.Берковского: поэтический «образ лишь тогда и поэтичнее безобразного, когда восхождение от частного к общему не есть обыкновенная логическая операция, где менее общее подводится под более общее, но подъем от низшего к высшему, от худшего к лучшему. «Общее», к которому направляется образ, всегда больше, сильнее, богаче, неограниченнее, чем «частное», с которого он начинает. Найти дорогу к общему, создать «образ», отождествить в образе слабое отдельное явление с могущественным целым… показать жизнь в её сообщенности с самыми могучими силами – это возбудить поэтическое сознание»10. Таким образом, «то самое» поэзии в первом приближении есть «просвечивание» через ситуативную предметность стихотворной речи «самых могучих сил», связывающих человеческое и мировое бытие в единое, живое, потенциально бесконечное целое. И достигается это как раз посредством на порядок более точного именования, чем мы привыкли в обыденной речи. Тем самым, именование сущего в поэтическом языке приобретает некую особую функцию, на первый взгляд, совершенно избыточную. Об этом Г.О.Винокур писал так: «Художественное слово образно вовсе не в том только отношении, будто оно непременно метафорично. Сколько угодно можно привести неметафорических поэтических слов, выражений и даже целых произведений. Но действительный смысл художественного слова никогда не замыкается в его буквальном смысле… Основная особенность поэтического языка как особой языковой функции как раз в том и заключается, что это «более широкое» или «более далекое» содержание не имеет своей собственной раздельной звуковой формы, а пользуется вместо нее формой другого, буквально понимаемого содержания… Одно содержание, выражающееся в звуковой форме, служит формой другого содержания, не имеющего особого звукового выражения»11. Продолжая ту же мысль, можно сказать, что это «другое содержание» в принципе может быть любым, но оно порождает именно поэтическое 4 содержание только в том случае, если, во-первых, непрагматично, т.е. не является простым намеком или условленным знаком чего-то другого, как это часто имеет место и в обыденной речи, но рождается спонтанно и вообще не имеет четкой и однозначной привязки к какомуто одному «другому» смыслу, но понуждает к его самопорождению. Во-вторых, что самое главное, оно интенциально обращено ко всеобщим, предельным жизненным переживаниям: счастью или горю, печали или умилению, любви или ненависти, смерти или вечности. Если выполняется и то, и другое, то стихотворный текст совершенно особым способом влияет на наше сознание – дает хотя бы минимальное ощущение «самых могучих сил» бытия. Как пишет Э.Левинас, предельная задача поэзии – «подать знак, но так, чтобы это не был знак чего-то… Поэзия как бы преобразует слова, показатели некоего множества, моменты некой совокупности, в освобожденные знаки, прободающие стены имманентности, нарушающие порядок… Ввести в Бытие некий смысл – это пройти от Того же к Другому, это подать знак, расстроить языковые структуры. Без этого мир знал бы лишь те значения, которые одушевляют протоколы или отчеты административных советов акционерных обществ»12. «Расстроить языковые структуры» путем отсылки к бесконечным смыслам – отнюдь не значит нарушить законы естественного языка; это значит так воспользоваться ими, чтобы сама естественная речь вдруг пронзила душу «холодком вечности» (В.Набоков). В чем особенность такой речи, как она должна быть организована, чтобы давать такой эффект? Иначе говоря, какая особая «точность именования» и какая «логика» здесь должны иметь место? Как писал Ю.М.Лотман, «входя в состав единой целостной структуры стихотворения, значащие элементы языка оказываются связанными сложной системой соотношений, со- и противо-поставлений, невозможных в обычной языковой конструкции… Слова, предложения и высказывания, которые в грамматической структуре находятся в разных… несопоставимых позициях, в художественной структуре оказываются сопоставимыми и противо-поставимыми, в позициях тождества и антитезы, и это раскрывает в них неожиданное, вне стиха невозможное, новое семантическое содержание»13. Следует отметить, что обычная речь также построена на соединении разнородных элементов с целью отражения разнородных структур самой действительности. Поэтому, строго говоря, приведенная формулировка сама по себе не дает еще differentia specifica поэзии. Последняя возникает при особо высокой степени и интенсивности семантических «тождеств и антитез», принципиально избыточных для сообщения какой-либо информации о реальных событиях и фактах мира (в равной степени как внешнего, так и внутреннего – мира души). Вследствие своей избыточности эта особая интенсивность возможна только в особом семантическом режиме языка, который можно определить как неинформационный и автореферентный, в котором слова перестают быть «знаками чего-то», что не имеет отношения к сфере чистого смысла, и превращаются «в освобожденные знаки, прободающие стены имманентности» (Э. Левинас). Слова, их сочетания, а иногда и отдельные фонемы приобретают поэтическую функцию постольку, поскольку выходят за рамки своей внешней предметной референции и становятся «предметами» друг для друга. Последнее и означает то, что они оказываются «в позициях тождества и антитезы», которые принципиально отличаются от обычных тождеств и антитез, возникающих при описании внешних самой «ткани» языка предметных ситуаций не только объективного, но и субъективного миров. В этих особых внутриязыковых тождествах и антитезах предметные референции слов, словосочетаний и фонем выступают в своем «снятом» виде. А сами слова и словосочетания образуют автономную сферу смыслочувственных комплексов со своей особой структурой, отличающейся от структуры объективного и субъективного миров как таковых. Собственно «поэтический эффект» возникает именно на этом уровне – и именно поэтому его невозможно объяснить и описать путем даже самого тонкого и последовательного пересказа внешних предметных референций отдельных слов и выражений, из которых состоит стихотворение. В этом режиме поэтической предметностью каждого слова, сочетания слов или даже отдельной фонемы становится не внешняя «объективная реальность» (хотя и эта референция полностью сохраняется в «снятом» виде), но именно соотнесенные с каждым из них как 5 ближайшие, так и более отдаленные внутритекстовые элементы – другие слова, сочетания слов и фонемы. В результате между ними возникает то, что можно назвать феноменом семантического резонанса. Вступая в автономное отношение «тождеств и антитез», каждый из элементов поэтического текста выполняет функцию «резонатора» по отношению к другим таким же элементам. Подобно тому, как один шагающий по мосту человек несравненно слабее той силы, которая могла бы разрушить мост, но рота шагающих в ногу солдат разрушает его легко – точно так же и каждое отдельное слово, сочетание и фонема не способны дать поэтический эффект, но их особое сочетание делает это. Как справедливо отметил Ю.М.Лотман, способ соотношения элементов поэтического текста изначально амбивалентен – это как отношение тождества, так и различия. Семантический резонанс возникает именно вследствие этой избыточной (т.е. не связанной с внешне-предметной референцией и передачей информации) амбивалентности. Это значит, что в рамках стихотворения отдельные речевые элементы оказываются поэтически значимыми постольку, поскольку их соотнесенность между собой по принципу тождества или антиномического контраста создает «эффект» внезапного смыслового взаимоусиления. В свою очередь, благодаря этому «эффекту» стихотворение, обладающее хотя бы минимальной поэтической ценностью, продуцирует в читателе – совершенно независимо от своей внешне-предметной тематики – особое переживание смысловой наполненности бытия, вызывающей чувство восторга и воодушевления. Подобно тому, как в состоянии влюбленности для одного человека другой вдруг становится средоточием мировой красоты, гармонии и смысла бытия, хотя любые отдельно взятые его черты, как правило, не представляют собой чего-нибудь особенного, – точно так же и стихотворение, используя слова и выражения обычного языка, и на уровне непосредственного значения входящих в него слов повествуя о случайных, субъективных событиях или переживаниях автора, вдруг являет в себе отблеск мирового смысла – в его гармонии или трагедии. И это отнюдь не поверхностная аналогия. Можно сказать, что смысловой и эмоциональной «субстанцией» поэзии является любовь, предмет которой – бытие как таковое, Жизнь в ее высшем смысле, придающем бесконечную значимость любому мимолетному событию и даже самой этой мимолетности, за которой «просвечивает» вечность. Тем самым, поэзия нагляднейшим образом являет в себе некий первозданный модус человеческого бытия и мировосприятия, некий естественный протест самой человеческой природы против своей первородной поврежденности. «Поэзия вытекает из неоскорбляемой части человеческого существа», – гениально заметил М.М. Пришвин. Но ведь само выражение «неоскорбляемая часть человеческого существа» является ничем иным, как поэтическим определением наличия неизбывной мирообразующей целостности в человеческой природе – метафизической памяти о том высшем совершенстве, к которому призваны люди! Тонкая игра тождеств и различений, собственно, и представляет собой поэтической мастерство: когда они поверхностны по смыслу, но навязчивы и нарочиты, последнее не имеет места, а стих не несет в себе поэзии (это «стихотворная публицистика», имеющая иные задачи); когда они глубоки, но внешне незаметны, а речь не просто сохраняет полную естественность, но даже кажется более естественной, чем бытовой разговор – это признак подлинной поэзии. Примером для анализа последнего случая может послужить строка Н.Рубцова «Меж болотных стволов красовался восток огнеликий…» Она, бесспорно, обладает поэтической мощью сама по себе, даже исторгнутая из целостности стихотворения. В чем секрет этой силы? Прежде всего в том, что в совершенно естественном и для обычной, не нарочито «художественной» речи словосочетании здесь достигнута очень высокая «плотность» семантических тождеств и различений. Слово «меж…» еще нейтрально, но уже настораживает. Слово «болотных…» погружает в переживание приземленной, засасывающей тяжести бытия. Но слово «стволов…» вдруг словно подбрасывает нас в высоту неба и личностного «самостояния». Слово «красовался…» тут же дает прямое и непосредственное ощущение торжества взлета и осуществления. Слово «восток…», само по себе символичное и мелодически взрывное, словно выбрасывает читателя еще выше, в 6 бесконечность неба. И, наконец, завершающий аккорд в слове «огнеликий…» завершает это внезапное восхождение растворение в переживании всепобеждающего Света. И это только одна строка – а в ней явлена структура Космоса и закон осуществления человеческой души! Конечно, мелодика строки, в которой слышится какое-то могучее дыхание, набирающее мощь с каждым словом, играет почти не меньшую роль в общем поэтическом впечатлении – но она в конечном счете производна от структуры смысловой, от семантического резонанса строки. Естественно, мы не считаем, что можно подобными рациональными интерпретациями полностью прояснить «механизм» порождения поэтического содержания. Тем не менее, эвристические возможности сформулированного здесь подхода, по нашему мнению, весьма существенны и плодотворны. Кроме того, имеет смысл связывать их с наиболее общими законами развития языка. В частности, очевидна их связь с генетической структурой языкового мышления, о чем в свое время писал А. Потебня. По его мнению, поэтическое мышление есть возвращение к самой первичной форме мышления и языка как таковых. «В поэтическом образе… понимающий создает себе значение, – писал А. Потебня, – Каждый раз применение поэтического произведения есть создание в смысле кристаллизации уже бывших в сознании стихий, – есть приведение этих стихий в известный прядок… поэзия, рассматриваемая как деятельность, есть создание сравнительно обширного значения при помощи единичного словесного образа»14. Первичность поэтического мышления по отношению ко всем остальным состоит в том, что в ней непосредственно и целенаправленно явлен переход внутренне-смысловой формы слов и словосочетаний во внешне-образную. Однако этот переход является и внутренней исторической закономерностью самого языка (последнюю иногда называют «законом Потебни»). «В языке в отдельном слове, – писал А. Потебня, – форма без представления есть вторая ступень, возникающая из первой и без неё невозможная. Заключая по аналогии, следует ожидать, что наука должна органически возникать из поэтического мышления» – в том смысле, что именно последнее исторически формирует первичные смысловые констелляции (представления) на уровне внутренней смыслоформы элементов языка, лишь потом приобретая свою отдельную внешнюю стихотворную форму. В смысле такой первичности она и названа А. Потебней «высшей формой человеческой мысли»15 – поскольку иначе и сама мысль была бы невозможна как таковая. (Из этого вытекают и важные соображения о связи поэтического таланта с научным и наоборот – вопреки предрассудкам о «разнополушарных» талантах.) Сама по себе акцентированная непосредственность перехода смысловой спонтанности внутренней формы элементов речи (слова, словосочетания, относительно замкнутого фрагмента и целостного стихотворения) во внешнюю структурированную по особым законам форму в какой-то мере может быть осмыслена и «технически», как описание особого способа поэтической речи. Поэтический способ речи в этом отношении предстает как такое соединение языковых единиц различных уровней, при котором возникает напряженное сочетание неожиданности и естественности. Это сочетание, в свою очередь, является проявлением игры тождеств и различений тонких и одновременно глубоких смыслов, порождаемых эффектом семантического резонанса. Пользуясь языком формальной логики, эту сущностную парадоксальность поэтической речи можно выразить формулой: (А&В) & (АvВ), где А и В – любые языковые элементы от фонемы до предложения или строфы. Формула обозначает парадокс единства сочетаемости (естественности) и несочетаемости (неожиданности) как условия семантического резонанса. Соответственно, ослабление и разрушение семантического резонанса, а тем самым и утрата поэтического содержания (хотя бы и при условии сохранения внешней формы стиха) может происходить двумя путями, создающими дисбаланс в указанной формуле в результате усиления одной её части за счет другой. Если усиливается сочетаемость и ослабляется неожиданность, то возникает в лучшем случае «море разливанное стихов на уровне усредненной гладкописи, как бы похожести на классическую соразмерность и сообразность»; и наоборот, при сознательном ослаблении и разрушении естественности и 7 нарочитом усилении неожиданности возникают авангардные и «постмодерные» тексты, по традиции считающиеся «поэтическими», но по существу уже не являющиеся таковыми точно так же, как и первый тип. Второму типу, как известно, свойственны «избыточная троповместимость», «калейдоскопическое мелькание сравнений, гипербол и т.п.»; «коллажность, эклектизм стилевых, формообразующих элементов… «Замещенность» слов и понятий… заостренный парадоксализм… нарочитая «затемненность» языка и в то же время – готовность дать подсказку для тех, кто пожелает быть посвященным в тайны шифра»; вплоть до «кича, смешения традиционных культурных знаков и обломков гармонизирующей традиции с аббревиатурами и новейшим сленгом»16. Возможность двоякого разрушения поэтического содержания и формы хорошо объяснима именно исходя из указанной формулы. В свою очередь, классической поэзии свойственно идеальное равновесие обеих её частей – хотя это, естественно, не единственный критерий классики. Как заметил в свое время С.С. Аверинцев, «архитектоника онегинской строфы говорит о целом, внушая убедительнее любого Гегеля, что das Wahre – это das Ganze. Классическая форма – это как небо, которое Андрей Болконский видит над полем сражения при Аустерлице… она задает свою меру всеобщего, его контекст, – и тем выводит из тупика частного»; и поэтому – возьмем пример, предложенный самим С.С. Аверинцевым, – «Пушкин, заключая свои “змеи сердечной угрызенья” в неспешный ход шестистопных ямбов, чередующихся с четырехстопными, – в этом, именно в этом принадлежал тому же порядку вещей, что и невозмутимо принимающий свою кончину мужик!»17. В любом подлинно поэтическом тексте неизбежно «зашифрован» некий универсальный сюжет, который по сути своей совпадает с «основным мифом культуры». Как пишет автор этого термина В.Ф. Петров-Стромский, «основной миф, который разгадывает тайну жизни и заклинает ужас вечного повторения, калейдоскопического разнообразия жизни… принципиально отличается от того, что называют мифологией... Это образ изоморфной причастности ритуальных движений, звуков и ритмов к жизни космических стихий»18. «Основной миф культуры» является универсальной внутренней формой человеческого мироотношения – и, по-видимому, именно в поэзии он выражен наиболее ярко и непосредственно. То особое экзистенциальное настроение, которое возникает в человеке при глубоком переживании поэтического текста, собственно, и является самым непосредственным ощущением «изоморфной причастности ритуальных движений, звуков и ритмов к жизни космических стихий». Тем самым, поэзия пробуждает в человеке некую прапамять, – нечто такое, что предшествует индивидуальной человеческой памяти в обычном понимании этого слова (т.е. памяти эмпирических событий «внешней» и «внутренней» жизни человека). Это особая пра-память нашей изначальной причастности неизбывному смыслу бытия, память о неслучайности нашей столь несовершенной жизни. Именно об этом М.К. Мамардашвили говорил, что «поэзия есть чувство собственного существования»19. Хотя поэзия работает со словом, но, как это не парадоксально, в основе поэзии лежит глубокое молчание. Это то особое не видимое внешнему миру смиренное молчание души, в котором ей открывается сокровенное. Это то молчание, о котором философ русского зарубежья Н.С. Арсеньев писал: «Молчание – не безразличия, а терпеливого, смиренного наблюдения и слушания жизни – вот, что порой подымается в нас, захватывает нас и что нужно нам... иногда говорит с нами Основной Смысл, ради которого надо было жить, который – различными путями – привлекает нас к себе»20. Именно такое дуновение Основного Смысла затем стараются пересказать нам поэты. В этом дуновении бытие переживается как нечто таинственное и вместе с тем бесконечно открытое и близкое нам. Такое переживание, например, особо остро передал, обращаясь к простому полевому цветку, один из самых ярких русских поэтов второй половины ХХ века Василий Казанцев: Ты – выше чувства и ума! Перед тобой душа – нема, 8 Как перед смертной бездной… И – отстраняется сама От муки бесполезной. Тем самым, поэзия всегда действует на человека подобно древнему обряду инициации – посвящения в тайны бытия. Возможно, это действие весьма точно передано в романе Уильяма Голдинга «Двойной язык» от лица древнегреческой жрицы, посвящаемой в эзотерическом обряде: «Слепящий свет и тепло, неразличимые в самопознании… Память. Память до памяти? Но времени же не существовало, оно даже не подразумевалось… это не было похоже ни на что другое отдельное, четкое, само по себе. Ни слов, ни времени, ни даже «я», эго – ведь, как я пытаюсь объяснить, тепло и слепящий свет самопознавались, если вы меня понимаете. Но, конечно, понимаете! Что-то от качества обнаженной сущности без времени и видимости (слепящему свету вопреки), и ничто не предшествовало, и ничто не последовало… это могло произойти в любой миг моего времени – или вовне его!»21. Эта «память до памяти», внезапно проникающая туда, где уже нет «ни слов, ни времени, ни даже «я», эго» – и есть основа поэзии, как бы она ни «пряталась» от нашего понимания в переливах живой словесной ткани стиха. Поэзия, таким образом, есть «инициация» в самом буквальном значения этого слова – в смысле возвращения в initium – начало всех смыслов и слов. Подлинный поэт всегда в чем-то подобен Адаму и Еве, только что пережившим изгнание из рая, память о котором в них не только еще очень жива, но тем острее, чем больнее переживается эта катастрофа. Это состояние очень хорошо передано в финальных строках «Потерянного рая» Д. Мильтона: The world was all before them, where to choose Their place of rest, and Providence their guide; They, hand in hand, with wandering steps and slow, Through Eden took their solitary way22. И точно так же каждый подлинный поэт входит в этот мир с ощущением свершившейся катастрофы, неся в себе память об утраченном бессмертии. Но поэтам присуща высшая Память, словно переносящая их в самый исток земного бытия. Призвание поэта – утверждать в людях жажду бессмертия. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Аверинцев С.С. Ритм как теодицея // Аверинцев С.С. Связь времен. – К.: Дух і Літера, 2005. – С. 36-49. 2. Аверинцев С.С. Слово Божие и слово человеческое // Аверинцев С.С. София – Логос. Словарь. – К.: Дух і Лiтера, 2006. – С. 816-830. 3. Арсеньев Н.С. Дары и встречи жизненного пути. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1974. – 272 с. 4. Базилевський В. Математика поезії // Кур’єр Кривбасу. – 2001. – № 1. – С. 158-180. 5. Берковский Н.Я. Мир, создаваемый литературой. – М.: Сов. писатель, 1989. – 524 с. 6. Винокур Г.О. Понятие поэтического языка // Винокур Г.О. О языке художественной литературы. – М.: Высшая школа, 1991. – С. 26-44. 7. Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями. – СПб.: Азбука-классика, 2005. – 236 с. 8. Голдинг У. Двойной язык. – М.: АСТ, 2004. – 224 с. 1. 9 Левинас Э. Служанка и её господин // Бланшо М. Ожидание забвения. – СПб.: Амфора, 2000. – С. 139-151. 10. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Структура стиха. – Л.: Просвещение, 1972. – 272 с. 11. Мамардашвили М. Как я понимаю философию. – 2-ое изд., измен. и дополн. – М.: «Прогресс», 1992. – 476 с. 12. Паустовский К. Искусство видеть мир // Паустовский К. Северная повесть. – М.: Правда, 1989. – С. 500-511. 13. Петров-Стромский В.Ф. Три эстетики европейского искусства // Вопросы философии. – 2000. – №10. – С. 152-164. 14. Потебня А.А. Психология поэтического и прозаического мышления // Собр. трудов: Мысль и язык. – М.: Лабиринт, 1999. – С. 227-251. 15. Пришвин М.М. Дневник. 1937. // Пришвин М.М. Дневники. – М.: Правда, 1990. – 480 с. 16. Славецкий В.И. Возвращение Марии. Современная поэзия: пути, тенденции, проблемы. – М.: Современник, 1991. – 176 с. 17. Сологуб Ф. Капли крови. Избр. проза. – М.: Центурион, 1992. – 448 с. 18. Хайдеггер М. Что значит мыслить? // Разговор на проселочной дороге. Избранные работы. – М.: Высшая школа, 1991. – С. 1137-149. 19. John Milton. Paradise Lost. – L. Penguin books. 1996. – 326 p. 9. Poetry as a metaphysical memory. This work is dedicated to phenomenon of poetry as a specific form of memory. The authors analyze specific of poetical thinking, as well as logical structure of poetical text. In the article much attention is given to the search of archetypal basis of poetical memory. The authors draw parallels between metaphysical constructs of poetical text and structures of cosmogonic myth. Key words: poetry, metaphysical, memory, archetypal basis, text. 1 Хайдеггер М. Что значит мыслить? // Разговор на проселочной дороге. Избранные работы. – М.: Высшая школа, 1991. – С. 140. 2 Пришвин М.М. Дневник. 1937. // Пришвин М.М. Дневники. – М.: Правда, 1990. – С. 253. 3 Сологуб Ф. Капли крови. Избр. проза. – М.: Центурион, 1992. – С. 15. 4 Точный перевод: «вместилище Божие» – В.Д. 5 Аверинцев С.С. Слово Божие и слово человеческое // Аверинцев С.С. София – Логос. Словарь. – К.: Дух і Лiтера, 2006. – С. 825. 6 Паустовский К. Искусство видеть мир // Паустовский К. Северная повесть. – М.: Правда, 1989. – С. 500-501. 7 Цит. по: Чоран Э.М. Записные книжки 1957-1972 // Иностранная литература. – 1998. – № 11. – С. 231. 8 Базилевський В. Математика поезії // Кур’єр Кривбасу. – 2001. – № 1. – С. 176. 9 Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями. – СПб.: Азбука-классика, 2005. – С. 76. 10 Берковский Н.Я. Мир, создаваемый литературой. – М.: Сов. писатель, 1989. – С. 333. 11 Винокур Г.О. Понятие поэтического языка // Винокур Г.О. О языке художественной литературы. – М.: Высшая школа, 1991. – С. 27-28. 12 Левинас Э. Служанка и её господин // Бланшо М. Ожидание забвения. – СПб.: Амфора, 2000. – С. 142. 13 Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Структура стиха. – Л.: Просвещение, 1972. – С. 38. 14 Потебня А.А. Психология поэтического и прозаического мышления // Собр. трудов: Мысль и язык. – М.: Лабиринт, 1999. – С. 231-232. 15 Там же. – С. 234-235. 16 Славецкий В.И. Возвращение Марии. Современная поэзия: пути, тенденции, проблемы. – М.: Современник, 1991. – С. 151; 158 17 Аверинцев С.С. Ритм как теодицея // Аверинцев С.С. Связь времен. – К.: Дух і Літера, 2005. – С. 41-42. 18 Петров-Стромский В.Ф. Три эстетики европейского искусства // Вопросы философии. – 2000. – №10. – С. 157. 19 Мамардашвили М. Как я понимаю философию. – 2-ое изд., измен. и дополн. – М.: «Прогресс», 1992. – 21. 20 Арсеньев Н.С. Дары и встречи жизненного пути. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1974. – С. 7. 21 Голдинг У. Двойной язык. – М.: АСТ, 2004. – С. 9. 10 22 John Milton. Paradise Lost. – L. Penguin books. 1996. – P. 313.