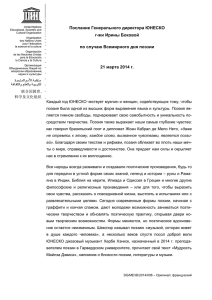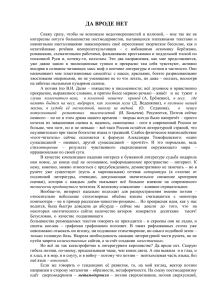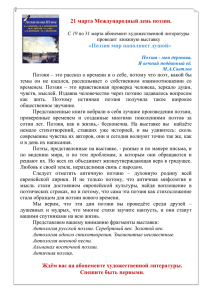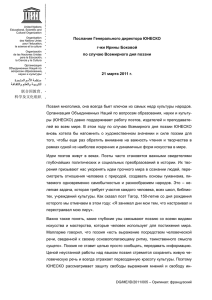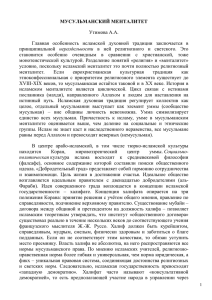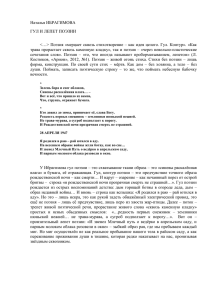Статьи по теории литературного направления
реклама
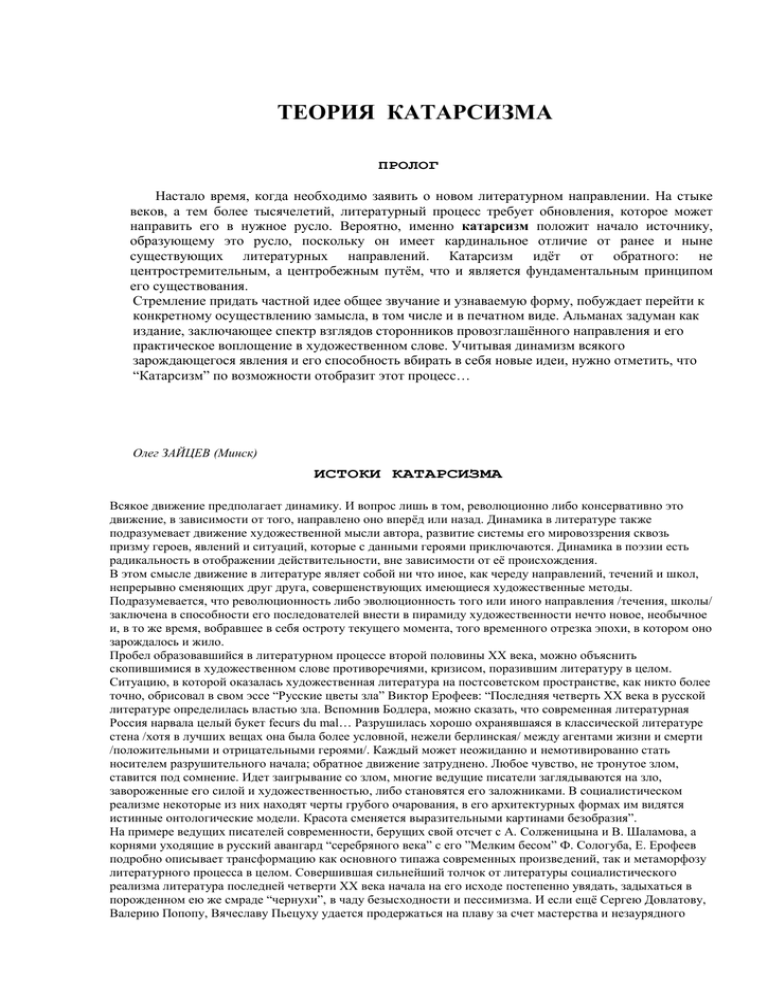
ТЕОРИЯ КАТАРСИЗМА ПРОЛОГ Настало время, когда необходимо заявить о новом литературном направлении. На стыке веков, а тем более тысячелетий, литературный процесс требует обновления, которое может направить его в нужное русло. Вероятно, именно катарсизм положит начало источнику, образующему это русло, поскольку он имеет кардинальное отличие от ранее и ныне существующих литературных направлений. Катарсизм идёт от обратного: не центростремительным, а центробежным путём, что и является фундаментальным принципом его существования. Стремление придать частной идее общее звучание и узнаваемую форму, побуждает перейти к конкретному осуществлению замысла, в том числе и в печатном виде. Альманах задуман как издание, заключающее спектр взглядов сторонников провозглашённого направления и его практическое воплощение в художественном слове. Учитывая динамизм всякого зарождающегося явления и его способность вбирать в себя новые идеи, нужно отметить, что “Катарсизм” по возможности отобразит этот процесс… Олег ЗАЙЦЕВ (Минск) ИСТОКИ КАТАРСИЗМА Всякое движение предполагает динамику. И вопрос лишь в том, революционно либо консервативно это движение, в зависимости от того, направлено оно вперёд или назад. Динамика в литературе также подразумевает движение художественной мысли автора, развитие системы его мировоззрения сквозь призму героев, явлений и ситуаций, которые с данными героями приключаются. Динамика в поэзии есть радикальность в отображении действительности, вне зависимости от её происхождения. В этом смысле движение в литературе являет собой ни что иное, как череду направлений, течений и школ, непрерывно сменяющих друг друга, совершенствующих имеющиеся художественные методы. Подразумевается, что революционность либо эволюционность того или иного направления /течения, школы/ заключена в способности его последователей внести в пирамиду художественности нечто новое, необычное и, в то же время, вобравшее в себя остроту текущего момента, того временного отрезка эпохи, в котором оно зарождалось и жило. Пробел образовавшийся в литературном процессе второй половины ХХ века, можно объяснить скопившимися в художественном слове противоречиями, кризисом, поразившим литературу в целом. Ситуацию, в которой оказалась художественная литература на постсоветском пространстве, как никто более точно, обрисовал в свом эссе “Русские цветы зла” Виктор Ерофеев: “Последняя четверть ХХ века в русской литературе определилась властью зла. Вспомнив Бодлера, можно сказать, что современная литературная Россия нарвала целый букет fecurs du mal… Разрушилась хорошо охранявшаяся в классической литературе стена /хотя в лучших вещах она была более условной, нежели берлинская/ между агентами жизни и смерти /положительными и отрицательными героями/. Каждый может неожиданно и немотивированно стать носителем разрушительного начала; обратное движение затруднено. Любое чувство, не тронутое злом, ставится под сомнение. Идет заигрывание со злом, многие ведущие писатели заглядываются на зло, завороженные его силой и художественностью, либо становятся его заложниками. В социалистическом реализме некоторые из них находят черты грубого очарования, в его архитектурных формах им видятся истинные онтологические модели. Красота сменяется выразительными картинами безобразия”. На примере ведущих писателей современности, берущих свой отсчет с А. Солженицына и В. Шаламова, а корнями уходящие в русский авангард “серебряного века” с его ”Мелким бесом” Ф. Сологуба, Е. Ерофеев подробно описывает трансформацию как основного типажа современных произведений, так и метаморфозу литературного процесса в целом. Совершившая сильнейший толчок от литературы социалистического реализма литература последней четверти ХХ века начала на его исходе постепенно увядать, задыхаться в порожденном ею же смраде “чернухи”, в чаду безысходности и пессимизма. И если ещё Сергею Довлатову, Валерию Попопу, Вячеславу Пьецуху удается продержаться на плаву за счет мастерства и незаурядного авторского стиля, то уже в творчестве Евгения Харитонова, Анатолия Гаврилова, Андрея Синявского, московских концептуалистов / Д. Пригов, Рубинштейн, Сорокин и др./ отчетливо прослеживается тупиковость данного направления, его обреченность. “В более молодом поколении писателей, настойчиво подражающих образцам литературы зла, ослабляется, однако, напряжение самого переживания зла. Возникает вторичный стиль, жизненные ужасы и патология воспринимаются скорее как забава, литературный при? м, как уже проверенная возможность поиграть в острые ощущения” и, то ли не зная, то ли сознательно замалчивая своё знание о цикличности всего происходящего в мире и, в частности, в литературе, автор “Русских цветов зла” риторически заканчивает эссе вопросом: “Итак, зло самовыразилось. Литература зла сделала своё дело. Онтологический рынок зла затоваривается, бокал до краёв наполнился чёрной жидкостью. Что дальше?“ Трансформация в общественном понимании функционального предназначения художественного произведения, как и самого его носителя, вплелось в повсеместный поиск того аккумулирующего начала в литературе, которое позволяло бы вести новый отсчет писательскому слову. Само по себе это явление выглядит логичным во времена “смены вех”. Как логичным выглядит стремление многих творцов художественного слова освободиться, очиститься от многочисленных идеологических наслоений, литературных штампов и табу, навязанных багажом предшествующих поколений литераторов. С античных времен очищение тела и души человеческой носит название “катарсис”. В литературе последнего десятилетия ХХ века этот процесс получил воплощение в понятии “катарсизм”. Новое направление, провозглашенное авторами-участниками одноименного альманаха, следует рассматривать не иначе, как сквозь призму того понимания, того номинативного смысла, которое вкладывается в слово “катарсис”. Слова-синонимы, они связаны между собой множественностью предназначения, более высоким уровнем самооценки носителя, стремлением ассерторически взглянуть на происходящие процессы и явления, бесстрастностью суждений тех, кто избрал данное направление и, что немаловажно, исповедальностью стиля, эмпатизацией героев, очищающих духовный и телесный мир как читателя, так и автора. Итак, совершим экскурс в историю понятия “катарсис” с тем, чтобы глубже оценить смысл термина “катарсизм”. (Вся статья – в альманахе «Катарсизм» ,т.1. Полоцк,2000г.) Александр РАТКЕВИЧ (Полоцк) ОБЩАЯ ПОЭТИКА КАТАРСИЗМА Постулаты и гипотезы Введение “Поэтика в ряду наук о духе”. Б. Эйхенбаум Приступая к разработке “Общей поэтики катарсизма”, необходимо выяснить: возможен ли полезный результат данной работы и нужно ли вообще провозглашать новое литературное направление на фоне сотен уже имевшихся и имеющихся во многих литературах мира? Ведь А. Блок ещё в 1907 году, будучи “кровным” символистом, сказал: “Вопрос о школах в поэзии – вопрос второстепенный”, и, безусловно, прав, так как имел ввиду поэзию как явление всеохватное, всемирное, а лучше сказать – природное. А природе никакие школы, направления и т.п. не нужны. Она едина. Другое дело литература, имеющая как национальные черты, так и множество теоретических секретов мастерства, которые, чтобы достичь этого мастерства, необходимо изучать. Поэтому без определенных литературных школ, а тем более литературных направлений, в которых развиваются и укрепляются имеющиеся в обществе таланты, не обойтись. Такова сущность человека: ему следует постоянно совершенствовать природные задатки, иначе они гибнут. “Человечество не идет толпой. – Замечает В. Шкловский. – Оно идет группами, связанными не кровным родством, а сходством выбранных приемов. Выживают те, которые создают нечто хорошо работающее”. Отсюда следует, что всякое литературное направление – не случайное сообщество художников слова, а определенное единство, обусловленное жизнью и литературой. Однако, многие современные исследователи литературы, в частности стиха, опираясь на строки А. Пушкина: Ты царь: живи один. Дорогою свободной Иди, куда влечет тебя свободный ум, Усовершенствуя плоды любимых дум… и далее: Ты сам свой высший суд; Всех строже оценить умеешь ты свой труд, – категорически утверждают, что “только преодолев направление, стихотворец становится поэтом, выразителем своего времени”. Будто, к примеру, символисты, футуристы и др. свое¸ время не запечатлевали в стихах, но сразу же стали его запечатлевать, как только освободились от “пут” литературного направления, к которому примыкали. Между тем, А. Пушкин в приведенных строках имел ввиду иное: редактирование собственных произведений самим автором. На что, думается, способен только крупный мастер. А большей массе пишущих необходим “литературный котел”, где бы они могли “вариться“ и впитывать соки опыта владения словом и умения отшлифовывать фразы и, соответственно, содержащийся в них смысл. Таким “котлом” может выступать только литературное направление, а в более частном проявлении – течение /школа/ /об их различии см. в гл. “Направление”/. Несомненно, литературное направление – своеобразный социальный организм, самым существенным признаком которого является то, что в нем, как нигде, определяется талант, гибкость мышления, развивается интуиция автора. Постоянная работа в союзе с литературным направлением оплодотворяет стиль литератора, активизирует творческие усилия, помогает выявлять наиболее актуальные темы и их практическую ценность. То, что это так, подтверждает само развитие как литературы вообще, так и национальных литератур, в частности. По словам Г. Поспелова: “История развития каждой национальной литературы и представляет собой, таким образом, процесс возникновения, взаимодействия и смены различных литературных течений, в произведениях которых реализуются, с той или иной степенью совершенства, соответствующие художественные системы, и которые нередко создают соответствующие творческие программы, выступая в качестве литературных направлений”. Того же мнения и Н. Гумилев: “Поэзия развивается, направления в ней сменяются направлениями”2. Особенно явно этот процесс проявляется на стыке веков. Как показала история, именно в этот период литература, а стихосложение особенно, находятся в неком эмбрионально-созревающем состоянии, чтобы вдруг “родиться” новой всеохватной волной или волнами, а порой и цунами. Так во Франции в начале 20 века существовало более 35-ти литературных направлений и течений/школ/. Такая же ситуация сложилась и в России в период Серебряного века. Все¸ это не случайно, и доказывает, что без направлений в литературе нет соперничества, нет прогрессирующего развития, т.е. профессионализации. Ведь известно, что свобода творческого профессионализма исключает цепи дилетантства. К этому следует добавить, что, к сожалению, многие направления зарождались не самоцельно, т.е. не на базе собственных теоретических разработок, а на отвержении и очернительстве предыдущих направлений, что является путем нигилизма, уделом слабых духом, пытающихся оправдать своё эпигонство в литературе. Прежде чем провозгласить новое литературное направление, необходимо усвоить имеющееся литературное наследие, зарядиться его энергией. Этот багаж традиции будет постоянно подпитывать рост нового и, в конце концов, приведет к зрелым и полезным плодам. Образно выражаясь, традиция – вертикаль, эпигонство – горизонталь. Поэтому можно сказать, что провозглашаемый катарсизм задуман с целью не подавления предшествовавших и существующих в данный момент литературных направлений и течений/школ/, а для продолжения прогрессивной традиции на базе реставрации и сохранения самого ценного литературного опыта. Это стремление через очищение от дилетантских приемов и способов литературной работы к наилучшему качеству в содержании и форме произведения, достижения этого качества и удержания его на достигнутом уровне. Однако поэтика катарсизма не является объяснением “как делать стихи”, но предназначена показать, как на литературном замысле отражается присутствие бытия, чтобы произведение могло осознаваться как структуры и события, совершенного на уровне сознания при помощи текста в качестве определенной формы высказывания. Причем нужно иметь ввиду, что катарсизм – это не революция, а эволюция. Это литературное направление не должно и не может сложиться скороспело, если его авторы хотят, чтобы оно существовало долго. (Очень странно, что некоторые так называемые критики, не имея почти никакого понятия о сущности и структуре катарсизма, так как в то время он еще¸ не был разработан в полной мере ни теоретически, ни практически, брались его характеризовать, точнее, очернять с интонацией некоего превосходства)… Каково же состояние катарсизма на данный момент, и что из себя представляет уже накопленный им багаж? Идея катарсизма как литературного направления возникла в апреле 1989 года, когда были сделаны первые, можно сказать, эмоционально-экспрессивные наброски, пытающиеся прояснить суть провозглашаемого направления. В то же время написан Манифест катарсизма, вобравший в себя веяния тех лет, когда в сознании людей началась ломка прежнего мировоззрения, внося в умы хаос, так как новое мировоззрение не предлагалось, да его никто и не мог предложить по обычной причине: всякое мировоззрение, удобное если не всем, то для большинства, складывается десятилетиями. Этот Манифест остается до настоящего времени в первозданном виде. МАНИФЕСТ КАТАРСИЗМА -А- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Сила поэтов не в степени их похожести, а в степени оригинальности Объединённость разных мировоззрений дает возможность для скорого и более полного раскрытия талантов То, что нас разъединяет, соединит нас -БЖизнь – материал, душа – мастерская Истину не брезгуй искать и в дерьме Вложи в произведение весь свой капитал: честность, искренность, благородство – и ты не останешься нищим -ВПоэт, изумив современников, ты покоришь потомков Не самовозвеличивайся Наше творчество и интересы отражают нашу нравственность -Г10. Относись с осторожностью не к чему-то новому, а к чему-то привычному, устоявшемуся 11. Бунтующий предпочтительнее покорно исполняющего (бунт не ради бунта, а ради обновления) 12. Убей в себе цензора, но сохрани редактора -Д13. Являясь порочным, имею ли я право клеймить пороки других? Имею, если я начал с себя 14-15. Резать по больному – необходимость во благо, но поэт не хирург, слово не скальпель, явь не болезнь -Е16. Мы не относим себя к мировоззрению декаданса, мы относим себя к мировоззрению гуманизма 17. Мы не замыкаемся на себе и готовы сотрудничать со всеми, кто этого пожелает 18. Мы не ставим перед собой цель коренного изменения поэзии -Ж… Наша цель – катарсизм (23.04.89г.) (Впервые напечатано в газ. “Полацкi веснiк” №147, 16.09.1989г.) Дальнейшее развитие катарсизм получил в сборнике “ПОВОРОТ”, во вступительной статье которого впервые излагаются некоторые элементы нового литературного направления и формулируется его сущность: “катарсизм являет собой ни что иное, как преодоление мёртвоутверждающих пафоса и этоса и движение к жизнеутверждающим путем трагедизации характера, эмпатизации души и обновления поэтического языка произведения”1. В декабре 1995 года в статье “Незапланированный спор”2 делается попытка представить катарсизм в несколько ином ракурсе в сравнении с первоначальным пониманием, хотя и используются многие предыдущие наработки и принципы этого направления. Таким образом, можно сказать, что катарсизм – это направление не единства, а многообразия литературных мировоззрений, это не однорусловая река, а многорусловая, но берущая начало из одного общего для всех потоков поэтического истока. В любом смысле новые благотворные идеи возникают при столкновении разных, а лучше противоположных точек зрения. Если именно так дело пойдет и дальше, т.е. каждый теоретик катарсизма будет вносить в его разработку нечто своё, может быть даже противоречащее прежним постулатам, то можно не сомневаться – катарсизм, видоизменяясь, будет процветать, не смотря на многочисленные попытки некоторых критиков дискредитировать и принизить его значение и роль для литературы, представляющих дело так, будто всякое направление и т.п. является столпотворением или диссонирующим хором. Но ведь известно: соловьи поют не хором, но и не в одиночку. Несомненно, прочитав эту работу, многие скажут, как уже и говорили, что изложенные здесь воззрения не новы и уже неоднократно встречались на страницах литературоведческих изданий. И это, возможно, верно, как верно и то, что все встречавшиеся ранее взгляды на обновление литературного процесса не были достаточно упорядочены. Приведение в некоторую систему уже имеющихся и выявленных в недавнее время точек зрения на поэтическое творчество с вытекающей отсюда потребностью нововведений и есть задача данной работы. Ну а как всё обернётся на самом деле, витала ли идея катарсизма в воздухе или она явилась кабинетной выдумкой, увлёкшей лишь небольшую группу заинтересовавшихся ею литераторов, покажет время. И только время. ………………… В развитии литературного направления выявляются четыре фигурально обозначенных этапа: 1. Расцвет – когда идея нового направления, ещё неоформленного, “витает в воздухе” или бродит, елееле осознаваясь, в умах; когда в литературном процессе данной страны господствует традиция, изжившая себя или ещё нет, и подчиняет своей зависимости, хотят или не хотят они того, представителей нового литературного направления, которых ещё единицы и которые по большей части, а может и все являются представителями второстепенного художественного значения, так как пока не выработали свой стиль и не оформили окончательно в сознании, а тем более письменно, своё новое или обновляющее традицию мировоззрение; однако эти новаторы-одиночки, встречая всё большее и большее сопротивление традиционалистов и, если они новаторы, объективно и целенаправленно мыслящие люди, усваивая всё лучшее в имеющемся литературном каноне, сначала интуитивно, а потом глубоко осознанно начинают утверждать мировоззрение и стиль творчества в произведениях, параллельно воплощая в программных документах своё новаторство (иногда, к сожалению, с резкой, уничтожающей критикой всего предыдущего пути, пройденного литературой, как это было, к примеру, при становлении футуризма в России). 2. Созревание – на этой ступени развития направления, если оно укоренилось в литературном процессе, начинается более подробная разработка его художественных принципов и структурных элементов, интерес к которым, как водоворот, притягивает к себе всё новые и новые таланты, которые довольно легко воспринимают то, что было нажито на первоначальном этапе; свежие силы ускоряют “кровообращение” направления, создавая ситуацию молодого крепкого организма, которому под силы любые препятствия и который также, как и на первом этапе, подсмеивается над явно сдающейся традицией /например, французский натюризм (сер. 90-х г. 19 в.), противопоставлявший себя натурализму и символизму/, т.е. происходит переход количества в качество. “Отклонение от традиций, – указывает В. Жирмунский, – более значительное и постоянное, должно, наконец, привести к нарушению равновесия всей системы и к замене е¸ другой системой, соответствующей новым отношениям”. 3. Плодоношение – теперь наступает момент, когда использование параллельных достижений в своих целях является специфической чертой, подчёркивающей высший подъём литературного направления, поэтому начинается активное усвоение направлением достижений отдельных авторов как входящих в направление, так и не входящих, но имеющих новшества, приемлемые для данного направления, усвоение многих постулатов из других направлений, применение забытых и изобретение новых литературных жанров, укрепление своей темологии, расширение ранее провозглашённого мировоззрения, а также создание возможностей для образования течения /течений/ как в рамках направления, так и отпочковавшихся, ведь направление уже надёжно стоит на ногах, оно как бы не видит соперников, тем более, что многие его участники, особенно теоретики, стали метрами и являются признанными писателями; и таким образом сформировав свой творческий канон, направление достигает ситуации, когда качество переходит в количество. 4. Увядание – и вот, кажется, все цели достигнуты, а что упущено, то необратимо – возраст не тот; но самое главное – направление, бывшее новаторским, незаметно трансформировалось в традицию, т.е., в сущности в то, к чему и стремились создатели некогда нового направления, а это означает, что произошёл коварный переход на первый этап – круг замыкается – только теперь придётся играть не совсем приятную роль традиционалистов и, возможно, получать в свой адрес заслуженные и незаслуженные обвинения в застарелости, в ненужности, в изжитости и т.п.; продление своего существования ещё возможно только при наличии идейно стойких сторонников направления или при некотором обновлении программных принципов с целью получения “второго дыхания”, но в любом случае это временные меры. Таков в общих чертах образный кругооборот “жизни” и “смерти“ литературного направления. Здесь не говорится о временной протяжённости этапов, потому что это устанавливается не теоретически, а практически: после “кончины” определённого направления, срок жизнедеятельности которого очень растяжим: от нескольких лет до нескольких веков. Однако нельзя думать, что литературное направление – это провозглашение, всегда или не всегда, чегото совершенно нового, неожиданного, раннее не встречавшегося в литературном процессе и т.п. Ведь всякий рост возможен не из пустоты, а из чего-то. Поэтому всё, что берут за основу представители какоголибо литературного направления, уже существовало – возможно, в зародышевом состоянии – и развивалось на литературной почве, с той разницей, что эту характерную черту впервые подметили, вычленили и провозгласили в качестве знамени именно участники данного направления. В этом смысле, если, к примеру, направление концептуализм (метаметафоризм, создано в 1988 г.) своей основой объявляет положения: “Поэзия структуры приходит на смену поэзии Я”, “Подлинная лирика молчащего Сверхсубъекта”, Исследование “механизма массового сознания”, Напряжение и перенапряжение смысла слов, чтобы явить структуру подлинной реальности”; направление соцреализм /1906-1991/ устанавливает и требует неукоснительно соблюдать следующие фундаментальные выкладки: Партийность и классовость сознания, Гражданственность и народность проблематики, Изображение жизни в е¸ революционном развитии, в процессе е¸ преобразования, Романтико-героический пафос характеров; а леттризм /1946-/, как крайнее проявление формализма, обосновывает себя в одном, но радикальном тезисе: Единица поэзии не слово, а звук, выраженный буквой; то катарсизм своей первоначальной сущностью провозглашает: Трагедизацию этоса /гр. ethos – нрав, характер, привычка, обычай/, Эмпатизацию пафоса /гр. pathos – страсть, чувство, страдание, воодушевление/, Обновление /эволюцию/ поэтической речи, как реализации эстетической функции языка. Теперь рассмотрим каждое положение катарсизма в отдельности. I. Трагедизация этоса В своё время А. Ахматова назвала А. Блока “трагическим тенором эпохи”. В статье “О назначении поэта” /1921/ сам А. Блок сформулировал: “Роль поэта – не лёгкая и не весёлая; она трагическая”. Точнее сказать нельзя. Всё остальное может быть лишь как дополнение к этой формуле. История литературы показала, что только трагическое миропонимание автора позволяет ему осознавать сложности человеческой жизни и на этой основе создавать веские произведения. Причём никоим образом нельзя считать, что трагическое есть синоним несчастья и т.п. Дело в том, что “трагическое не имеет существенной связи с идеею судьбы или необходимости. В действительной жизни трагическое большей частью случайно, но вытекает из сущности предшествующих моментов. Форма необходимости, в которую облекается оно искусством – следствие обыкновенного принципа произведения искусства”. Тем более что уже в древности при своём возникновении трагическое ощущение являлось “частью праздничного прославления бога страстей (Диониса), бога-героя”. /Последние исследования этимологии слова “трагедия” соотносят его с хеттским корнем со значением “пляска”/. Однако, прославляя страсть (страдание), т.е. пафос, трагедизация, исходя из логики жизни, потрясает разум читателя (слушателя) напряженностью этоса, т.е. нрава (характера) произведения, давая почувствовать наслаждение, которое скрыто в страдании. Но напряжённость этоса невозможна без глубокой мотивировки ситуации, которая достигается наилучшим способом, как правило, при столкновении в произведении моральных и мировоззренческих принципов персонажей (“Трагедия основана на узловых моментах изменения нравственности”, В. Шкловский), которые или защищают или отвергают их. Можно сказать, что трагедизация эволюционизирует нрав, разрывая цепи морали, что приводит к глубоким противоречиям и мучениям героев произведения. Поэтому трагизм не мыслим без признака “страдания” (“Радость через страдание”, Л. Бетховен). По выражению Г. Гегеля, возникает “трагическая вина героя”, который вызывает на себя коллизию произведения. Причём персонажи, как указывал Аристотель, должны быть благородными, которые только и могут идти на перекос судьбе, в частности, нравственным законам, и, независимо от того, положительные они или нет, сохранять душевное величие. Исходя из этого, очевидно, что этос становится судьбой, внушающей читателю очищающий страх перед неизбежным возмездием за совершенное. Однако, убить героя в конце произведения – это наипростейшая концовка. Сделать финал напряжённо-трагическим, оставив героя живым /как, например, в “Сиде” П. Корнеля/, – вот задача современного литературного процесса. Здесь уместно привести высказывание И. Бродского, что “в настоящей трагедии гибнет не герой – гибнет хор”. Хор и является символом морали и мировоззрения. В трагедизации этоса выявляются три составные части. a) Усиление психологизма характеров, т.е. мотивированность их появления, развития и исчезновения. Доведённая до предела психологизация образов произведения обладает наибольшей и долговременной силой воздействия на читателя и зрителя, а значит и наибольшей глубиной содержания. Учитывая, что художественное произведение, согласно А. Потебни, есть концентрация духовных возможностей и способностей автора с целью успокоения своей души в слове, секрет воздействия любого художественного произведения кроется в психике писателя. Основная суть психологизма: соответствие действий персонажей их мыслям, желаниям и т.п. И чем сильней это соответствие, тем убедительнее содержание. Тем более, что в художественном произведении всегда больше логики и смысла, чем в соответствующей ситуации /фабуле/, почерпнутой из окружающей действительности. Причём эта логика не прямолинейна, а гибка, что доказывает известный эффект обмана ожидания, когда читатель в развитии сюжета ждёт одно, а получает нечто другое или даже противоположное. Но наибольшее углубление психологизма свойственно лирической поэзии. b) Усиление философизма, как общего взгляда на своё творчество, который так или иначе имеется у каждого литератора. В этом смысле, думается, поэт должен ощущать себя во всех эпохах сразу; заимствование и стилизация были всегда, но наличие в стихосложении разных пластов культуры одновременно в контексте одного произведения – это новация. c) Усиление мифологизма /Поэт – “кузнец мифов”, Ж. П. Сартр/. “Мифология – не что иное, как особая речь, древнейшая оболочка языка… Мифология – …есть quale, а не quid, форма, а не содержание и, подобно поэзии, скульптуре, живописи, обнимает вс¸ ,что могло быть предметом удивления или поклонения в древнем мире”2. Поэтому именно в мифологизме творчества можно обнаружить основное назначение и главную функцию литературы. И не потому, что мифологизм самая древняя и усовершенствованная часть художественного процесса, а оттого, что в ней, как в магнетическом центре, сходятся лучи художественных замыслов. Недаром Сократ произнёс категорически и основательно: “Поэт, если только он хочет быть настоящим поэтом, должен творить мифы, а не рассуждать”3. Столь же категоричен и Ф. Шлегель: “Мифология и поэзия едины и неразрывны”4. Образно выражаясь, мифологизация – это сгущение действительности в миф, а в конечном счёте – преобраз. Отсюда понятно, что всё будет зависеть от того, что и как сгущено. А это уже вопрос мастерства автора. Как известно, слово приобретает мифологический смысл тогда, когда утрачивает первоначальное, исконное, имеющее непосредственное отношение к его звучанию, значение. Поэтому, думается, что наиболее приемлемый способ усиления мифологизма в произведении – это создание мифологем: ощутимых иероглифов, синтезирующих конкретную детальность событий /тему/ с заимствованной и вымышленной идеей произведения. Мифологема, как зерно, скрывает в себе бесконечное количество свернутых художественных сюжетов, восходящих к длительной культурной традиции. Но трагедизация этоса – это не только обострение чувства личного бытия, но и определённая форма жизни и жизнепонимания. “Учись страданием” – вот великое открытие Эсхила в “Агамемноне”. Если каждый человек будет иметь в своём характере чувство страдания, т.е. будет воспринимать окружающую действительность изначально как трагическую, то мир будет совершенно другим. Но дело в том, что трагичность жизни наиболее остро ощущается с годами. Однако у поэта или прозаика чувство трагичности бытия в момент создания произведения должно присутствовать обязательно /например, целостность трагического у М. Лермонтова/, будто он произносит последние слова, а если он их не скажет, то и рождаться на свет и жить не имело смысла. Трагизм этоса наиболее ярко осуществляет в себе дух искусства. Поэтому теперь речь пойдёт о втором положении катарсизма. II. Эмпатизация пафоса /“Гнев рождает поэта”, латинское изречение/ Пафос – это первооснова всякого содержания, т.е. “идея… через пафос превращается в тело…, в живое создание”. Таким образом, пафос – первооснова и всякой формы. Известно, что пафос – это страсть, но тогда чем примечателен пафос по сравнению со многими другими человеческими страстями. Дело в том, что если любовь – это слепая страсть, то пафос – это обдуманная страсть, связанная со страданием. Наличие эмпатизации призвано трансформировать страдание в сострадание, в способность сочувствовать, сопереживать, этим усиливая и углубляя пафос как дух произведения. Поэтому можно сказать, что эмпатизация пафоса провозглашает эволюцию духа, но никоим образом не революцию, ведь “законы духа изменяются столь же мало, как и законы природы”. Родственность пафоса и природы однозначна. Более того, пафос, являясь принадлежностью человеческого подсознания, создавая эмпатическое поле произведения, является связующим звеном между сознанием человека и окружающей его природой – надсознанием, откуда только и может каждый художник черпать материал для своих творений. И здесь у пафоса обнаруживается ещё одна существенная роль – роль “золотой середины”. Известно, что затасканные идея и тема надоедают, становятся неинтересными, и поэтому отторгаются читателем. Совершенно новые, непривычные идея и тема – недостаточно или вовсе не понятны, и потому также отторгаются читателем. И только эмпатизированный пафос, способен омолодить старое и овзрослить юное. Поэтому поэт, как духовный барометр общества, обладая пафосом, обладает сильнейшим оружием, которое требует, чтобы им пользовались умело и осторожно. Чтобы не появился “пафос, неуместный и ненужный там, где не должно быть пафоса, или неумеренный там, где нужна мера”. В эмпатизации пафоса выделяются три части. a) Поэтическая пронзительность – своеобразная духовная надрывность, вызывающая у читателя /зрителя, слушателя/ катарсис, который Аристотель определил как “очищение [от] страстей” шоковой разрядкой. Под страстями он имеет ввиду сострадание /eleos/, страх /phobos/ и, когда говорит о воздействии лирики, энтузиазм /enthusiasmos/. Платон охарактеризовал катарсис как освобождение духа от тела, который через катарсис приобретает независимое бытие и сознание в себе самом 3. По его мнению, катарсис – это “отделение худшего от лучшего”. И добавляет: “Всё очищение, как во врачебном искусстве, так и в мантике /гадании, прорицании – А. Р./, преследует одну цель: сделать чистым тело и душу человека”. Истоки катарсиса – в орфическом учении об очищении души, когда человек, впервые почувствовал в себе зарождение сильных чувств, т.е. страстей, и испугавшись этого, вызвал цепную реакцию сострадания (sympathia) к самому себе, которое и побудило его с энтузиазмом искать освобождение от раздирающих его душу страстей. То, что, например, любовь – это наваждение, страдание, мучение и т.п., можно слышать и сейчас. Впрочем, не только слышать, но и видеть, как многие воодушевлённо стараются избавиться от этого “хлопотного” чувства. Однако думается, катарсис – изначально основополагающий духовный постулат. Дело в том, что человеческий дух, будучи элементом космоса, постоянно насыщается космической экстатической энергией, т.е. пафосом, являющейся своеобразным эмоциональным топливом. Но так как насыщение происходит постоянно, а используется эта энергия не полностью, возникает эффект перенасыщения духа энергией, перерождающейся в пороки, которые по большей части выплёскиваются /вернее, используются теми, кто знает этот секрет, в своих узкокорыстных целях/ на совершение отрицательных действий /войн, революций и т.п./. Поэтому, чтобы избавить общество от избытка пафоса, искусство, создавая острые жизненные ситуации, возбуждает воображение и поддерживает это состояние как можно дольше, сжигая в это время неиспользованную экстатическую энергию, что и является катарсисом. Если же говорить конкретно об отдельном человеке, то катарсис побуждает каждого к эстетическому осознанию и творческому самосожжению пороков. Как видно из сказанного, катарсис и пафос неразделимы. Причём катарсис действует путём не запрещения пафоса, а наоборот, его возбуждения, перенасыщения им, таким образом нейтрализуя его и приводя дух к целительному успокоению. Отчего “элементы пафоса и катарсиса в действиях ослабляются… до символизма”. В сущности получается, что находя оптимальные формы и выражения, катарсис, проведя читателя через духовную надрывность, вызывает в нём жалость и делает приятным созерцание ситуаций произведения, которые в действительной жизни были бы мучительными и разрушительными для сознания. “Мы…, слушая, как Гомер… изображает кого-либо из героев охваченным скорбью…, –конкретизирует Платон, – испытываем… удовольствие и, поддаваясь впечатлению, следим за переживаниями героя, страдая с ним вместе и принимая всё это всерьёз”. В настоящее время катарсис полностью трансформировался в символ, в котором, как в лекарственной таблетке, сконцентрированы многие сильнодействующие средства, предназначенные для врачевания человеческого духа, т.е. сознания и подсознания. А это значит, что катарсизм как литературное направление есть исцеляющее и, соответственно, обновляющее на уровне художественного сознания духовное средство, позволяющее поддерживать энергетический баланс творчества на высоком напряжении. b) Нетипичность лирического /и т.п./ героя. Учитывая, что типичность – понятие социологии, а не литературы, необходимо говорить не о типизации персонажа /как главного, так и второстепенного/, а о его индивидуализации в зависимости от идеи произведения и мотивированности сюжета. Причём этот персонаж в мастерском произведении всегда будет вызывать у читателя желание подражать ему, так как писатель, благодаря своему чутью, изобразит его таким, каким его хотели бы встретить в жизни большинство читателей, и одновременно, благодаря своему таланту, писатель его охарактеризует оригинально, необычно, свежо. И в постоянном развитии, так как “нет статического героя, есть герой динамический”. Таким образом, персонаж произведения должен отличаться не типичностью, а многосторонностью, которая, в свою очередь, представляя единый субъект, требует, “чтобы характер был особенным и индивидуализированным”. А всякая типизация, лучше сказать стандартизация, приводит в конце концов к шаблону и эпигонству в творчестве. Интересно, что Аристотель, говоря о персонажах Зевскида, отметил, что “невозможно, чтобы существовали такие люди”, и тут же уточнил: “но оно и лучше, так как произведение искусства должно превосходить образец”, т.е. тип. Да и какой смысл описывать в произведении типичное – то, чего и так много и присутствует в большинстве характеров, если разумнее и полезнее усмотреть в обществе, а если в обществе ещ нет, то создать своим воображением такой нрав, который, несмотря на свою глубокую индивидуальность, будет притягательным для основной массы читателей и зрителей. К примеру, Онегин явно нетипичен для своей эпохи, как, впрочем, и для последующих времён. Не говоря уже о Печорине и тем более Чацком. Это ярковыраженные индивиды. И это верно, так как литература “занимается человеком, который не на своём месте”, т.е. нетипичен. Поэтому каждый поэт должен быть исключением из правил с чёткой установкой на свой стиль. Фигурально говоря, как отпечатки пальцев – отпечаток личности. “Художник вовсе не даёт коллективной фотографии жизни, и типичность вовсе не есть обязательно преследуемое им качество”. c) Суггестизация ощущения /поток ощущений/. /“Невыразимое подвластно ль выраженью?”, В. Жуковский/. Вопрос внушения ощущения читателю, слушателю и зрителю стоял всегда в литературе. Однако традиционной поэтической речью суггестивности не достичь, так как номинативная и индикативная функции речи не обладают такой возможностью. Эта цель подвластна только суггестивной функции, которая работает не на уровне одной определённой ситуации, а на уровне контекста всего произведения. Причём суггестизация ощущения, т.е. вызывание гаммы ощущений /“Искусство писать есть искусство пробуждать множество ощущений”, К. Гельвеций/, достигается сосредоточением выразительной энергии речи на конкретной ситуации, которая в свою очередь, как водоворот, втягивает в себя идею произведения. Такой способ позволяет мотивированно сменять и обновлять ощущения и не допускать притупления яркости содержания и формы. Как известно, суггестивность – это высшее художественное проявление речи, а потому и самое сложное как для автора, так и для читателя. Оба они должны быть наилучшим образом подготовлены: писатель для создания суггестизации ощущения, читатель для е¸ восприятия. Нельзя не отметить то, что суггестизация основана не на каком-то дополнительном интонационном, смысловом, ассоциативном оттенке или на неясном душевном страдании /“пленительная неясность”, М. Рыльский/. Нет, суггестизация ощущения – это конкретное сверхощущение, являющееся высшим духовным удовольствием для автора и читателя, и осуществляющее в них катарсис. А для этого необходимо не отвлечённое, а предметно-чувственное, предметно-ощутимое поэтическое мышление, но воздействующее более не на сознание, а на подсознание. Сильное поэтическое искусство заключается в умении возбуждать острейшие ощущения, ведь читатель, беря в руки книгу, желает быть взволнованным. И писатель обязан это учитывать. Недостаточно, чтобы необычными, изобретательными были сюжет и образы произведения, необходимо, чтобы своеобразны и новы были и все его детали и частности ситуаций. Только в этом случае возникает “чудесное трение” между обобщением и конкретизацией содержания, так как они разнонаправлены. Автоматически в этот процесс вовлекается форма произведения, которая вместе с постоянными внутренней и внешней сторонами приобретает дополнительную двучастность: текст и подтекст, т.е. оформляется подтекстное движение смысла /“подводное движение смысла”, Э. По/, завораживающее внимание читателя своей притягательной таинственностью и усиливающей ощущение текста. “Мерилом красоты какого-нибудь произведения является вызываемое им ощущение”, – отмечал К. Гальвеций, и опровергнуть это невозможно. В эмпатизации пафоса – сила творческой деятельности поэта. Это, как сказал Б. Пастернак, ”поэтический элемент в периодической системе поэзии”. Какова эмпатизация пафоса в произведении, таково “я” писателя. “Ведь не мысль делает человека поэтом, а её выражение”, поэтому “я требую от поэта, чтобы он потряс мои нервы, точно так же как и мою душу”. Несомненно, мыслят как поэты, почти все люди, но способностью /и желанием/ материализовать это мышление, да ещё особо, по-своему, обладают единицы. Поэтому поэт выделяется среди людей не содержанием своих мыслей и чувств, а формой их проявления, воспроизведения, т.е. умением выражать себя настолько ощутимо, что у читателя появляются слёзы в глазах и дрожь на теле. И всё это ради того, чтобы вернуть поэзии е¸ первичное и главное назначение: приносить удовольствие – себе как автору и читателю как себе. /“Ведь наша цель – доставить наслаждение”, Лопе де Вега/. Но всякое поэтическое выражение невозможно без поэтической речи, о которой и говорится в третьем положении катарсизма. III. Обновление /эволюция/ поэтической речи Поэтическая, т.е художественная речь есть реализация эстетических возможностей языка. Но сам по себе язык – это двучастная сущность, состоящая из мышления и речи. “Мышление человека осуществляется в теснейшей связи с речью и результаты его фиксируются в языке”. Мышление само по себе, являясь абстрактным потоком содержания в человеческом мозгу, впитавшем в процессе формирования предметную суть природы, не способно самостоятельно выразить, точнее материализовать свою суть. Этой способностью обладает речь, которая образуется артикуляционными органами человека. Членораздельные звуки придают мышлению реальное существование в форме речи. “Язык есть сознательное выражение в звуках впечатлений, воспринятых различными чувствами человека” 5. Упрощённо говоря, мышление – это теория языка, а речь – это практика, реализация в звуке теории. Если есть предмет, значит есть и его смысл. Дело только за тем, чтобы создать звук /устную речь/, а затем знак /письменную речь/, которые и материализуют смысл предмета. (Однако, “между воображением /мыслью – А. Р./ и действительностью /речью – А. Р./, – пишет Леонардо да Винчи в “Трактате о живописи”, – существует такое отношение, как между тенью и отбрасывающим эту тень телом”. То же у В. Брюсова: “Слово навсегда останется не адекватным переживанию, всегда будет выражать свои мысли и чувства лишь приблизительно”). В формальном плане, речь – это система звуков и знаков, каждая из которых имеет свой количественный и качественный период развития. Но если всякое разумное общество не может существовать без мышления, то само мышление, как явление надсознания /природы/ существует всегда и является единственным содержанием в мироздании. Причём мышление, будучи носителем первоначальной сути предметов, является общим для всего человечества. Если, например, француз смотрит на луну, он мыслит именно луну, а не солнце. То же самое происходит в мышлении и у русского, и у англичанина, и др. Иное дело – реализация этой мысли в звуке. В связи с долгой изоляцией нации от нации произошли огромные расхождения в их речевой практике и потому слова стали звучать совершенно по-разному. Но только слова. Мышление оставалось незыблемым, так как, например, камень на любой территории планеты всегда является камнем, а не чем-то иным, хотя в речи звучит неодинаково. Для обозначения /озвучивания/ понятия одного и того же предмета реально существует множество словесных единиц. Следовательно язык, как двучастная структура, может от другого отличаться речью, т.е. формой, всегда совпадая мышлением, т.е. содержанием. Но так как мышление является общим для всех языков, то оно не индивидуализируется /ведь, согласно А. Эйнштейну, человеческий мозг мыслит не словами/, а речь поддаётся индивидуализации, отчего и образовались наречия, т.е. разные языки. В семантическом плане всякая речь выполняет коммуникативную и эстетическую роль. Первую – реализует нехудожественная речь, вторую – художественная, что и является более частным планом биномного деления речи. Нехудожественная речь по своей структуре монофонична и однозначна. Слова и словосочетания в ней наполнены устоявшейся конкретностью смысла. Художественная речь, наоборот, полифонична и многозначна. Слова, словосочетания, синтагмы и т.п. в ней, по воле автора, частично, во многом или полностью могут наполняться дополнительной или новой конкретностью, благодаря чему художественная речь приобретает /яркое или неяркое – зависит от мастерства писателя/ ощущение постоянной новизны /“Связь всех слов стихотворения покоится… на притяжении новизны”, В. Шершеневич/, что и выявляет эстетическую роль речи, а также делает возможным существование самых разнообразных стилевых выражений письменно-художественной речи. “Каждое художественное слово…, – отмечает Л. Толстой, – тем-то и отличается от нехудожественного, что вызывает бесчисленное множество мыслей, представлений и объяснений”. Особенно чуток, а лучше сказать свехчуток к этому должен быть поэт, “искусство которого в том и состоит, что он умеет считавшееся самым обыкновенным и повседневным представить совершенно новым и преображённым”. Ощущение слова сродни идее “воскрешения слова” с целью “возвратить человеку переживание мира”, выдвинутой В. Шкловским. Назначением этого приема, названного В. Шкловским “остранением”, “является дать ощущение вещи как видение, а не как узнавание” и таким образом вывести смысл данной вещи из области консервативной нехудожественной речи. Художественная и нехудожественная речи, безусловно взаимосвязаны. Но если в художественных произведениях использование нехудожественной речи для определённых целей возможно, и порою в большом количестве, то использование художественной речи в нехудожественной почти исключено, так как последняя выполняет коммуникативную роль, поэтому ей полифония семантики слов и т.п. ни к чему, более того, во вред – люди не смогут понимать друг друга. Но тут возникает вопрос: а не является ли нехудожественная речь по сравнению с художественной более точной, а значит более значимой и полезной для человека? Ответ прост: многозначность сама по себе не является признаком неточности; неточность порождается поверхностным, дилетантским отношением к многозначности слов. В образном выражении, поэтическая речь предполагает большую точность, чем математика, у которой от перемены мест слагаемых сумма не изменяется, в то время как, например, в стихотворении перенос с одного места на другое слова или даже запятой приводит к искажению смысла. Резонно по этому поводу написал Ги де Мопассан: “Каков бы ни был предмет, о котором хочешь говорить, есть только одно слово, чтобы его выразить, один глагол, чтобы его одушевить, и одно прилагательное, чтобы его охарактеризовать… Нужно искать это существительное, этот глагол и это прилагательное, пока не откроешь их, и никогда не удовлетворяться приблизительностью”1. Тем более в стихотворении не следует использовать слова, имеющие приблизительное отношение к тому, что изображается. А значит для каждой конкретной описываемой ситуации есть одно конкретное слово, несущее в данном контексте одну конкретную мысль. Думается, нет надобности заострять внимание на том, что нехудожественная речь не требует особого напряжения человеческого духа, в то время как для написания художественных произведений, если автор желает создать нечто своё и полезное, необходима концентрация всех духовных и физических сил. Как уже говорилось, эстетическая роль речи возникает тогда, когда налицо постоянное обновление смысловой наполненности словесной фактуры, отчего усиливается ощущаемость речевой ткани. “Читатель хотел бы, – как справедливо заметил К. А. Гельвеций, – чтобы каждый стих, каждая строчка, каждое слово вызывали в нём какое-либо ощущение”. Поэтому катарсизм немыслим без регулярного обновления, а в некоторых случаях преобразования поэтической речи. Этот процесс может идти по трём направлениям. Первое: афоризация /“кинжальность”, отточенность / стиха. /“Кинжал поэзии”, В. Брюсов/. Под афоризацией имеется ввиду некоторая возможность существования стихотворной строки самостоятельно, наподобие того, как существуют самостоятельно пословицы и поговорки. Но этого можно достичь наилучшим образом, пожалуй, лишь в том случае, если строка помимо благозвучия и правильности словоупотребления будет нести в себе определённое действие, направленное на возбуждение в читателе ответной реакции. “Точнее рассматривая природу поэзии, мы говорим, что е¸ основной предмет приспособлен, собственно, к изображению людских действий посредством стихотворной речи”. Так сформулировал эту точку зрения Ф. Прокопович ещё в 1705 году. Поэтому афоризация позволяет не на словах, а на деле сблизить или разъединить определённые понятия или ситуации, а это, в свою очередь, даёт возможность достичь необычайного катарсиса – сожжение в сознании однобокой пристрастности. В результате афоризации /“кинжальности”/ стиха его смысловой объём может заполняться мудростью жизненного опыта, а не отдельным наблюдением, впечатлением или переживанием. Второе: системная аритмичность стиха. Согласно А. Пушкину: “Истинный вкус состоит не в безотчётном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности”. Под сообразностью А. Пушкин имеет ввиду целостное содержание, под соразмерностью – форму. Причём, соразмерность подразумевает, безусловно, бесконечное количество самых разнообразных ритмов /частей/, но не они являются главными компонентами этого понятия. Суть – в систематизации текста, будь он ритмичен или аритмичен. Но если систематизация правильных ритмов дело для поэта не новое, а, честно говоря, банальное, то создание произведений, в которых текст с нарушением ритма/логаэдический ритм/ упорядочен, приведён в систему, ещё достаточно не освоено, хотя уже в античности упрощённые формы логаэдического стиха широко применялись /например: гликоновский стих, фалекиев стих и др./. Таким образом речь идёт о создании свежей фактурности стиха, когда он уходит от усреднённой, приевшейся, усыпляющей внимание гладкости, но сохраняет правильность, благодаря систематизации аритмичного текста /более подробно, см. главу “Ритмика” во 2-м томе альм. «Катарсизм»/. Третье: словотворчество /“Слова поэта уже суть дела его”, А. Пушкин/. Материал писателя – это язык как синтез мышления и речи. Всё остальное является инструментарием. Своеобразно по этому поводу высказался В. Шкловский: “Произведения словесности представляют из себя плетение звуков, артикуляционных движений и мыслей”. Но так как в жизни всё изнашивается, значит постепенно, незаметно устаревают слова и словесные конструкции, поэтому, как полагал В. Хлебников, смысл и задачи литературы состоят в пересмотре явлений мира, т.е. в новом озвучивании мышления. Это не говорит о том, что следует одни слова заменить другими. Всякий процесс по обновлению словесного движения может быть только плавным, ненавязчивым и малозаметным. А если уж писателю достался такой важнейший для существования человека материал, как слово, то и работать с ним он обязан не по инерции, а творчески, чтобы читатель во всяком новом произведении находил нечто именно новое не только со стороны содержания, но и со стороны формы. Ведь всякая новизна должна быть полноценной. В любом случае, писателю во время работы приходится преодолевать словесную инерцию и таким образом искать свежие словесные конструкции для передачи того смысла и того настроения, которое им владеет в данный момент. “Искусство не рождается из слова, оно преодолевает слово… Литература словесна, но в ней существует и борьба со словом, для восстановления действительности, для полного её ощущения, а не только для осмысливания и перевода понятия”. Но оказывается, расширение словарного состава речевой практики отстаёт от образования в языке новых смысловых значений. Вот почему так много слов с самым разнообразным значением. /Наши далёкие предки за многовековую историю своего развития создали около 500 словесных корней3. Но если достаточно несколько десятков химических элементов для существования Вселенной, то реальна подобная ситуация для создания вселенной речи/. Выходит, что поэты-словотворцы отстают от народа-языкотворца. Поистине неисчерпаем народный языковой колодец. В качестве примера словообразовательной практики можно назвать римского поэта и драматурга К. Энния, который ввел в латинский язык много новых слов, между прочим, и сам термин “поэт” /poeta/. Гораций, как всегда, был и по этому поводу афористичен: Как листы на ветвях изменяются вместе с годами, Прежние ж все облетят, – слова в языке. Те, состарятся, Гибнут, а новые, вновь народясь, расцветут и окрепнут. Поэтому “скорее следует осуждать писателей за их робость, за боязнь относительно нововводительства, нежели за самые нововведения”. Однако словотворчество коварно, и если потерять чувство меры, можно потерпеть крупную катастрофу /“О если б без слов – сказаться душой было можно”, А. Фет/. Тем не менее, всякий автор должен иметь склонность к словесному изобретательству, которая развивает чувство художественной речи как таковой. И зная, что словотворчество приводит как к удачам, так и к неудачам, – всё-таки рисковать. Тем не менее, в свете сказанного, не надобно искать в катарсизме неожиданных, поражающих воображение поэтических новшеств. Катарсизм – это обычное эволюционное явление по обновлению, преобразованию и очистке стихосложения и т.п. от плевел словесного дилетантства, накопившихся за прошедшее столетие. Такова суть трёх основных постулатов катарсизма, которые, конечно, не претендуют на утверждение: этим всё сказано. К подобному результату приводит только сумма частных мнений, имеющих единый смысловой стержень, но разнополюсные тематические взгляды. Суммируя вышесказанное о новом литературном направлении, можно сделать общий вывод, что катарсизм есть преодоление мертвоутверждающих пафоса, являющегося духом произведения, и этоса, являющегося нравом произведения, и очистительное движение к жизнеутверждающим путём трагедизации нрава, эмпатизации духа и обновления /эволюции/ поэтической речи произведения. Многоплановость, полифония по поводу нового направления не исключают, естественно, самого строгого отбора. Чем больше определяется подробностей, воссоздаётся деталей литературного направления, тем обязательнее выявить наилучший способ их упорядочения. Важным этапом в этом деле видится архитектоника, призванная установить взаимосвязь основных составляющих элементов направления. И если художественное произведение – это упорядоченная по определенному канону и в соответствии с конкретной идеей речевая структура, то, думается, в русле этого определения развивается литературное направление, с той разницей, что оно является плодом усилий не одного-двух человек, а достаточно крупного коллектива, члены которого не обязательно единомышленники. Поэтому здесь предлагается – в качестве частного воззрения – архитектоника поэтики катарсизма. Но предварительно – несколько специфических и неожиданных /для стихосложения так точно/ формул. “Поэзия есть выражение посредством человеческой речи, сведённой к своему основополагающему ритму, таинственного смысла сущего: она дарует этим подлинность нашему пребыванию на земле и составляет единственную настоящую духовную работу”. /С. Малларме. Стихи и проза. 1893/ “Поэзия – это что-то вроде вдохновенной математики, которая предлагает нам уравнение – не абстрактных величин, треугольников, шаров и тому подобное, но уравнение человеческих эмоций”. /Э. Паунд. Дух романтической литературы. 1910/ “Поэзия есть лучшие слова в лучшем порядке”. /С. Кольридж. Литературная биография. 1817/. “Поэзия является стихийным потоком мощных эмоций”/ У. Вордсворт. Размышления. 1800/ “Поэзия есть не что иное, как высказывание с установкой на выражение… Поэзия индифферентна к предмету высказывания”. /Р. Якобсон. Новейшая русская поэзия. 1910/ “Поэзия – это метафизика, проявляемая в образах и таким путём внятная сердцу”. /Ф. Брюнетьер. Эволюция поэтических жанров. 1890/ “Поэзия – эссенция прозы и истории”. /А. Веселовский. ADNOTATIONES. 1859/ “Поэзия – это обработка материи посредством материи”. /Л. Уланд. О сущности поэзии. 1806/ “Поэзия не что иное, как беспрерывная электроцепь образов”. /В. Шершеневич. Пунктир футуризма. 1914/ “Общая формула поэзии есть “А /образ/, Х /значение/”, то есть между образом и значением всегда существует такого рода неравенство, что А меньше Х”. /А. Потебня. Из записок по теории словесности. 1905/ “Я бы вкратце определил поэзию… как созидание прекрасного посредством ритма”. /Э. По. Поэтический принцип. 1848/ А также: Поэзия есть синтез пластичности сознания, пронзительности подсознания и правильности как проявление “чувства соразмерности и сообразности” при условии их ориентации на общечеловеческую пользу. Или: П поэзия П П 2 П3 1 П4 I. Пластичность – это ощущение предметности образа. О чём говорят Г. Гегель: “Пластические образы представления раскрываются поэзией как определённые действиями людей” и М. Горький: “Литература – это искусство пластического изображения посредством слова”. В структурном отношении пластичность делится на: a) гармоничность, которая родственна грациозности /“Ритм и гармония несут с собой благообразие, а оно делает благообразным и человека”, Платон. “Поэзия должна покоиться на гармонии реального и идеального”, Ф. Шлегель/ b) эстетичность, представляющей склонность к красоте, совершенству, изяществу /”Изображайте нам, поэты, удовольствие, влечение, любовь и восторг, которые возбуждает в нас красота, и тем самым вы уже изобразите нам красоту”, Г. Лессинг. “Красота в искусстве стоит выше красоты в природе”, Г. Гегель. “Ничего нет полезнее красоты”, В. Розанов/ c) мифичность, являющейся сгущением действительности в миф, так как мифотворчество есть проявление творческой потенции человека. /“Мифы могут быть правильно поняты только поэтом”, Л. Уланд. “Сущность поэзии заключается в мифологии”, Ф. Шлегель/. II. Пронзительность – главный критерий притягательности поэзии; пронзительность лиризма исцеляет дух, как “жизненный порыв”, как исповедь /“Великие произведения искусства выбираются историей лишь из числа произведений “исповеднического” характера. Только то, что было исповедью писателя, только то создание, в котором он сжёг себя дотла, для того ли, чтоб родиться для новых созданий, или для того, чтоб умереть, – только оно может стать великим”, А. Блок/ /См. также: Эмпатизация пафоса, в частности: поэтическая пронзительность, с. 42/. Пронзительность состоит из: a) интуитивности, которую А. Бергсон определил как эстетическую способность и присущую всему живому, но в писателя дар художественного интуитивного синтеза природа вкладывает с особенной тщательностью и глубиной в форме воображения и выражения, что явно проявляется в принципе “потока сознания” /субмонолога/, у которого своя, особая логика развития содержания и построения формы, поэтому бессмысленно интуицию противопоставлять понятию. По А. Шопенгауэру, искусство – средство интуитивного ощущения изначальных идей-форм сквозь реальность. Согласно Б. Короче, интуиция – теория, чувство – практика. Поэтому, если чувство /ощущение/, как практику, можно соотнести с мастерством, то интуитивность, как теория, явно соотносится с талантом. В их синтетическом взаимодействии – высшая писательская результативность. b) напряжённости, как надрывности духа, или напряжения лирического поля /“Подлинное напряжение держится на двуедином взаимопроникновении направленностей: вознесение к высшим ступеням человеческого сознания и погружение в глубь чувственного мышления”, С. Эйзенштейн/ c) неожиданности – удивительной способности преобразовывать стандартное обыкновенное и повседневное в новое и свежее обыкновенное и повседневное. /“Прелесть [поэзии] состоит в новости, неожиданности мыслей, картин, положений драматических и выражений, которыми поэт тем сильнее поражает наше воображение, чем менее мы к ним приготовлены”, О. Сомов/. III. Правильность – это освобождение от хаоса содержания и формы, и установление подлинной точности высказывания, что сформулировал Д. Шостакович: “Поэзия обладает и силой музыки, но в то же время и силой точности слов”. Для правильности характерны: a) конкретность содержания, т.е. точность подробного восприятия явлений природы и психики /то, чего сумел достичь А. Фет/; ведь, с самом деле, конкретны и “мир” и “я”, но в философском смысле, а не в смысле наглядности, поэтому показателем конкретности является осознание поэтом индивидуальности своего переживания, ощущение права на выражение своей личности, её эстетизации (“точность выражения есть красота”, Г. Сеферис). Отсюда: не следует думать, что природа подпадёт под наличные слова, скорее следует подбирать слова к природе явлений, чтобы реальность не поглощалась потоком поэтической символики; но также не следует думать, что все тропы должны быть замещены “грамматическими” фигурами /“Конкретность, отсутствие преувеличений, определительность представлений и ощущений и всегдашнее пребывание в здравом уме и твёрдой памяти не только не враждебны поэзии, но даже представляют существенные условия, обеспечивающие этой последней здоровье, живое и разнообразное содержание”, М. Салтыков-Щедрин/. b) точность формы, устанавливающей не рамки, а законы свободы /“Свобода есть осознанная необходимость”, К. Маркс/, ведь форма художественного произведения – его дыхание, которое всегда ритмично, а всякий ритм не может существовать без определённой точности, которая выражается в самобытности, ёмкости, естественности образов, существующих в гармонии друг с другом. Учитывая завет Н. Некрасова: “Форме дай щедрую дань”, можно отметить, что чем богаче форма, тем существенней содержание. Иначе говоря, форма – это эстетика содержания. Следовательно, форме необходимо быть точной, так как неточность всегда отторгается читателем по причине своей неэстетичности. К тому же, если содержание – более национально, то форма – более космополитична, а это означает, что форма без точности обречена на вырождение и замену другой, точной. Причём “новая форма является не для того, чтобы выразить новое содержание, а для того, чтобы заменить старую форму, уже потерявшую свою художественность”, так как сама “форма создаёт для себя содержание”. Легко догадаться, какое содержание в неточной форме /“Форма может испортить материал /содержание/ любой ценности”, М. Горький/. Поэтому разумно следить за точностью формы, как за чистотой тела своего, ведь форма, к тому же, – тело произведения. Тем более что стремление к полировке до блеска фраз, как стекла, металла, алмаза, ещё никому не повредило /“Стих, как монету, чекань”, Н. Некрасов. “Не бойтесь, что фраза холодна, – она сверкает”, А. Н. Толстой/. c) системность содержания и формы, объяснимая тем, что всякая поэтическая речь является организованным, систематическим нарушением речевых норм и неустанным поиском своей, нетипичной творческой системы /“Язык исправляется ошибками”, В. Шкловский/. Это происходит вследствие постоянного тождества содержания и формы, а конкретно идеи и темы. Подобная синкретичность обнаруживается и в современных художественных произведениях. Но нельзя не видеть, что составные элементы темы, фабула и сюжет, являются определяющими в построении и систематизации структуры текста, т.е. в движении художественной мысли от фабулы к сюжету. Но проблема в том, что тематическая сторона в литературе малоподвижна и эволюционирует с трудом и медленно. Тем более, если учесть наличие в литературе примерно 24-х “вечных тем” и их вариаций, которые традиционны и, как правило, ”перепеваются”. Однако, как это не парадоксально, новизна не в отвержении сложившейся и устаревшей системности содержания и формы, а в точном нахождении в ней свежих возможностей, которые пересоздают, преобразуют “вечные темы”. IV. Польза, проявляющаяся в художественном творении сильнодействующим свойством своей сути, поэтому заслуживающая серьёзного к себе внимания. В чём же суть поэтической пользы? Одним из первых на этот вопрос попытался ответить Гораций: Или полезными быть, или пленять желают поэты, Или и то, и другое: полезное вместе с приятным. Значит читатель, находя для себя в стихах пленительную приятность, получает от этого определённую пользу. Рассматривая эту проблему, Ф. Прокопович конкретизирует: “Мы приступаем к чтению поэтов, увлечённые прелестью и изяществом стиля: в поисках удовольствия мы вместе с тем находим пользу”. Таким образом, “доставлять удовольствие… – это и есть истинная польза. А доставляют и продлевают это удовольствие поэты”. Но так как удовольствие получает и автор, когда пишет, и читатель, то нужно признать, что это удовольствие двойного действия, и является “золотой серединой” художественной пользы совершенного произведения. /“Бесполезность есть безразличность”, П. Чаадаев/. Изложенная архитектоника катарсизма не является окончательной и незыблемой, как и всякие законы в литературе, которые лишь стремятся к абсолюту, но не достигают его. Да и никогда ещё в истории литературных направлений не удалось достичь совпадения деклараций с реальными возможностями, и это естественно – ведь речь идёт о предельных теоретических возможностях направления. Поэтому нельзя не согласиться с А. Блоком, что “никакие тенденции не властны над поэтом”, и с теми скептиками, которые утверждают, что, сколько бы не теоретизировали любители или профессионалы литературных направлений, школ и т.п., но приходит время, и они вырождаются в группировки, которые, в свою очередь, дышат на ладан. Это очевидно. Как очевидно и то, что новые литературные направления появляются и появляются, несмотря на массированные насмешки и издевательства в их адрес. Причём создают новые направления и течения и примыкают к ним молодые литераторы. Значит, это явление необходимо литературному процессу. Однако, существование двух противоположных точек зрения на проблему существования литературного направления только улучшает ситуацию, потому что в этом случае она всегда является объектом неусыпного внимания, что позволяет этой проблеме постоянно совершенствоваться и, очищаясь от плевел застаревших идей и тем, находить прорывы как в область новых приёмов расположения и обработки словесных материалов, так и в область накопленных литературой символов, являющихся смысловым ядром, и образов, являющихся умозрительной оболочкой смысла, с целью их преобразования, ведь всякие материал и стихия “лишь тогда становятся формой, адекватной поэзии, когда обретают благодаря искусству новый образ”, т.е. преобраз. (Поэзия “не подражает видимому, а совершенствует его”, Плотин). (Вся статья – в альманахе «Катарсизм», т. 1, Полоцк, 2000) Олег БОРОДАЧ (Минск) ПРИНЦИПЫ МЕТАФОРИСТИКИ КАТАРСИСТОВ Как вырастают в поэтов? — Исключительно простой вопрос. Правда, чтобы убедиться в простоте его, стоит разобраться в вещах более сложных. Сложных, так как нам потребуется однозначный, четкий ответ. Каждый ли способен быть поэтом, или все-таки “поэтами рождаются, а не становятся”? Платон, видевший в поэтическом искусстве лишь подражание чувственных вещей идеям, изгонял поэтов из своего “Государства”, снисходительно именуя художников “третьими от истины”, так как, по его мнению, они снимали копии с копий. Поэзия оказывалась социально бесполезной и даже тлетворной, ведь через сопереживание она усиливала и питала “неблагородные” влечения души. Аристотель ответил на это учением о трагическом катарсисе (“очищении”) как психотерапевтической функции поэзии и музыки. Именно трагическом, ибо ученик Платона реабилитировал чувственный мир лишь в отношении трагедии и эпоса; заодно он противопоставлял — за что ему спасибо! — историков и поэтов, дозволив последним говорить не о том, что могло бы быть в соответствии с “вероятностью” (правдоподобием) и “необходимостью”. “Поэтика” Аристотеля, почти неизвестная в древности и в средние века, начиная с эпохи Ренессанса издавалась, комментировалась и изучалась как никакой иной трактат. А в XVII веке она стала художественным кредо классицизма и еще в XIX оставалась живым оппонентом романтиков. Но вскоре Белинский заявил: в искусстве что сказано, то, стало быть, и доказано. Похоже, поэты перестали слыть еретиками от Истории и окончательно закрепили за собой статус полноценных художников. Невозможно особенности, отделяющие Поэзию от других видов литературного творчества, разложить механически по полочкам. И все-таки. Некоторые качественные отличия столь очевидны, что их мы сумеем выделить вполне определенно. Наша задача — выявить их оптимальную пропорцию, рассмотреть в комплексе и выяснить характер взаимопроникновения. Черта первая: лаконичность. Естественно, в Поэзии глубокая и серьезная идея стремится быть изложенной не в форме страстной тирады, а несколькими, как бы случайными, штрихами на фоне лишенного назидательности текста. Бродский писал: “Краткость... вообще достоинство всякой человеческой речи. Что же касается поэзии, то краткость – мать лирики”. Ведь и афоризм краток, возразим мы. Значит ли это, что и он — лирическое сочинение, особенно если ритмизован и рифмован? Конечно, нет, ибо налицо — дидактика, сто процентов дидактики. Черта вторая: языковое чутье. Его следовало бы поставить во главу угла, но нам сейчас не важен порядок, тем более что к данному качеству творческой личности взывать излишне. Без него, понятно, не будет ни соответствующего стилю и тематике лексикона в произведении, ни выстроенной музыкальной линии стихотворения, ни даже рифмы. Черта третья: исторический срез. Да, кому-кому, а уж поэту неплохо бы мыслить исторически. Как в проанализированном выше примере (“Оцепеневший дуб кивает лукоморью...”), где сплелись сегодняшняя реальность и пушкинская фантазия. Здесь возможны как включения из строчек классиков, использование известных образов, так и исторические персонажи в роли действующих лиц; и обращение к жанру апокрифа, и опосредованные ссылки на первоисточники. Изрядно раздвигаются рамки сочинения во временном его значении, в контексте, сколь бы старательно ни избегала контекста Поэзия. Точнее, она избегает комментария, а тут одно из двух: либо эрудированность, либо необходимость в толковании. И, наконец, самая субъективная черта, характеризующая скорее природу творчества, чем его направленность. Это одиночество. Ибо Поэзия — видимо, всегда из-за одиночества, из-за какого-то внутреннего дискомфорта, а вовсе не от жажды противопоставить себя внешнему миру, из-за вынужденности самовыражения хотя бы на бумаге. Названные черты есть качественные отличия катарсизма. (Вся статья – в альманахе «Катарсизм», т.1, Полоцк, 2000г.) Сергей МОРОЗ (Гомель) ЭСТЕТИКА КАТАРСИСА Основные свойства и особенности катарсической поэзии существуют в подсознании большинства творчески активных людей с древнейших времён. Греческий katharsis /очищение/, как понятие, употреблявшееся в античной философии, медицине, этике в силу своей полифункциональности получил многочисленные и противоречивые толкования. Аристотель применил катарсис к трагедии, как литературному жанру, отметив о достигаемом трагедией очищении от страстей страха и сострадания, ею же возбуждаемых, несомненно придавая катарсису смысл “врачевания”, но “врачевания” в древнем, священном его значении: упорядочение духа, когда человек учится сознавать себя как “не-я” и сознавать мир как “я”. Другими словами, недуг телесный и, в особенности, духовный, будучи видом ”страстей”, снимался катарсисом. Платон полагал, что трагедия и комедия питают чувство и утоляют его жажду, в то время как на самом деле следует его иссушать, т.е. спасать целостность личности оздоровлением души и тела посредством удаления из них элементов, обращающихся в существе человека как зараза. Позднейшая эстетика дала этому понятию расширительную трактовку, связав с характеристикой трагического в искусстве вообще. Так, по Гегелю, катарсис – это возвращение к гармонии всего того, “что в прочих формах существования было искажено случайными и внешними особенностями”, освобождения “явления от несоответствующих этому истинному понятию черт” и создания идеала ”лишь посредством такого очищения”.1 Согласно эстетико-этической теории Целлера, трагедия, будучи произведением искусства, успокаивает аффекты страха и сострадания, и утверждает общечеловеческие законы нравственности. Медицинская теория Бернайса исходит из искусственно усиленных в душе зрителя соответствующих чувств. Но наряду с теориями, предпринято немало попыток истолковать и сам термин “катарсис”. Этим, в частности, занимался Г¸те. По его словам: “…когда трагедия исчерпала средства, возбуждающие страх и сострадание, она должна завершить сво¸ дело гармоническим примирением этих страстей”. Конкретизируя Аристотеля, Г¸те отмечает: “Под “катарсисом” он /Аристотель/ разумеет эту умиротворяющую заверш¸нность, которая требуется от любого вида драматического искусства, да и от всех, в сущности, поэтических произведений”.2 В современной филологии катарсис понимается как особая, нередко высшая форма трагизма, выражающаяся освободительным завершением и разрешением патетических и энтузиастических состояний. С этой точки зрения можно сказать, что катарсизм, как литературное направление, основан прежде всего на одном из лучших качеств катарсиса, когда он не подавляет своей безысходностью, а производит на читателя просветляющее “разрешающее” действие, естественно претерпевая при этом все стадии развития трагического конфликта, но с позиции общего настроения, лишь в кульминационный момент трагическое одерживает иллюзорную победу над внутренним покоем и гармонией. (Вся статья – в альманахе «Катарсизм», т.1, Полоцк, 2000г.) Сергей МОРОЗ (Гомель) МАГИЯ КАТАРСИСИЧЕСКОГО СЛОВА Любой творческий процесс ─ прежде всего таинство, выраженное в грамотной фиксации ментальных или, если хотите, высокоинтеллектуальных проявлений человеческого подсознания. Способность к творчеству ─ это прежде всего надинтеллектуальный процесс, хранящийся на генном уровне в виде своеобразного кода. Это как зерно, ждущее благоприятных для роста условий. Только в случае с поэзией таковыми условиями должны стать переживания конкретной личности. Последние главным образом сводятся к поиску гармонии в (существующем) реальном мире (условиях), а стимулом к гармонизации и служит та высшая форма материи, именуемая вдохновением. Условно разделим вдохновение на истинное и искусственное и попробуем на основе элементарных законов логики вычислить формулу вдохновения. Если истинное вдохновение ─ это поток информации, пропущенный через мироощущение (восприятие) автора, способный подарить яркую гамму человеческих чувств, реализация которых может соответствовать схеме: самодостаточность ─ нужность, неприязнь ─ самоанализ. Искусственное вдохновение больше напоминает строительство. (Всегда ли это процесс созидательный?) «Нецеломудренность отношения есть и в тезисе «Искусство для жизни», и в тезисе «Искусство для искусства». В первом случае искусство низводит до степени проститутки или солдата. Его существование имеет ценность лишь постольку, поскольку оно служит чуждым его целям. Не удивительно, если у кротких муз глаза становятся мутными и они приобретают дурные манеры. Во втором ─ искусство изнеживается, становится мучительно-лунным, к чему применимы слова Малларме, вложенные в уста его Иродиады: …J'aime l'horreur d'être vierge et je veux Vivre parmi l'effroi que me font mes cheveux… (Я люблю позор быть девственной и хочу жить среди ужаса, рождаемого моими волосами…) Чистота ─ это подавленная чувственность, и она прекрасна, отсутствие же чувственности пугает, как новая неслыханная форма разврата. …Если выбирать из двух вышеприведенных тезисов, я сказал бы, что в первом больше уважения к искусству и понимания его сущности. Душа поэта получает толчок из внешнего мира , иногда в незабываемо яркий миг, иногда смутно, как зачатье во сне, и долго приходится вынашивать зародыш будущего творения, прислушиваясь к робким движениям еще не окрепшей новой жизни. Все действует на ход ее развития – и косой луч луны, и внезапно услышанная мелодия, и прочитанная книга, и запах цветка. Все определяет будущую судьбу. Древние уважали молчащего поэта, как уважают женщину, готовящуюся стать матерью. …Кроткий , как голубь,(поэт) он стремился передать уже выношенное, готовое, и мудрый, как змей, старался заключить все это в наиболее совершенную форму.» Из сознания искусственно отбирается творческий опыт предшественников (классиков литературы). Похвально, если знания фундаментальны. Затем автором делаются попытки (иногда очень успешные) сложить умение рифмовать + мастерство + окружающая автора действительность. Отмечу, что в данном случае на автора ложится двойная ответственность за качество и, особенно, морально-этическую сторону произведения, полученного таким способом (?!). Если предположить, что человеческий мозг в первичной стадии творчества может работать автономно, говоря языком техническим, не имея компьютерной сети и выхода в интернет, не исключаю, что продуктом такого интеллектуального труда станет творение исключительно человеческого мозга, при этом продукт труда в идеальном /желаемом) варианте получит высокоинтеллектуальную природу. Такое произведение будет являть собой филологическую ценность. Это уже высокая оценка, но филология в чистом виде ещё не есть литература (Риторический вопрос философии о первичности не трогаем!). Для массового читателя, не рассматривающего поэзию как предмет профессиональной деятельности, стихи, написанные вдохновенно, и стихи, созданные искусственным способом, не имеют никаких существенных различий. И те, и другие по своему техническому и информационному характеру на первый взгляд могут показаться одинаково профессиональными (В данном случае не принималась во внимание информация кода, т.е. то, что, как говорится в народе, читается между строк). Самым важным является умение различать продукт интеллекта и продукт надинтеллекта, несущие в себе совершенно разную информацию созидательного или разрушительного характера. Будучи в равной степени качественными, стихотворения, созданные искусственно (путём настройки на вдохновение), несут в себе лишь частицу интеллектуальной гармонии, заключённую в метафорах первоавторов (иными словами, готовых штампов). Тогда как истинное вдохновение передаёт энергию высшей материи, наполняя даже самые привычные слова новым смыслом, пропитывая их духом современности. При прочтении таких сочетаний букв, звуков, слогов, всевозможных ассонансов и образов читатель черпает дополнительную информацию ведического характера. Для простоты объяснения сравним такое произведение с устным народным творчеством, точнее, той его частью, которая имеет прямое отношение к магии слова, например, заговоры. В данном случае далеко не последнюю роль отводили звуковой окраске (фонетике) слов, используемых в заговорах. В зависимости от благой или злой цели знахари использовали специальный фонетический набор при определённой математике употребления… Применительно к катарсису как высшей форме словесного выражения творчества, изначально предполагается грамотное интеллектуальное или ментальное (надинтеллектуальное) использование магии слова. Ссылаясь на статью «Эстетика катарсиса» («Катарсизм-2000», стр.91), процесс очищения души, будь то рационалистический катарсис (очищение души от страстей под влиянием интеллекта) или этический (воспитание способности к состраданию) и медицинский (достижение психотерапевтической разрядки), наличие злой энергии (магии слова), присутствующей как сознательно, так и неосознанно (по средствам графической фиксации момента собственного дурного настроения). При правильном техническом исполнении всё равно делает произведение чуждым законам и принципам литературного направления катарсизм. Приведём простые примеры: В пример магии катарсизма можно привести любое стихотворение рационалистического, этического или медицинского катарсиса. Главной целью произведения должна являться сила исцеления духа (даже если само стихотворение пронизано грустью, трагизмом и пр.). Получив должную оценку, катарсизм со временем займёт одну из высших ступеней не только на парнасе литературных достижений современности, но и станет одним из завершающих, знаковых этапов в духовном развитии персонажа ─ автора ─ читателя. Прежде всего катарсизму отведена роль литературной школы, конечная цель которой не только отделить бытовую и альбомную литературу от профессиональной, но и вернуть серебряный интерес к настоящим достижениям искусства в этой области. Профессиональная литература должна являть собой плоды грамотного и вдохновенного труда, стимулируемого не гонораром, а истинной любовью к языку и тем литературным тропам, которые наиболее точно (во всех оттенках и переливах) отражают истинную красоту авторского видения. Теоретически ─ это соединение (синтез) вдохновения с профессионализмом. Едиными в своём мнении должны быть все авторы независимо от наличия конкретной учёной степени филолога. Равно как не всякий поэт ─ филолог, так и не всегда филолог ─ поэт. Однако момент наличия таланта подразумевает необходимость самосовершенствования и стремление к познанию тех законов, по которым классически строятся литературные произведения. Знания такого уровня позволят не растрачивать себя понапрасну, научат совершенствовать способности, посланные человеку (автору) судьбоносной линией ─ те, развивая которые изначально предопределяют гармонию. Чтобы не нарушать последнюю, ─ несколько рекомендаций автору на заметку. 1. Прежде, чем взять ручку и сесть за письменный стол ─ хорошо подумайте, есть ли в этом крайняя необходимость. 2. Задумайтесь над тем, что сочетание звуков может подарить зло не только сиюминутное, но и то, от которого на протяжении длительного отрезка времени будет нелегко избавиться. 3. Сожгите выплеснутый на бумагу порыв гнева и никогда не сожалейте о потере такого произведения (радуйтесь моменту избавления от зла). Будучи способным отличить личностное от качественного, значительно сложнее завоевать читательскую аудиторию, выращенную на бесконечных сериалах, в которых момент истинных высоких чувств скомкан обывательством и т.п., но бытовые сцены приходят и уходят из века в век, а истинные духовные стремления, поиск идеала, генетически заложенный в личности не перестаёт волновать умы даже самых привередливых ценителей лиры. Это и есть результат взаимодействия автора посредством персонажа на читателя. Литература и способ самовыражения, самоутверждения и самопознания ─ это не всегда одно и то же. Будучи хорошим психологом, скажи аудитории то, что она хочет слышать, и сегодня ─ победа тебе обеспечена. Если бы всегда сказанное было правдой и имело свойство материализоваться, то тогда любое произведение должно было бы стать классическим, но… Когда происходит действие (в данном случае перенесённая на бумагу мысль, слово лишь знак), происходит вторичный факт, движимый действием энергии ментального свойства вдохновения либо мысли. Случайно ли издревле знахари передавали из поколения в поколение те знания сильных сторон слова, которые способны были как исцелять, так и калечить людские души, а иногда и тела. Суеверие ─ это знание, нами практически мало изученное. «Материал, употребляемый музыкантом или живописцем, беден по сравнению со словом. У слова есть не только музыка, нежная, как музыка альта или лютни, не только – краски, живые и роскошные, как те, что пленяют нас на полотнах Венеции и Испанцев; не только пластичные формы, не менее ясные и четкие, чем те, что открываются нам в мраморе или бронзе,-- у них есть и мысль, и страсть, и одухотворенность. Все это есть у одних слов.» (О.Уайльд) Магия слова сравнима с физическими свойствами магнитных полей, основанных на свойствах притягивания либо отталкивания. Только в нашем случае это вещи труднодоказуемые, хотя для целого ряда специалистов данной области вполне объяснимые. Речь идёт не о негативных эмоциях индивида, прочитавшего (услышавшего) бранное слово. Проблема ставится в силе воздействия пока не способного получить убедительные реальные доказательства для прокурора. Однако и заговор, и молитва произносятся с определённой интонацией и ритмом, мыслями и желаниями, а мысль, как известно, имеет свойство материализоваться. Выводом вышесказанному следует практически очевидный факт, что безграмотный литератор ─ как ребёнок со спичками, когда невинная игра слов может обернуться физическим недугом или психической атакой, влекущих более серьёзные последствия. Таким образом: Взаимодействие автора ─ персонажа ─ читателя пропорционально вдохновению ─ знанию ─ магии. Два основных способа воздействия автора: одним из важных моментов обнародования произведения является момент авторского чтения, другим ─ тиражирование. Читать можно медитативно, ритмично и аритмично (и вариативно). Для завоевания фильтрованной или неподготовленной аудитории предпочтительно ритмичное в сочетании с аритмичным чтением. Ритмичное должно быть построено по принципу восходяще-нисходяще-восходящее. Бойтесь во время презентации дойти в своём чтении до уровня медитативного зомбирования аудитории. Понятие аритмичности может выступать условно, с целью внесения разнообразия в ваше выступление. К вопросу о построении литературного произведения, подборки и книги. Воздействие на читателя начинается с магии самого листа. Буквенная символика несомненно несёт в себе элемент графологии, именно поэтому так важен подбор шрифта и геометрия стиха, по средством которой передаётся энергия. Для построения подборки советую остановиться на хроно-катарсическом принципе. И стихотворение, и подборка, и цикл проведите в ряду катарсиса: рационалистический ─ этический ─ медицинский. Поиску истины в литературе и борьбе за чистоту литературы посвятило себя не одно поколение авторов со времён её существования. От небрежности писцов, их самых незначительных помарок могли зависеть судьбы целых поколений, использовавших эти знания как от попыток упорядочить опыт на примере трагедии Аристотеля до Н.Гумилёва, так и от момента зарождения катарсизма до смысловой точки в литературе будет повторено немало серьёзных ошибок, извлечено не менее полезного опыта, но истина ─ едина, пока добро противопоставлено злу. Этой истиной должно быть измерено всё, к чему прикасается человек, и прежде всего ─ мир полезного творческого созидания. (Вся статья – в альманахе «Катарсизм», т.2, Полоцк, 2010г.) ВТОРОЙ МАНИФЕСТ КАТАРСИЗМА “Преобразуйтесь обновлением ума вашего”. ап. Павел (Рим. 12,2) -АI. Реальность двучастна, так как в ней всё материальное и духовное выражает друг друга. II. Материя – это надсознание и сверхсознание, т.е. окружающая человека реальность. -БI. Дух – это сознание и подсознание, т.е. составляющая человека идеальность. II. Дух выражает материю, эстетически преобразуя её, что является искусством. -В- I. Как всякому искусству, художественной литературе свойственна трансформация видимой и слышимой действительности в поэтические преобразы. II. Преобраз – врачует и очищает идеальность, т.е. совершает катарсис. -ГI. Но так как образ – оболочка, а символ – ядро эстетической мысли, II. То исцеление одного вызывает обновление другого, что и выражается поэзией. -ДI.Катарсизм – это преобразование и совершенствование поэзии как с точки зрения формы, так и с точки зрения содержания. II.Форма выражает своё содержание, поэтому несовершенство формы диктует несовершенство содержанию. -ЕI. Форма совершенна, когда Правильна и Пластична. II. Содержание – когда Пронзительно и Полезно. -ЖI. Форма и содержание едины, если в них происходит сгущение вымысла и действительности в миф, идеально воплощающегося в стихосложении. II. Стихосложение – это сосуд /форма/, в котором, как вино /содержание/ бродят и отстаиваются символы и преобразы. -ЗI. Катарсизм призван усиливать брожение и отстаивание эстетической мысли, выраженной стихотворной речью. II. Мысль и речь – общественны, чувство – индивидуально. -ИI. Мысль является эстетической, если на ней ощущается отпечаток внешней реальности, прошедшей через дух поэта, II. Характеризующийся как раскованностью, так и рискованностью, как ясностью, так и живописностью. -КI. Стихотворная речь, как материализация мысли и чувства, есть высшее проявление языка, но II. Ввиду беспрерывного её совершенствования, нельзя утверждать, что в поэзии действуют абсолютные законы, скорее – тенденции. -Л… Поэтому катарсизм – постоянно преобразующееся возобновление идеальности. А.Р. (31.08.99) Андрей ТАВРОВ (Москва) ОЧИЩЕНИЕ СЛОВОМ Трагедия возникла на дороге к Дельфам. Именно тут, в процессии, направляющейся к Храму, звучало то самое «пение козлов», из которого впоследствии вышла классическая греческая трагедия, по поводу которой и прозвучали впервые слова о странном переживании по имени «катарсис». Все разговоры об этом явлении и термине повисают в воздухе, если забыть о том, куда именно двигались участники сакрального празднества. Храм – то место, где участник мистерий получал некий опыт, после которого ощущал себя бессмертным, приобщенным к глубинным тайнам жизни и смерти. С адептом случалось нечто, превосходящее его ограниченность и выводящее его на новые глубины или высоты Жизни. То, что возвращало ему утраченную человеком цельность и бессмертие. Насколько полно это происходило в дохристианскую эпоху – разговор особый. Сейчас мы говорим о попытке преодолеть поврежденность человеческой природы, его страх и ограниченность перед лицом смерти. Человек вставал во время мистериального посвящения лицом к лицу с Абсолютом, которому нет ни имени, ни названия. Аполлон – лишь одно из приблизительных имен. Трагедия унаследовала сакральный опыт преодоления смерти. Слушатель и зритель приобщались к Божеству. В этом смысле трагедия синтезировала такие разные вещи, как молитва, медитация, музыка, поэзия и собственно сценическое действо. Поэтому генетически европейская поэзия сакральна. Она тяготеет расположиться там, где молитва, поэзия и музыка призваны восстановить человеческую повреждённость, причем не только человеческими силами, а, прежде всего, опираясь реальной тупиковой человеческой ситуацией на реальную грозную и радостную тайну. Дионис выводил из тупика. Сакральное слово очищало. Неистовство и ликующая радость дионисийского начала обнаружилась в христианстве под именем Святого Духа, играющего и дарящего жизнь в избытке. Столкновение ограниченного человеческого слова со всеразрешающим Словом Божиим и породило нерв, этику и боль новой поэзии. Поэзия вышла из Храма, но не надо делать храма из поэзии. Речь идет о возобновлении этой встречи – человеческого слова и Абсолютной Музыки, на столкновении которых происходит небывалая встреча между человеком и Абсолютом. И в этом достоинство жизни человека и залог его поэтической верности. У слова есть дух, душа и тело с температурой 37,6 на человеческом выдохе. Современная западная поэзия эпохи постмодерна имеет дело с телами слов, а вернее и чаще всего, с их графическим воплощением. Меня радует, что в Белоруссии продолжается попытка вернуть речи утраченную цельность. Андрей ТАВРОВ (Москва) КАНОН КАК ПРОЕКЦИЯ ДРЕВА «Как некий херувим, Он несколько завёс нам песен райских, Чтоб, возмутив бескрылое желанье В нас, чадах праха, после улететь…» А. Пушкин «Слово – жилец двух миров». С. Булгаков Среди многих определений данных к слову «канон» имеется одно, отчасти объясняющее суть дела – предписание, то есть катарсис. То, что предшествует писанию, как способу жизни языка на бумаге. Некое молчаливое слово по поводу того, что в той или иной манере собирается изложить автор, если он ещё не до конца умер. Слово, не обладающее никакими явными декларативными признаками и, тем не менее, содержащее в себе ряд мерцающих оппозиций, таких, как сакральное – профанное, доброе – злое, мужское – женское, прекрасное – безобразное. Короче, слово это предполагает и предлагает некую иерархию, формирующую ряд животворных внутренних натяжений, смысловых, структурных, эстетических. Это молчаливое слово и есть канон, предшествующий Улиссу или Евгению Онегину. Причём, слово это целостно и антифрагментарно. В силу этого одного мы можем определить его природу как райскую. Ад – фрагментарен, парадиз – целокупен. Ад – болезнь на время, рай – творчество навсегда. Канон произносится не только по поводу литературы – по поводу раковины, звезды, черепахи произносится канон. Произносится слово, держащее идеальную энергию раковины, дерева, человека. Поэтому разбить канон, отступить от канона – это испытать и выявить энергию: выброшенная под колеса кукла или расколотая раковина несут в себе потрясающее по силе послание. Но существовать вне канона или имитировать его – это обречь себя на бессилие языковое, которое выявится очень быстро. Поразительно, что при самой мощной со времен сюрреализма теоретической разработке и базе – постмодернизм оказался столь маломужествен в смысле производства поэтических шедевров. Канон, отчасти совпадающий с понятием жанра, и был услышан и выращен именно в качестве способа удержания языковой энергии. Почти что об этом обмолвился Борхес в заметках о природе классической литературы. Канон – это древо жизни в литературе, которое, как известно, есть откровение о наилучшем контакте человека с Источником всего, Абсолютом, Богом. Пока Древо присутствовало в жизни Адама, источник бессмертия, красоты и энергии катарсиса был открыт для него всегда. Канон – это проекция райского древа жизни, содержащая в себе его целостность и иерархичность, открытость к неисчерпаемым запасам языковой энергии, в том случае, конечно, если к ним открыт сам автор. Проще говоря – канон лежит в основе Творения, и уйти от канона, означает выйти из сферы творчества. Вполне сделать это не удавалось никому, и поэтому графоман испытывает радость, а книги, имитирующие литературу, всё же читаются. Канон по природе своей органичен и является частью человеческого тела – поэма может стать таким же органом, как сердце или почки, об этом писал поздний Мандельштам. Человеческое тело само, по природе своей, канонично, и высказывание «человек есть мера всех вещей» не самое пустячное в греческой философии, ибо с частичными коррекциями подтверждается Кабалой и её гениальным прозрением о Всечеловеке, Адаме Кадмоне. Христианская интуиция говорит о предвечном Богочеловеке Иисусе Христе. Сведенборг утверждает, что все духовные миры вместе со всеми их обитателями образуют Большого Человека. Канон встроен в человека, как Слово Бога о Человеке. Поэтому канон катарсический мы можем определить как бесшумное слово некоего небесного существа, назовем его ангелом, по поводу того, что поведал внутри этого слова автор на своём, одному ему присущем языке. И если канон соблюден, ангельское простое и мерцающее слово звучит и поет в сердце мира. И как часто после того как мы прочитали эти восемь или десять строк «о свойствах страсти» или запахе сирени над оврагом и благополучно забыли их до последнего слова, некая неведомая беззвучная сила поднимается в нашем сердце и оживляет всё видение вплоть до последней строчки, начиная звучать тогда, когда ещё не выявлен слог, не выделен ритм, не ожило слово. Сила эта и есть канон или катарсическое слово о написанном. (Вся статья – в альманахе «Катарсизм», т.2, Полоцк, 2010г.) Паоло ТРАНКИНА, Луиджи АРКУРИ АРХЕТИПЫ, ВРЕМЯ, СУБЪЕКТ (Перевод с итальянского Ольги Равченко) Есть образы, обладающие таинственными возможностями превращения, тонкими психическими и физическими эффектами, формами, являющимися нам исполненными силы, постоянно обновляющейся творческой мощи. Возможно, они восстанавливают основополагающие структуры вселенной, материи, энергии, человеческих состояний, возвращающихся циклично и обозначающих существование. Юнг назвал их архетипами, от архи – «начало, происхождение» и типос – «форма, образец», закрепив это слово за символами величайшей психологической важности. Законы их возрождения и изменение их во времени неоднозначны: часто архетипы переходят из одной крайности в другую, что дало место поговорке «от любви до ненависти», намекающей на цикличность смысла. Но мы осознаём, что, относительно образа, слово относится к иному порядку: соединяющие их таинственные отношения одновременно разъединяют их. Я отказался говорить об этих отношениях не потому, а для того, чтобы указать на неожиданные различия и сходства. Я стремился не лишить себя удовольствия обратиться к ним, а, напротив, пойти дальше значения, данного слову «архетип». Символы как преобразователи энергии ─ это пути индивидуального и коллективного изменения, когда внешние условия созрели для их рождения и придания им достаточной силы. Это ─ посредники, средства обмена, совмещение сознательного и бессознательного, мощи и немощи, дуализма и целостности, непримиримых противоположностей. Поэтому они всегда, как минимум, двухполюсны; они ─ начала бесконечных возможностей, которые актуализация разделяет, а выбор исключает от многочисленного к одному. «Да» и «нет» в одном. Слова могут выбирать, предлагать смыслы, заставляющие внутренний мир проникаться, но не превосходить эмпатическую ёмкость образов, непосредственность идущей от зрительных ощущений формы, трёхмерную силу цвета, проступающего между первыми планами и фоном, и неповторимую конкретность металла. Итак, я предлагаю свои слова как двойные, множественные (в зависимости от вкладываемого мною смыслового значения и эстетического размера художника) ─ указатели надежды для ближайшего тысячелетия. Но архетипы не ходят по известным дорогам, а лишь указывают направления. Они слишком отдалены, священны, словно чужие. Они живут на Олимпе абсолютов, безумия. Нужно овладеть ими, усвоить их, чтобы очеловечить. Определить, таким образом, из общего, вне времени и пространства, частное; найти присущий архетипам неповторимый смысл для каждого из нас в отдельности, сегодня, здесь и теперь. Так архетип актуализируется, персонифицируется, превращается в личный архетип, существующий в диалектике с абстрактным архетипом, ─ в историческую, биографическую, живую форму. То, что мы испытываем внутри себя в связи с праформами (архетипами), материально представляет психологические процессы: конкретную персонификацию абстрактного, индивидуализацию коллективного, частное от общего. Воплощение личного архетипа сохраняет трансцендентность богов, отдалённую нуминозность архетипов, но приспосабливается к отдельно взятым телам, образам, мыслям, которые подобно маленьким искрам, радостям менее значительных культур входят в нашу жизнь. Архетипы подобны сокровищам для четвёртого тысячелетия, как уже сказано мной. Я не обозначаю ни наше время, ни будущее тысячелетие точкой отсчёта. Слишком многое пришлось бы вытеснить. Мы оскорбили бы слишком многие цивилизации, являющиеся нашей историей: Арабскую, Еврейскую, Финикийскую, Греческую, Римскую, Этрусскую, Кельтскую, Ассирийскую. А также все другие культуры, названные «менее значительными», во всём великолепии всплывающие на поверхность между гегемониями Афин и Рима, в третьем тысячелетии до нашей эры: Самнитскую, Апуллийскую, Сиканийскую… Я не апеллирую к религии Богини, которая до того, как свастики Арийцев появились в восточной части Средиземноморья, объединяла Европу времён палеолита; в противном случае нам пришлось бы говорить уже об одиннадцатом, двенадцатом тысячелетьях. Итак, четвёртое тысячелетье ещё и для того, чтобы намекнуть на гипотезу совершенства, в надежде на самореализацию пророчеств: заключающуюся в числе «четыре» стабильность как синтез уравновешенных двойных противоположностей. Я выбрал змея, Великую Мать, обоюдоострый топор, гермафродита, лабиринт, дверь, колесо. Я собрал их на тропах генезисов. Я дал им заговорить во мне. Рождённые из огня, они выкованы Луиджи в бронзе, в серебре, в золоте. Установлены на пьедесталы из малахита. Пусть сквозь эти образы звучит вызов, который вновь обратит землю в сад: в Сад для всех его Созданий. (Вся статья – в альманахе «Катарсизм», т.2, Полоцк, 2010г.) Александр СУПЕЙ (Бобруйск) ЧТО ТАКОЕ ОКАТАРСИЗАЦИЯ? Чтобы пролить свет на такое явление в катарсизме как окатарсизация следует начать с катарсических тезисов, суть которых будет раскрываться по ходу дальнейших рассуждений во второй и третьей частях. Вот эти тезисы: -АНаряду с такими общими понятиями как очищение, преображение и т.п., окатарсизация является абсолютно новым сородичем упомянутых выше терминов, которые, в отличие от нее, не преследуют какуюлибо одну конкретную цель, а принимаются в широком смысле видоизменения, в то время как в центре окатарсизации метафизически-художественное сострадание. -БОкатарсизация – это целенаправленная динамика катарсизма, чей вектор устремлен в сторону эмансипации литературного искусства, критики догматичных правил и старомодных принципов, чья актуальность осталась далеко позади нового тысячелетия и чьи изжитые нравы уже не представляют собой значительного интереса для современного читателя, а лишь разряжают напряженность контекста всякого произведения. -ВОкатарсизация, являясь особо ярым противником всех тех литературных норм и условностей, которые блокируют эволюцию литературы, знаменуется способностью литератора развивать наиболее смелые и экстраординарные установки в своем творчестве, прорывающиеся в беспредельность семантики. -ГОкатарсизация как действующая форма катарсизма преображает литературное творчество, внося в него новые идеи и формы и, тем самым, расширяя диапазон художественного мышления и шокируя, порой, публику своего рода концептуальной агрессией. -ДЦель окатарсизации – служить катарсизму. Цель катарсизма – преображать литературу. Цель литературы – обогащать воображение. (Вся статья – в альманахе «Катарсизм», т.2, Полоцк, 2010г.) Алексей БОГДАНОВИЧ (Полоцк) ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕОБРАЗА Созидание – то, чем поэт славен. Сознание художника никогда не мирится с действительностью, предпочитая ей собственную поэтическую реальность. Лучше иметь частное, пусть несовершенное мироздание, чем заимствованное мировоззрение. Так как чужое мировоззрение – это, в худшем случае, участие в нем, не скажу, что в лучшем, – созерцание. Но поэт не живет в им созданной вселенной – он ее обживает. Было бы ошибкой представлять поэтическое мироздание объемно, потому что творчество – это покорение Времени, а не Пространства. Время, известно, стирает все, оставляя лучшее: например, предметы искусства, и то не надолго. Вполне реально, что катарсизм как очистительный момент данного процесса, не позволяет поэту захламлять чужими «строительными» средствами собственную художественную реальность, приветствует в нем индивидуальный «раствор». Катарсизм задает планку последующим поколениям, планку, прыгать ниже которой значит застревать во Времени, заимствуя чужие формы, не преображая их. Поэтому – обживание (движение), а не жизнь (статика). Катарсизм не приносит в литературу никаких новых средств и технологий, но вдыхает в устоявшиеся методы новый дух. Каждый вздох, частное видение проблемы и последующее частное же решение и есть преобраз, а поэт мыслящий преобразами и есть катарсист. Почему преобраз? Дело в том, что образ – это стереотип, стремящийся к объективности, адекватности, то есть к повторению, это уже не достояние субъективного сознания, ибо – общий; и попав на бумагу, становится вышеупомянутым средством. Любой предмет, любое явление преображается в частном сознании под влиянием этого же сознания опыта, выливаясь в уникальный креативный процесс, которым и жива литература... (Вся статья – в альманахе «Катарсизм», т.2, Полоцк, 2009г.) Гельмут КУН АРИСТОТЕЛЕВСКИЙ КАТАРСИС КАК ПРОБЛЕМА НОВЕЙШЕЙ ЭСТЕТИКИ (Die aristotelische Katharsis als Problem der neueren Aesthetik. Перевод с немецкого Татьяны Траханкиной) Толкование аристотелевского термина катарсис в известном определении трагедии (Poetik 1449 b) замечательный пример того, как предпосылки общего порядка и систематические интересы должны отчасти плодотворно влиять, отчасти отвлекать от интерпретации текста и в любом случае от нее не отделимы. Полное развертывание актов этой интерпретации можно произвести только в рамках истории античной поэтики нового времени. Здесь следует выделить лишь некоторые характерные моменты, как они представляются в развитии теории искусства, т.е. одновременно в границах всей духовной истории. Это в конечном итоге должно подвести нас к вопросу о том, что может сказать понятие катарсиса в современной эстетической мысли. Интерпретация [катарсиса] на первоначальном этапе своей истории, начиная с эпохи Ренессанса и вплоть до 18 века, представляя интерес для ученых, очень важна для теории поэзии как практическая передача традиций в процессе обучения. Т.е. изложенные в труде Аристотеля правила могут найти применение, как для интерпретирования поэтических произведений, так и при порождении предписаний. Значение этих правил покоится, таким образом, на их связи с классической традицией формы. С технической стороной замысла [произведения] обычно связана апологетическая. Новая практика искусства должна оправдывать религиозно-моральную и социальную системы средневековья при неприязненном отношении к ним протестантизма посредством отстаивания их практической значимости. В этой связи понятие катарсиса приобретает более общее значение, которое можно выделить из научного комментария к Поэтикам и предисловиям к ним. Оно входит в серию тех повторяющихся мотивов, которые характеризуют апологию поэтического искусства как определенную литературную традицию, начиная от античности, минуя средние века, вплоть до Сиднея, Мильтона и Шиллера. 1 Кроме того, подчас можно осознать, что Аристотель сам вывел понятие катарсиса как апологета поэтического искусства в противовес искажению этого термина Платоном, что, таким образом, само по себе дало возможность практического его использования в качестве отправной точки. Если мы, как того требуют наши намерения, попытаемся дать всеобъемлющую характеристику [понятия катарсиса], отказавшись от частностей интерпретации, то мы должны сказать, что в понимании катарсиса вплоть до Лессинга господствовала стоицистско-христианское толкование. В рамках этого толкования выделяются, прежде всего, три различные точки зрения: закаляющее привыкание, философское умиротворение, практическое забавление. Первая точка зрения самая обобщенная и имеет место у старых итальянских интерпретаторов (например, у Кастельверто) и еще в конце 18 века у Турвита. Художественное возбуждение аффектов должно иметь следствием свое постепенное ослабление. Гейнсиус, который, впрочем, в отличие от своих предшественников переводит катарсис как expiatio (лат. очищение, искупление, жертва), дает характеристику этой идеи через сравнение с затупившимся от частого созерцания ран сознанием хирурга. Другую точку зрения, которую мы обозначили как философское умиротворение, едва ли можно отделить от первой, с которой она связана самым тесным образом. Это перенесение последней с механического действия на область рефлексии (самосознания). Трагедия ведет (тут можно сослаться на Марка Аврелия) к размышлениям о всеобщности страдания и показывает нам, таким образом, символ человеческой слабости и путь к невозмутимости мыслителя. Тривиализацию этой мысли в духе стоицизма имеет в виду Робертел (чей комментарий предваряет появившуюся в эпоху Возрождения Поэтику Аристотеля): представление, что не только мы страдаем, что другие страдали до нас, приносит нам самое настоящее утешение.3 Первоначально героический пафос взглядов на мир историков окончательно утратился в языке убогого самодовольства. Даже самый жалкий человек найдет свой жребий счастливым, если он сравнит его с судьбою Эдипа или Агамемнона. Однако понимаемое таким образом очищение трагического аффекта ведет не только к единой точке зрения при рассмотрении катарсиса, оно побуждает, кроме того, к непосредственному практическому обращению к нему в наших действиях. Посмотрим, как Дацир высказывает третью точку зрения – забавление. После того как он представил действия закалки и философского умиротворения, он продолжает: “Mais la tragedie n’en demeure pas la. En purgeant la terreur et la compassion, elle purge en meme temps les autres passions, qui pourraient nous precipiter dans la meme misere, car en etalant les fautes qui ont attire sur les malheurreux les peines qu’ils souffrent,elle nous apprend a nous tenir sur nos gardes pour n’y pas tomber, et a purger et moderer la passion qui a ete la seule cause de leur perte ”. Тенденция единой поэтики эпохи Ренессанса усматривает в поэтическом произведении обучающий или предостерегающий пример мудрости мира и морали, находит здесь убедительное и, судя по всему, чуждое искусству выражение. С подобными аргументами Мартин Опиц предложил переведенную "Антигону" своим немецким читателям. Трагедия должна делать нас мудрыми при столкновении с нашей судьбой... . Во всех трех трактовках выделяется всеобщая важность понятия катарсиса, которая заключается в том, что оно не сводится к двум аффектам – страху и состраданию. Это особенно очевидно, когда Ду Бос предпринимает попытку вывести эстетическое наслаждение из страсти к работе или страстного волнения во внутреннем мире. Чтобы преодолеть собственную опасность следует показать, как искусство отграничивает себя от опасности пристрастия к приятному, являясь, сверх того, полезным и плодотворным. Очищение страсти здесь находится в единстве с системой ценностей рационализма. Характеризуя позицию Лессинга, отметим, что он, однажды сославшись на “этику середины” Аристотеля, решительно порвал с односторонним стоицистским пониманием катарсиса; он отвергал любые примитивные апологетические представления в воззрениях на искусство. Последние оставались в своих духовно-исторических предпосылках очень близкими к воззрениям предшествующих мыслителей. (Вся статья – в альманахе «Катарсизм», т.1, Полоцк, 2000г.) ТРЕТИЙ МАНИФЕСТ КАТАРСИЗМА I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. ... -АИскусство – сильнейшее возбуждение воображения – Предназначено воспламенять сознание и подсознание; Но если ожог даёт осадок, то сожжение дистиллирует Дух. Катарсис – огненная кровь эстетической природы. -БНадрывность и пластичность – взаимопеременчивые полюса символов, При этом гармония полюсов образна. Надрывность – в жертвоприношении символа, Пластичность – в восприятии искупления образом. -ВВселенную оплодотворяет пронзительная мысль поэта. На алтаре воображения рождается Возвышенный Дух, Блаженством нисходящий на художественную реальность. Катарсизм изначально гедонистичен. -ГБудущее определяет поэзию настоящего, Которая символична собственным преображением. Сущность символа постоянна, Сущность преобраза катарсична. -ДКатарсизм – поэтическая фильтрация творческого мышления. А.Н.,А.Р.(август 1999) Кира ТЕНИШЕВА (Минск) К ВОПРОСУ ОБ ОЧИЩЕНИИ ЗЕРКАЛ «Катарсис, [греч. kаtharsis — очищение]. Сопереживание читателя или зрителя, завершающееся духовным очищением, духовной разрядкой» Большой толковый словарь русского языка. «Относись с осторожностью не к чему-то новому, а к чему-то привычному, устоявшемуся» п. 10 «Манифест катарсизма». «Для осуществления последней из вышеозначенных мною задач, а именно — стирания граней между литературными родами, видами и жанрами — существуют следующие способы: — синтез художественных приёмов; — смешение внутрижанровых особенностей в различных жанрах; — трансформация жанрово-видовых объёмов; — смещение поэтического и прозаического; — отказ от произвольных и искусственных штампов, будь то идеологические, духовные, мыслительные, стилевые и т.д.» О. Зайцев. «Истоки катарсизма» Вместо того чтобы вновь говорить о том, что же такое катарсизм, почему именно сейчас… и т.д., мне представляется гораздо более интересным и плодотворным подойти к теме с другой стороны. Попробовать рассмотреть не сам катарсизм, а предмет его приложения, его причину и, одновременно, цель. Тем более что в этом случае что-нибудь объяснять дополнительно уже и отпадёт нужда. То есть я хочу пригласить вас к размышлению о Языке, размышлению лишённому строгости, но не серьёзности. Да и как иначе? Ведь язык, безусловно, — безусловно по крайней мере для меня, — явление всеобъемлющее, непостижимое, иррациональное и мистическое. Разговор этот отнюдь не уведёт нас в сторону от катарсизма, скорее наоборот, — подведёт к мысли о его крайней естественности. Ведь коль самому языку настолько присущи и изменчивость, и омоложение, и даже пресловутое стирание граней между всем и всем, коль сам он саморазвивающийся, самоочищающийся, высвобождающийся, высвобождающий и очищающий, ведь коль Сам Язык — таков (т.е., вообще говоря, чем дальше, тем менее известно, — каков), даже язык обыденный, то каким же быть его высшему проявлению — поэзии?! И почему, если язык в целом столь мало зависим от воли и установлений человеков, его самая необъяснимая и подвижная часть, именуемая литературным творчеством, должна трепыхаться в тесной клетке раз и навсегда установленных правил?! Вот те основания, по которым вместо теоретической работы собственно о катарсизме я предлагаю вашему вниманию фрагмент из незаконченной ещё мною повести, фрагмент, являющийся гимном Языку, не тем гимном, которого тот достоин, и не тем, о котором мечтаю, но лучшим из тех, что смогла я пропеть, и что дерзнула, пусть даже лишь из-за спины своего литературного героя. (Вся статья – в альманахе «Катарсизм», т.1, Полоцк, 2000г.) Леонид ПУЛЬКИН КАТАРСИЧЕСКИЙ СМЕХ. «Сопоставляя события, начинаешь понимать, что жизнь смеётся над человеком» Д.С.Лихачёв. Так и хочется сыпать поговорками: «Жизнь прожить – не поле перейти»… Катарсис древнегреческой драмы – это роковые события, жизненный урок и, в конце концов, очищение через боль. Так поступать нельзя. Жить надо иначе. Инобытие. Метафизика. Трагическое ощущение бытия заключается в незнании последствий того или иного действия, поступка. Незнание результата действия. Чаще всего банальное нарушение нравственных законов, невоспитанность и тревожное, трагическое ожидание разрядки, наказания. Страшно. Аж жуть. А всё бы могло быть проще. Иные сюжеты. Апокрифы К. Чапека. Свод нравственных законов известен и ребёнку. Воспитанному ребёнку. Что же остаётся на долю писателя, поэта, критика? Показать красоту этих законов, коли ты согласен с ними. Хотелось бы напомнить: физика изучает законы природы, этика – внутренние процессы души, метафизика изучает законы духа – вертикальная линия творчества. Постижение космологических и не космологических законов – это боль и страх? Боль и божий страх – мера всех вещей? Гуманисты поставили в центре Вселенной человека. Постмодернизм, переосмысливая природу человека, отрицает гуманизм как таковой, де героизирует человека и делает достаточно убедительный вывод: человек не мера всех вещей и не центр вселенной. Постмодернизм – поиск себя. Катарсизм – осознание и обретение себя. Человек благородный – это, прежде всего, контроль, контроль и отфильтровывание мыслей, чувств, образов и страстей, которые проходят через него. Человек благородный прекрасно осознаёт, что сам он — лишь малая часть, делающая осознанный выбор из бесконечного жизненного потока. И именно сознательный благородный выбор и делает человека человеком благородным, творческую личность – созидателем. Жизнь ставит проблему (разумеется, не одну), загадку, коан. И либо решаешь её, тыкаясь во все углы, как слепой котёнок, методом проб и ошибок. Непоследовательное, несистемное мышление. Так и нос себе не долго разбить. Страдания, вопли: «Где твоё милосердие, Господи!» Конечно же, котёнка и птичку, и всякую живую тварь жалко, но творческий человек не должен полагаться только на свой замечательный интеллект, неповторимые чувства и на то, что вдохновение пошлёт. Недостаточно хорошо думает тот, кто включает в процесс мышления только отдельные части тела, а не полностью самого себя + нравственный аспект. Для творчества необходимо пограничное, медитативное, молитвенное состояние, и критерием проверки правильности решения той или иной загадки являются радость и лёгкость, как эмоциональная, так и физическая и интеллектуальная. Разрешение от бремени. Радость – мера всех вещей и как следствие – просветлённый, освобождающий смех, дающий внутреннюю свободу. Радостный смех от ясности сознания, здорового духа и здорового тела. Однако из определений катарсического смеха – смех разумный, благородный, светлый смех освобождения, поскольку человек получает духовную свободу. Буддийская притча, рассказывающая о бродячем монахе и средневековой Японии, показывает нам образец такого смеха. Монах держал свой путь из селения в селение. О нём сообщали мальчишки и люди, оставив работу, шли ему навстречу. Нет, он ни чего не говорил, проповедь без слов, не юродствовал, а люди начинали смеяться, осознавая несправедливость и неправильность человеческих взаимоотношений. Здесь-то и вспоминается почти христианское определение победы И. Канта: «На того, над кем я смеюсь, я уже не могу сердиться даже в том случае, если он причиняет мне вред». Монах, по-видимому, был почитателем Будды Майтрейи – Будды Грядущего. Его обычно называют «Смеющийся Будда», легко узнаваем по внешнему виду: бритая голова, смеющееся лицо, огромный живот и мешок за плечами. Не правда ли, напоминает нашего Деда Мороза. Иной вариант возникновения статуи «Смеющегося Будды» – воспроизводимый с тех времён образ монаха с волшебным мешком, из которого он черпал священную мудрость буддизма. Верующие одухотворяли этот образ, сделав его символом неисчерпаемых возможностей добродетели, а живот и огромный мешок монаха стали символом «безграничной души». В китайском народе его прозвали «Толстобрюхий Милэ» Майтрейя (по-китайски – Милэфо). В книге «Смеховой мир Древней Руси» Д.С. Лихачёв обозначил: «Функция смеха – обнажать, обнаруживать правду, раздевать реальность от покровов этикета, церемониальности, искусственного неравенства». Смех везде и во все времена имеет одни корни и одну цель, звучал ли он в Средневековой Японии или в Европе: «…смех включает в себя момент победы не только над страхом перед потусторонними ужасами, перед священным, перед смертью, – но и над страхом перед всякой властью, перед земными царями, перед земным социальным верхом, перед всем, что угнетает и ограничивает». /М.М. Бахтин. Фр. Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса, М., 1990, с.106./ «Особенно остро ощущал средневековый человек в смехе именно ПОБЕДУ НАД СТРАХОМ. И ощущалась она не только как победа над мистическим страхом («страхом божьим») и над страхом перед силами природы, но, прежде всего, как победа над моральным страхом, сковывающим, угнетающим и замутняющим сознание человека». /М.М. Бахтин. Фр. Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса, М., 1990, с. 104./ «Смех свидетельствует о ясном духовном зрении – и дарует его… Сама истина, улыбаясь, открывается человеку, когда он пребывает в нетревожно-радостном состоянии». /Л.Е. Пинский. Реализм эпохи Возрождения, М. 1961, с.174/ Будда Майтрейя, Дайкоку – божество веселья и смеха в Японии, Тихе – богиня смеха в Древней Греции, Королева Мэб – персонаж английского волшебного фольклора, символ своевольной фантазии и очистительного смеха, шуты, в России – скоморохи и, отчасти, юродивые, карнавальные празднества Средневековой Европы и зрелища нынешнего времени, вчера, сегодня и завтра будет востребован светлый смех, дарующий человеку надежду и любовь. Отдельно нужно делать разговор о ПРОСТРАНСТВЕ КОМЕДИЙНОГО в современном мире, в современном искусстве и литературе. Преследование идеологических или корпоративных целей занижает планку комедийного жанра и возможностей смеха. Признаки магического смеха, предвосхищения магического реализма мы обнаруживаем у Велемира Хлебникова: Заклятие смехом О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно, О, рассмейтесь усмеяльно! О, рассмешищ надсмеяльных—смех усмейных смехачей! О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейный смеячей! Смейво, смейво, Усмей, осмей, смешики, смешики, Смеюнчики, смеюнчики. О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Возвращение к первобытным истокам – шаманство, заклятие, полумолитва. И отсюда прямая связь с магическим реализмом в литературе Латинской Америки: Маркес, Кортасар, Ж. Амаду, Эрнесто Сабато. Эстетические задачи магического реализма разнятся, но имеют и точки соприкосновения с МЕТАФИЗИЧЕСКИМ РЕАЛИЗМОМ, и в этом просматривается несомненная преемственность. Главная и существенная особенность метафизического реализма – мистериальный характер. Всматриваясь даже в обыкновенные бытовые действия, мы обнаруживаем сакральность происходящего, поскольку «земная действительность представляет собой отражение духовного мира». Наше слово, действия и поступки имеют мистериальный характер странничества. По этому поводу надо обязательно добавить: «Коль вы не будете фальшивить, ваш смех никогда не будет святотатственным». «Всякая ошибка смешка» Авенариус. Ошибки, возникающие в силу стереотипности, сложившихся связей, зарефлексированности, косности, неправильного воспитания, социальной несправедливости и т. д. То, что мучает человека и не даёт покоя. Неиссякаемый источник сюжетов. Каждое духовное странствование носит идею света и покоя, приходящих изнутри в результате поиска и обнаружения ошибки. Странствование в духовном мире имеет не только миросозерцательный характер, оно вносит гармонию в земные устроения и, прежде всего, дарует возможность самосовершенствования, когда осознаёшь связь былинки и звёзд, когда научаешься: В одном мгновеньи видеть вечность, Огромный мир – в зерне песка, В единой горсти – бесконечность, И небо – в чашечке цветка. В. Блейк. Из странствований, мистериального паломничества духовно зрелый и мужественный человек выносит в мир не иррациональные, не ирреальные, не инореальные, а миросозидательные и мирообновляющие идеи. «Эмоция весёлости является там, где какая-либо сильная и, вообще говоря, отрицательная эмоция: недоумение, страх, досада, отвращение, негодование и т. д. – оказывается задержанной и неожиданно разрешается». /Авенариус с.427./ «О роли неожиданности в комическом красноречиво говорит один из античных мифов. Пармениск спустился в пещеру оракула Трофония, который давал ответы на вопросы среди таких ужасов, что посетители теряли способность смеяться. Пармениск перестал смеяться и страдал оттого, что лишился одной из человеческих радостей – смеха. Он обратился к Дельфийскому оракулу и по совету последнего стал искать изображение матери Аполлона-Латоны. Пармениску, ожидавшему увидеть статую прекрасной женщины, вместо матери Аполлона был показан… уродливый чурбан. Слова Дельфийского оракула сбылись: Пармениск рассмеялся!» /Ю. Борев. Комическое. М., 1970, с.54/ Присущая смеху взрывчатость сказывается в нарушении сложившихся ложных смысловых связей. Взрыв, разрушение стереотипа и бездушного механизма, взгляд на проблему под другим углом зрения, в другом ритме. «Смех поднимает человека над ситуацией». /А. Вулис, Метаморфозы космического, М., с.108./ Смех также является и разрушительной силой, но во имя чего? Во имя создания нового и лучшего. Катарсический смех – налаживание новых, созидательных смысловых связей и взглядов. Обнаружение и устранение ошибок даёт возможность человеку счастливо следовать своей жизненной дорогой, верное следование пути, дао. Разумного благая судьба ведёт, сопротивляющийся тащится и волочится сам. По определению М.Твена: «Смех – это молния размышлений». Разряд и уж затем наступает желанный покой, безмятежность. Пользуясь современной политической терминологией, катарсический смех – упреждающий ответ на вызов гармоническому миропорядку. А если быть более точным: катарсический смех – это смех определяющий, предвидящий, созидающий и провоцирующий события, смех на опережение событий, приводящий в состояние покоя. «Кто смеётся, тот спасён», – гласит английская пословица. Уместно здесь сказать о внутреннем знании нашей души, глубинного интеллекта. Мы улавливаем, но не всегда даём себе в этом отчёт, что та или иная шутка, сказанная в повседневной жизни, как предчувствие ситуации выходит за пределы наших обычных знаний и возможностей. Мы достаточно часто сталкиваемся с таким глубинным метафизическим юмором и смехом в различных обстоятельствах (это не бессознательное и не интуиция), но редко, повторюсь, фиксируем это в памяти. «Я не могу предположить Бога без чувства юмора» (Энштейн). Смех в книгах Карлоса Кастанеды, спровоцированный доном Хуаном, смех прежде комментария, объяснения причин и даже прежде действия. Мы смеёмся, осознавая, что это сверхразумный смех. Каким способом, какова методология приближения к сверхразумному смеху? Лишь время позволит сделать развёрнутый на эту тему разговор. Сегодня предположим несколько основных принципов. – Творчество как молитва. Вхождение в рабочее состояние, подобное тому, как приступает к иконописи монашествующий художник. Буддийский принцип творчества. Есть тут одна незадача, когда приходишь в это состояние, материализация творческого поиска представляется мало значимым, отпадает необходимость реализации творческих задач. Значит у человека и вокруг него почти всё в порядке. – Отказ от своего «эго», от своего «Я». Анонимность—необходимое условие в процессе работы для преодоления страха в возможной исповедальности, искренности, для объективного познания себя и общества. —Игровой момент. В этимологическом словаре мы находим корни понятия «Игра» – священный трепет – «восхваление и умилостивление божества пением и пляской». Язык как магическая сила, определяющая реальность, является также ареной борьбы добра и зла. Это в математике от перемены мест слагаемых сумма не меняется. В литературе даже такое элементарное действие, как перестановка слов, меняет не только тональность фразы, но порою и смысл. И вот здесь мы приближаемся к ответу: так ли мы живём, как пишем, а пишем, как дышим? Для исследования проблемы, для решения той или иной задачи мы берём своё главное оружие – слово, язык. При работе надо отслеживать как через наши органы чувств и мышления, через тело возникает слово и куда оно уходит, прибывает. Какой заряд, какую вибрацию несёт. Может быть именно тогда будем знать, будем предугадывать, «как наше слово отзовётся». Сказанное имеет прямое отношение к проверочному критерию, когда в теле, в чувствах и в проявлениях интеллекта проявляются неложные, истинные лёгкость и радость. Идеал катарсического смеха – очищение, врачевание без боли. Катарсический смех – естественная метафизическая сила, и он же – проводник истины. Смех объединяет людей. «Помогите смеяться другим. И когда двое смеются, их бытия объединяются в этот момент» (О’Генри). Так давайте же смеяться вместе, и вместе с жизнью.