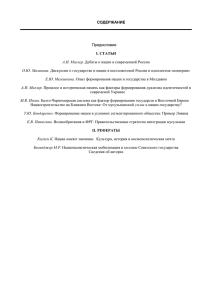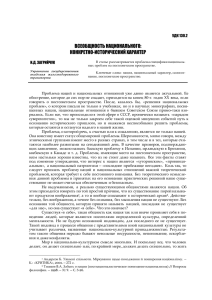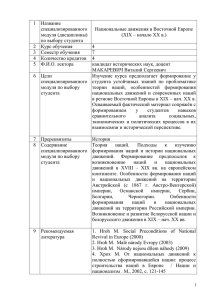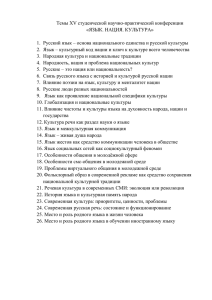Малинова О
реклама
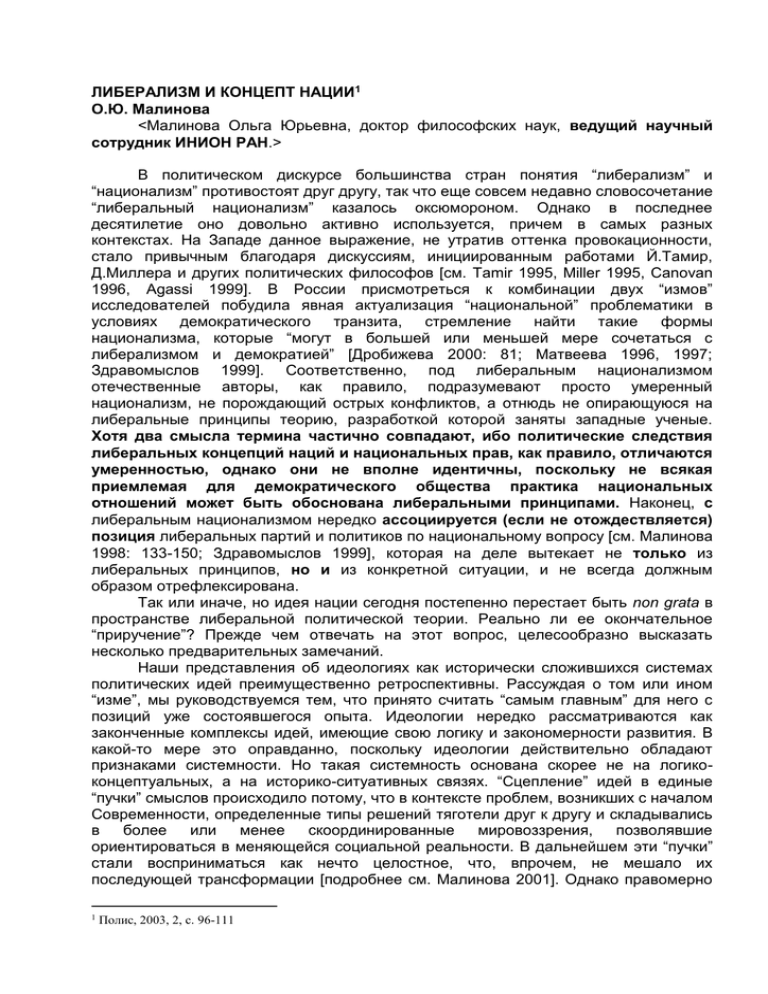
ЛИБЕРАЛИЗМ И КОНЦЕПТ НАЦИИ1 О.Ю. Малинова <Малинова Ольга Юрьевна, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН.> В политическом дискурсе большинства стран понятия “либерализм” и “национализм” противостоят друг другу, так что еще совсем недавно словосочетание “либеральный национализм” казалось оксюмороном. Однако в последнее десятилетие оно довольно активно используется, причем в самых разных контекстах. На Западе данное выражение, не утратив оттенка провокационности, стало привычным благодаря дискуссиям, инициированным работами Й.Тамир, Д.Миллера и других политических философов [см. Tamir 1995, Miller 1995, Canovan 1996, Agassi 1999]. В России присмотреться к комбинации двух “измов” исследователей побудила явная актуализация “национальной” проблематики в условиях демократического транзита, стремление найти такие формы национализма, которые “могут в большей или меньшей мере сочетаться с либерализмом и демократией” [Дробижева 2000: 81; Матвеева 1996, 1997; Здравомыслов 1999]. Соответственно, под либеральным национализмом отечественные авторы, как правило, подразумевают просто умеренный национализм, не порождающий острых конфликтов, а отнюдь не опирающуюся на либеральные принципы теорию, разработкой которой заняты западные ученые. Хотя два смысла термина частично совпадают, ибо политические следствия либеральных концепций наций и национальных прав, как правило, отличаются умеренностью, однако они не вполне идентичны, поскольку не всякая приемлемая для демократического общества практика национальных отношений может быть обоснована либеральными принципами. Наконец, с либеральным национализмом нередко ассоциируется (если не отождествляется) позиция либеральных партий и политиков по национальному вопросу [см. Малинова 1998: 133-150; Здравомыслов 1999], которая на деле вытекает не только из либеральных принципов, но и из конкретной ситуации, и не всегда должным образом отрефлексирована. Так или иначе, но идея нации сегодня постепенно перестает быть non grata в пространстве либеральной политической теории. Реально ли ее окончательное “приручение”? Прежде чем отвечать на этот вопрос, целесообразно высказать несколько предварительных замечаний. Наши представления об идеологиях как исторически сложившихся системах политических идей преимущественно ретроспективны. Рассуждая о том или ином “изме”, мы руководствуемся тем, что принято считать “самым главным” для него с позиций уже состоявшегося опыта. Идеологии нередко рассматриваются как законченные комплексы идей, имеющие свою логику и закономерности развития. В какой-то мере это оправданно, поскольку идеологии действительно обладают признаками системности. Но такая системность основана скорее не на логикоконцептуальных, а на историко-ситуативных связях. “Сцепление” идей в единые “пучки” смыслов происходило потому, что в контексте проблем, возникших с началом Современности, определенные типы решений тяготели друг к другу и складывались в более или менее скоординированные мировоззрения, позволявшие ориентироваться в меняющейся социальной реальности. В дальнейшем эти “пучки” стали восприниматься как нечто целостное, что, впрочем, не мешало их последующей трансформации [подробнее см. Малинова 2001]. Однако правомерно 1 Полис, 2003, 2, с. 96-111 2 предположить, что в процессе формирования подобных “связок”, особенно на начальных этапах, существовала возможность довольно значительной вариации их “состава”. При этом конфигурация будущего комплекса идей зависела не только от его логической связности (хотя нельзя сказать, что логика здесь была совершенно не причем), но и от конкретной ситуации, а также от характеристик потенциальных субъектов политического действия, которые делали актуальными или не актуальными те или иные его части. По-видимому, одной из таких не реализовавшихся возможностей в либерализме был комплекс идей, касающихся “национального фактора”. Этот комплекс включал в себя разные аспекты, начиная с признания желательности модели нации-государства и поддержки национального самоопределения и заканчивая распространением либеральных принципов на отношения между нациями. На протяжении почти всего XIX в. имелась реальная перспектива его инкорпорации в либеральную теорию. Многие европейские либералы весьма сочувственно относились к “принципу национальности”2. Такие фигуры, как Дж.С.Милль, У.Э.Э.Гладстон, граф К.Кавур, сыграли важную роль не только в развитии и реализации либеральных идей, но и в упрочении представления о необходимости поддержки прав наций. Частичная легитимация права наций на самоопределение как международной нормы связана с именем В.Вильсона, выдвинувшего в его поддержку либеральные аргументы. Теоретики XIX века весьма активно стремились реализовать популярную в эпоху Просвещения идею регулирования отношений между нациями моральными принципами, основанными на признании самоценности личности, необходимости максимизации полезности, поддержки свободы и на других соображениях, использовавшихся для обоснования либеральных программ. Иными словами, вопреки стереотипам, либерализм и национализм* не всегда воспринимались как вещи несовместимые. В настоящей статье мы покажем, какое значение фактор национального имел для политической теории либерализма в прошлом, проанализируем опыт его концептуализации либеральными мыслителями и попытаемся понять, почему этот опыт оказался основательно забыт вплоть до недавнего времени. Национальное как контекст политической теории либерализма в XIX в. Основания для соединения либерализма с идеей нации коренились прежде всего в условиях легитимации власти и идентификации субъектов политического действия в зарождающемся современном государстве. На смену династическому принципу, согласно которому передача власти определялась божественным правом королей, а необходимость подчинения ей – фактом подданства, опирающегося на освященные Богом традиции, приходит идея народного суверенитета и сопряженный с нею “принцип национальности”. Последний неизбежно требовал ответа на вопрос: “кто есть мы, чьей волей образовано государство?”. Это обстоятельство не могло игнорироваться либеральной политической теорией, хотя «Принцип национальности» рассматривался в XIX веке как новый принцип легитимации власти, основанный на согласии управляемых; это - внешний аспект идеи «народного суверенитета», который должен был регулировать границы государства. Крайним выражением «принципа национальности» был тезис «одна нация - одно государство». Однако этот тезис практически никогда не рассматривался в качестве правила, подлежащего безусловному применению. 2 Термин “национализм” используется здесь для обозначения политических доктрин, трактующих нации в качестве общностей, заслуживающих защиты и поддержки, и обосновывающих необходимость обеспечения их политических и/или культурных прав. * 2 3 отношение к нему было разным. Одни, подобно Э.Ренану, считали появление национального фактора в политической жизни неизбежным результатом поворота в европейской истории, ибо с тех пор, как был отвергнут принцип законного престолонаследия, основой территориальных разделений государств может служить только “право национальностей, т.е. естественных групп, определяемых племенем, историей и желанием народа” [Ренан 1902б: 194]. Другие, как лорд Актон, видели в “принципе национальности” пагубное последствие утверждающегося стремления переустроить общественные отношения на абстрактно-рациональных началах и полагали, что он противоречит реальному ходу истории и “вырастает из отрицания двух авторитетов – государства и прошлого” [Acton 1948: 172-173]*. Национальная среда представляла собой важнейший, хотя и не всегда отчетливо осознаваемый контекст для воплощения либеральных установок. По справедливому замечанию итальянского историка Г.де Руджеро, “либеральная идея государства как самоуправления народа реализуется в национальном государстве, обретающем в нации то гармоничное согласие людей одной расы, которого не может выразить ни одна абстрактная конституция, а также те исторические и традиционные элементы, которые подтверждают это согласие, делают его прочным, очищают от непостоянства и произвола эфемерной декларации воли” [Ruggiero 1966: 410]. Сообщество свободных индивидов, преследующих свои интересы, нуждается в прочном фундаменте, и лучший материал для него – чувство общей истории, “желание жить вместе” и “продолжать пользоваться доставшимся неразделенным наследством” в настоящем и будущем [Ренан 1902а: 100]. Защищая граждан от необоснованного вмешательства со стороны государства и поддерживая идею этической терпимости, либерализм должен был опираться на сравнительно однородное в культурном отношении сообщество, способное разделить предлагаемые им правила игры. Либеральный универсализм мог осуществляться лишь в “партикулярных” рамках определенных культур – и данный факт также подвергался осмыслению либеральными теоретиками, обсуждавшими проблемы формирования и развития “свободных институтов”. Наконец, полезно вспомнить, что универсальность либеральных принципов является в лучшем случае потенциальной: настаивая на обеспечении личной свободы, либерализм адресует эту свободу лишь тем, кто может пользоваться ею разумно и безопасно для других. Как верно отмечает И.Валлерстайн, “в теории... права понимались как универсальные, но вещью, которой меньше всего хотели бы либералы, было буквальное восприятие либеральных принципов, т.е. их действительно всеобщее применение” [Валлерстайн 2001: 198]. Поэтому “универсальные” принципы дополнялись системой явных и неявных ограничений*, в обосновании которых важную роль играли концепты прогресса, расы и нации. Таким образом, либеральные мыслители действительно не могли обойти стороной комплекс проблем, связанных с идеей нации. Правда, им не удалось выработать единый подход к этим проблемам; скорее, речь идет о сумме различных концепций, внутри которых тем не менее просматривается относительно инвариантное ядро, отражающее специфику либеральной интерпретации наций и национальных прав. Эта часть аргументов лорда Актона носит вполне консервативный характер, хотя императивом его рассуждений была необходимость обеспечить личную свободу. Собственно, это лишнее подтверждение того, что либерализм как философия, ставящая во главу угла свободу личности, не всегда совпадает с демократией как политической теорией, опирающейся на идею народного суверенитета. * Анализ стратегий политического исключения, используемых в либеральных политических теориях, см. Menta 1990. * 3 4 Концепт нации и “принцип национальности” в либеральной теории середины XIX – начала ХХ в. Предваряя дальнейшие рассуждения, следует пояснить, что мыслители, взгляды которых на “национальный вопрос” здесь рассматриваются как “либеральные” (и которые имеют соответствующую репутацию в научной литературе*), не обязательно в полной мере разделяли социально-политические доктрины, составлявшие ядро либерализма как политической идеологии. Дело в том, что для оценки “национального вопроса” принципиальны далеко не все пункты либеральной “повестки дня”. Важно, какими видятся взаимоотношения между личностью и обществом, допускается ли подчинение индивидуальных интересов коллективным (национальным). Существенно, как трактуется нация, ее формирование, развитие, культура. Безусловно, имеет значение отношение к разным концепциям “хорошей жизни”. (Впрочем, либеральная позиция в национальном вопросе возможна даже в случае признания объективной заданности концепции блага – если мы признаем необходимость терпимого отношения к тем, кто не придерживается данной концепции.) В то же время есть положения, занимающие центральное место в либеральной программе, которые (убрано «не») практически не влияют на трактовку национальных проблем (например, антипатернализм, признание важности частной собственности, свободы конкуренции и свободы контракта). Некоторые из мыслителей, чьи идеи стали предметом нашего анализа, выражали несогласие с отдельными аспектами современных им либеральных доктрин, однако все они принимали основные либеральные ценности*, и убеждение в необходимости индивидуальной свободы, толерантности, равенства прав, управления с согласия управляемых играло определяющую роль в их подходах к “национальному вопросу”. Не нужно забывать, что XIX столетие было “веком национализма”, периодом, когда многие социальные проблемы стали описываться в терминах национального, а само деление человечества на нации превратилось в важнейший фактор европейской политики. Теории середины XIX – начала ХХ в. пытались осмыслить новый феномен в европейской истории, оказывая тем самым определенное влияние на отношение к нему просвещенного общественного мнения. И Мадзини, и Милль, и Актон, и Ренан, и Масарик, и Милюков считали, что живут в эпоху, когда нации рождаются, или, по крайней мере, обретают новое качество. При этом одни, в частности Милль и Ренан, представляли нацию результатом свободного выбора Чаще всего в качестве примеров “либеральных концепций национализма” приводятся идеи И.Г.Гердера, Дж.С.Милля и Дж.Мадзини, иногда в том же контексте упоминаются воззрения Т.Г.Масарика и В.Вильсона. Среди упомянутых мыслителей либералом во всех смыслах этого слова может быть назван лишь Милль. Вместе с тем то идейное пространство, на котором складывался синтез либеральных и национальных идей, действительно невозможно представить без Гердера, Мадзини, а позднее – лорда Актона, У.Баджота, Э.Ренана и ряда других авторов, которые по тем или иным причинам не вписываются в образ “идеалтипического” либерала. * Разумеется, исторически либерализм был представлен множеством разных теорий, в рамках которых ценности индивидуальной свободы, терпимости, равенства прав, антипатернализма, верховенства закона и т.д. интерпретировались и ранжировались поразному. Более того, в современных демократиях данные ценности разделяют представители многих сегментов политического спектра, от либеральных консерваторов до демократических социалистов. Однако, на наш взгляд, все это не мешает идентифицировать указанные ценности как либеральные (принимая в расчет возможность различной их интерпретации). * 4 5 людей, выражающих волю жить вместе и под “своим” правлением, выбора, который совершается при определенных исторических обстоятельствах и определяется рядом факторов, ни один из которых не является a priori решающим [Mill 1991: 308; Ренан 1902а: 89-102]. Другие, например Мадзини, В.Соловьев, Масарик, видели в ней воплощение воли Провидения, предначертавшего каждой части человечества собственную миссию; естественную форму сообщества, обеспечивающую прогресс единого человечества. Если соотнести эти трактовки с современными концептуальными водоразделами [см. Коротеева 1997; Миллер 1999], названных мыслителей следует отнести скорее к модернистам, нежели к примордиалистам: они рассматривали нации как новое социальное явление, главное содержание которого заключено в сфере духовного, в развитии особого национального самосознания. Причем этот процесс многие из них считали объективным и закономерным. Таким образом, хотя интерпретации нации, предложенные Миллем и Ренаном, допускали развитие в духе конструктивизма, в XIX в. безусловно превалировало эссенциалистское представление о нациях и национализме как о “том, что с нами случается”, а не о “том, в создании чего мы принимаем участие” [Miller 1995: 6] (и было бы странно, если б было иначе). Итак, нации воспринимались как новое – и в чем-то революционное – явление, которое нельзя не принимать во внимание. Некоторые вслед за Мадзини полагали, что рождение наций и осознание ими своих особых миссий суть непременное условие движения к объединению всех человеческих сил и способностей, т.е. развитие наций есть единственно возможная формула прогресса. Когда “работа человечества в целях общественного совершенствования... будет распределена по способностям и все соединятся для этой общей работы, – писал Мадзини, – настанет время постепенного, прогрессивного, мирного развития: тогда каждый из вас, сильный чувствами и средствами многих миллионов людей, говорящих на одном языке, одаренных одними наклонностями, воспитанных на одном историческом предании, может надеяться принести пользу всему человечеству своей единичной деятельностью” [Мадзини 1917: 64-65]. Иные, подобно Миллю, квалифицировали нации скорее как неизбежную, по крайней мере на данном этапе, форму организации общества, с которой приходится считаться, выстраивая политические институты, обеспечивающие свободу личности, а значит – прогресс. Пока сосуществующие вместе нации питают друг к другу “варварское чувство” вражды, констатировал Милль, осмысливая опыт национальных движений 1848 г., “они едва ли в состоянии слиться в один свободный народ. У них нет чувства общности, которое позволило бы им объединиться, защищая свои свободы или формируя общественное мнение, способное верховенствовать... Государство, будучи единственным связующим звеном, может подавлять свободу всех, противопоставляя одну расу и народ другим”. В такой ситуации “борьба за возвращение национальной принадлежности зачастую оказывается необходимым условием и обретения свободных институтов, и того, чтобы последние, коль скоро они возникли, смогли работать в духе свободы” [Mill 1985: 347-348]. Обосновывая свой интерес к проблемам, вытекавшим из идеи нации, либеральные теоретики двигались в русле двух подходов. Первый из них был намечен Ж.Ж.Руссо, который, в отличие от Локка и Гоббса, видевших в гражданах государства лишь подданных одного суверена, настаивал на том, что индивиды, образующие политический организм, должны иметь сходные обычаи и манеры, общие социальные идеалы. По мысли французского философа, целостность государства и политическая свобода достижимы лишь тогда, когда граждане 5 6 испытывают сильное чувство лояльности – что невозможно, если их ценности и привычки сильно различаются*. При этом Руссо не видел особой добродетели в сохранении культурного своеобразия как такового. Указывая, что члены прочного и сильного политического сообщества должны разделять единые фундаментальные ценности, он отнюдь не призывал народы, имеющие одинаковую культуру, слиться в одно политическое сообщество, дабы эту культуру сохранить. Автор “Общественного договора” был гораздо больше озабочен обеспечением “качества” политической и моральной жизни, нежели ее “национальным” содержанием. Этот подход позднее был развит Миллем, который аргументировал тезис о желательности совпадения границ нации и государства именно ссылкой на невозможность укоренения либеральных политических институтов в среде, где существуют национальная рознь и недоверие [Mill 1991]. Весьма влиятельным был и второй подход, у истоков которого стоял И.Г.Гердер, считавший нации органическими элементами человечества и истинными субъектами истории. Признавая, что нации состоят из индивидов и их развитие, в известном смысле, зависит от усилий последних, немецкий мыслитель тем не менее видел в них природное явление, чей рост объясняется действием естественных законов. Согласно его представлениям, любая нация обладает своей спецификой; подчинение искусственным правилам, имитация чужого опыта для нее фатальны. Но хотя Гердер делал акцент на национальных особенностях, его идеалом был универсализм. Индивиды не существуют сами по себе, рассуждал он; чтобы наиболее полно реализовать себя, они должны быть членами наций, а те, в свою очередь, суть части человечества, разделяющие его судьбу и обеспечивающие его прогресс собственными достижениями. Вклад в этот процесс вносят все нации, каждая по-своему. Созданное тем или иным народом становится общим достоянием; нации могут и должны пользоваться плодами творчества друг друга, ибо они – одно целое. Государства, в отличие от наций, Гердер объявлял искусственными образованиями. Органической границей государства, по его мнению, могла быть только нация. “Природа воспитывает людей семьями, – писал он, – и самое естественное государство – такое, в котором живет один народ, с одним присущим ему национальным характером... Ничто так не противно самим целям правления, как неестественный рост государства, хаотическое смешение разных человеческих пород и племен под одним скипетром” [Гердер 1977: 250]. Таким образом, Гердер заложил основы не только культурного, но и политического национализма, предвосхитив тезис “одна нация – одно государство”. В отличие от Руссо, он аргументировал необходимость подобного порядка не его целесообразностью (в плане устройства политического организма), а его естественностью. Данную позицию разделяли многие мыслители середины XIX – начала ХХ в., в т.ч. Мадзини, Соловьев, Масарик и Вильсон. Продолжая “линию Гердера”, либеральные мыслители делали упор не столько на национальных особенностях, сколько на идее развития общего через особенное. В частности, они не только не поддерживали, но и прямо отвергали присутствовавшую в гердеровской схеме идею закрытости нации. Следует отметить, что либеральным концепциям наций в принципе чуждо “охранительное” отношение к национальной культуре в ее традиционных, “старинных” формах*, и в этом их принципиальное отличие от консервативного национализма [см. Малинова 2002]. Так, в “Размышлениях об управлении Польшей” Руссо советовал сузить границы государства так, чтобы оно включало одних поляков [Руссо 1969]. * Указанная особенность отчетливо проявилась в критике славянофильства В.Соловьевым, а позже – П.Милюковым, П.Струве и др. * 6 7 Считая свободу индивидов одной из основных ценностей, либералы не могут ограничивать ее тесными рамками традиционной культуры, не способной выступать объектом творческого участия и развития. Внимание к национальному контексту, в котором должны реализовываться их программы, безусловно, заставляет либеральных философов учитывать фактор преемственности, однако он не отменяет фактора развития. Вообще, для либеральных интерпретаций национальных прав характерен полицентрический взгляд на мир: нации рассматриваются как органические части человечества, как проявление общего в особенном. Это представление, присущее всем обсуждаемым концепциям, хорошо выразил В.Соловьев, который писал: “Каждый народ по особому характеру своему назначен для особого служения. Различные народности суть различные органы в целом теле человечества, – для христианина это есть очевидная истина” [Соловьев 1989: 269]. Показательно, что и Милль, и Баджот, и Милюков, и другие мыслители, не разделявшие ойкуменических идей Соловьева, тоже видели в нациях компоненты единого человечества, посвоему выражающее нечто общее для всех. В этом смысле разделение на нации не считалось чем-то самоценным. Достижения отдельных наций оценивались с точки зрения не столько конкуренции, сколько сотрудничества, ибо в конечном счете человечество едино, и плоды общественного прогресса универсальны (если не по форме, то по содержанию). Отсюда вытекают два важных следствия. С одной стороны, либералы понимают нации как общности, открытые вовне: национальные культуры не должны быть изолированы, развитие во взаимодействии – естественный способ их существования. Данная установка была особенно важна для русских либералов: осмысливая проблему западного влияния на российское общество, они настаивали на том, что взаимопроникновение культур – обычный для человеческой истории феномен, что общение с культурами других народов плодотворно и не ведет к эрозии “национальной души”. Так, П.Милюков, много занимавшийся “национальным вопросом” в качестве историка и социолога, подчеркивал, что “подражание есть основной и извечный закон образования самобытного... Все специфическинациональное есть тоже переработанный продукт былых подражаний и... периоды настоящего подражания наиболее оплодотворяют самостоятельное национальное творчество”. Поэтому “борьба самобытников с подражателями, ксенофобов с ксеноманами” оценивалась им как “примитивная форма национального сознания, свойственная начальным ступеням процесса в малокультурной среде” [Милюков 1925: 126-127]. С другой стороны, для либеральных мыслителей все нации являются «разными, но равными»; либеральная национальная программа несовместима с концепцией “избранных” наций, которые имеют некие существенные преимущества перед другими, влекущие за собой особые права. Размеры нации, конфигурация ее географических границ, соображения международной целесообразности, безусловно, влияют на оценку ее политических притязаний, но не отменяют равноценности разных наций. В годы первой мировой войны Т.Масарик приложил немало усилий к тому, чтобы доказать равенство прав “больших” и “малых” наций. Проблема последних, по его мнению, заключалась не в их географическом положении, а в том, что им труднее интегрироваться в общемировой процесс эволюции, найти в нем свое место. Тем не менее, это возможно; и маленькая чешская нация сумела предвосхитить многие тенденции развития общеевропейского гуманистического идеала в гуситском движении XIV в. “Гуманитарный идеал, – отмечал Масарик, – не является чешской особенностью; он наоборот общечеловечен, но каждый народ осуществляет его своим способом: 7 8 англичане формулировали его главным образом этически, французы политически (объявление прав человека и гражданина), немцы социально (социализм), мы национально и религиозно. Теперь гуманитарные стремления становятся всеобщими и приходит время, когда они будут признаны всеми образованными народами основой государства и международных отношений” [Масарик 1926, т.2: 335]. В работах по теории и истории национализма нередко утверждается, что с либеральной программой совместимы лишь определенные типы национализма (“гражданский”, а не “этнический”, “включающий”, а не “исключающий”; “культурный”, а не “политический”; “территориальный”, а не “лингвистический”, и т.д.). Как правило, все эти классификации отличаются четкой географической привязкой и постулируют возможность развития либеральных версий национализма преимущественно в странах “первичной” модернизации [Kohn 1962: 31-32; Plamenatz 1973: 27-36; Seton-Watson 1977: 6-7; Greenfeld 1992]. Правомерность подобного тезиса вызывает большие сомнения. На наш взгляд, либеральный потенциал национализма зависит прежде всего от того, как интерпретируется феномен нации и какие в связи с этим выдвигаются требования: считаются ли нации открытыми и развивающимися или закрытыми и хранящими свою “аутентичность”; выступает ли их благо в качестве самоцели или подчинено иным ценностям; навязываются ли индивидам коллективные цели или предоставляется свобода в выборе форм сотрудничества, и т.д. Иначе говоря, дело не столько в том, на каком основании люди утверждают, что составляют некое “мы”, а в том, какими мыслятся связи внутри этого “мы” и насколько конфликтно противопоставление “нас” “другим”. Безусловно, некоторым из перечисленных выше типов национализма гораздо легче адаптироваться к либеральным установкам, нежели другим. Тем не менее, эту тенденцию нельзя абсолютизировать. Как видно, в частности, на примере Масарика, даже “лингвистическая”, причем довольно закрытая, модель нации в принципе совместима с либеральными принципами организации государства, с равноправием граждан и заботой о развитии культур национальных меньшинств. По справедливому замечанию Э.Смита, “не каждый национализм стремится к культурной однородности. Чего требуют все националисты – так это единой публичной культуры. Есть случаи, когда они рады пойти на уступки этническим и религиозным меньшинствам в развитии их культур на частном уровне, если это не слишком вредит национальной идентичности, создаваемой публичной культурой нации-государства” [Smith 1995: 151]. Другими словами, и “этнический”, и “лингвистический”, и “культурный” национализм теоретически способен избежать нетерпимости к культурными различиям, рассматривая их как часть частной сферы (если это допускает конкретная ситуация, т.е. если представители меньшинств довольствуются этим). Как показал М.Уолцер, исторически существовали разные формы толерантности, и нация-государство, строилась ли она на гражданской или на этнической модели нации, фактически всегда была вынуждена демонстрировать ту или иную меру терпимости к инонациональной части своего населения. Либеральный подход выражался здесь в сочетании терпимости по отношению к частной жизни индивидов с той или иной мерой нетерпимости к публичным выражениям традиций меньшинства [Walzer 1977: 25-36]. Разумеется, подобная недискриминация (принадлежность к национальному меньшинству – не повод для ограничения личных прав и вообще для особого отношения в том, что касается публичной сферы) 8 9 представляет собой особую форму дискриминации*. Однако во многих обществах данная схема прижилась и не вызывает протеста меньшинства, особенно если оно состоит преимущественно из иммигрантов. Более того, Уолцер полагает, что такая модель ассимиляции может “работать” и в государствах с преобладанием автохтонного населения – но только до тех пор, пока меньшинства не становятся опасными или их не делает таковыми националистическая идеология. Вместе с тем в конце ХХ в., появились симптомы того, что указанная модель терпимости перестает быть приемлемой. В постмодернистском обществе возрастает потребность в позитивном (а не просто нейтральном) отношении к различиям; группы, образующие меньшинство, все чаще выступают с требованием публичного признания своих культур*. И если либеральный национализм при определенных условиях способен сочетаться с умеренными версиями “этнического” и “лингвистического” национализма, то либеральный мультикультурализм, судя по всему, возможен лишь там, где сложилась “гражданская” нация, ибо реализация требований о признании плюрализма в обществе, тяготеющем к «этнической» модели, неизбежно будет порождать глубокие и болезненные конфликты, которые не позволят удерживать культурные различия в частной сфере. Впрочем, необходимо отметить, что между этими типами национализма нет непреодолимой грани: речь, скорее, идет о тенденциях, которые могут усиливаться или ослабевать. Чрезвычайно важную роль в построениях либеральных теоретиков середины XIX – начала XX в. играла концепция прогресса, в основе которой лежало представление о постепенном поступательном движении отдельных народов и всего человечества, - движении, в основе которого лежат творческие усилия отдельных индивидов, изменяющих внешние обстоятельства жизни для себя и своих потомков. Прогресс мыслился как процесс универсальный, как путь, по которому предстоит пройти всем народам. Важно подчеркнуть, что единство в многообразии трактовалось либеральной теорией в качестве непреложной предпосылки прогресса. Эта идея с разными вариациями воспроизводилась многими мыслителями XIX в.*, ее разделяли последователи и “линии Гердера”, и “линии Руссо”. К примеру, у Милля, называвшего “вульгарным” “стремление лелеять явные недостатки из-за того, что они – национальные особенности” [Mill 1980: 124], мы находим следующие строки: “Индивидуальные особенности наций служат общему прогрессу точно так же, как и индивидуальные особенности людей: поскольку никто не обладает совершенством, то следует признать благом, что все несовершенны по-разному... Если бы все нации походили на какую-то одну, прогресс имел бы место лишь в рамках одного типа несовершенства, который безусловно представляла бы собой эта нация” [Mill 1977: 93-94]. Однако разные народы идут по пути прогресса разными темпами. Именно это обстоятельство, по мнению мыслителей XIX в., должно было в первую очередь учитываться при оценке притязаний тех или иных наций. Универсальных прав, которыми все нации обладают по определению, не существует. Характерным Критику данной модели см. Kymlicka 2001: 16-52. Тенденция культурного плюрализма, уже заявившая о себе в западных обществах, скорее всего не обойдет и Россию. Обоснование этого тезиса см. Малахов 2002. * Следует отметить, что мысль о плодотворности различий, о человечестве как о совокупности наций развивалась не только либералами, но и консерваторами. Однако вторые совсем по-иному интерпретировали связи между звеньями цепочки “индивид – нация – человечество” [см. Малинова 2002]. * * 9 10 проявлением подобного подхода могут служить аргументы того же Милля в “Рассуждениях о представительном правлении”. Рассматривая вопрос о целесообразности раздела государств, включающих в свои границы несколько компактно проживающих наций, он связывал его решение с соотношением сил, численности и уровней развития конкретных наций. Поглощение малой, но развитой нации более многочисленной и сильной, но менее продвинутой в культурном отношении соперницей философ считал безусловным несчастьем (таковым, по его заключению, было бы завоевание любого из европейских государств Россией). В то же время присоединение к большой и высокоразвитой нации народа, стоящего ступенькой ниже, особенно если тот малочислен и не имеет особых шансов сохранить свою независимость, казалось ему приемлемым и даже желательным (случай Англии и Ирландии). Что касается слияния примерно равных по силе, численности и уровню развития наций, то оно, согласно Миллю, с наступлением “эры стремления к свободному правлению” стало маловероятным, поэтому “не только допустимо, но и, если принимать во внимание соображения свободы и согласия, даже необходимо разорвать их союз” (последнее относилось к итальянским провинциям, оказавшимся под властью Австрии и Франции) [Mill 1991: 315-319]. Ориентируясь на идею прогресса при оценке притязаний наций, либеральные мыслители середины XIX – начала ХХ века тем самым оперировали критериями, лежавшими вне плоскости собственно национальных “эгоистических” интересов. Это позволяло им делать упор на либеральные ценности индивидуальной свободы, терпимости и равенства перед законом, равно как и на идею сотрудничества наций. Вместе с тем уверенность в необратимости прогресса заставляла их видеть в национальных проблемах нечто временное, обусловленное переходным состоянием общества, но безусловно изживаемое в будущем, когда либеральные принципы утвердятся повсеместно. Нельзя не отметить, что подобный оптимизм в известной степени был обусловлен недостатком опыта: Европа только вступала в “эру наций и национализма” и еще не успела в полной мере ощутить кроющиеся в этом опасности. Кроме того, в концепциях середины XIX – начала ХХ в. осмысливалась главным образом европейская история; другие регионы если и попадали в поле зрения теоретиков, то анализировались не “в связи” с общей тенденцией развития наций, а “отдельно”, как особый случай*. В силу названных причин данные концепции, декларируя возможность гармоничного сочетания интересов индивидов, наций и человечества в целом, не предлагали способов разрешения потенциальных конфликтов между такими интересами. Между тем именно это является самым главным для выработки либеральной политики в национальном вопросе. Одним из следствий неопределенности критериев прогресса стала практика “двойного стандарта” по отношению к различным нациям. Так, Милль ратовал за свободу Италии, Польши и Венгрии, но настаивал на сохранении Ирландии в составе Великобритании. Аналогичным образом, многие русские либералы считали благом для большинства народов Российской империи пребывание в ее составе (Финляндия и Польша преподносилась как “особые случаи” в первую очередь потому, что они обладали собственными культурами, по меньшей мере не Так, в упомянутом трактате Милля вопросы, касающиеся “нации в ее отношении к представительному правлению”, с одной стороны, и управления зависимыми народами или территориями (термин “dependencies” может быть переведен двояким образом) – с другой, разведены по разным главам. Либеральная концепция прогресса вполне вписывалась в логику определенным образом понимаемого империализма: в рамках этой логики власть метрополии обосновывалась тем, что она обеспечивает наиболее “эффективный” путь к свободе и прогрессу. * 10 11 уступавшими русской, но и здесь речь шла об автономии, а не об отделении) [Струве 1997: 160-161]. Т.Масарик, выступавший за самоопределение народов Восточной Европы, высказывался за включение в границы Чехословакии районов, где преобладало немецкое население, ибо для “малой” нации потеря части ее членов более критична, нежели для крупной, [Масарик 1926, т. 2: 275]. Впрочем, подобная аргументация в принципе довольно типична для либеральных теорий, ставящих во главу угла идею прогресса. Примерно так же рассуждали, рассматривая вопрос о государственной принадлежности Эльзаса и Лотарингии, не только Ренан, но и Милль, и Баджот. Последний прямо утверждал, что “с точки зрения моральных ресурсов для мира в целом” целесообразнее оставить германоязычный Эльзас за Францией: Германия от их присоединения приобретет в культурном отношении гораздо меньше, чем потеряет Франция, которой такая прививка немецкой “основательности и глубины характера” чрезвычайно полезна» [Bagehot 1974: 187189; ср. Ренан 1902б: 155-173; Mill 1972: 1767]. Иными словами, на практике либеральные мыслители оказывались весьма пристрастными и очень гибко применяли декларируемые принципы. Но причиной тому, на наш взгляд, был не только патриотизм, - ибо большинство из них, подобно Ренану, с полным основанием могли бы сказать про себя: “Всю жизнь я учился быть истым патриотом, но в то же время я старался беречь себя от излишнего патриотизма, ведущего к заблуждениям” [Ренан 1902б: 187]. Просто либерализм XIX в. – это доктрина умеренных и разумных изменений, менее всего склонная необдуманно подрывать сложившийся порядок во имя излишне жестко сформулированных принципов. Отсюда пристрастие к обтекаемым формулировкам, которыми можно распорядиться по обстоятельствам. И здесь мы сталкиваемся еще с одной особенностью либеральных интерпретаций проблемы национальных прав. Поддерживая в некоторых (но не во всех!) случаях право наций на самоопределение, либералы считают непременным условием развития последних сильное жизнеспособное государство. Исторически пафос либеральных теоретиков был направлен на обеспечение свободы индивидов через ограничение государства рамками закона, и потому их политическую философию подчас воспринимают как чуть ли не антигосударственническую. Однако это не так: либерализм предполагает сильное, а вовсе не слабое государство*. Правда, он настаивает на определенном “качестве” такого государства: управление должно осуществляться с согласия управляемых, права личности не должны нарушаться и т.д. Но если государство отвечает всем этим требованиям (или движется в данном направлении), то либералам вовсе не свойственно стремиться к его разрушению или ослаблению. В общем и целом поддерживая идею “государства одной нации”, либеральные националисты отнюдь не всегда ратовали за ее реализацию. И немаловажным (хотя и не всегда открыто артикулируемым) стимулом к подобной избирательности было нежелание ослаблять государство, которое могло стать либеральным. Таким образом, либеральная теория была готова удовлетворить притязания далеко не каждой нации: имело место то, что Э.Хобсбаум называл “принципом порога” [Hobsbawm 1992: 36-38]. На самоопределение могли претендовать только Как хорошо показал И.Валлерстайн, антиномия государства и общества присуща всем трем основным идеологиям Современности, хотя каждая из них по-своему преодолевает мнимый антиэтатизм [Wallerstain 1995: 97-101]. Продолжая его мысль, можно сказать, что одна из стратегий, которую используют здесь либералы – это избирательный подход к «принципу национальности». * 11 12 достаточно крупные нации, способные обеспечить прогресс собственными усилиями. В связи с этим в середине XIX в. процесс национального самоопределения трактовался скорее как объединение, нежели как отделение. Так, например, Мадзини Европа рисовалась состоящей из 14-15 государств, включая Италию, Германию и Польшу, но также и “широкую федерацию народов Дуная”, которой “суждено сплотиться, возможно, по инициативе Венгрии”, Испанию и Португалию, коим “предстоит объединиться раньше или позже”, Грецию, “простирающуюся до Константинополя” и т.д. [Mazzini s.a.: 293]. Несмотря на свою кажущуюся объективность, “принцип порога” мог применяться весьма произвольно. Как писал известный британский публицист У.Баджот: “Принцип национальности сам по себе не есть благо, не есть догма, которой необходимо слепо следовать во все времена; он – средство к осуществлению цели и должен применяться разумно и по-разному... Более чем очевидно, что этот принцип не принесет пользы, а скорее причинит бедствия и несчастья, если его будут использовать для разрушения исторических наций, которые пусть неоднородны по своему составу и потому уязвимы, тем не менее утверждают истинный национальный дух, имеют единое общественное мнение и способны к согласованным и слаженным действиям”. По убеждению Баджота, “в интересах мира – то, чтобы он состоял из великих наций, великих не обязательно по территории, но по своим заслугам, по своему духу, по политическим качествам, сильных при жизни и великих после смерти” [Bagehot 1974: 151-152, 149-150]. Следует отметить, что данная мысль проходила рефреном через рассуждения всех либеральных мыслителей. Даже во время первой мировой войны, когда право народов на самоопределение было проложено основу мирного урегулирования (причем предполагалось не только объединение, но и отделение), “принцип порога” не был отброшен окончательно. Характерно, что в знаменитых “Четырнадцати пунктах” В.Вильсона, оглашенных в его обращении к Конгрессу США 8 января 1918 г., это право не было декларировано в качестве общей нормы. Речь шла о поддержке самоопределения некоторых наций, причем в одних случаях (Бельгия, Франция, Италия и особенно Польша) такая поддержка была обозначена четко и недвусмысленно, в других (Австро-Венгрия, Балканы, Османская империя) были использованы весьма расплывчатые формулировки, а в третьих (народы, входившие в Российскую империю) вопрос о самоопределении вообще не ставился. Лишь чуть более месяца спустя в своих “Четырех принципах мира” американский президент объявил, что “все обоснованные национальные стремления получат самое полное удовлетворение, какое только возможно им дать, не порождая новые и не разжигая старые очаги разногласий и вражды, способные разрушить мир в Европе и, следовательно, в мире” [Wilson 1918: 109]. Но даже в этом документе, где право наций на самоопределение было заявлено в качестве универсального принципа, причем не только в плане “управления с согласия управляемых”, но и в смысле “удовлетворения национальных стремлений”, его реализация оговаривалась рядом условий. И это было естественно, ибо декларировать подобное право гораздо проще, нежели осуществить на практике. Как показала Парижская мирная конференция, его формальное провозглашение отнюдь не означало, что оно будет признано за всеми нациями. “Порог” стал ниже, но он сохранился. На наш взгляд, это объяснялось не только сложной игрой политических сил на мирной конференции, но и логикой либеральной интерпретации национальных прав. Идея национальной независимости вписывалась в либеральную концепцию только тогда, когда новое государство могло обеспечить эффективное развитие как прав и свобод индивидов, так и культуры нации, способствуя тем самым прогрессу всего 12 13 человечества, и потому право наций на самоопределение должно было применяться избирательно. Но даже в тех случаях, когда либеральные мыслители не поддерживали идею отделения, они были убежденными противниками угнетения и дискриминации. Так, Милль, считавший недопустимым выход Ирландии из состава Великобритании, активно выступал за изменение официальной политики Лондона в отношении населения этого острова. Будущее и англичан, и ирландцев, по его мнению, зависело от того, удастся ли первым вовремя осознать, что Ирландией нужно управлять с учетом интересов ее жителей, что те должны быть уравнены в правах с англичанами и, главное, что необходимо срочно приступить к решению аграрного вопроса. В своих предложениях Милль шел гораздо дальше, чем большинство его современников-британцев [подробнее см. Малинова 2000: 29-66]. То же можно сказать и о русских либералах, которые высказывались за сохранение территориальной целостности России, но при этом резко критиковали официальный национализм властей и реакционные взгляды политиков, принадлежавших к правой части спектра, боролись за равенство всех граждан независимо от национальности и вероисповедания, защищали право меньшинств на собственный язык и культуру. Мечтая о формировании в России единой нации *, они связывали такую возможность с добровольным приобщением “инородцев” к русской культуре и превращением русского общества в подлинно либеральное. Таким образом, даже не будучи готовы поддержать политическое самоопределение наций, либералы предлагали альтернативу политике дискриминации и насильственной ассимиляции, которую проводили правительства большинства многонациональных государств. (Другой вопрос, насколько эта альтернатива была реальна политически. Либералам редко удавалось существенно влиять на политику своих государств в “национальном вопросе”, а там, где они пытались это делать, - как в случае с гладстоновской идеей гомруля для Ирландии, - опыт оказывался не слишком удачным.) Либеральные теоретики середины XIX – начала ХХ века трактовали национальный вопрос преимущественно как политический. Права наций интерпретировались ими по аналогии с правами индивидов; нации считались в основе своей однородными. Предполагалось, что с обеспечением политической самостоятельности тех наций, за которыми признавалась право на самоопределение, “национальный вопрос” для них будет решен. И это Наиболее последовательно мысль о том, что в России идет процесс формирования единой “гражданской” нации по образцу Соединенных Штатов, выражал П.Струве [Струве 1914: 176-180]. Однако на эту тему высказывался и его оппонент – П.Милюков. Выступая в думских прениях по поводу законопроекта о преобразовании местного суда, лидер кадетов в частности, заявил: “Вопреки мнению некоторых о партии, к которой я принадлежу, мы горячо стоим и за единство государства и даже, если бы сложились такие нормальные условия жизни, в которых могла бы создаться русская государственная национальность, мы и эти нормальные условия жизни, и их результат горячо бы приветствовали. Мы считаем, что государство наиболее крепко тогда, когда национальное сознание становится единым, когда население государства одушевлено одной целью, одним идеалом” [Государственная Дума 1908-1912. Сессия III. Ч.I. Стб.2985-2986]. Поскольку Милюков выступал против лозунга “Россия для русских”, выдвигавшегося правыми, “выковывание государственной нации”, по-видимому, означало в его представлении постепенное сближение народов, населяющих единое государство, при условии, что они будут иметь равный правовой статус и что русский язык как язык, обеспечивающий их взаимопонимание и работу во имя общих целей, будет принят добровольно (как английский язык в США). * 13 14 неудивительно, ведь для либералов смысл данного вопроса заключался либо в создании предпосылок для “свободных институтов” (в виде сообщества граждан, готовых сотрудничать друг с другом), либо в обретении нацией возможности управлять собой, дабы она могла выполнять предназначенную ей миссию. “Либеральные националисты” действительно уделяли мало внимания проблеме, на которую указывал лорд Актон, критикуя “принцип национальности”: “Делая государство и нацию соразмерными друг другу в теории, этот принцип на практике означает подчинение других национальностей, которые могут существовать в тех же границах. Им не может быть предоставлено равенство с правящей нацией, которая образует государство, ибо тогда государство перестанет быть национальным, что будет противоречить принципу его существования”. Поэтому, “в зависимости от степени гуманности и цивилизованности господствующей нации, которая требует себе все права, подчиненная нация будет истребляться, обращаться в рабство, лишаться защиты закона или ставиться в зависимое положение” [Acton 1948: 292293]. Предоставление всем гражданам – вне зависимости от их национальной принадлежности – одинаковых прав было для либералов непреложным принципом. Однако проблема прав меньшинств толковалась ими как проблема прав индивидов и решалась на основе равенства перед законом и терпимости к “другим”. Авторы либеральных концепций середины XIX – начала ХХ в. либо вообще не считали национальность к важным элементом персональной идентичности, либо не придавали этому аспекту существенного значения, будучи озабочены обеспечением единства и самостоятельности “больших” наций. То, что меньшинство может оказаться ассимилированным, не казалось в XIX в. трагедией. Напротив, ассимиляция воспринималась как позитивное явление, если вследствие нее индивид вливался в более “высокую” культуру. Такая позиция отчетливо просматривается, в частности, в рассуждениях Милля об ирландской эмиграции в Америку. Считая данный процесс потерей и позором для Англии, неразумная политика которой сделала условия жизни ирландцев невыносимыми, английский философ отмечал: “Что касается самих эмигрантов или их потомков, а также общих интересов человечества, то было бы глупо сожалеть о таком результате. Дети ирландских иммигрантов получают американское образование и приобщаются к благам более высокой цивилизации быстрее и полнее, чем это было бы возможным в той стране, откуда они сами родом” [Милль 1980, т.3: 36-37]. ХХ в. остро поставил проблему национальных языков – и либеральные политики стали уделять ей немало внимания*. Однако это было продиктовано не столько заботой о сохранении культуры меньшинств, сколько необходимостью поддержания гражданского мира в “национальном” государстве, вобравшем в себя множество людей, принадлежащих к “неосновным” национальным группам. В качестве интегрирующего общество стержня и главной силы, определяющей его развитие, и Масарик, и Милюков, и тем более Струве рассматривали культуру “основной” нации. Почему не сложилась “связка”? Проанализированный материал подтверждает наличие у либеральных мыслителей середины XIX – начала ХХ в. не только достаточно серьезного интереса В подтверждение данного тезиса можно сослаться на опыт как кадетов, неоднократно дискутировавших вопрос о языке в стенах Государственной Думы, так и Т.Масарика, крайне щепетильно относившегося к созданию условий для развития культур народов, оказавшихся в меньшинстве в независимой Чехословакии. * 14 15 к феномену нации и “принципу национальности”, но и определенного сходства в их интерпретации. Так почему же этот блок проблем не вошел в общую “связку” и оказался настолько основательно забыт, что в конце ХХ в. сама его релевантность для либеральной теории ставится под сомнение? По-видимому, причины этого следует искать как в особенностях опыта теоретического осмысления “национальной” проблематики либералами XIX в., так и в специфике того социального контекста, в котором такое осмысление осуществлялось. Если говорить о последнем, то нельзя не заметить, что с конца 1870-х годов национальные движения в Европе вступили в новую фазу: изменился их социальный состав, методы борьбы, приемы мобилизации; национализм стал более агрессивным и нетерпимым по отношению к чужакам [см. Hobsbawm 1992: 101-130]. Перемена была столь разительной, что польский историк М.Яновский предлагает различать два типа национальной мысли: по его мнению, “национальная идея XIX в. и современный национализм – это не два варианта одного и того же течения (разве что в очень широком смысле, поскольку и то, и другое – современные политические концепции). Доктрину, трактующую нацию как ценность, подчиненную другим, более универсальным, не следует путать с теориями, абсолютизирующими нацию и национальную идентичность” [Janowski 2000]. Конечно, редкий исследователь данной проблематики не сетует на терминологические трудности: слишком неопределенны здесь понятия и слишком разнородна та реальность, которую они описывают. И терминологические реформы, и следование сложившимся конвенциям чреваты как приобретениями, так и издержками. Однако нельзя не согласиться с Яновским в том, что утрата либералами интереса к “национальной идее” была во многом обусловлена тем обстоятельством, что им стало трудно конкурировать с “новыми националистами” за массовую поддержку. Трансформация национализма действительно оказалась одним из факторов политического кризиса либерализма. С конца 1920-х годов отношения между либерализмом и национализмом заметно охладели, и “векторы” их эволюции развернулись в разные стороны. Попытки реализовать принцип самоопределения наций на Парижской мирной конференции (в той форме, в какой это оказалось возможным) не привели к прекращению конфликтов, а напротив, посеяли семена новой войны. Во многих странах национализм порвал с гуманистическими традициями и реализовался в чудовищных формах шовинизма, ксенофобии, фашизма и нацизма, которые не могли не вызывать отвращение. Наконец, на протяжении большей части ХХ в. либерализм в странах Запада развивался, имея в качестве главной антитезы концепт тоталитаризма, а потому всячески акцентировал свое принципиальное несогласие с любыми формами коллективистской идеологии. Послевоенный либерализм жестко придерживался универсалистского подхода и стремился формулировать свои принципы безотносительно к цвету кожи, расе, полу и религии. Этнические различия внутри государства стали интерпретироваться по аналогии с различиями конфессиональными: перед законом все равны, а этническая и культурная принадлежность – частное дело граждан. В силу всех этих факторов либерализм и национализм все больше стали восприниматься как противоположные друг другу системы идей. Вместе с тем, основываясь на результатах нашего исследования, можно высказать несколько дополнительных соображений относительно причин постепенного охлаждения либералов к “национальной идее”. Первое из них касается склонности либерализма заявлять свои принципы в качестве универсальных. В действительности, как уже говорилось, данные принципы мыслятся универсальными лишь в перспективе. Отсюда – огромная роль концепции прогресса в либеральной 15 16 теории XIX в. Это воистину стержень всей конструкции: применение универсальных принципов ограничено системой оговорок, но последние не кажутся дискриминационными, ибо предполагается, что со временем они будут сняты. Поскольку привлекательность либеральных принципов обусловлена именно их универсальностью, об ограничениях либералы предпочитают говорить уклончиво, избегая четких формулировок. Просто удивительно, сколь многих “неудобных” вопросов не задавали себе либеральные мыслители, рассматривавшие «национальный вопрос». Второе соображение связано с механизмом “работы” политических идей, функционирующих в качестве средства мобилизации коллективных действий. Склонная к умеренности и респектабельности, апеллирующая к просвещенному мнению экспертов, либеральная теория формулировала свои принципы в отношении наций “на полутонах”. Но такие формулировки едва ли могли служить основой для успешной массовой мобилизации. Будучи заинтересован в упрочении социальных уз, уравновешивающих крайности проповедуемого им индивидуализма, либерализм вынужден отдавать функцию конструирования таких уз собственным оппонентам. Сам он способен в лучшем случае лишь корректировать националистический дискурс. Весьма примечателен в этом отношении приводимый ниже фрагмент из переписки Дж.С.Милля и А.де Токвиля, солидарных в признании опасности индивидуализма и необходимости поддержки “социальных чувств”. Осенью 1840 г. вследствие столкновения интересов на Ближнем Востоке Англия и Франция оказались на грани войны. В своих письмах к Миллю Токвиль выражал глубокое удовлетворение тем патриотическим подъемом, который охватил Францию в дни кризиса. Позже, когда страсти уже улеглись, Милль счел возможным несколько охладить пыл своего французского корреспондента: “Я часто в последнее время вспоминал довод, который Вы приводили в оправдание поведения либеральной партии в ходе последней ссоры между Англией и Францией: чувство национальной оргии – единственное проникнутое общественным духом и возвышающее чувство, которое еще осталось, и нельзя позволить ему угаснуть. Увы, с каждым днем становится все яснее, насколько это верно: сейчас видно, что любовь к свободе, к прогрессу, даже к материальному благополучию во Франции – лишь временные, несущественные моменты, находящиеся на поверхности национального сознания, и что единственный призыв, который действительно достигает сердце Франции, – пойти наперекор чужакам... Я полностью согласен с Вами, что во Франции сейчас это единственное чувство, которое разделяется всеми и имеет публичный, а следовательно, не связанный с личной выгодой характер, и что оно не должно пропасть. Желание сиять в глазах иностранцев и получать их высокую оценку следует всеми силами поощрять и поддерживать... Но во имя Франции и цивилизации последующие поколения вправе ожидать от людей, подобных Вам, от благородных и просвещенных умов нашего времени, чтобы они внушали своим соотечественникам более высокие идеи относительно того, что составляет национальную славу и национальную значимость”. На самом деле, величие нации “зависит от промышленности, воспитания, морали и хорошего правления страной – лишь благодаря этим качествам можно заставить соседей себя уважать или даже бояться” [Mill 1963: 536-537]. Разумеется, либеральная элита должна неустанно напоминать своим согражданам об этом обстоятельстве, и ее призывы могут быть действенны (в особенности если они работают на повышение самооценки нации). Но она едва ли может справиться с функцией воспитания “общественного духа” в одиночку. 16 17 И третье. Как отмечалось выше, формирование “связок” идей в значительной степени обусловлено характеристиками потенциальных субъектов политического действия, которым адресованы соответствующие идеи. В рассматриваемом нами случае тема была слишком щекотливой, чтобы можно было полагаться на заранее декларированные принципы; не случайно либеральные теоретики «национального вопроса», были гораздо последовательнее в приложении своих идей к “чужим” государствам, нежели к своим собственным. Излишняя интеллектуальная решимость могла скорее повредить им в глазах общественного мнения, нежели принести пользу. Означает ли это, что возможность включения “идеи нации” в либеральную политическую теорию была заведомо нереализуема и что возврат “к пройденному” невозможен? По-видимому, было бы неверным ответить на этот вопрос однозначно утвердительно. В принципе, при наличии субъекта социального действия, испытывающего потребность в присоединении данной опции к имеющемуся “пучку смыслов”, обращение к “идее нации” могло бы иметь некоторые шансы на успех. Но поскольку идеологии действуют в сложных коммуникативных полях, осуществление когда-то не состоявшихся возможностей в дальнейшем во многом зависит от инерции восприятия, от того, какое место в идеологическом спектре оказалось отведено тем или иным идеям. И то, что “национальная идея” по воле истории была приписана по ведомству правых, консервативных и даже реакционных сил, в настоящее время, безусловно, является серьезным препятствием для “освоения” ее либералами. Впрочем, это не мешает последним вновь начать экспериментировать с проблемами, вытекающими из “идеи нации”. В последние годы в появился целый ряд работ, в которых предпринимаются попытки ввести ценности, характерные для национализма, в либеральный дискурс [Kymlicka 1989, 1995, Raz 1994, Tamir 1995, Miller 1995, Canovan 1996 и др.]. Как сформулировала цель этих усилий израильский философ Й.Тамир, “либералы должны задать себе вопрос, имеют ли национальные убеждения значение для их способов мышления, для их ценностей, норм и моделей поведения, для их представления о социальной справедливости и для практической политики, которую они поддерживают” [Tamir 1995: 3-4]. Разработка концепций либерального национализма и мультикультурализма оказалась в русле общей тенденции в развитии западной политической философии в конце ХХ в., обусловленной актуализацией проблемы различий – национальных, культурных, гендерных, расовых и религиозных. Стало очевидно, что несмотря на мощные интегративные тенденции, универсализм в эпоху постмодерна не вытесняет партикуляризма. Однако это уже тема отдельного исследования. ______________________________ Валлерстайн И. 2001. Непреодолимые противоречия либерализма: права человека и права народов в геокультуре современной миросистемы. – Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб. Гердер И.Г. 1977. Идеи к философии истории человечества. М. Государственная Дума. Третий созыв. 1908 – 1912. Стенографические отчеты. СПб. Дробижева Л.М. 2000. Возможность либерального этнонационализма. – Реальность этнических мифов. М. Здравомыслов А.Г. 1999. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. М. Коротеева В.В. 1997. Существуют ли общепризнанные истины о национализме? – Pro et contra, № 3. Мадзини Дж. 1917. Обязанности человека. М. 17 18 Малахов В.С. 2002. Культурный плюрализм: благое пожелание или работающая модель? – Куда идет Россия? Формальные институты и реальные практики. М. Малинова О.Ю. 1998. Либерализм в политическом спектре России. (На примере партии “Демократический выбор России” и общественного объединения “Яблоко”). М. Малинова О.Ю. 2000. Либеральный национализм (середина XIX – начало ХХ века). М. Малинова О.Ю. 2001. Когда “идеи” становятся “идеологиями”: К вопросу об изучении “измов”. – Философский век. Вып. 18. Ч. 2. СПб. Малинова О.Ю. 2002. Идея нации в интерпретации либералов и консерваторов. – Эволюция консерватизма: европейская традиция и русский опыт. Самара. Масарик Т.Г. 1926. Мировая революция. Воспоминания. Прага. Матвеева С.Я. 1996. Возможность нации-государства в России: попытка либеральной интерпретации. – Полис, № 6. Матвеева С.Я. 1997. Национальные проблемы России: современные дискуссии. – Общественные науки и современность, № 1. Миллер А.И. (ред.) 1999. Нация и национализм. М. Милль Дж.С. 1980. Основы политической экономии. М. Милюков П.Н. 1925. Национальный вопрос: (происхождение национальности и национальные вопросы в России). Б.м. Ренан Э. 1902а. Что такое нация? – Ренан Э. Сочинения. Т. 6. Ч. II. Киев. Ренан Э. 1902б. Современные вопросы и реформа Франции. Киев. Руссо Ж.Ж. 1969. Трактаты. М. Соловьев В.С. 1989. Национальный вопрос в России. – Соловьев В.С. Сочинения. Т.1. М. Струве П.Б. 1914. Великая Россия и Святая Русь. – Русская мысль, № 2. Струве П.Б. 1997. Patriotica. Политика, культура, религия, социализм. М. Acton J.E.E. 1948. Nationality. – Acton J.E.E. Essays оп Freedom and Power. Boston. Agassi J. 1999. Liberal Nationalism for Israel: Towards an Israeli National Identity. Jerusalem, N.Y. Bagehot W. 1974. The Collected Works of Walter Bagehot. Vol. 8. L. Canovan M. 1996. Nationhood and Political Theory. Cheltenham. Greenfeld L. 1992. Nationalism. Five Roads to Modernity. Cambridge, Mass. Hosbawm E. 1992. Nations and Nationalism Since 1780. Programme, Myth, Reality. Cambridge. Janowski M. 2000. Wavering Friendship: Liberal and National Ideas in Nineteenth Century East-Central Europe. – Ab Imperio, № 3-4. Kohn H. 1962. The Age of Nationalism. The First Era of Global History. N.Y. Kymlicka W. 1989. Liberalism, Community, and Culture. Oxford. Kymlicka W. 1995. Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford. Kymlicka W. 2001. Western Political Theory and Ethnic Relations in Eastern Europe. – Kymlicka W., Opalski M. (eds.) Can Liberal Pluralism be Exported? Western Political Theory and Ethnic Relations in Eastern Europe. Oxford. Mazzini G. s.a. Essays: Selected from the Writings, Literary, Political, and Religious. L. Menta U.S. 1990. Liberal Strategies of Exclusion. – Politics and Society, № 4. Mill J.S. 1963. Earlier Letters. Collected Works. Vol. 12-13. Toronto. 18 19 Mill J.S. 1972. Later Letters. Collected Works. Vol. 14-17. Toronto. Mill J.S. 1977. State of Society in America. – Mill J.S. Essays on Politics and Culture. Collected Works. Vol. 18. Toronto. Mill J.S. 1980. Coleridge. – Mill on Bentham and Coleridge. Cambridge, etc. Mill J.S. 1985. Vindication of the French Revolution of February 1848. – Mill J.S. Essays on French History and Historians. Collected Works. Vol. 20. Toronto. Mill J.S. 1991. Considerations on Representative Government. N.Y. Miller D. 1995. On Nationality. Oxford. Plamenatz J. 1973. Two Types of Nationalism. – Kamenka E. (ed.) Nationalism. The Nature and Evolution of an Idea. L. Raz J. 1994. Multiculturalism: A Liberal Perspective. – Dissent, Winter. Ruggiero G. 1966. The History of European Liberalism. Boston. Seton-Watson H. 1977. Nations and States. An Inquiry into the Origins of Nations and the Politics of Nationalism. L. Smith A. 1995. Nations and Nationalism in a Global Era. Cambridge. Tamir Y. 1995. Liberal Nationalism. Princeton. Wallerstein I. 1995. Liberalism and the Legitimation of Nation-States: An Historical Interpretation. – Wallerstein I. After Liberalism. N.Y. Walzer M. 1997. On Toleration. New Haven, etc. Wilson W. 1918. The Four Principles of Peace. Address to Congress, February 11, 1918. – War Addresses of Woodrow Wilson. Boston, etc. Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 00-03-00-390а) 19