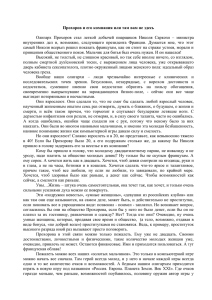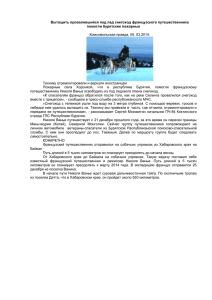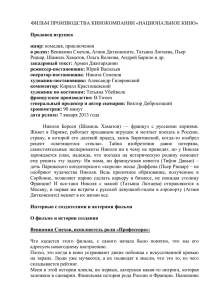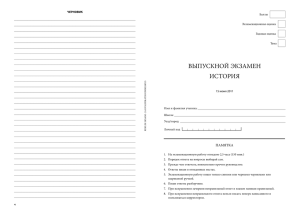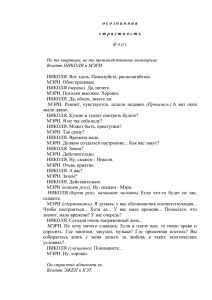Aлександр Aстров
реклама
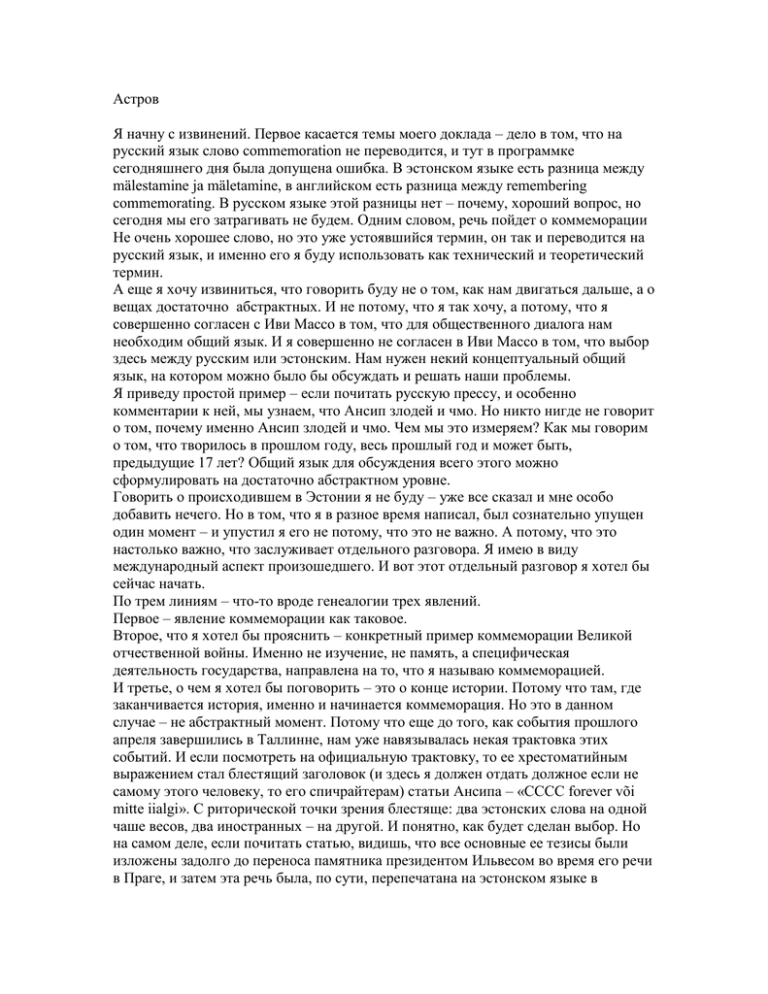
Астров Я начну с извинений. Первое касается темы моего доклада – дело в том, что на русский язык слово commemoration не переводится, и тут в программке сегодняшнего дня была допущена ошибка. В эстонском языке есть разница между mälestamine ja mäletamine, в английском есть разница между remembering commemorating. В русском языке этой разницы нет – почему, хороший вопрос, но сегодня мы его затрагивать не будем. Одним словом, речь пойдет о коммеморации Не очень хорошее слово, но это уже устоявшийся термин, он так и переводится на русский язык, и именно его я буду использовать как технический и теоретический термин. А еще я хочу извиниться, что говорить буду не о том, как нам двигаться дальше, а о вещах достаточно абстрактных. И не потому, что я так хочу, а потому, что я совершенно согласен с Иви Массо в том, что для общественного диалога нам необходим общий язык. И я совершенно не согласен в Иви Массо в том, что выбор здесь между русским или эстонским. Нам нужен некий концептуальный общий язык, на котором можно было бы обсуждать и решать наши проблемы. Я приведу простой пример – если почитать русскую прессу, и особенно комментарии к ней, мы узнаем, что Ансип злодей и чмо. Но никто нигде не говорит о том, почему именно Ансип злодей и чмо. Чем мы это измеряем? Как мы говорим о том, что творилось в прошлом году, весь прошлый год и может быть, предыдущие 17 лет? Общий язык для обсуждения всего этого можно сформулировать на достаточно абстрактном уровне. Говорить о происходившем в Эстонии я не буду – уже все сказал и мне особо добавить нечего. Но в том, что я в разное время написал, был сознательно упущен один момент – и упустил я его не потому, что это не важно. А потому, что это настолько важно, что заслуживает отдельного разговора. Я имею в виду международный аспект произошедшего. И вот этот отдельный разговор я хотел бы сейчас начать. По трем линиям – что-то вроде генеалогии трех явлений. Первое – явление коммеморации как таковое. Второе, что я хотел бы прояснить – конкретный пример коммеморации Великой отчественной войны. Именно не изучение, не память, а специфическая деятельность государства, направлена на то, что я называю коммеморацией. И третье, о чем я хотел бы поговорить – это о конце истории. Потому что там, где заканчивается история, именно и начинается коммеморация. Но это в данном случае – не абстрактный момент. Потому что еще до того, как события прошлого апреля завершились в Таллинне, нам уже навязывалась некая трактовка этих событий. И если посмотреть на официальную трактовку, то ее хрестоматийным выражением стал блестящий заголовок (и здесь я должен отдать должное если не самому этого человеку, то его спичрайтерам) статьи Ансипа – «СССС forever või mitte iialgi». С риторической точки зрения блестяще: два эстонских слова на одной чаше весов, два иностранных – на другой. И понятно, как будет сделан выбор. Но на самом деле, если почитать статью, видишь, что все основные ее тезисы были изложены задолго до переноса памятника президентом Ильвесом во время его речи в Праге, и затем эта речь была, по сути, перепечатана на эстонском языке в журнале «Дипломатия». И там Ильвес формулирует идею предельно просто: он говорит, что мы живем в условиях коллапса неогегельянской мечты о безостановочном прогрессе либеральной демократии и мире во всем мире. Все бы хорошо, если бы это была идея самого Ильвеса. Но на самом деле это просто цитата – цитата из статьи, опубликованной в прошлом году Робертом Каганом, одним из ведущих американских неоконсерваторов, сейчас он уже выпустил книгу, которая так и называется – «Возвращение истории и конец мечты». Что представляет из себя эта доктрина, которая стала очередным модным поветрием в нашей внешней политике, как у нас уже было с концом истории, потом – со столкновением цивилизаций, а теперь вот с возвращением истории. В чем же суть этой концепции? Каган исходит из того, что экономическое и стратегическое господство Соединенных Штатов в современном мире настолько велико, что его не может оспорить ни одно отдельно взятое государство и ни один альянс суверенных государств. Но это не значит, что наступает конец истории как столкновение идеологий, потому что именно так понимает конец истории Фукуяма, это не значит, что завершились конфликты, просто конфликты принимают новую форму и теперь государства оспаривают превосходство Соединенных Штатов не в сфере стратегии и экономики, а в сфере престижа, уважения и влияния. И главными спорщиками в этом случае являются Россия и Китай. При этом, если посмотреть на них с этой точки зрения, становится ясно, что мире есть очень четкий разлом, это разлом между демократиями и автократиями, и поскольку этот разлом – опять-таки вопреки Фукуяме и согласно Кагану – разлом идеологический, то речь идет о возвращении истории. То есть возвращается не холодная война, а, по сути, ситуация 19 века. Этому тезису много чего можно противопоставить, но вместо того, чтобы бодаться с ним напрямую, я хотел бы немножко посмотреть на само понятие конца истории. Оно, на самом деле, старее, чем нам кажется. Первое упоминание чего-то вроде конца истории появилось аж в 1863 году, в работе известного французского философа, физика, экономиста Антуана Огюста Курно. Я процитирую оттуда небольшой отрывок: «Теперь уже можно мечтать о том, что скоро в газетах будут печататься только новые законы и новые правительственные назначения. Иными словами, уйдет в прошлое все то, что мы сегодня называем историей и что связано с непомерным индивидуальным рвением человека и сопутствующей ему непредсказуемостью. Теперь читатель будет взвешивать информацию с пером в руке подобно тому, как ученый взвешивает массу предметов или просчитывает движение часового механизма». Идея эта, типичная позитивистская идея, жила еще довольно долго – еще через сорок лет о ней писал один из учеников Курно и подавал в таком же плане. Но потом была первая мировая война, и она все изменила. Метафорой истории для Гегеля являются сложные отношения между рабом и господином. Но то, как Гегель понимает раба и господина, не имеет ничего общего, например, с эксплуатацией. Единственные отношения, которые интересуют Гегеля в данном случае, это отношения признания – непризнания. А раб и господин – эта два пути к самореализации и, в конечном счете, к свободе. Путь господина – это путь героического самопожертвования, который реализуется прежде всего в войне, а путь раба – это путь производительного творческого труда, дисциплины, лояльности и законопослушания. И вот если посмотреть на ситуацию в Эстонии после 1991 года в этих традиционных гегельянских категориях, то можно было бы, конечно, спекулятивно поиграться рассуждениями о том, что здесь сложилось нечто вроде традиционной ситуации раба и господина. Но не в смысле доминирования одной общины, или эксплуатации одной общины другой, а в том смысле, что эстонская часть общества эксклюзивно присвоила себе, во-первых, роль жертвы во времена Советского Союза, во-вторых, также эксклюзивно присвоила себе роль победителя в холодной войне, и отвела русской общине роль субъекта, который приглашается к свободе и реализации, но по другому пути. Про пути, который в нашем дискурсе называется путем натурализации. Я повторяю, имело бы смысл поиграться в такие интерпретации, но все дело в том, что и путь господина, и путь раба в равной степени являются тупиковыми. Они изжили себя, и это и есть конец истории, и причина этого одна – та, которую германский философ Фридрих Юнгер в то же самое время называет господством техники. Благодаря которому и господин, и раб становятся в равной степени обезличенными, бессильными перед господством технологии. Что касается национализма, то для этого понятия в истории есть отдельная личность, о которой говорят весьма солидные источники. Его звали Николя Шовен, он был капралом французской армии. И настолько рьяно любил Францию, французов, императора и французскую армию, что эта любовь приобретала гротескные формы, в результате чего Шовен стал объектом насмешек. И вот в таком смешливом негативном ключе в европейский дискурс вошло понятие шовинизм. В девяностые годы историки решили найти Николя Шовена и отправились в архивы. И выяснилось, что никакого Николя Шовена нет, а возможно, никогда и не было. Но есть совершенно четкий след во всей французской культуре этого понятия шовинизма и этого собирательного образа Николя Шовена, который на самом деле стал уже культурной моделью, зерном того французского национального мифа, который, по большей части, остается в таком дремлющем состоянии. Но в определенные моменты активизируется обществом. Так в чем же состоит суть вот этого французского национального мифа? Согласно этому национальному мифу Николя Шовен – это прежде всего солдат-труженик. Что странно – потому что это гегельянские господин и раб в одном флаконе. Как так? Но это имеет свое значение, потому что эта французская националистическая мифология, с одной стороны, отсылает к ранним античным сообществам, Древнему Риму и поздним Афинам, в которых каждый гражданин по долгу гражданина мог быть или воином, или землепашцем. Но самое главное, что этот образ отсылает к романтическому националистическому дискурсу межвоенного периода, когда Николя Шовен рассматривается как единственный легитимный гражданин Франции - почему? Потому что он возделывает эту землю своим плугом, но самый верхний и самый плодородный слой этой земли – останки его боевых товарищей, с которыми рядом еще несколько лет назад он орудовал не плугом, а штыком. Взаимозаменяемость штыка и плуга, то, что в германском дискурсе потом превращается в почву и кровь, и в основу фашизма – вот это суть Николя Шовена. Это то, что было превращено в межвоенные годы во Франции в замечательный, очень стилизованный язык Борреса и Марраса. И это, кстати, имеет отношение ко всем нам. Потому что этот язык, язык родной почвы, удобренной костями предков, слышен практически во всех речах Леннарта Мери – если их внимательно перечитать. И благодаря самому Леннарту Мери мы знаем, что он сам отводил колоссальное значение своему детству, проведенному в Париже, и когда мы об этом думаем, мы представляем себе такой идеализированный довоенный Париж. Между тем детство Леннарта Мери прошло в другом Париже, в Париже, языком которого был другой язык – язык пахаря, который завтра, если надо, станет воином. И наоборот. И это и есть язык классического национализма. Но если вы послушаете, что говорят Ансип и Пихль, если вы послушаете внимательно, вы поймете, что эти товарищи на этом языке говорить не могут. Он им недоступен. Это то, что имел в виду Мери, когда в своей последней речи перед парламентом он говорил, что из-за своего раннего приобщения к европейской культуре в Париже он для многих в Эстонии всегда оставался чужим, и что многие в Эстонии его никогда не понимали, а многие – никогда и не поймут. Вот среди тех, кто не способен понимать этот язык, в равной мере находятся и Ансип, и Пихль, и позволю себе сказать, Путин. Потому что это язык не Николя Шовена, это язык юнгеровского рабочего. И здесь я не могу удержаться от коротенькой цитаты, потому что может показаться, что рабочий – это что-то такое безобидное, но Юнгер в 1955 году, уже после войны, в своей статье, посвященной юбилею Мартина Хайдеггера, четко пишет: «Даже в тех местах, где такого рода персонаж обнаруживает свои самые жуткие черты, например, в местах физического уничтожения огромного количества людей, во всем господствует рассудительность, гигиена и строгий порядок». Вот язык, вот modus operandi рабочего. И дальше Юнгер пишет о том, что «Он может быть очень спортивен, очень закален, а единственное его отличие от атлетов прошлого может быть в том, что такие титаны исходят из мира, где крайне возросла осмотрительность, и где стараются избежать даже сквознячка. В государстве всеобщего благоденствия – со страхованием, больничными кассами, социальным обеспечением и наркозом возникают типы, кожа которых кажется задубевшей, а мышцы – стальными». Это типы, которые очень похожи на атлетов, и которые готовы перенести единую парадигму действия, в том числе, и на производство. И, как пишет Юнгер, «схема переносится также в цеха, где она порождает героев, которые перевыполняют норму 1913 года в двадцать раз». Это написано в Германии в 1955 году, но это тот же самый язык, что был в Советском Союзе при Брежневе. И именно по этой причине уже в 1955 году Юнгер пишет, что, несмотря на все различия между формами правления по обе стороны железного занавеса, по стилю правления два блока идентичны друг другу, потому что они административно-бюрократические. Они технократические, они не понимают политики. Вот то, с чем мы столкнулись в прошлом апреле. И буквально два слова – сначала о коммеморации. А затем – о коммеморации Великой отечественной войны. Здесь я позволю себе сэкономить время, отослав интересующихся темой к свежему номеру журнала Vikerkaar, где все это подробнейшим образом описано – правда, на эстонском языке. Об этом много писал французский историк Пьер Мора, позиция которого заключается в следующем: традиционно национальное государство конструирует свою общественную сферу исторически. Но для этого историческое сознание должно соответствовать четырем параметрам. Во-первых, история должна быть линейная, то есть это должна быть только одна история на одно национальное государство - иначе не будет единой общественной сферы. Во-вторых, она должна быть непрерывная, то есть в ней не должно быть лакун. Она должна быть прогрессивная, то есть народ должен иметь ощущение, что он на верном пути. И в четвертых, история данного народа должна вносить свой вклад в копилку человечества, то есть это должна быть цивилизаторская миссия, иначе история не работает. Но вот когда во Франции все это рухнуло – после Первой мировой войны, Второй мировой, колониальных войн и так далее, что становится общественной сферой? А в общественную сферу на место ушедшей истории хлынула память. Коллективная память отдельных групп. В чем отличие памяти от истории? Отличие памяти от истории в том, что память не оперирует фактами. Пеэтер Тульвисет в свое время писал – и правильно писал – что есть история, которой учат в школе, и домашняя история, которой учат дома, эстонская, правильная. Только он забыл сказать, что домашняя история – это не история, это память. Потому что дома вам не дают ссылки на источники, дома вам просто рассказываю историю, которую вы принимаете на веру. А вот когда эти памяти начинают сталкиваться, потому что то, что находилось раньше на единой плоскости, оказывается вдруг на оси времени, и тогда ландшафты приходят в движение, как может государство, утратившее свой политический арсенал, на это ответить? Ведь ему надо поддерживать единую общественную сферу! И вот тогда государство начинает администрировать и прошлое. Не рассказывать историю, а заниматься менеджментом прошлого, и вот это называется коммеморацией. Вы все знаете, как это происходит в Эстонии, поэтому два слова о том, как это происходит в России. На одном примере – на примере слова, которое сейчас в Эстонии знают даже те, кто не знает русский язык или не хочет его знать: наши. Подумайте: это слово сопутствует рождению Советского Союза – мы наш, мы новый мир построим. С одной стороны – наш, с другой – новый, но с третьей – глобальный. Без этого коммунизм и Советский Союз были бессмысленны. Но что происходит после ХХ съезда партии, когда отчасти признаются грехи Сталина? Одновременно устанавливается доктрина мирного сосуществования двух систем. Фактически Советский Союз отказывается от своих глобальных универсальных претензий. Это очень четко видят в Пекине, из-за этого начинается, по сути дела, холодная война между Пекином и Москвой, и в то время, когда французские коммунисты во Франции только подумывали о том, а не отказаться ли им от идеи классовой борьбы в своем уставе (выдающийся французский неомарксист Альтюссер говорил, что это будет равносильно тому, чтобы продать свою душу), то же самое происходит в Советском Союзе, и вот в этот момент начинается мумификация Второй мировой войны. Как компенсаторная мера. Мне не очень приятно об этом говорить, но кто-то должен об этом сказать: есть такой миф, повторяемый всеми от Линнара Приймяги до местных русских активистов, что Великая Отечественная война – это что-то священное, и так было всегда. Да не было так всегда! Ветераны уже в 1948 году, как только закончилась демобилизация их в мирную жизнь, были лишены Сталином всех привилегий и любого особого статуса. Звание города-героя появилось в Советском Союзе только в 1965 году. Ветеранские организации появились только в 1968 году. Весь культ Отечественной войны, это, по сути, брежневский культ. И создавался он потому, что то была эпоха застоя, у государства больше не было ни способности к политике, ни политических инструментов, и нужен был симулякр политики. Вот эту роль Великая отечественная война и играла. И вот поэтому она играет такую роль и сейчас – потому что мы живем не в условиях столкновения демократии и автократии, а потому что в России, на мой взгляд, сегодня просто новый брежневизм. И с этой точки зрения – с моей точки зрения – реформист Ансип, социал-демократ Пихль и до недавнего времени беспартийный Путин – члены одной партии. И наша проблема, наша задача заключается в том – и это сложная задача, - как противостоять им всем. И вот это самое сложное, потому что это равнозначно тому, о чем говорил Батай – выстраивать свою политику исходя из невозможности политики как таковой.