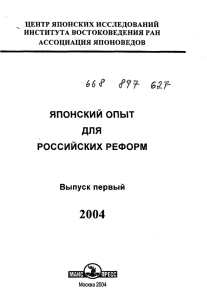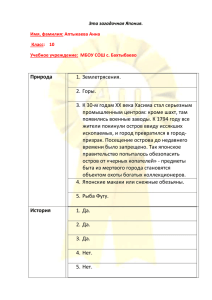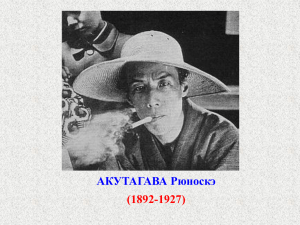улейме.. - Школа региональных и международных
реклама

А. М. Сулейменова, доцент, Школа региональных и международных исследований Лекция (Серия Межкультурные коммуникации и японская литература нового времени)1 Японские писатели и поэты о Китае В двадцатых-тридцатых годах прошлого века между японскими и китайскими писателями и поэтами оживились творческие контакты, которые привели к небольшому «Ренессансу» в отношениях двух крупнейших восточноазиатских культурах. К сожалению, этот «Ренессанс» был краток и более не возобновился по политическим и идеологическим причинам. Между тем, опыт культурного и литературного сотрудничества представителей стран-соседей России будет небезынтересен исследователям, изучающим историю искусства Дальнего Востока и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В научной литературе, описывающей японо-китайские связи 1920– 1930-х годов, часты упоминания о встречах японских писателей, посещавших Китай в это время, но только монографии Джошуа Фогеля и Кристофера Кэвенера наиболее полно представляет круг общения литераторов двух стран [Fogel, 1995; Keavener, 2010]. Особенно интересен опыт общения японских и китайских авторов, знакомых с владельцем небольшого книжного магазина Утияма Кандзо (1885–1959). Утияма Кандзо, основатель сети книжных магазинов, распространявших в Китае издания на японском языке, был человеком поистине гуманистического склада и познакомился со множеством китайских писателей. В частности, он подружился с писателем Лу Синем (1881–1936), поэтом и драматургом Го Можо (1892–1978). Благодаря его деятельности и работе книжного магазина в Шанхае многие китайцы смогли читать произведения прогрессивных японских писателей в своей стране. 1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Дальневосточного федерального университета. Программа «Научный фонд». Проект «Проблемы современной японской литературы и литератур Восточной Азии». № 12-05-04110-01. Интерес китайских интеллектуалов в начале ХХ века к японской культуре и литературе был вызван близостью двух культур (в первую очередь, близостью письменной культуры), а также японским опытом модернизации литературной жизни. Приезжавших учиться в Японию молодых талантов привлекала специфическая атмосфера вокруг японских литературных обществ и журналов, выпускавшихся этими обществами, социальным статусом писателя в Японии, чего не было в Китае поздне-циньского периода. Выучившие японский язык, многие китайские авторы познакомились с творчеством японских писателей, как знаменитых, так и не совсем. Ориентируясь не на европейскую литературу, а на японскую, близкую им по духу, китайские реформаторы литературного языка задумывали перемены в собственном литературном творчестве. Этот интерес к литературе соседней страны китайские писатели и поэты пронесли на протяжении многих лет. Лу Синь, например, был увлечен работами прозаика Нацумэ Сосэки (1867–1916) в области малых жанров – эссе и «малой прозой» («сёхин»). Нацумэ Сосэки (1867–1916) в 1909 г. посетил Китай и оставил в заметках «Там и тут. По Маньчжурии и Корее» («Манкан токородокоро», 1909) свои впечатления о стране. Осенью 1909 г. Нацумэ Сосэки принял предложение газеты «Асахи симбун» совершить поездку по Маньчжурии и составить впечатление о Китае в серии статей. Хотя Сосэки не был расположен путешествовать, его интересовали места, которые японцы выиграли в войне против русских. Для этих заметок характерна некоторая отстранённость от происходящего, в заметках часты такие выражения, как «движутся, как муравьи», «толпа, похожая на муравейник», «гудит», характеризовавшие общее впечатление о китайцах, резко контрастировавшее с образами японцев. Особенно потряс Сосэки вид тружеников-кули, таскавших в полном молчании тяжелые грузы на третий этаж склада в Даляне, и о которых он писал следующее: «Их молчание и размеренность движений, терпение и аккуратность показались мне тенью самой судьбы. Пока я стоял и смотрел на них, я боролся с поразительно жутким чувством» [Сосэки, 1966. С. 257-258]. Японский писатель не избежал дискриминационного тона в своих записках в отношении китайцев, называя их уничижительным «Чан» (сокращение от обидного для китайцев «Чанкоро» 2 . Но, вчитываясь в заметки писателя, обнаруживаешь, что это обращение Сосэки относил и к себе, словно сравнивая себя с простыми китайцами вокруг. Действительно, многие японские писатели и поэты в начале ХХ века, в промежуток между войнами – русско-японской (1904–1905) и второй мировой на Тихом океане (1939–1945) много путешествовали по Китаю и опубликовали путевые заметки о путешествии, встречах с китайцами и свое мнение о них. Американский ученый Джошуа Фогель полагает эти поездки своего рода «новым открытием Китая» [Fogel, 1996]. Причем, можно все эти путевые заметки разбить на две группы: 1) ранние, до 1937 г., до начала агрессии Японии в Китае и боевых действий; 2) поздние, когда японские писатели путешествовали большей частью в пропагандистских целях. К ранним путевым дневникам, в которых японские деятели искусств и литературы описывают Китай, помимо упомянутых путевых заметок Нацумэ Сосэки, следует отнести и изученные ранее корреспонденции Ёсано Тэккана (1872–1935) и Ёсано Акико (1878–1942) «Из Парижа» («Пари ёри», 1912) [Fogel, 1995; Сулейменова, 2013]. С марта по июнь 1921 г. редакция «Осака майнити симбун» посылала специального корреспондента брать интервью у нескольких деятелей культуры Китая в Шанхае. Этим корреспондентом был писатель Акутагава Рюноскэ (1892–1927). Ему не было и тридцати. Он состоял в штате газеты около двух лет, но он уже заслужил славу замечательного прозаика, поэтому ему предоставили возможность интервьюировать китайских политиков, критиков и писателей – знаменитых Чжан Бинлинь (1868–1936), Чжэн Сяосюй (1860–1938), некоего левого социалиста Ли Жэнцзе «Чанкоро» – слово, вошедшее в обиход после захвата Японией Тайваня. На тайваньском диалекте звучит, как chheng-kok-lô (清国奴), букв. «циньский отщепенец». 2 и контрреволюционного политика Гу Хунминг (1858–1928)3 . Редакция хотела представить своим читателям картину Китая, который проводит реформы «4 мая». Из всех, у кого Акутагава брал интервью, больше всего его привлек молодой Ли. Может быть, потому что тот говорил на беглом японском, он ведь учился в Японии и читал романы Акутагава, но и потому также, что писатель почувствовал в юноше силу правоты нового Китая. Писатель также был в восторге от путешествий по окраинам китайских городов, он говорил, что прожил бы в Пекине года два или три. Тем не менее, в его корреспонденциях отражена реальная обстановка Китая двадцатых годов – грязь, болезни, невыносимый запах, или, как сам Акутагава выражался, «особенностями этих мест являются новые идеи и тиф» [Акутагава, т. 3, с. 284–291]. Среди произведений, навеянных путешествием Акутагава в Китай, есть рассказ «Складной веер Хунани» («Конан–но оги», 1926), в котором автором прочувствована атмосфера хладнокровных китайских мужчин и отчаянных китайских женщин. В трудное время второй половины двадцатых годов, когда японский империализм окреп, ему потребовались новые территории, этими территориями оказались Китай и Корея. Пользуясь экономической и политической слабостью китайских властей – сначала республиканского Китая, потом Гоминьдана, японские власти начали продвижение вглубь азиатского континента. Путешествовавший по Китаю в 1918 г. молодой писатель Танидзаки Дзюнъитиро (1885–1965) в 1926 г. совершил еще одно путешествие, в ходе которого не узнал страны, по которой ездил восемь лет назад. Чтобы представить изменения, происшедшие с Китаем за этот период, обратимся к истории открытия в Шанхае книжного магазина Утияма Кандзо, Гу Хунмин, иначе Гу Таншэн, китайский мыслитель, публицист, литератор, владевший европейскими языками (перевел на английский «Лунь Юй»), состоял в переписке с Львом Толстым, автор упоминаемой и написанной на английском книги заметок «История китайского оксфордского движения» («Story of a Chinese Oxford Movement», 1911), переведенной Р. Вильгельмом на немецкий язык под названием «Защита Китая от европейских идей» («Chinas Verteidigung gegen westliche Ideen»). 3 упомянутого нами ранее. Этот магазин был открыт в 1913 г., когда молодой японец-христианин Утияма Кандзо приехал в Китай в почти миссионерских целях пропагандировать прозападные и прояпонские идеи в Китае. С течением времени книжная сеть «Утияма сётэн» стала своего рода посредником между китайскими читателями и японскими авторами. Сам же хозяин магазина в Шанхае и его филиалов по стране приобрел репутацию гостеприимного хозяина, готового приютить любого китайца, интересующегося японскими книгами и журналами, и, естественно, японского писателя, удовлетворяющего свой интерес к Китаю. Таким человеком оказался Танидзаки, в январе-феврале 1926 г. прибывший в Шанхай. Танидзаки попросил Утияма свести его с набиравшими известность и в Японии писателями, драматургами и поэтами Го Можо, Тянь Хань (1898– 1968), Оуян Юйцянь (1889–1962), Се Люи (1900–1945). Японский писатель узнал о китайских переводах японской классики и современной литературы, выполненных этими авторами, поэтому так живо настаивал на встрече. Встреча деятелей двух культур прошла, по описанию Танидзаки, тепло, хотя в начале чувствовалась некоторая отстранённость, которую японец не вполне понимал, между тем, китайские писатели представляли разные стороны литературного сообщества в Китае. Го Можо выступал в диспуте с пекинской группой, во главе которой был Лу Синь, но Танидзаки в своих записках ни разу не упомянул имени Лу Синя. Иными словами, японский гость довольно поверхностно воспринимал происходящее, что вполне объяснимо. Удивило гостя также то, что все китайцы, с которыми ему удалось свидеться в Шанхае, прекрасно говорили по-японски. Это также объяснимо, многие китайские писатели учились в Японии. Сплотил всех присутствующих вопрос Танидзаки, какие литературные произведения его родины переведены на китайский язык. Оказалось, что уже сейчас можно перечислять переводы безостановочно, интерес к Японии как стране с общими культурными ценностями оказался высоким. На следующей за приемом вечеринке один из китайских хозяев запел совершено без акцента японскую песню. В ответ на щедрый прием, оказанный китайскими писателями подвыпивший Танидзаки произнес (как он сам признавался позже, неожиданную для себя самого) речь-панегирик китайским коллегам: «Новое артистическое движение развивается сейчас в Китае. Писатель из соседней с Китаем страны, я никак не мог себе представить подобного поразительного собрания, поэтому благодарю вас за это. К тому же, сегодняшнее собрание – собрание простых, молодых людей безо всяких церемоний, какая атмосфера настоящей свободы! Когда я был молодым, я тоже собирал таких же молодых, неоперившихся, писателей. Посмотрел на вас, и мне вспомнились старые наши застолья. Я еще не стар (Тут последовал такой взрыв смеха, что переводчику пришлось подождать, пока все успокоятся). Никто в японском литературном мире не думает, что я заслуживаю такого приема. Когда вернусь домой и расскажу о своих впечатлениях о путешествии, мои коллеги будут без сомнения удивлены…. Японские писатели тоже делятся на группировки, и меня, возможно, будут критиковать за то, что выступаю сейчас их представителем. Поэтому позвольте поблагодарить вас только от себя лично» [Танидзаки, Т. 10. С. 590– 591]. В этой речи японского писателя выражено все восхищение, которое питала прогрессивная общественность к становящемуся классу творческой интеллигенции Китая. Вернувшись к себе, Танидзаки попросил Утияма Кандзо познакомить с китайскими талантами своего протеже в литературе поэта и писателя Сато Харуо (1892–1964). Последний задолго до своего приезда в Китай уже познакомился с начинавшим поэтом Юй Дафу (1896–1945), учившегося в Японии. Позже с помощью Утияма он смог возобновить свою дружбу с поэтом, близким Сато по духу. Юй Дафу в первое время много учился у Сато Харуо, о чем говорят его некоторые работы. В частности, К. Кэвенер анализирует общность и отличие повести Сато Харуо «Печаль полей» (Дэнъэн–но юуцу», 1919) и повести Юй Дафу «Погружение на дно» («Чэнлун», 1921) [Keavener, 2010]. На примере дружбы-вражды Сато Харуо можно проследить изменения в отношениях между японскими и китайскими писателями. Сато Харуо с женой и племянницей посетил в 1927 г. – в мае северный Китай, в октябреноябре – Шанхай, который японцам показывал Юй Дафу, теперь уже «старый» знакомый Сато по Японии. Тогда дружба необычайно сильно укрепилась. Но в 1938 г. уже под воздействием всеобщей атмосферы «сильной Японии», покоряющей Азию, Сато Харуо напишет рассказ «Дитя Азии» («Адзиа–но ко»)4, в котором главным героям – китайским диссидентам в Японии, придаст черты Юй Дафу и Го Можо, соответственно. Рассказ заканчивается всеобщим примирением под японскими знаменами. Подобная типично пропагандистская работа окончательно подорвала отношения доверия между двумя авторами. В ответ Юй Дафу напишет эссе «Японские литераторы и шлюхи» («Жибэнь дэ вэньши юй чанфу», 1938), в котором подвергнет обструкции позицию Сато и других японских писателей. В другом эссе 1939 г. «Японская оккупация, война и писатели» («Жибэнь дэ циньлюэ чжанчжан юй цзуоцзя») Юй Дафу поделит японских писателей на три типа: 1) отстранившихся от реальности и погрузившихся в «искусство ради искусства», к таким он отнёс Сига Наоя (1883–1971) и Танидзаки Дзюнъитиро, в годы открытой интервенции Японии на материке замкнувшихся в «своей скорлупе»; 2) тех, кто из левых перекочевал к правым; 3) откровенно правых писателей, и сюда он отнес Сато Харуо и Хаяси Фумико (1903–1951) [Keavener. 2010]. Между тем, как Сато Харуо, пытавшийся встретиться с Юй Дафу и объясниться, так и Хаяси Фумико, плывшая по течению пропагандистской истерии, просто не получили шанса обсудить с китайскими визави расхождения в идеологической и политической сути происходящего. Хаяси Фумико, о которой писалось в ряде недавних работ [Сулейменова, 2013; 4 Изначально «Дитя Азии» готовился как сценарий фильма, поэтому в нем так сильно идеологическое начало. Сулейменова, 2014], участвовала в деятельности отряда журналистов «пэнбутай» (букв. «подразделение пера») в освещении событий под Ханькоу в 1938 г. и в наступлении японских войск на Маньчжурию в 1941 г. С 19 сентября и до 28 октября 1938 г. Хаяси Фумико шла вместе с японскими войсками, наступавшими на китайский город Ханькоу, и оттуда же, с передовой, Хаяси писала и посылала в газету «Военные корреспонденции с боёв под Ханькоу» («Канкоу сэндзё гунсин»), «Вернувшись из-под Ханькоу» («Канкоу ёри каэритэ») и «Послесловие» («Гоки»). Писательница объясняет своё желание встретиться с китайскими женщинами, жительницами города Ханькоу: «Недавно видела молодую крестьянку. Впервые своими глазами видела, и теперь думаю о молодых женщинах, их же было так много в Ханькоу. На передовой, которая проходит по полям, по горам, ни разу не думала о женщинах врагов. Добрались мы сюда, попробовали прилечь здесь, у плотины, рядом со скоростной дорогой, окружённой культурными посадками, и передо мной, сама не знаю почему, всплыли образы молодых китайских женщин… Вот уже два месяца прошло с тех пор, как видела я красивых женщин. После того, как встречалась с ними в Шанхае, ни разу не приходилось встретиться. Стала уже думать, что в Китае одни старушки живут. Что же это за город, Ханькоу? Войска постепенно подходят к нему, и среди нас всё больше разговоров о том, что же это за город такой. Такой, как Нанкин, такой, как Шанхай… Разные мысли приходят» [Хаяси, 2006. С. 88]. Она была поставлена в новое для себя положение пропагандиста армии, оккупирующей землю других людей, и эти другие в 1938 г. уже предстают перед автором. Перед нами предстает череда разных изображений Китая, созданных воображением японских писателей – нового Китая, от которого японцы ожидали многого; Китая талантливой молодежи, поначалу почти слепо копировавшей стиль японской литературы; Китая-врага, закрывшего перед японскими (даже прогрессивными авторами) свои сердца. Возможно, общение с японцами прервалось из-за того, что националистическое в японцах превалировало над всемирным и всеобщим. Примером такого националистического мышления является персонаж романа Мики «Шанхай» Ёкомицу Риити (1898–1947), о котором пишет Т. И. Бреславец в монографии «Литература модернизма в Японии» (2007): «он находился в Шанхае, но пространство, им занимаемое, всегда было территорией Японии» [Ёкомицу, 1966. С. 234; цит. по Бреславец, 2007. С. 97]. Хаяси Фумико встречалась, как Акутагава, Танидзаки и Сато, с китайскими писателями в 1932 г., когда по окончании ее вояжа в Европу писательница заедет в Шанхай. Особенно ей запомнились встречи с Лу Синем. В позднем дневнике 1933 г. она писала, что ей понравился Лу Синь, также, как и Китай: «Июнь, 17-е. Получила копию собрания сочинений Лу Синя. Встречалась с ним осенью 1929 г. и в 1932 г. во время возвращения из Европы. Особенно трогают в этом собрании сочинений рассказы «Родной город», «Комедия уток» и «Истинная история А-Кью». Лу Синь вдобавок очень плодотворный поэт. Китай же – страна с такой величественной традицией, что вызывает зависть. Я уехала и написала Лу Синю длинное письмо» [Keavener, 2010]. Выходит, что Хаяси Фумико, как Сато, действительно, прошла тяжкий путь от поиска взаимопонимания с представителями иной культуры до смутных представлений о «далеких китайских женщинах». Интересно, что в нынешней Японии не дают таких резких оценок участникам группы «пэн-бутай», хотя милитаристская направленность выступлений поэта и скульптора Такамура Котаро (1883– 1956) была жестко отвергнута, после войны этот бывший поэт и критик искусства был фактически полностью изолирован от общества. Среди тех японских писателей, кто почти добился понимания у китайских читателей, была Тамура Тосико (1884–1945). Начинавшая в 1911 г., как автор типа «новой женщины», писавшая для такого феминистического журнала, как «Сэйто» («Синий чулок», 1911–1916), эта писательница в 1938 г. приезжает в Китай, выступает таким же пропагандистом оккупационного режима, но в 1942-1945 гг. приступает к работе главным редактором в журнале «Нюшенг» («Женские голоса», 1942–1945), выходившем на китайском языке на деньги японских властей. Можно сказать, что Тамура Тосико использовалась как прикрытие для китайских подпольщиков, но известно, что она пыталась приложить свои идеи о «новой женщине» в среде китайских читательниц, публикуя в колонке главного редактора некоторые из своих оригинальных мыслей. К тому же, в журнале были опубликованы переводы на китайский произведений крупных японских писателей – Мусянокодзи Санэацу (1886–1976), Миядзава Кэндзи (1896–1933) и других. Несколько шанхайских поклонников ее таланта сплотилось вокруг нее в последние годы жизни, но К. Кэвенер иронично замечает, что «ее влияние на таких китайских писателей, как Тао Цзинсун5, знавших о ее работах в годы их ученичества в Японии, было мощнее, чем влияние на молодых писателей, с которыми она встречалась в Китае; те даже отказывались от ее советов, хотя родились позже самых ранних работ Тосико» [Keavener. 2010]. Кто знает, если бы Тамура Тосико смогла бы прожить подольше, мы бы стали свидетелями укрепления связей литературного Китая и Японии, но в 1945 г. она скончалась от сердечного приступа. Организовывал похороны, сочинял некролог для японских СМИ единственный настоящий друг Китая Утияма Кандзо… История литературных контактов наших соседей по АТР – Японии и Китая в тяжелое пред- и военное время многому учит. Во-первых, тому, что нельзя иную культуру мерить по своей; во-вторых, терпимости и вере в человеческие чувства. При всей сложности отношений двух стран были такие люди, как Утияма Кандзо, и сейчас исследователи находят много свидетельств тому, что не все было однозначно в той прошедшей войне. Литература Тао Цзинсун – писатель-любитель, учившийся некоторое время в Японии. Тамура Тосико снимала у его семьи квартиру в период жизни в Шанхае. 5 Бреславец Т. И. Литература модернизма в Японии. – Владивосток: Дальнаука, 2007. – 254 с. Сулейменова А. М. Военные дневники писательницы Хаяси Фумико // Проблемы литератур Дальнего Востока. Сборник материалов 6-й Международной научной конференции (25-29 июня 2014 г.). – СПб: Издательство «Студия НП-Принт», 2014. – Т. 2. С. 417–425. Сулейменова А. М. Путевые дневники японских писателей и поэтов нового времени как поиск средств выражения. С. 386–403. // История и культура традиционной Японии. Выпуск 6 / Российский гос. гуманитар. ун-т; [отв. ред. А. Н. Мещеряков]. – М.: Наталис, 2013. – 592 с.: ил. Акутагава Рюноскэ. Выдержки из пекинского дневника (Пэкин никки сё) // Акутагава Рюноскэ. Полное собрание сочинений (Акутагава Рюноскэ дзэнсю). Т. 5. С. 313–325. – Токио: Иванами сётэн, 1977–1978. Нацумэ Сосэки. Там и тут. По Маньчжурии и Корее (Манкан токородокоро) / Асахи симбун. 21 октября – 30 декабря 1909 г. // Нацумэ Сосэки. Полное собрание сочинений (Нацумэ Сосэки дзэнсю). Т. 8. С. 154–270. – Токио: Тикума сёбо, 1965–1966. Танидзаки Дзюнъитиро. Заметки о поездке в Шанхай (Сянхай кою ки) // Танидзаки Дзюнъитиро. Танидзаки Дзюнъитиро дзэнсю (Полное собрание сочинений Танидзаки Дзюнъитиро). Т. 10. С. 561–598. Хаяси Фумико. На передовой (Сэнсэн) // Хаяси Фумико. На передовой (Сэнсэн). – Токио: Тюо корон синся, 2006. – С. 5–151. Fogel, Joshua. The Literature of Travel in the Japanese Discovery of China, 1862– 1945. – Stanford: Stanford University Press, 1996. – 405 p. Keavener, Christopher T. Beyond Brushtalk: Sino-Japanese Literary Exchange in the Interwar Period. – Hong Kong: Hong Kong University Press, 2010. – 281 p. Kindle Edition.