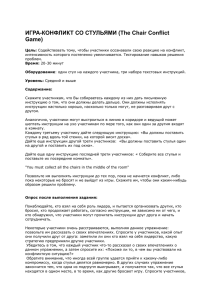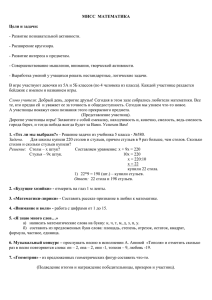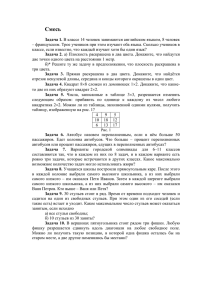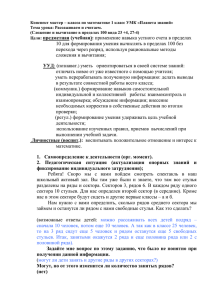Структурная поэтика - порождающая поэтика А.Жолковский, Ю.Щеглов
реклама

А.Жолковский, Ю.Щеглов
Структурная поэтика - порождающая поэтика
Вопросы литературы, 1967, № 1, 74-89.
“Симфониетта” в редакции 1914 года не очень
удовлетворяла меня, поэтому я всю ее развинтил и вновь собрал...
Сергей
Прокофьев,
“Автобиография”
Дискуссия о структурной поэтике пока насчитывает немного статей, но вопрос о статусе и
возможностях этой науки уже подвергся обсуждению в самых различных измерениях и ракурсах.
Это создает известную диспропорцию между пока еще малочисленными и несовершенными
образцами структурной поэтики и тем логико-философским аппаратом, который привлекается
как для ее обоснования, так и для ее сокрушения. В частности, вполне понятна позиция тех, кто не
готов пасть ниц перед структурной поэтикой, едва услышав, что она возводит себя к самым
современным научным источникам, например, представляет литературу как вид семиотической
системы или как частный случай вероятностного процесса (что и оправдывает соответствующие
вычисления). Чтобы поверить в тот или иной новый метод, такой читатель хочет видеть хотя бы
один по-человечески интересный результат его применения, считая себя - на наш взгляд,
справедливо - компетентным судить о качестве этого результата уже ввиду своего знакомства с
объектом науки - литературой.
Боясь сделать дискуссию еще более беспредметной, мы не хотели бы вести разговор в чисто
дедуктивном плане. Поэтому мы будем говорить об одном из возможных конкретных
направлений развития литературной науки. О нем пойдет речь ниже, сначала же мы попытаемся
кратко суммировать то, что было сделано в этом духе учеными недавнего прошлого, в частности
В.Шкловским, В.Проппом, С.Эйзенштейном и некоторыми другими. Это желательно, между
прочим, и потому, что взаимоотношения их идей друг с другом и с современной поэтикой, по
нашему мнению, недостаточно ясны как их противникам, так и их защитникам. Если первых
ставит в тупик уже самый факт соположения этих имен [См. П.Палиевский. О структурализме в
литературоведении. // “Знамя”, 1963, № 12, стр. 196], то вторые готовы связывать их с любыми
модными лозунгами и представлять к знакам семиотического отличия, самым почетным из
которых, по-видимому, считается возведение в ранг n-ичной моделирующей системы. Между
тем лучшие из этих работ по своей определенности скорее превосходят арсенал семиотики
[Скромность арсенала семиотики видна, между прочим, и из того, как легко В.Кожинов вступил
в ряды ее теоретиков (см. его маргиналии к теории знака и сигнала - “Вопросы литературы”,
1965, № 6, стр. 96-100)] и нуждаются не в переименовании или транспозиции в те или иные
системы символов, а в выявлении их практического смысла и в непосредственном применении к
делу.
1. Такой критический экскурс естественно начать с работ ОПОЯЗа, так как именно последний
более или менее единодушно признается предшественником структурализма в поэтике.
Общеизвестны недостатки этих работ, связанные с их формализмом, то есть демонстративным
отказом при построении научной поэтики иметь какое-либо дело с содержанием (ср. известные
заявления о безразличии искусства к цвету флага над крепостью, о том, что в понятии
“содержание” при анализе произведения искусства надобности не встречается и т. д.). Такие
общие установки указанных работ (которые обусловили и другие слабые стороны так называемой
формальной школы: негативность подхода, его пригодность лишь для достаточно элементарных
проявлений искусства и др.) давно опровергнуты, в том числе самими их авторами. Что же
касается обращения этих исследователей к вопросу: зачем и как искусство “делается” из
не-искусства, то есть учения о “поэтическом ряде”, то оно не может быть оставлено без внимания
при структурном и кибернетическом подходе к поэтике. Поэтический ряд рассматривается ими
как: а) отличный от “практического ряда” (привычных представлений и способов высказывания о
действительности) и б) состоящий из его элементов. По В.Шкловскому, искусство “увеличивает
трудность и долготу восприятия”, “расшевеливает” вещи, заставляет заново увидеть и пережить
то, что “съедается” автоматизмом повседневности [См.: Виктор Шкловский. Искусство, как
прием. В кн.: О теории прозы. М.: Федерация, 1929, стр. 13]. Он считает, что к этому в принципе
сводимы художественные .явления любого уровня; в качестве примеров разбираются повторы,
ретардации, ступенчатое построение, окольные описания (в загадках) и проч. При всем своем
бесспорном эссеизме статья В. Шкловского активизировала исследования по поэтике, предложив
удачный научный образ, который вел к простому и единообразному пониманию различных
уровней литературного произведения (смыслового, сюжетного, непосредственно словесного и
т.д.). В ней ощущается ценная (хотя и раздражающая многих) готовность значительно упростить,
схематизировать картину ради ее большей методологической поучительности и скорейшего
перехода к моделированию искусства хотя бы на самом общем уровне. В.Шкловский
рассматривает все искусство как одно произведение и находит, что его приемом (= “формой”)
является затрудненная подача вещей, а целью (= “содержанием”) - обновление видения мира.
Ограниченность же идеи остранения в том, что преобразование практического ряда в поэтический
предстает как чисто негативное действие - взгляд, достаточный в основном лишь для анализа
простейших примеров [О более совершенной формулировке того же вопроса С.Эйзенштейном см.
ниже, в п. 3].
2. Из конкретных исследований этих ученых наиболее актуальными остаются книга В.Проппа
“Морфология сказки” и предшествовавшая ей статья В. Шкловского “Новелла тайн” [Виктор
Шкловский. О теории прозы. стр. 125-142], с которыми связано учение о так называемых
сюжетных функциях или мотивах. В.Шкловский был, по-видимому, первым из литературоведов,
заговорившим о функциях. Он предложил рассматривать все новеллы Конан Дойла о Шерлоке
Холмсе как одну новеллу, то есть как единый типовой сюжет, состоящий из ряда “важнейших
моментов”, каждый из которых в разных новеллах может реализоваться по-разному [Для
В.Шкловского вообще характерен интерес к отождествлению функционально одних и тех же
приемов на разном материале и в пределах разных уровней: ср. сопоставление повтора в песне с
удвоением персонажа в “Ревизоре” (Бобчинский и Добчинский), а также аналогии между
сюжетными и словесными фигурами, вплоть до замечаний о сюжетном тропе в статье “Как летит
красный шар” (“Искусство кино”, 1957, № 8, стр. 116-17)]. В.Шкловский выделил девять таких
“моментов”, составляющих общую схему новеллы (“ожидание”, “появление клиента”, “улика”,
“неверное толкование”, “выезд на место” и т.д.). На скрещении сюжетных моментов находятся
персонажи, предстающие тем самым как “пучки” функций (ср. функции д-ра Уотсона: рассказчик,
членящий действие на куски, подобные главам; автор ложных разгадок, подобно официальному
сыщику; наперсник, подающий реплики Холмсу). Верно, что схема В.Шкловского затрагивает
лишь контуры вещи с точностью до “синтаксического” уровня детективного рассказа вообще и не
может объяснить специфического обаяния новелл Конан Дойла, схематизация которого требует
дополнения анализа новыми уровнями (см. ниже, п. 3, 5). И хотя содержание новелл не совсем
игнорируется, оно сведено лишь к спортивной стороне - созданию и разрешению тайны (“В
новелле нет ничего, кроме преступления и следствия”). Подобная экстраполяция результатов
изолированного рассмотрения “синтаксического” уровня, бесспорно, придает формалистическую
окраску представлению о целом. Сопоставим неизбежный для В.Шкловского вывод о безразличии
структуры к социальному заказу (“...если бы эти новеллы создавал какой-нибудь человек в
пролетарском государстве... строение новеллы… не изменилось бы”) с противоположным
взглядом по тому же вопросу С.Эйзенштейна, который говорит, что “трактовка, меняя отношение
к содержанию действия, изменяет не только стилевую манеру кадров, но и мизансцены”, и
показывает, как рассматриваемый им эпизод был бы разработан буржуазным кинорежиссером
[В.Нижний. На уроках режиссуры С.Эйзенштейна. М.: Искусство, 1958].
Эти недостатки, однако, отнюдь не заслоняют приоритета статьи В.Шкловского в
представлении ряда сходных новелл как одной новеллы, а персонажа - как точки пересечения
функций. Особенно важно второе, поскольку отсюда явствует, что разложению на простейшие
элементы подлежит не только сюжет, но и все (даже неразложимые в пределах “практического
ряда”) предметы: люди, вещи и т. п. РОСПИСЬ жанра но функциям, конспективно намеченная В.
Шкловским, со всей серьезностью проведена В.Проппом, создавшим для этого развитый
технический аппарат. Представляя сто сказок из сборника Афанасьева как одну сказку, В.Пропп
подбирает такие “общие слова”, в которых с достаточной подробностью пересказывается любая
сказка. Он выделяет 31 сюжетную “функцию” [Могут спросить: “А почему именно 31 функция?”
(ср. иронический вопрос П.Палиевского: почему 70 мотивов, а не 37715? - “О структурализме в
литературоведении”. // “Знамя”, 1963, № 12, стр. 196). Дело в том, что различие между
структурным и традиционным подходом проходит отнюдь не по линии “формализованность интуитивность процесса исследования”. Ошибочно мнение, что если ученый действует путем
эмпирического подбора и нащупывания, то ему следует отказаться от претензий на объективность
и точность описания. Очевидно, что строгие процедуры выделения единиц
анализа и
формальные методы описания литературных произведений МОГУТ быть - и в конечном итоге
будут - выработаны, однако это совершенно отдельная задача. Существенное отличие состоит
прежде всего в том, что мыслится в качестве результата работы. Целью структурного описания
признается действующая модель вещи. Если построенная ученым модель работает, то есть если
машина или человек по предложенным правилам создают произведения, подобные
моделируемому, то модель удовлетворительна (от оценок степени ее верности можно сейчас
отвлечься) и, грубо говоря, никому нет дела до того, как действовал ее автор: путем формальной
процедуры, интуитивно или, скажем, с помощью духов или
кобольдов.] (“отлучка”,
“выведывание”, “трансфигурация” и т.п.), постоянные, “независимо от того, кем и как они
выполняются”. Так, функция № 8 (“вредительство”) может представать как похищение а)
человека, б) дневного света, в) телесное повреждение, г) ночное мучительство, д) объявление
войны и т. п. Реализации единой функции могут так сильно различаться, что, например, одно и то
же (функционально) действие может выполняться человеком, животным, вещью или свойством
(например, Иван получает коня, из которого сыплется золото, или способность харкать золотом).
С другой стороны, тождества двух действий недостаточно для подведения их под одну функцию;
“Если... герой получает от отца 100 рублей и покупает... вещую кошку, а в другом случае...
награждается деньгами за совершенное геройство, и сказка на этом кончается, то перед нами..
морфологически различные элементы” [В.Пропп. Морфология сказки. Л.: Academia, 1928, стр. 30].
Формулируются также нетривиальные правила следования и взаимообусловленного опускания
функций. Кроме набора функций и синтаксических правил, зафиксировано постоянство
персонажей (“вредитель”, “отправитель”, “герой” и т.п.), определяемых по их поведению в
терминах функций: каждый персонаж по существу является названием для определенного “круга
действий”, например, круг действий вредителя - “выведывание”, “подвох”, “вредительство”,
“борьба”, “преследование” (ср. аналогичное понимание персонажа В.Шкловским).
Ограниченность книги В.Проппа - в ее сознательном дескриптивизме: он строит настоящую
грамматику сказки, то есть выделяет набор неизменных синтаксических единиц и формулирует
правила их сочетания, но не дает терминам этой грамматики никакой содержательной, то есть в
данном случае эстетической, интерпретации (что отличает его книгу от концепции “искусства как
приема”, апеллирующего к психологии читателя) [Книга В.Проппа, переведенная недавно на
английский язык, породила обширную литературу. Укажем на статьи Леви-Стросса и Бремона
(Claude Bremond. Le message narratif. // “Сommunications”, vol. 4, 1964; Levi-Strauss. L'analyse
morphologiques des contes russes. // “International Journal of Slavic Linguistics and Poetics”, 1960, №
3). В работе Бремона на основе критического пересмотра функций Проппа предлагается
интересная модель порождения множества правильных сюжетов. Леви-Стросс рассматривает
события сюжета как различные, часто противоположные, воплощения единого идейного тезиса.
Эти идеи хорошо согласуются с рассматриваемой далее концепцией С.Эйзенштейна и методом,
выдвигаемым в п. 5].
3. Непосредственная связь теоретических работ С. Эйзенштейна с идеей структурной, в
частности порождающей, поэтики по существу начинает осознаваться только теперь. В них взгляд
на искусство как на средство выражения мыслей и “усиления эмоций” имеет своим следствием
неуклонное прослеживание того, как вещь построена снизу доверху и как образ темы “рождается”
из свойств предметов, участвующих в построении, что и составляет естественную задачу
современной поэтики.
В вопросе о назначении искусства С. Эйзенштейн дает не только негативную часть
формулировки (притом пользуясь в ней почти теми же образами, что и В. Шкловский: “разбить “в
себе” заданное, аморфное, нейтральное, безотносительное “бытие” события или явления” [Почти
текстуально совпадают и высказывания В.Шкловского и С.Эйзенштейна о “затрудненности
формы” (см.: Сергей Эйзенштейн. Избранные произведения в шести томах. Т.4, стр. 89 (в печати)]
и т.п.), но и конструктивную - создание нового, нужного автору, поэтического ряда (“собрать”
явление вновь, “согласно тому взгляду на него, который диктует мне мое к нему отношение”)
[С.М.Эйзенштейн. Избранные статьи. М.: Искусство, 1956, стр. 316, 317. Ср. там же:
“Звукозрительное кино... начинается с того момента, когда скрип сапога был отделен от
изображения скрипучего сапога и приставлен... к человеческому лицу, которое в тревоге
прислушивается к скрипу”.].
В работах С. Эйзенштейна много убедительных анализов прозы, поэзии, живописи, кино и т.д.
Однако самым ценным представляется вырисовывающаяся из его работ “порождающая
грамматика” произведений искусства. В книге В.Нижнего [В.Нижний. На уроках режиссуры
С.Эйзенштейна] показано, как тема, то есть краткое изложение некоторого эпизода и идейного
взгляда на него, разворачивается в подробную и эффектную мизансцену, а затем и в
последовательность кадров (художественный текст)
- под действием системы приемов
выразительности (см. ниже). Шаг за шагом можно видеть, как все новые предметы, персонажи,
поступки и их конфигурации подбираются по функциям, которых требует наиболее “ударное”
выражение темы. Здесь находят свое место и идеи В.Шкловского, В.Проппа и Леви-Стросса о
предметах (персонажах, ситуациях) как пересечениях необходимых функций. Образное
воплощение темы основано на многосторонности предметов, взятых вне искусства, и сводится к
задаче “выискать” для каждого факта такое сцепление его элементов, которое, сохраняя самый
факт, содержало бы одновременно и некую фигуру, навязывающую зрителю отношение автора к
этому факту [В статье о собственном фильме С.Эйзенштейн показывает, что “Броненосец
“Потемкин”” выглядит как хроника событий, а действует как драма, благодаря тому, что
изложение фактов строится в нем по так называемой “экстатической формуле”: в фильме в целом
и в каждом из его “пяти актов” действие как бы выходит из себя, перебрасываясь по всем
измерениям в свою противоположность.].
Иначе говоря, С.Эйзенштейн предлагает рациональные, в принципе формализуемые операции
для того наиболее ответственного участка порождения художественного текста, каким является
грань между “декларативно” задаваемой темой и ее образным эквивалентом, то есть как бы между
“неживой” и “живой” материей в искусстве. Для вдумчивого и терпеливого исследователя уже это
является залогом решения вопроса об овладении семантикой образа [Один из наиболее ранних и
замечательных фрагментов “теории управления” эмоциональным смыслом создаваемого эффекта
мы находим в “Поэтике” Аристотеля (гл. 14), где дается исчисление трагических сюжетов
(комбинаций элементарных событий) и правила выбора варианта, оптимального с точки зрения
внушения заданного чувства - сострадания и страха.]. Очевидна глубина и по существу
единственность этого подхода, особенно по сравнению с нередкими теперь попытками привязать
смысл образа непосредственно к результатам тех или иных арифметических действий.
Важнейшее место в порождающей поэтике, намеченной С.Эйзенштейном, как и вообще в
поэтике, занимает учение о средствах выразительности (ср., в частности, его неопубликованный
конспект университетского курса по психологии выразительности). Судя но напечатанным
работам, имеется в виду вся система приемов выразительности (типа сюжетной цезуры, золотого
сечения, повтора, усиленного повтора, “отказного движения”, нагнетания напряжения, контраста,
совмещения функций, проведения одной темы через разные линии, постепенного сплетения тем,
внезапного поворота событий и т.п.), необходимых в самых различных по содержанию и жанру
художественных произведений. Функция этих приемов - в наиболее эффективной организации
восприятия темы [Такое обилие приемов, независимых от темы и материала, не должно
настораживать, так как речь, по-видимому, идет об области, пограничной между
искусствоведением и общей психологией восприятия. Интересно, что этих приемов касается и
Л.Выготский в своей “Психологии искусства” (М.: Искусство, 1965); ср. его блестящие разборы
басен Крылова с точки зрения одновременного развития противоположных тем (стр. 157-179)].
4. Противники структурной поэтики с особенной уверенностью говорят о схематизме,
убивающем “живое”, и иронизируют по адресу структуралистов, неспособных “удержать целое”.
Подыскание общеметодологических аргументов против таких мнений не требует в наше время
особой научной проницательности (ср. хотя бы статью И.Ревзина [И.Ревзин. О целях структурного
изучения художественного творчества. // “Вопросы литературы”, 1965, № 6, стр. 73-87. {Далее в
материалах обсуждения и ссылках на статьи И.Ревзина и В.Кожинова в № 6 “Вопросов
литературы” за 1965 год указываются только страницы - Ред.}]); в свете пути, пройденного
другими науками [И между прочим, не только естественными (“точными”), но и такой
гуманитарной наукой, как музыковедение. Вряд ли стоит a priori утверждать, что для
адекватного описания литературы может оказаться достаточным менее сложный технический
аппарат, чем в музыковедении.], эти аргументы могут быть, по-видимому, не столько
оспариваемы, сколько принимаемы к сведению. Но критики схематизации, как видно, считают,
что литература имеет принципиально иную природу, чем другие объекты науки, например язык.
Они напирают на ее переливчатость и трепетность, на индивидуальность ее восприятия
отдельными читателями.
Что ж, некоторые читатели (зрители, слушатели) довольно удачно описывают свои
впечатления. Например:
“Маслянисто круглились и разбегались огни набережной в черной выгибающейся воде,
сталкивались волны, люди, речи и лодки, и для того, чтобы это запечатлеть, сама баркаролла, вся,
как есть, со всеми своими арпеджиями, трелями и форшлагами, должна была, как цельный
бассейн, ходить вверх и вниз и взлетать и шлепаться на своем органном пункте, гулко оглашаемая
мажорно-минорными содроганиями своей гармонической стихии”[ Б.Пастернак. Шопен. //
“Ленинград”, 1945, № 15-16, стр. 22-23].
Интересно узнать, имеют ли в виду сторонники “удержания целого” соревноваться с
подобными образцами, и если да, то насколько оптимистично они оценивают свои возможности
[Прошедших первый, прозаический тур соревнования во втором туре ожидала бы известная
“Баллада” (“Дрожат гаражи автобазы...”)]. Ведь альтернативой такому импрессионистическому
описанию является научное (то есть то, что они называют схемой), имеющее свою логику. Мы со
своей стороны не считаем схематизацию синонимом банальности и поверхностного обмера; для
нас это работа, начинающаяся с отыскания и, если угодно, угадывания той идейной конфигурации,
которая и является “законом построения предмета”. Руководствуясь здравым смыслом,
литературоведы всегда стремились давать точные “идейные портреты” отдельных книг, писателей
и направлений; они имели при этом смелость приписывать произведению (школе и т.п.) одни
черты и, грубо говоря, отказывать ему в других, не боясь тем самым отлучить его от “вечно
живого”, “всеобщего” и “бесконечного”. Правда, обнаруживаемые идейные “схемы” часто
принимались за конечный результат в познании структуры вещи; лишь походя затрагивались
“художественные особенности”. Внимание исследователя далее направлялось вовне от
произведения: полученный результат сразу же “вдвигался в социальную раму” эпохи, с ее
социологией, философией и т.п. Для структуралиста же раскрытие темы - лишь первый шаг
работы [Вопроса о внешних связях произведения мы здесь вообще не касаемся, хотя, очевидно, и
там возможна та или иная структурная методика.] (см. п. 3 и 5).
Кстати, пора развеять ходячее представление о научной схеме как о чем-то бесцветном [Ср.
замечания о мнимой “бесцветности интеграла” в статье Е.Фейнберга “Обыкновенное и
необычное”. // “Новый мир”, 1965, № 8, стр. 224-225] и неподвижном. Можно было бы пожелать
сторонникам литературоведческого импрессионизма проделать хотя бы несколько опытов
схематизации. Этот экскурс, во всяком случае, не грозил бы им потерей квалификации (при
условии, что они не утратили бы интереса к чтению и умения владеть русским словарем и
синтаксисом). Зато они увидели бы, что схема, модель, дает в распоряжение исследователя
осязаемую вещь, которая 1) “изготовлена руками” из дискретных и “неорганических” деталей и в
то же время 2) является живым, “играющим” подобием изучаемого объекта.
Справедлива мысль, что структурная поэтика имеет дело с трудностями того же порядка, что и
структурное описание семантики языка, в частности, слова с его “многоликостью” и
“изменчивостью” [Имеется в виду гипотеза В. Кожинова (см. стр. 103)]. Однако, даже не
обращаясь к опытам последних пяти-шести лет, можно сослаться на классический пример
преодоления таких трудностей в лингвистике. В статье “Градации” (Grading) [“Selected Writings of
Edward Sapir in Language, Culture and Personality”. Berkeley: Univ. of California Press, 1951] Э.Сепир
наметил алгоритм употребления количественных терминов (типа больше, мало, едва и т.д.) в
английском языке в зависимости от факторов (1) величины, (2) динамики (направления изменения
этой величины) и (3) аффекта - отношения говорящего к значениям (1) и (2). Иначе говоря,
работающими признаками в правилах Сепира служат те подвижные и “субъективные” моменты
языка, которые традиционному языковеду-словеснику казались неуловимыми нюансами [Так,
некоторых современных семиотиков (например, того же В. Кожинова, стр. 96-100) смущает
моделирование “понимания языков в речевом взаимодействии”].
5. В начале статьи мы сказали, что остановимся на одном из возможных направлений поэтики.
Речь пойдет не о чем-то ошеломляюще новом и “формализованном”, а о некоторых перспективах
работы, во многом вытекающих из идей В.Проппа и С.Эйзенштейна. Говоря очень кратко,
представляется полезным понимать художественное произведение как “наглядный предмет”,
предназначенный для максимально эффективного проведения темы, своего рода аппарат для ее
внушения читателю; его можно сравнить с изобретением, реализующим какую-либо конкретную
техническую задачу. Тогда цель литературоведческих исследований должна состоять, в частности,
в том, чтобы описывать устройство и работу таких художественных “машин”, показывать, как они
“собираются”, исходя из тематического задания.
Естественно ожидать, что перевод темы в систему воплощающих ее средств есть объективный
процесс, подчиняющийся определенным законам, хотя бы самым общим. Многие такие законы по
существу давно известны. Два важнейших принципа были недавно на материале музыки
сформулированы Л.Мазелем: 1) “принцип множественного и концентрированного воздействия”,
означающий, что “существенный художественный результат... обычно достигается... с помощью
не какого-либо одного средства, а нескольких средств, направленных к той же цели...”; 2)
принцип совмещения функций, заключающийся в том, что “существенные средства,
ответственные композиционные “решения” обычно... несут несколько функций: например, две
различные выразительные функции, или одну выразительную, одну формообразующую, одну
чисто техническую; либо, наконец, какую-то “местную” функцию, важную для данного момента
произведения, и другую, более общую, имеющую значение для целого, для связей “на расстоянии”
и т.д. [Л.Мазель. О системе музыкальных средств и некоторых принципах художественного
воздействия музыки. В сб.: Интонация и музыкальный образ. М.: Музыка, 1965, стр. 240, 249-250].
Применительно к литературе это означает обнаружение темы, всех функций, возникающих при ее
развертывании, и того, как они реализуются во всех предметах, вовлекаемых в построение.
Все вышеизложенное, а также опыт современной лингвистики (где наибольшей объясняющей
силой обладают те описания, которые строятся как правила порождения соответствующих
объектов - предложений, словоформ, фонем и т. п.), приводят к мысли, что структурным
описанием художественного произведения является демонстрация его порождения из известных
темы и материала по некоторым постоянным правилам.
Для примера мы позволим себе конспективно разобрать эпизод из “Двенадцати стульев” Ильфа
и Петрова (покупка стульев на аукционе). Мы будем исходить из элементарного представления,
что в сюжетном повествовании взгляды (мысль) автора первоначально предстают в виде темы, то
есть “доказывающей” эту мысль судьбы некоторых героев. Так, мысль о несостоятельности
собственнических устремлений в советских условиях облекается в тему: “неудачная погоня
авантюристов за сокровищем, спрятанным в стульях”, развертывание которой в художественный
текст обеспечивается применением к ней ряда правил - приемов выразительности.
Выпишем некоторые из этих приемов [Авторы идут на сознательное упрощение темы,
отвлекаясь, например, от рассмотрения того ее аспекта, который можно было бы назвать “мечты
концессионеров и советский образ жизни”. Очевидно также, что наши правила и требования к
построению сформулированы во многом ad hoc; ближайшей задачей является их обобщение,
уточнение и выяснение отношений между ними, а также определение порядка их применения при
порождении текста. Сам разбор эпизода по необходимости предельно сжат, его назначение чисто
иллюстративное - хотя бы намекнуть доброжелательному читателю на существо защищаемого
нами подхода.].
А. ПОДЧЕРКИВАНИЕ (выделение, усиление) всех сколько-нибудь важных вещей и
состояний: (1) Собственно подчеркивание - простая постановка предмета на “видное место”, его
укрупненная подача (ср. крупный план). (2) Противопоставление: а) контраст, то есть
подчеркивание двух вещей их противоположением; б) “отказное движение” [Термин
С.Эйзенштейна, см. “Избранные произведения”, т. 4, стр. 81-90] - подчеркивание некоторого
действия проведением его сначала в обратном, а уже потом в заданном направлении. (3)
Нарастание - подчеркивание, как бы развернутое во времени: а) повышение напряжения; б)
повторение некоторого положения в усиленном виде или на новом уровне; в) “преподнесение”:
вещь не дается готовой с начала, а разыгранно появляется [См.: В.Нижний. На уроках режиссуры
С.Эйзенштейна, стр. 51 и след].
Б. (4) РАЗВЕРТЫВАНИЕ (как темы, так и всех вещей, возникающих в ходе ее реализации) переход от простого называния к наглядному, детализированному, “удобоваримому” виду.
В. УРАВНОВЕШИВАНИЕ художественных задач и средств их выполнения: (5) Совмещение
[Ср. выше два принципа Л.Мазеля] разных функций в одном предмете. При этом желательно,
чтобы: а) этот предмет был готовым, “монолитным”, заранее знакомым читателю и потому
воспринимаемым сразу, как единое целое; б) в одном предмете совмещались противоположные
функции (ср. п. 2а); в) совмещались в ряде моментов разные сюжетные линии. (6) Проведение
одной и той же функции через разные предметы, в частности через разные сюжетные линии (ср. п.
8).
Г.
ПРИНЦИПЫ
СЮЖЕТНОСТИ. (Рассматривается
лишь
один тип
сюжета
-“новеллистический”.) Это - требования более конкретного уровня; они строятся с учетом п. 1 - 6.
(7) а) внезапный поворот (кульминация): движение героев к цели А содержит нечто, например
ошибку героев, что неожиданно, в момент успеха, приводит к провалу (по существу это
совмещение (п. 5) противоположно (п. 2) направленных действий). В зоне кульминации особенно
желательно заострение контрастов (п. 2); б) развязка, дающая возможность “полюбоваться”
результатами провала. (8) Раскрытие характеров сюжетом: каждое событие должно совмещать (п.
5) движение сюжета с максимальным (в рамках данного события) проявлением задаваемых в теме
свойств героев и опираться на них.
Д. Построение эпизода должно учитывать его РОЛЬ В РОМАНЕ в целом: (9) Этот эпизод первое крупное поражение Бендера и Воробьянинова (далее Б. и В.), причем В. подводит,
“зарезает” Б.; оно повторяется и в масштабе всего романа (“предвестие”, ср. п. 3б). (10) Он эффектная мотивировка путешествий героев; для этого стулья разрозниваются (они могли бы быть
разрозненными с самого начала, см., однако, п. Зв). П. 9 и 10 и задают тему эпизода; п. 11 и 12
задают материал, обязательный к использованию в нем. (11) К началу эпизода даны характеры:
Б. - герой “высокого” плана, энергичный, интеллигентный, артистичный, снисходительный,
причем иногда не учитывает “грубой реальности”; В. -”низкого”, комического, плана, глупый,
трусливый, с дворянскими претензиями, “светский лев” (ср. п. 6: тема проводится через две
линии). (12) Даны также: погоня за стульями, всеми сразу, обладание деньгами, семья Калачовых
и т.п.
ИМИТАЦИЯ ПОРОЖДЕНИЯ ЭПИЗОДА
I ПРИБЛИЖЕНИЕ. В соответствии с п. 5 желательно совмещение функций 9 и 10, то есть
разрознивание стульев и будет поражением героев. Поэтому получаем [Говоря “получаем”, мы
имеем в виду, что это решение (как и все последующие) может быть по заданным функциям
“выдано”автоматически, то есть человеком, незнакомым с романом (об
альтернативных
решениях см. ниже)]: Б. и В. пытаются достать все стулья сразу, но стулья разрозниваются.
II ПРИБЛИЖЕНИЕ. К этому естественно применить новеллистическую конфигурацию (п. 7),
а к поражению - прием подчеркивания (см. А). Получаем: Б. и В. пытаются достать все стулья
сразу, но совершают ошибку; почти достают стулья, но в момент успеха терпят эффектное
поражение; стулья разрозниваются.
III
ПРИБЛИЖЕНИЕ. Пользуясь данными, имеющимися к началу эпизода, а также
характерами и соотношением между Б. и В. (см. п. 9, 11, 12), произведем, в соответствии с п. 8,
общее распределение ролей и конкретизацию полученного сюжетного контура.
(1) Доставание стульев с помощью денег - покупка, неудача - непокупка из-за нехватки денег.
(2) Ошибка Б. и В.: пусть В. подводит Б., причем В. участвует в этом своей глупостью и
комичностью, а Б. - снисходительностью и неучетом вульгарной реальности, например В. глупо, в
комическом плане, утрачивает деньги, доверенные ему Б.
(3) Добывание стульев: Б., проявляя энергичность и артистизм, действует; В. - балласт.
(4) Таким образом, получаются две линии: Б. занимается стульями, В. утрачивает деньги. В
соответствии с п. 9 (эпизод-“прообраз” романа) и п. 6 (проведение темы через ряд линий) и 8
(проявление героев) желательно, чтобы некоторое поражение было не только в линии “Б. и
стулья”, но и в линии “В. и деньги”, с максимальным проявлением характера В.
Получаем:
Б. энергично и с артистизмом готовит покупку стульев. В., пользуясь его снисходительностью,
комически-глупо утрачивает деньги и терпит некоторое личное поражение. Из-за нехватки денег
Б. и В. эффектно проваливаются в покупке стульев, которые и разрозниваются.
IV ПРИБЛИЖЕНИЕ. Произведем дальнейшую конкретизацию обеих линий.
(1) Следуя п. 5. подбираем “готовый предмет”, одновременно обеспечивающий: а) покупку
всех стульев сразу, б) разрознивание стульев, в) роковую роль нехватки денег, г) бесповоротность
и внешнюю эффектность, даже театральность поражения (в частности, одно из правил аукциона
позволяет выставить покупателя из зала). Это - аукцион, где продают стулья (другие функции
аукциона см. ниже).
(2) Конкретизируя поражение В. и следуя п. 8. подбираем “готовые предметы”, лежащие на
пересечении требований сюжета и черт характера В. “Светский лев” и утрата денег дают
ресторанный кутеж; “светский лев”, старость и комическое личное поражение - неудачное
донжуанство; глупость и комический (“низкий”) план В. (см. п. 11) - побои; донжуанство и побои месть мужа; донжуанство, кутеж и тема “мечты концессионеров и советский образ жизни” (см.
прим. 31) дают кутеж по-нарпитовски с бедной студенткой.
(3) Конкретизируем неожиданность краха. Неожиданность, вызванная нехваткой денег, неведение о нехватке: так как растратил В., а активно действует Б., то неведение приходится па
долю Б. Ищем в чертах В. мотивировку такого неведения Б. и получаем: В. по глупости и
трусости скрывает растрату от Б.
(4) Произведем заострение контрастов, желательное в зоне кульминации (п. 7). Эффектности
потери стульев противопоставим эффектность их покупки, что, в сочетании с артистическим
поведением Б. (его постоянная черта, см. п. 8, 11) и его уверенностью в победе (его “локальное”
состояние), дает: Б. с блеском покупает стулья.
Итак:
Б. энергично готовит покупку стульев на аукционе. Он с блеском покупает все стулья, но вдруг
оказывается, что денег не хватает. Это приводит к окончательной потере стульев, публичному
посрамлению Б. и В. и их изгнанию из зала. Стулья продаются по отдельности (разрозниваются).
Деньги, доверенные В., он, ухаживая за студенткой Лизой, по-дурацки пропивает в ресторане и
скрывает это от Б. В. отвергнут Лизой и побит ее мужем.
V ПРИБЛИЖЕНИЕ. Далее отдельные компоненты полученной фабулы подвергаются а)
развертыванию (п. 4), б) нарастанию (п. 3) и в) совмещению (п. 5). Это осуществляется путем
использования различных сторон предметов и лиц, уже введенных в действие.
(1) Общее требование развертывания в сочетании с характерной для Б. “научностью” подхода
(интеллигентность, см. п. 11) приводит (здесь, как и везде у Ильфа и Петрова) к расчленению
добывания стульев на два этапа: а) добывание информации о стульях (завязка), б) добывание
стульев. Следовательно, аукциону надо предпослать эпизод с разузнаванием о нем.
(2) Развертывание сцены аукциона дает ожидание, покупку и крах. Для этой сцены как
кульминационной особенно важно нарастание. Его обеспечивают а) сами правила аукционного
торга, б) любовь Б., оттягивающего свое вступление в торг, к эффектам и в) бестолковое
нетерпение В. (см. п. 6 - выполнение одной функции разными средствами). Ожидание
развертывается (с постепенным нарастанием напряжения) в ожидание а) аукциона и б) торга на
стулья. Покупка развертывается в а) торг на другие вещи, б) торг на стулья, в) вступление Б. в торг
и покупку и г) восторг Б. и В. Крах развертывается в целую небольшую новеллу, построенную по
тем же законам, что и весь эпизод (так сказать, та же история в миниатюре). Порождение ее ввиду
недостатка места мы предоставляем читателю (от слов Б.: “А почему же 230?” до слов: “И они
ушли”).
(3) В линии В. ухаживание развертывается в а) знакомство, б) кутеж, в) побои. Порождение
эпизода кутежа, развивающего тему “светский лев и советский образ жизни”, мы также опускаем.
(4) Совместим завязки двух линий: покупки стульев (разузнавание) и утраты денег
(ухаживание). Это и ряд других функций (в частности, Москва как центр нэповской России и
точка, откуда “растекаются” стулья и начинаются странствия героев) дает музей мебели, где Б.
поглощен поисками стульев, что позволяет В. волочиться (две противоположные функции
действий Б. - см. п. 5б).
(5) Развязка: развертывание и подчеркивание результата поражения Б. и В. (п. 7). Переживание
провала Б. конкретизируется как гнев, нарастающий от оцепенения к вспышке; для В. провал
предстает как вина и боязнь наказания. Совмещение кульминаций страха виновного В. и гнева Б.
дает экзекуцию. На скрещении экзекуции и характера комического дурака лежат побои.
Согласование же экзекуции с интеллектуальностью и артистизмом Б. дает “примерное” наказание,
сопровождаемое остроумными поучениями: Б. в гневе остроумно поучает В. и бьет его.
Итак, имеем:
Б. и В. ищут стулья в музее мебели, встречают Лизу. Пока Б. “пропадает”, энергично разузнавая о
стульях, В. назначает свидание Лизе. Б. узнает об аукционе. В. ведет Лизу в ресторан, напивается,
глупо лишается денег, отвергнут Лизой. Все это он до последнего момента скрывает от Б. На
аукционе Б. и В. с нетерпением ждут начала торгов, а затем появления стульев. Б. оттягивает свое
вступление в торг, а В. бестолково его торопит. Б. в последнюю секунду называет цену и
эффектно покупает стулья. Восторг Б. и В. и зависть публики. Внезапно выявляется нехватка
денег, законы аукциона неумолимо выбрасывают Б. и В. из зала, публика злорадствует. Стулья
распродаются по отдельности. Б. зловеще молчит, В. трусливо хорохорится. Б. в гневе бьет В.,
одновременно уничтожая его остроумием. Затем В. бьет муж Лизы.
Предложенная имитация порождения останавливается на полпути к реальному тексту. Идея
романа была намеренно упрощена, а языковая фактура не затрагивалась вовсе. Более тонкая
формулировка темы обогатила бы порождающий процесс всеми остальными необходимыми
функциями. Что касается более детальной событийной и даже словесной фактуры, то очевидно,
что и ее создание управляется аналогичными по типу законами. Рассмотрим частично хотя бы
конкретизацию “краха из-за нехватки денег”. Поскольку для эффектности поворота желательно,
чтобы полному краху был противопоставлен первоначальный полный успех (см. п. 7, заострение
контрастов), то хорошо, чтобы утрачивались уже купленные стулья; поэтому ищется “предмет”,
который бы превращал достаточную для покупки сумму денег в недостаточную, причем делал бы
это уже после покупки. Им оказывается правило о комиссионном сборе, извлекаемое из свойств
аукциона. Эта “машина” пускается в ход Б., артистическое поведение которого совмещает две
прямо противоположные функции (см. п. 5 и 7): Б. эффектно обгоняет конкурентов и
одновременно, сам того не зная, исчерпывает деньги.
Другой пример - порождение детали языкового уровня: ищется совмещение в одном акте гнева
Б., побоев В., морального уничтожения В. и остроумия Б. Представим этот поиск в виде двух
шагов:
а) гнев Б. и побои В. дают: Б. бьет В.; моральное уничтожение В., остроумие Б. и его гнев дают:
Б. саркастически клеймит В.; б) два полученных результата совмещаются далее в подыскании
такой остроты, которая бы соединяла характеристику поведения В. с указанием на побои и, может
быть, даже “ложилась на музыку” этих побоев. Так появляется сцена: “Вот тебе седина в бороду,
вот тебе бес в ребро!” Более или менее ясно, что аналогичным образом может быть получено и
дальнейшее, сколь угодно точное приближение к реальному тексту эпизода, то есть его полное
описание [Все сказанное в п. 5, по-видимому, подрывает теорию “неуловимого”, по которой
“аромат” художественного произведения возникает где-то в высших его сферах, в царстве
“чуть-чуть”, все же остальное, что поддается анализу и формализации, есть внеэстетический
“скелет”. Сторонники этой теории не замечают, что если она верна, то любое самое гениальное
произведение оказывается на 99,99 процента ремесленной поделкой, которую в последний момент
спасает и делает искусством капля чудодейственного “художественного эликсира”. Более
вероятно, что художественное вырабатывается на всех уровнях, начиная с общего замысла вещи,
с ее контуров. Не так уж трудно придумать сравнение глаз Катюши Масловой с мокрой
смородиной; труднее вызвать к жизни весь мир образов и коллизий “Воскресения”. Неуловимое
“чуть-чуть”, просвечивающее в сравнениях и метафорах, лишь “стоит на плечах” многоэтажного,
возведенного с точным художественным расчетом здания структуры и представляет собой лишь
ее завершение, ее последние шаги, или “штрихи”.].
Резонен вопрос: является ли полученный результат единственно возможным при
сформулированных нами теме и принципах порождения? Безусловно, нет. На каждом шаге
порождения возможны альтернативные решения, близкие к имеющимся, например: В. не
пропивает деньги, а проигрывает в карты, или существенно иные, например: Стулья не
покупаются, а бесплатно берутся в мебельной конторе по заявке от вымышленной Б. организации;
Б., полностью оформив все и найдя извозчика, доверяет В. простое дело - транспортировку
стульев, а сам ненадолго отлучается. В. в припадке скупости торгуется с извозчиком и пытается,
по примеру Б., добиться бесплатного обслуживания; выйдя из себя, по старой дворянской
привычке называет извозчика прохвостом; тот уезжает. Оставшись один со стульями, В. заносит
их в подворотню и начинает торопливо кромсать. Выбегают работники конторы и хотят
остановить его; В. сопротивляется и кричит: “Это мои стулья!” Его бьют и отнимают стулья.
Подоспевший Б. старается уладить дело, но осмеян. Стулья передаются в бюро проката и
попадают к разным лицам. Б. карает В., говоря: “Тоже мне Джек-потрошитель стульев!”
Эти варианты могут оказываться более или менее удачными с точки зрения развития заданной
темы и характеров героев, а также эффектности построения и, соответственно, приниматься или
отбрасываться (ср. процесс работы над черновиками); теоретически следует допустить и
возможность нескольких художественно равноценных вариантов. Вообще очевидно, что
порождение ряда вариантов и отсеивание неудовлетворительных входит в число функций
поэтического автомата.
6. Для предлагаемого типа описаний особенно подходящим материалом представляются
группы однотипных по форме и содержанию произведений (пьесы одного автора, например
Мольера или Островского, сборники рассказов, басен, сказок и т. п.). Можно ожидать, что
функции, формулируемые для отдельного произведения, исходя из его темы (то есть функции
Эйзенштейна-Мазеля; ср. также п. 5), ввиду идентичности содержания этих произведений
окажутся инвариантными для всей группы, то есть совпадут с функциями в смысле Проппа.
Тогда следует ожидать появления литературоведческих работ, в которых “грамматика”
инвариантных функций будет иметь объясняющую силу для идейной стороны (Пропп,
“помноженный” на Эйзенштейна); иными словами это будет автомат, имитирующий построение
этих и подобных им произведений при условии, что на его “вход” будет подаваться фигура,
признанная их темой. Эти требования к литературоведческой работе, очевидно, весьма сильные;
поэтому потребуется постепенность в выборе материала, и так называемая “малая” классика
(например, Дюма или Конан Дойл), по-видимому, займет на какое-то время центральное место в
научной работе [Ср. лингвистику, где крупные открытия были связаны с поисками оптимальной
процедуры для такой “неинтересной” вещи, как грамматический разбор. Заметим, что в
литературоведении вещи, аналогичные грамматическому разбору, скорее отсутствуют.]. Что
касается попыток заранее определить понятия, навести всякого рода “типологии” и создать
разветвленный
каркас литературной науки на чисто дедуктивных началах, то они
представляются преждевременными и малоинтересными. Наш “программный” эмпиризм (от
описания к описанию, от модели к модели, а не от доктрины к доктрине!) является вынужденным
и подсказывается, в частности, недавней историей структурной лингвистики [Ср., с одной
стороны, роль грамматик индейских языков для формирования дескриптивной лингвистики или
алгоритмов машинного перевода для современной теории языка, а с другой - печальное зрелище
так называемого S-структурализма (см. И.И.Ревзин. Модели языка. М.: Изд. АН СССР, 1962 и ряд
других сочинении).].
К сожалению, некоторые тенденции структурной и семиотической мысли в поэтике дают
резонный повод для сарказмов. Применение всей гаммы “современных” понятий, начиная от
“знака” и “молекулярного уровня” и кончая “глобальной моделью”, “моделирующей системой” и
“семиотическими экспериментами”, часто не идет дальше более или менее хитроумной
транслитерации банальных или приблизительных представлений. Это, в сущности, не
удивительно, если учесть, что многие из таких работ являются результатом массовой фабрикации,
приурочиваемой ко дням больших и малых семиотических праздников, когда всем желающим
предоставляется возможность отлить свои читательские впечатления в научную бронзу.
Структурную поэтику делает довольно уязвимой и тот дух делового прожектерства, при котором
одни основывают свой интерес к ней на надеждах предотвратить якобы назревающий кризис
кибернетики, обогатив машины образным мышлением; другие озабочены применением к
литературе принципов неопределенности и дополнительности; третьи пытаются предугадать
габариты и марку автомата, который будет порождать художественные тексты, и т.д.
*
*
*
В этой по необходимости краткой заметке мы старались конспективно изложить важнейшее и
не могли ответить на многие предвидимые и непредвидимые возражения и вопросы. Мы к тому
же полагаем, что такая общетеоретическая полемика станет ненужной при условии практических
успехов структурной поэтики.
http://www.usc.edu/dept/las/sll/rus/ess/strukt.htm