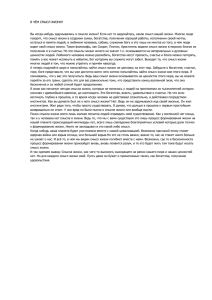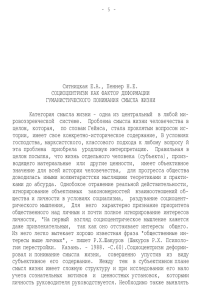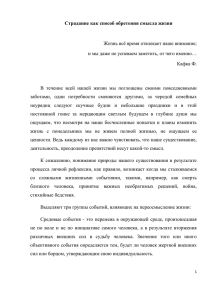ЕВРЕЙСКАЯ МЕЛОДИЯ
реклама

ЕВРЕЙСКАЯ МЕЛОДИЯ Что такое счастье? А что такое аневризма аорты? Думаю я, думаю, но не вижу в этих словах смысла. Поискам смысла я посвятила всю свою жизнь, и если бы не эти поиски – жить бы было просто незачем. Где я только этот смысл не искала! Двадцать лет прошло в этих поисках, и что только я не перепробовала: запои и абсолютную трезвость, беспорядочные связи и полное воздержание, вегетарианство и белковую диету, хатха йогу и харе кришну, не говоря уже об их всевозможных комбинациях. Все было в моей жизни, только смысла в ней не было. Но если жизнь посвящена поискам смысла – значит, надо его искать. И даже если жизнь закончилась, а смысл не найден – все равно, он найдется в какой-нибудь следующей жизни. Конечно, не все люди это понимают. Иногда я думаю, что это никто не понимает, кроме меня. Но я живу только поисками смысла, и потому я не похожа на других людей. Мысли у меня, всюду мысли, не только в голове. От мыслей у меня пламя в животе, да такое, что все легкие в дыму, и задыхаюсь я, и прошу мне воздух поменять на этой планете, только никто меня не слышит, потому что все сошли с ума. Ветви деревьев точно сумасшедшие – об стены колотятся. Это потому, что у ветра – белая горячка. Странно, почему горячка – белая, а оспа – черная? Есть ли в этом какой-то смысл? Наверное, есть, но как его найти? А на улице – сильный невроз… Короче, я одна здесь нормальная. Если все время думать, мыслей становится все больше. Если все время думать об одном и том же – эти мысли оказываются одной большой мыслью. Вот эта мысль поселилась внутри меня и стала моим двойником. Теперь мне стало вдвое интересней жить, и поиски смысла пошли вдвое интенсивнее. И самое главное – никто не знает, что нас двое, что все смотрят на меня – а видят ее. Ее зовут Маргарита Крапивнер, и она старая еврейка, поющая еврейские мелодии. Я ей говорю о смысле жизни, а она поет: – Одна , одна я во всей стороне поднебесной, во всей стороне подлунной, во всей стороне подсолнечной. На крыше дома своего стою я и смотрю на тени ночных собак, играющих среди фиговых и хреновых деревьев. – Но в чем же смысл твоего одиночества? И зачем тебе эти ночные собаки? – Ветер, ветер везде, а жизнь по-прежнему прекрасна и по-прежнему одинока. Одна у меня кровать, и стол у меня один, и возле стола однаединственная табуретка. Все они у меня одинокие, все они у меня прекрасные. – Какой же смысл в том, что они прекрасны? Не хвастайся, будто ты умеешь считать до одного, я тоже умею. – А я с ними живу, с ними и с ковром. Ибо есть у меня ковер любимый, которого я так люблю, что бью чуть не каждый вторник. О как я бью его, бедного, распятого на железном турнике посреди двора, где жирные лужи и пустая песочница! О как я его бью, дырявого и ветхого, всю душу в него вкладывая, как не побивали камнями мы блудниц своего народа. – Какой смысл в любви, если бьешь? Зачем бить, если любишь? И при чем здесь этот ужасный ковер? И зачем ты бьешь его, если он у тебя один? – Но нужно же мне хоть кого-нибудь бить! Должен же быть у меня хоть какой-то козел отпущения. Ведь скоро весна, и воздух уже пахнет водой и бензином, а в душе радость. Ведь скоро все мы, евреи, почистим перышки, соберемся в стаи и полетим в землю обетованную, где море и солнце, и саранча, и землетрясение, и засуха. И каждый из нас возьмет своего козла отпущения, и отпустит там этого козла, и побегут во все стороны козлы еврейские, пощипывая травку. – Но где же смысл этого странного обряда? Куда отпускают козла отпущения? И что ты будешь делать в земле обетованной, если дедушка у тебя кузнец, а бабушка – комсомолка? Не отвечает мне на мои вопросы мой двойник – старая еврейка Марина Крапивнер. Пожалуй, отвезу я ее в больницу хорошую – психическую. Больница и правда хорошая, уютная, я бы сама там полежала, но врачи считают, что я нормальная, даже справку дали – красивую, розовую. И я говорю Марине: – Скажи, что такое счастье? Какой в нем смысл? – Счастье – внутри тебя. Посмотри внутрь – и увидишь счастье. И вот уже много лет я смотрю в себя. Что я там вижу? Вот – увеличенная печень. Вот – красное сердце и зеленый желудок. И еще кишки – толстые и тонкие. А там, в темной глубине – что-то маленькое-маленькое, тоненькоетоненькое, скрюченное и сморщенное… Неужели это и есть мое счастье?! Но почему? Я заснула. Во сне я сидела в кресле и все время качала головой. А вокруг меня ходили молодые люди и беседовали. – Вам не скучно здесь? – спрашивает один из них, нежно наклоняясь надо мной. – Нет, мои родители в Бомбее, – отвечаю я, перебирая оборку платья. – Но вы, наверное, много читаете? – спрашивает другой, целуя мне ручку. – Да, у моего мужа умерли все собаки. И тут все заговорили, тихо и сострадательно. – Бедная, бедная… Ничего не слышит… – Это из-за мужа… Он бил ее головой об стенку, и она оглохла… – Но это хорошо, что она ничего не слышит… – Потому что если бы она услышала, что тут делается… – И не подумаю, – тихо говорю я и улыбаюсь длинной скользкой улыбкой. Я просыпаюсь. Я думаю.