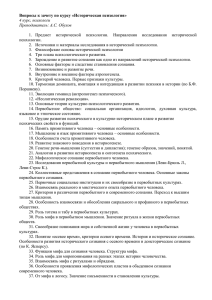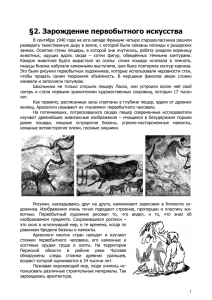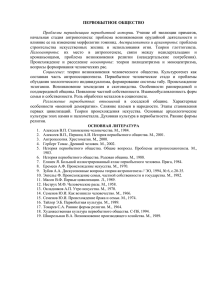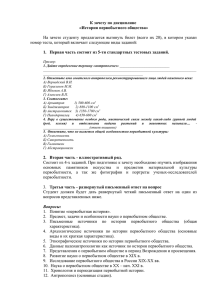Слово «культура» происходят от слова «культ» — вера, обычаи
реклама
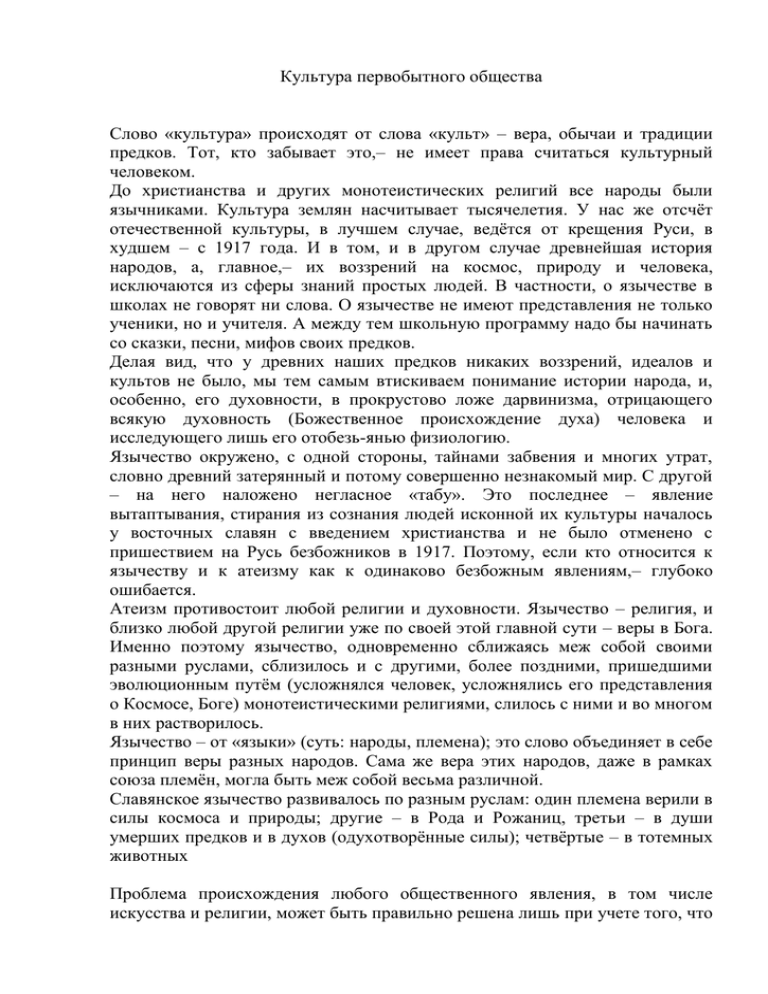
Культура первобытного общества Слово «культура» происходят от слова «культ» – вера, обычаи и традиции предков. Тот, кто забывает это,– не имеет права считаться культурный человеком. До христианства и других монотеистических религий все народы были язычниками. Культура землян насчитывает тысячелетия. У нас же отсчёт отечественной культуры, в лучшем случае, ведётся от крещения Руси, в худшем – с 1917 года. И в том, и в другом случае древнейшая история народов, а, главное,– их воззрений на космос, природу и человека, исключаются из сферы знаний простых людей. В частности, о язычестве в школах не говорят ни слова. О язычестве не имеют представления не только ученики, но и учителя. А между тем школьную программу надо бы начинать со сказки, песни, мифов своих предков. Делая вид, что у древних наших предков никаких воззрений, идеалов и культов не было, мы тем самым втискиваем понимание истории народа, и, особенно, его духовности, в прокрустово ложе дарвинизма, отрицающего всякую духовность (Божественное происхождение духа) человека и исследующего лишь его отобезь-янью физиологию. Язычество окружено, с одной стороны, тайнами забвения и многих утрат, словно древний затерянный и потому совершенно незнакомый мир. С другой – на него наложено негласное «табу». Это последнее – явление вытаптывания, стирания из сознания людей исконной их культуры началось у восточных славян с введением христианства и не было отменено с пришествием на Русь безбожников в 1917. Поэтому, если кто относится к язычеству и к атеизму как к одинаково безбожным явлениям,– глубоко ошибается. Атеизм противостоит любой религии и духовности. Язычество – религия, и близко любой другой религии уже по своей этой главной сути – веры в Бога. Именно поэтому язычество, одновременно сближаясь меж собой своими разными руслами, сблизилось и с другими, более поздними, пришедшими эволюционным путём (усложнялся человек, усложнялись его представления о Космосе, Боге) монотеистическими религиями, слилось с ними и во многом в них растворилось. Язычество – от «языки» (суть: народы, племена); это слово объединяет в себе принцип веры разных народов. Сама же вера этих народов, даже в рамках союза племён, могла быть меж собой весьма различной. Славянское язычество развивалось по разным руслам: один племена верили в силы космоса и природы; другие – в Рода и Рожаниц, третьи – в души умерших предков и в духов (одухотворённые силы); четвёртые – в тотемных животных Проблема происхождения любого общественного явления, в том числе искусства и религии, может быть правильно решена лишь при учете того, что всякое социальное явление возникает на основе определенной общественной потребности. Когда нужно было вскрыть истоки качественно-специфического социального явления, классики марксизма прежде всего выясняли, на основе какой социальной потребности это явление формируется. Например, выясняя причины возникновения языка, К. Маркс и Ф. Энгельс писали: „...язык возникает лишь из потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми"1 . В „Капитале" Маркс показал, как потребности товарного обращения вызвали к жизни всеобщий эквивалент стоимости, т. е. деньги2. Раскрывая причины возникновения государства, Ф. Энгельс в письме К. Шмидту говорил: „Общество порождает известные общие функции, без которых оно не может обойтись" 3 Таков должен быть и подход к проблеме возникновения искусства и религии. Здесь также прежде всего следует определить, каковы те специфические социальные потребности, которые вызвали к жизни каждое из этих общественных явлений. Без этого нельзя понять ни их сущности, ни их социальных функций. Важно учитывать также, что определенная социальная потребность реализуется в той или иной системе деятельности людей. Ведь общество не есть некая самостоятельная сущность или субстанция, существующая вне взаимодействия отдельных индивидов. Напротив, общество, как специфическая система, существует реально лишь как продукт взаимодействия составляющих его людей. Поэтому любая социальная потребность является одновременно потребностью взаимодействующих в обществе людей и реализуется в этом взаимодействии, т. е. в их деятельности. Сложный, но весьма важный для понимания проблемы происхождения искусства и религии вопрос состоит в следующем: реализуется ли каждая специфическая социальная потребность с самого начала в особом, качественно-специфическом виде деятельности людей, или же первоначально в одном виде деятельности могут реализоваться несколько, притом принципиально отличных друг от друга, социальных потребностей? При ответе на этот вопрос следует учитывать, что в первобытном обществе дифференциация и специализация видов человеческой деятельности только зарождалась и была лишь в очень слабой степени закреплена возникавшим половозрастным разделением труда. В чем состояли зачатки дифференциации видов деятельности в родовом обществе примерно за 10-20 тысячелетий до н. э. (верхний палеолит)? Прежде всего в том, что охота на крупных животных (мамонта, зубра, пещерного медведя, оленя и т.п.), став исключительным делом взрослых мужчин, отделилась от собирательства и охоты на мелких животных, которыми занимались женщины и дети. Так возникло зачаточное разделение труда в производственной сфере. Но кроме собственно трудовой, производственной деятельности в родовом обществе существовала и сфера внепроизводственной деятельности первобытной общины. Она включала в себя помимо потребительской деятельности и зачатки духовной деятельности, которыег по нашему мнению (это будет подробно показано в дальнейшем), находили свое объективное, предметное выражение прежде всего в обрядах. Именно обрядовые действия были, с нашей точки зрения, тем видом деятельности, в котором одновременно реализовалось несколько качественно разнородных духовных потребностей первобытной общины: эмоционально-экспрессивная, познавательная, эстетическая, магическая (т. е. религиозная). Соглашаясь с тем, что необходимо четкое выделение специфических социальных потребностей, породивших искусство и религию, мы в то же время не склонны считать, что различие указанных потребностей (как полагает, например, советский исследователь А. Ф. Еремеев) исключает возможность синкретической целостности искусства и религии в первобытную эпоху1. Возможность такого нерасчлененно-го единства определяется, в частности, тем, что специфически-художественная и специфически-религиозная деятельности еще не отпочковались от такого синкретического образования первобытной эпохи, каким были обрядовые действа. Важным методологическим принципом исследования, которым стремился руководствоваться автор в своей работе, был также принцип единства сознания и деятельности. В первобытную эпоху, когда умственный труд еще не отделился от физического, сознание первобытных людей было непосредственно связано с их деятельностью, и прежде всего деятельностью трудовой, производственной. Как указывали Маркс и Энгельс, „производство идей, представлений, сознания первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и в материальное общение людей, в язык реальной жизни"2. Именно в сфере трудовой, производственной деятельности людей лежат истоки как зачатков их художественной деятельности, так и их первоначальных религиозных верований. Формирование и развитие человеческого сознания, как известно, происходило в единстве с развитием такого материального средства общения людей, как язык. И это относится в равной мере к художественному и религиозному сознанию. Зачатки того и другого находили свое материальное, предметное воплощение не только в звуковой речи, но и в изображениях, танцах и песнях, которые первоначально, по-видимому, выступали как элементы целостного обрядового комплекса. Проблема дорелигиозной эпохи Религия не извечна, она представляет собой историческое явление и возникла лишь на определенном этапе развития человеческого общества. Возникновению религии предшествовал дорелйгиозный период развития человечества. Это положение стало привычным тезисом, над содержанием которого далеко не всегда задумываются. А между тем вопрос о том, что собой представляла дорелигиозная эпоха, как ее трактовать, – вопрос далеко не праздный и весьма существенный для объяснения условий и причин возникновения не только религии, но и других элементов первобытной культуры. В советской научной литературе эту проблему попытался решить В. Ф. Зыбковец1. Отдавая должное его настойчивым усилиям обобщить и осмыслить значительный археологический и этнографический материал, критическому пафосу, пронизывающему его книги и обращенному против немарксистских теоретиков, мы не можем согласиться с некоторыми принципиальными аспектами его концепции. Если говорить предельно кратко, то суть концепции В. Ф. Зыбковца состоит в утверждении, что в истории человечества существовала весьма длительная эпоха, включавшая весь древний, средний и отчасти поздний палеолит, когда люди не знали религии, хотя у них существовали уже и нравственность, и искусство1. С точки зрения В. Ф. Зыбковца, не только неандерталец, но даже синантроп и питекантроп обладали развитым интеллектом, мыслили „логично", т.е. были разумными существами2. Уже в древнем палеолите, по его мнению, существовали нравственные нормы, регулировавшие поведение отдельных особей, формировались эстетические потребности и искусство, но полностью отсутствовали религиозные верования3. Такое понимание дорелигиозной эпохи вызывает серьезные возражения, поскольку оно, на наш взгляд, игнорирует существенные качественные различия между первобытном стадом „формирующихся людей" (архантропов и палеоантропов, согласно терминологии антропологов) и первобытной общиной людей современного физического типа (неоантропов, Homo sapiens) , к которым принадлежали люди верхнего палеолита, именуемые обычно кроманьонцами. В современной советской антропологической и археологической литературе уже в течение нескольких десятилетий плодотворно развивается теория двух скачков в формировании человека. С точки зрения этой теории в формировании человека современного типа (и, добавим мы, человеческого общества) можно выделить два важнейших скачка, т.е. коренных изменения прежнего качества. Первый знаменовал собой переход от использования готовых орудий нашими антропоморфными предками к их изготовлению. Его результатом было превращение австралопитековых обезьян в обезьяноподобных людей -архантропов,к которым относятся питекантропы и синантропы, а некоторые антропологи сейчас причисляют к ним и Homo habilis (Человека умелого), открытого Л. Лики. Второй скачок знаменовал собой превращение древнейших людей (палеоантропов, к которым причисляют неандертальцев) в людей современного типа и практическое прекращение биологической эволюции. Если на этапе формирующихся людей (архантропов и палеоантропов) наряду с нарождающимися социальными законами действовали и биологические закономерности видового развития и, в частности, продолжался процесс естественного отбора, который приводил к морфологическому изменению человеческого организма, то начиная с кроманьонцев (т. е. людей современного физического типа, археологически датируемых верхним палеолитом) биологическая эволюция человечества затихает, а развитие продолжается только на основе социальных закономерностей. В результате второго скачка возник биологический вид современного человека, который обладает неограниченными возможностями для развития не только физических, но и умственных способностей, для познания как окружающего мира, так и себя самого. Прогресс человечества отныне проявлялся в форме овладения людьми новыми средствами труда и познания (орудиями груда и знаковыми системами) и в передаче умений, навыков и знаний новым поколениям. Иначе говоря, с этого момента прогресс общества реализуется как прогресс человеческой культуры, в то время как на этапе формирующихся людей он реализовался еще и как наследственные изменения морфологической структуры, определявшиеся естественным отбором1. Из теории двух скачков необходимо следует вывод, что эпоха формирующихся людей (архантропов и палеоантропов) была эпохой становления как человеческого общества, так и самого человека. Это была эпоха, когда собственно человеческое начало еще пробивало себе дорогу, преодолевая начало звериное, биологическое. Общность формирующихся людей была первобытным стадом, в котором большую роль играли еще биологические, животные инстинкты1. Вот почему при характеристике формирующихся людей следует избегать, с одной стороны, игнорирования того специфически человеческого, социального, что уже имело место у палеоантропов, т. е. неандертальцев2, а с другой стороны, недооценки той качественной грани, которая отделяет общность формирующихся людей от общности социальной, от общества в собственном смысле слова. Последнее, к сожалению, характеризует концепцию В. Ф. Зыбковца, игнорировавшего принципиальную разницу между первобытным стадом и родоплеменной общностью людей современного типа. Однако вернемся непосредственно к проблеме дорелигиозной эпохи. В. Ф. Зыбковец пытался доказать, что разум, нравственность и искусство возникают гораздо раньше религии. Это противопоставление не может быть принято ни с точки зрения теоретических аргументов, ни с точки зрения фактов. Действительно, у формирующихся людей на протяжении длительного периода, по-видимому, отсутствовали религиозные верования, но это свидетельствует лишь о том, что их сознание было весьма примитивным, что они не выходили за рамки осознания наличной конкретной ситуации, что их воображение оставалось неразвитым, что они не были способны к обобщениям и абстрагированию. Ведь для возникновения даже зачаточных религиозных верований необходимы определенные гносеологические предпосылки. Бессилие людей перед лицом природы, их неспособность постоянно контролировать результаты своей деятельности должны были пройти через их сознание, чтобы могли возникнуть иллюзорные религиозные представления. Поэтому вполне естественно предположить, что на начальных этапах становления человечества у архантропов (т. е. питекантропов и синантропов), у которых, по данным антропологии, отсутствовали предпосылки для членораздельной речи, а следовательно, и отсутствовало развитое понятийное мышление, отсутствовали, по-видимому, и религиозные верования, даже в зачаточных формах. Во всяком случае, наука не располагает фактами об их наличии у архантропов. Но ведь то же самое можно сказать и об искусстве и морали. У нас нет оснований говорить о зачатках искусства или о моральных нормах у архантропов. Следует учитывать, что наличие определенных, закрепленных в инстинктах и навыках форм поведения древнейших обезьянолюдей еще не может быть квалифицировано как наличие моральных норм. Собственно моральные нормы формируются относительно поздно и предполагают высокий уровень не только сознания, но и самосознания человека. Что же касается неандертальцев, то археология накопила определенные факты, позволяющие делать выводы об их психике. К числу таких фактов относятся прежде всего неандертальские погребения. В настоящее время известно более 20 случаев, когда труп неандертальцев был намеренно захоронен1. Археологи обращают внимание на то, что скелеты неандертальцев найдены в позе спящего на боку, что все они ориентированы на запад или на восток и что в громадном большинстве случаев сопровождающих предметов при этом не обнаружено. Особое значение имеет открытие А. П. Окладниковым захоронения неандертальского мальчика в Тешик-Таше (Узбекистан) в 1938 г. Вокруг черепа мальчика по кругу были расставлены рога горного козла. В советской литературе существует несколько интерпретаций неандертальских захоронений. Одни авторы (М.С.Плисецкий, С.А.Токарев, В. Ф. Зыбко-вец) отрицают какую-либо связь этих погребений с религиозными верованиями, другие (А. П. Окладников, Ю. И. Семенов) полагают, что они были в той или иной степени связаны с возникавшими магическими представлениями. По-видимому, проблема в настоящее время не может быть решена окончательно и требует дальнейших исследований. Однако, если тщательно проанализировать особенности неандертальских погребений, то вторая точка зрения представляется более обоснованной. Вряд ли случайно мальчик из Тешик-Таша был окружен рогами козла, охота на которого, как указывает А. П. Окладников, была источником существования данной первобытной общины2. Здесь вполне уместно предположить существование каких-то примитивных магических верований. Маловероятным представляется и случайный характер обращенности всех неандертальских погребений на запад или восток - к заходу или восходу солнца. За этим фактом стоят также какие-то примитивные представления неандертальца об окружающем мире, представления, которые скорее всего носили иллюзорно-магический характер. И наконец, как справедливо отмечает Ю. И.Семенов, неандертальские захоронения, по-видимому, свидетельствуют не только о заботе об умершем сородиче, но и о страхе перед ним, что, вероятно, указывает на наличие смутной веры в сверхъестественные, таинственные силы1. Такая интерпретация неандертальских погребений представляется тем более вероятной, что она согласуется с находками в пещерах Драхенлох и Петерсхёле. В пещере Драхенлох (Швейцария) были найдены медвежьи черепа и кости, которые были уложены в прямоугольные ящики из плит известняка. Кроме того, в этой пещере был обнаружен отдельно расположенный череп медведя, который был окружен по контуру небольшими камнями. В пещере Петерсхёле медвежьи черепа располагались по углам и нишам пещеры, а один из них был осыпан углем и окружен камнями2. Советский археолог А. В. Добровольский в пещере возле с. Ильинка Одесской области обнаружил более 800 костей медведя, которые залегали между стеной пещеры и ограждавшими их плитками известняка, а один череп медведя был также обложен камнями3. Все эти находки датируются археологически временем мустье, т. е. эпохой неандертальцев. Истолкование этих находок необходимостью делать мясные запасы неубедительно, ибокак правильно замечает Ю. И. Семенов, оно не объясняет особого расположения медвежьих черепов в ящиках из известняка или окруженных мелкими камнями4. Следовательно, остается только одно объяснение: черепа пещерных медведей использовались неандертальцами в процессе каких-то охотничьих колдовских обрядов. Следовательно, археологические данные опровергают тезис В. Ф. Зыбковца о том, что неандерталец не был религиозным. Повидимому, у неандертальца не было сколько-нибудь оформленной и четкой системы религиозных верований, но зачатки религиозности в виде элементарных магических верований и колдовских действий у него были. Что же касается зачатков художественной деятельности у неандертальцев, то факты, свидетельствующие об ее наличии, давно известны. В мустьер-ских слоях пещеры Ля Ферраси (Франция) найдены куски красной и желтой минеральной краски (охры), причем на некоторых из них видны следы скобления кремневым инструментом или стирания их краев. В той же пещере обнаружена каменная плита с остатками нанесенных на нее красной охрой поперечных полос и пятен. Там же и в пещере Ле Мустье найдены обломки костей животных с резными поперечными линиями, составляющими как бы зачаток орнамента. Аналогичные или близкие к этим находки сделаны в Италии, Венгрии, Чехословакии1. Все эти находки свидетельствуют о том, что неандертальцы делали первые попытки использовать окружавшие их вещества природы для изобразительной деятельности. А. П. Окладников справедливо усматривает в этих попытках зачатки художественной фантазии и художественной деятельности. Обитатель пещеры Ля Ферраси, пишет А. П. Окладников, „совершил нечто до того небывалое и немыслимое: намеренно размазал краску по плитке дикого камня... Даже не просто „размазал" краску, а окрасил ею плитку, провел на ней симметрично и соразмерно ряд поперечных полосок... Тысячелетия трудовой деятельности первобытного человека, в процессе которой развивалось и его мышление, обогащалась психика, привели наконец к тому, что стал возможен выход за пределы практически полезного, необходимого. Появился произведенный человеком предмет, который не был предназначен ни для копания земли, ни для умерщвления зверя или разделывания охотничьей добычи. Единственная реальная потребность, которой он удовлетворял, была потребность в материализованном выражении внутренних переживании человека, его чувств и идей, его творческой фантазии – образов, которые возникали в его мозгу"1. Зачатки художественной деятельности у неандертальцев свидетельствовали о возникновении у них чувственных образов, непосредственно не связанных с материальными потребностями, выходивших за рамки осознания конкретной сиюминутной ситуации. Но подобные же гносеологические предпосылки, как говорилось выше, необходимы были и для зарождения зачатков магических верований и представлений. Нет никаких оснований, ни теоретических, ни фактических, отделять время возникновения зачатков искусства от времени возникновения зачатков религии. Напротив, есть все основания полагать, что формирование того и другого шло одновременно. Одновременное формирование зачатков искусства и религии совсем не означало, что эти явления возникали на основе одной и той же социальной потребности. Существовали общие гносеологические предпосылки формирования художественной деятельности и первоначальных религиозных верований, но социальные корни были у них различны. Подробнее об этом будет сказано ниже. Так существовала ли дорелигиозная эпоха? Да, существовала, если понимать под ней ранний этап формирования человеческого общества и человеческого сознания, когда человек только начинал становиться человеком, только что оторвался от своих животных предков. Но это была одновременно и эпоха до возникновения искусства и нравственности, эпоха, предшествовавшая формированию общественного сознания в собственном смысле слова. Две стороны человеческой практики Конечные истоки всех духовных, так называемых „высших", потребностей людей следует искать в их материальной практике, в их трудовой, производственной деятельности. Связь зачатков искусства и религии с производственной деятельностью людей особенно четко прослеживается в первобытную эпоху, когда сознание людей делало лишь первые шаги на пути своего относительно самостоятельного развития, когда его связь с материальной практикой выступала наиболее четко и ясно. Для понимания истоков художественного творчества и религиозных верований необходимо прежде всего вычленить две стороны человеческой практики. Общественная практика (т.е. производство людьми материальных благ) с самого начала своего существования включала в себя как объективные (т. е. не зависящие от сознания) отношения людей к природе, так и объективные отношения между людьми. Эти практические отношения людей к объективному миру (к природе и к другим людям) имеют две стороны, без вычленения которых нельзя правильно понять социальных истоков и искусства, и религии. Одна сторона человеческой практики выражает и фиксирует степень господства людей над объективным миром, другая – выражает господство объективных условий жизни над людьми. Рассмотрим эти две стороны общественной практики на примере воздействия людей на природу, т. е. их материального производства. В ходе труда люди преобразовывают природу, ставя ее себе на службу, удовлетворяя с помощью веществ и сил природы свои материальные потребности. Характер и глубина воздействия людей на природу определяются уровнем их производительных сил, прежде всего состоянием их средств труда. Чем более развиты у людей их средства труда, тем в большей степени человек становится господином природы, тем полнее и всестороннее использует силы природы в своих целях. Таким образом, в отношениях людей к природе имеются две стороны: одна фиксирует и выражает уровень господства людей над природой, степень овладения ею. Другая сторона характеризует господство природы над людьми, выражает бессилие людей перед теми природными факторами и явлениями, которыми они пока не в состоянии овладеть. Соотношение этих сторон меняется по мере развития производительных сил, по мере исторического прогресса общества. В ходе исторического развития люди все глубже и полнее познают законы природы и практически овладевают ими. Люди все меньше находятся во власти чуждых и непонятных им природных сил и все более сознательно используют эти силы для своих нужд. В этом смысле люди становятся все более свободны в своих действиях. Происходит движение от несвободы и зависимости ко все большей свободе. В течение весьма продолжительной исторической эпохи, включавшей в себя все докоммунистические формации, люди в целом оставались во власти стихийных общественных сил, сущности которых они не понимали и действие которых не были в состоянии контролировать. Указанные две стороны общественной практики существовали уже в первобытном обществе, на заре человеческой истории. Соотношение их в первобытную эпоху было специфическим: люди делали только первые шаги на пути подчинения себе объективных условий их жизни, и, следовательно, в их практической деятельности несвобода и зависимость явно преобладали над свободой. При этом следует учитывать, что в разных видах практической деятельности и даже в разных ситуациях мера свободы людей была различной, что в конечном счете обусловливало и разграничение применяемых первобытными людьми средств воздействия на природу: в одном случае это были реальные средства практического воздействия, подкрепляемые знаниями и опытом, в другом – иллюзии, выдававшие желаемое за действительное1 . Остановимся на этом более подробно. О социальных истоках искусства Многочисленные факты, собранные этнографами, достаточно убедительно показывают, что первобытный человек был весьма сметлив, ловок, умен, если речь шла о решении насущных проблем его жизни: добыче зверя на охоте, умении приспособиться к суровым климатическим условиям, создании наиболее целесообразных видов охотничьих орудий и умелом их применении и т. п. Вот что писал об охотниках-эвенках известный советский этнограф А. Ф. Анисимов: „...весь уклад жизни таежного охотника, его умение жить в суровых условиях тайги – все свидетельствует о разносторонних практических знаниях и накопленном в веках опыте. Охотник, например эвенк, по характеру лосиного следа узнает, местный это или пришлый зверь, пришел он издалека или из ближайших мест, самец это или самка, молод и неопытен или стар и умен зверь и т. д. По веткам, которые обглодал лось, охотник безошибочно заключает, голоден был зверь или сыт, по его следам – как вел себя зверь на жировке: долго ли дневал здесь, ушел сам или его ктото спугнул и т. д. Учтя все это, охотник и решает, где искать притаившегося зверя..."1 Столь же подробно описывает А. Ф. Анисимов удивительную приспособленность к таежным условиям одежды эвенков, их лыж, их берестяных лодок, их переносных жилищ (чумов) и т. д. Известный писатель и путешественник В. К. Арсеньев рассказал о таком случае. Однажды ему предстояло пройти сложным путем по незнакомой местности. Эвенк, который его сопровождал, никогда не бывал в этих местах, но приметы предстоящего пути проводнику рассказал бывший в этих местах много лет тому назад старик эвенк. С его слов проводник в течение шести дней вел отряд по незнакомой ему местности и привел к тому месту, где его должен был встретить другой отряд, шедший навстречу... Оказывается, проводник каждый вечер наблюдал на небе звезды и по ним узнавал, правильно ли они идут и какого направления нужно держаться1. Эвенки в данном случае не исключение. Аналогичные факты отмечены как отечественными (Л. Я. Штернбергом, В. Г. Богоразом), так и зарубежными этнографами (Б. Малиновским и другими), изучавшими жизнь многих народностей, находившихся на низкой ступени общественного развития. Все это говорит о том, что, хотя первобытный человек делал лишь первые шаги на пути подчинения себе сил природы, его умения, навыки и эмпирические знания не следует недооценивать. В определенных, жизненно важных для него сферах практической жизни он обладал таким опытом, эмпирическими знаниями и умениями, которые могут превосходить знания и умения современного человека. Именно эта сторона общественной практики первобытных людей, сторона, в которой реализовалась их свобода, и была основой зарождения зачатков эстетической деятельности. Зачатки художественной деятельности возникали в непосредственной связи с двумя сторонами жизни первобытных людей: они возникали, во-первых, в процессе и на основе трудовой деятельности, и прежде всего изготовления орудий труда, и, во-вторых, в процессе развития средств общения между людьми, в которых объективировалось познание мира. Изготовление средств труда явилось, как известно, главным фактором развития человеческого сознания. Для того чтобы найти необходимый материал для изготовления орудия (например, кремень), чтобы придать этому материалу целесообразную для трудовой деятельности форму, необходимо иметь в сознании образ желаемого объекта, осознавать, пусть в примитивной, эмпирической форме, характер воздействия этого объекта на окружающие вещи. Иначе говоря, сознание, обслуживающее деятельность по изготовлению орудий, уже не могло быть только биологически ориентированным непосредственным отражением данной ситуации. Оно должно было оторваться, с одной стороны, от непосредственной биологической жизнедеятельности наших антропоморфных предков, а с другой - выйти за рамки единичной, сиюминутной ситуации и создать образ, предваряющий результаты трудовых действий. Конечно, „в начале было дело". Первые шаги на пути изготовления орудий архантропы делали невероятно медленно, на основе тысячекратно повторяемых проб и ошибок. Генетически не сознание предшествовало изготовлению орудий, а, напротив, первые попытки изготовления орудий, сопровождающиеся соответствующим морфологическим изменением передних конечностей, предшествовали развитию сознания. Это, кстати, подтверждается выводом антропологов, согласно которому изменение руки 1 предшествовало изменению мозга . Однако, раз возникнув, сознание, бесспорно, стало необходимым условием целесообразной деятельности людей по изготовлению орудий. На определенной ступени развития трудовой деятельности возникают зачатки эстетического освоения мира, эстетического отношения к созданным человеком орудиям труда. Люди получают удовлетворение не только от того, что они создали практически целесообразный предмет, который необходим для производства средств их существования, они испытывают удовольствие от самого процесса владения материалом, придания ему необходимой формы, от умения использовать в своей деятельности свойства материала, подчиняя его своему замыслу, своей цели. Изготовление орудий, таким образом, выступает для них не просто как необходимая деятельность, но и как деятельность, приносящая субъективное удовлетворение реализацией всех человеческих способностей, знаний и умений. Создавая орудия труда, люди впервые получают возможность выявить такие объективные свойства вещей, как симметрия, ритм,и не просто выявить, а насладиться ими. А это значит, что люди начинают осваивать мир не только по законам необходимости и целесообразности, но и „по законам красоты"1. Эстетическое отношение к миру, таким образом, не было, вопреки мнению многих эстетиков и философов-идеалистов, оторвано от человеческой практики, не было результатом „чистой игры" или продуктом „высшего развития духа". Оно возникало в процессе и на основе трудовой деятельности, первоначально как одна из ее сторон. Зачатки эстетического отношения возникали и развивались в непосредственной связи с развитием человеческих умений и способностей, с одной стороны, человеческих знаний – с другой. Художественная деятельность первобытных людей первоначально не отделялась от других видов их деятельности, и прежде всего от деятельности производственной, трудовой. Об этом свидетельствуют и обнаруженные следы художественной деятельности неандертальцев, о которых говорилось выше. Эта связь отчетливо прослеживается и в последующую эпоху, датируемую археологически верхним палеолитом. Археологами найдены многочисленные орудия труда этого времени, которые покрыты разнообразным орнаментом, а иногда резными или скульптурными изображениями животных. Важно отметить, что в этих изделиях украшения подчинены функциональному назначению орудия: красота не противостоит пользе, а лишь дополняет ее. Выдающимся образцом подобных изделий является копье-металка, найденная в 1940 г. в Мае д'Азиле (Франция) . Один ее конец – крючок, в который при метании копья упирался конец его древка, - является скульптурным изображением козла. Как отмечает А. П. Окладников, форма тела животного и его поза здесь целиком зависят от формы куска материала и от назначения предмета. Козел изображен поэтому не в обычном строго фронтальном положении, а в странном и своеобразном движении. Четыре ноги животного собраны вместе и упираются в конец ко-пьеметалки. Голова его повернута назад, туловище наклонено. Козел как будто удивленно смотрит на двух маленьких птиц, которые вырастают из конца его хвостика. Скомпонованные с ним в одно целое, они образуют выступ, крючок копьеметалки1. Как уже говорилось, зачатки искусства связаны не только с процессом изготовления орудий труда, но и с развитием средств общения между людьми. Первоначально (уархантропов) .по-видимому, средства общения были непосредственно вплетены в процесс деятельности и представляли собой нерасчлененные жесто-звуковые комплексы2. В дальнейшем процесс общения отделяется от процесса труда и приобретает в своем развитии относительную самостоятельность. В верхнем палеолите, у людей современного физического типа, средства общения реализуются прежде всего в звуковой речи, которая становится членораздельной и служит формой логического понятийного мышления, но, кроме того, они реализуются в рисунке и жесте, которые в большинстве случаев выступают элементами обрядового комплекса. Формирование искусства в процессе и на основе коммуникативной деятельности людей подробно освещено в книге В. Шерстобитова 1. Хотя многие положения автора носят гипотетический и дискуссионный характер, исследование единства художественной и коммуникативной деятельности первобытных людей проведено им весьма пблно и убедительно. Поэтому, не останавливаясь на деталях этой сложной проблемы, выделим лишь наиболее существенные в теоретическом плане ее аспекты. Думается, что В. Шерстобитов прав, когда он подчеркивает, что истоки как изобразительного, так и танцевально-музыкального искусства были непосредственно связаны с развитием средств материального общения между людьми. Если мы обратимся в этой связи к анализу наиболее древних изображений, которые мы находим на палеолитических стоянках и главным образом в пещерах, то мы увидим, что они, несомненно, играли всегда определенную коммуникативную роль, были особыми средствами передачи другим людям определенной информации. Содержание этой информации было различным, оно включало в себя и иллюзорные магические представления, но это не меняет дела. Рисунок с самого начала был не только реализацией художественной, эстетической потребности, но и средством материализации определенных образов и мыслей и передачи их другим людям. Можно, по-видимому, согласиться с тезисом этнографа К. Штейнена: „Сообщающий рисунок древнее, чем украшающий"1. И в последующем своем развитии художественная сторона рисунка не исключала его коммуникативной функции. Напротив, обе эти стороны изображения находились в неразрывном единстве. В пользу этого вывода В. Шерстобитов в своей книге приводит многочисленные наблюдения этнографов. Так, например, индейцы племени бороро, нарисовав на песке животное в натуральную величину (тапира, пантеру), удаляли песок изнутри контура и засыпали углубление голубоватым пеплом от костра, а глаза животного или пятна на его шкуре обозначали темным песком. При лунном свете, в багровых отблесках от костров эти изображения казались реальной, расстеленной на песке шкурой животного2. С этой точки зрения представляет значительный интерес исследование первобытного орнамента, проведенное сибирским археологом Б. А. Фроловым3. Он убедительно показал, что возникновение орнамента в первобытном обществе связано не только с формированием эстетической потребности в украшении, но и с развитием человеческого познания, в частности, с формированием зачатков математических знаний, причем познание чисел сочеталось в первобытном орнаменте с выявлением и постижением ритма повторяющихся узоров и фигур. Что касается зачатков первобытного музыкального искусства, то наука до последнего времени почти не располагала фактами, позволяющими, хотя бы гипотетически, его реконструировать. Тем больший интерес вызывает сообщение о том, что украинские археологи не только обнаружили на Черниговщине целый „ансамбль" палеолитических музыкальных инструментов, сделанных из костей мамонта, но и сумели воспроизвести практически их звучание. Каждый из инструментов имел свое назначение и издавал звуки различной высоты. Бедро мамонта, например, использовалось наподобие современного ксилофона, череп был своеобразным барабаном. „Ансамбль далеких предков, – заявил член-корреспондент АН Украинской ССР С. Бибиков, - скорее всего создавал лишь ударно-музыкальный ритм, сопровождавший первобытный танец. Об этом свидетельствуют найденные в комплексе „оркестра" браслет-кастаньеты из пяти вырезанных из бивня мамонта пластинок"1. Все эти и многие другие факты свидетельствуют о том, что социальная потребность, породившая искусство, вырастала на основе развития человеческого труда и общения, совершенствования человеческого сознания, материализованного в различных формах. Иначе говоря, истоки искусства лежат в той стороне человеческой практики, в которой находит свое проявление человеческая свобода. Этому тезису, однако, на первый взгляд противоречит несомненная связь первобытного искусства с магией, с религией. На протяжении длительного периода многими буржуазными учеными, изучавшими палеолитическое искусство, развивалась магическая концепция происхождения искусства, согласно которой искусство возникает из магических обрядов. Одним из первых эту концепцию сформулировал французский археолог и историк Соломон Рейнак, который писал о возникновении древнейших произведений искусства: „Мы сталкиваемся тут с магическим происхождением самого искусства, имеющего целью привлечь известного рода околдовыванием животных, которыми питается племя"2. Сторонником магической концепции был и западногерманский исследователь первобытного искусства Герберт Кюн. По его мнению, искусство, так же как религия, есть путь человека к раскрытию вечной тайны божества, один из способов приблизиться к богу. Поэтому Кюн считал, что живописные изображения неизбежно были с самого начала связаны с религиозным культом1. Для того чтобы правильно охарактеризовать соотношение искусства и религии в их генезисе, необходимо остановиться на двух вопросах: во-первых, на социальных истоках магии как древнейшей, по нашему мнению, формы религиозных верований; и, во-вторых, на сущности и происхождении обряда как специфического эмоционально-смыслового комплекса. Социальные корни магии Магия есть совокупность верований и специфических колдовских действий, с помощью которых люди пытаются сверхъестественным образом воздействовать на окружающие их предметы и явления. В основе магии, таким образом, лежит вера в сверхъестественную связь между реальными объектами или действиями. Археологические и этнографические источники свидетельствуют о том, что древнейшие магические верования и обряды зародились очень давно, на самых ранних этапах развития первобытного общества, возможно еще в мустьерскую эпоху, т. е. у неандертальцев. Мы разделяем точку зрения тех авторов, которые считают, что в магии верования в сверхъестественное выступали еще в самом примитивном, неразвитом виде2. Суть первых магических верований и обрядов очень точно охарактеризовал советский этнограф А. Ф.Анисимов, рассматривая их как попытки выдать желаемое за действительное1. Древнейшими магическими обрядами были, судя по археологическим данным, обряды овладения охотничьей добычей и умножения пищи, т. е. животных. В этих обрядах, многочисленные описания которых мы находим в этнографической литературе, наиболее ясна генетическая связь магии с человеческой практикой, с трудовой деятельностью людей. Рассмотрим с этой точки зрения типичный для многих племен обряд овладения охотничьей добычей. Охотники рисуют на земле или на песке изображение животного, которого предстоит убить, и исполняют вокруг него особый ритуальный танец, имитируя в нем движения охотника, преследующего зверя. Известен и другой вариант подобной магической пляски, когда танцующие рядились в маски, изображающие животных, на которых охотилось племя, и копировали внешний облик и повадки этих животных. А. Ф. Анисимов приводит свидетельство одного этнографа о так называемой „бизоньей пляске" индейского племени манданов в Северной Америке. У манданов бизоний танец устраивался тогда, когда бизоньи стада удалялись от стойбищ индейцев, и имел целью магическим путем вернуть их и обеспечить успех в охоте. По описанию американского этнографа, в каждом туре пляски участвовали от пяти до пятнадцати индейцев. На головах у них – шкуры с голов бизонов или заменяющие их маски с рогами. В руках - оружие, которым обычно пользуются в охоте на бизонов. Танец со сменяющимися группами танцоров длится непрерывно до тех пор, пока не появятся бизоны, – иногда две, а то и три недели. Он изображает охоту. Когда кто-либо из танцоров устает, в него пускают стрелу с затупленным наконечником. Он падает, подражая бизону. Присутствующие оттаскивают упавшего за ноги из круга, копируя свежевание бизона. Потом его отпускают, а освободившееся место в круге занимает кто-нибудь другой1. Похожие на этот обряды, когда в танце изображается процесс охоты на зверя, известны и у многих других народностей и многократно описаны этнографами. На примере этого охотничьего обряда можно четко выделить несколько существенных особенностей первобытной магии. Во-первых, становится ясно, что охотничья магия возникает как продолжение охотничьих, т. е. трудовых, действий людей, что она, следовательно, в качестве своих истоков имеет труд, производство. Во-вторых, в „бизоньем танце" очень четко выступает главная особенность наиболее архаических магических обрядов овладения добычей: этот танец есть попытка выдать желаемое за действительное, подменить реальный процесс охоты его изображением, имитацией. Иллюзорный магический элемент здесь состоит первоначально лишь в замене реального объекта охоты его „заместителем", роль которого играет либо изображение (рисунок, скульптура), либо человек в маске животного. Вспомним в этой связи известные слова К. Маркса о фетишизме: „Распаленная вожделением фантазия создает у фетишиста иллюзию, будто „бесчувственная вещь" может изменить свои естественные свойства для того только, чтобы удовлетворить его прихоть" . Подобная же иллюзия создается и у участников магического обряда. „Распаленная вожделением", их фантазия превращает процесс подражания охоте в саму охоту, ритуальное „убийство" зверя в реальный способ обеспечения племени пищей. Таковы зачатки магии. В этих первоначальных формах магический ритуал хотя и содержит в себе элементы веры в сверхъестественное (в виде веры в сверхъестественную связь между охотничьим ритуалом и результатами самой охоты), но они здесь сочетаются с многими другими его сторонами: с упражнением умений, силы и ловкости охотников, с познанием и точным воспроизведением повадок зверя и, наконец, с эмоционально-эстетическим освоением ритма телодвижений, что в дальнейшем послужит основой возникновения танца. Какова же социальная потребность, вызвавшая к жизни магию как древнейшую, наиболее архаическую форму религиозных верований? На этот вопрос нетрудно ответить, исходя даже лишь из приведенных выше фактов. Первобытную магию рождает не сама трудовая деятельность, а ее ограниченность, слабость, узость сферы ее воздействия. Будучи не в состоянии реальными практическими средствами обеспечить желаемый результат своих трудовых усилий, первобытный человек прибегал к мнимым, иллюзорным средствам воздействия на природу. В этой связи становится ясно, что первобытную магию (и религию вообще) рождало не просто незнание подлинных причин тех или иных явлений природы, как думали этнографы-эволюционисты (Эд. Тэйлор и другие), ее рождала неудовлетворенная практическая потребность воздействия на силы природы. Первобытные люди во многих случаях были не в состоянии реальными практическими средствами обеспечить постоянный успех своих действий. Первобытный охотник, несмотря на всю его ловкость и умение, часто оставался без добычи. Звери обходили его ловушки, а подчас и вовсе исчезали из того района, где он охотился. Русский этнограф Л. Я. Штернберг, долгие годы изучавший быт народов Сибири и Дальнего Востока, писал: „С одинаковой заботливостью первобытный охотник изо дня в день ставит свой гениальный самострел на зверя. И вот сегодня один за другим хитрые звери приходят на его стрелу и становятся его верной добычей, но могут проходить дни и недели, когда не только ни один зверь не приблизится к его ловушке, но когда он, даже многократно пробегая мимо самого его орудия, как бы смеясь, уходит неуловимый и невидимый... При всем своем искусстве в одном случае он (первобытный охотник. –Д. У.) направляет стрелу в животное даже в самую плохую погоду и убивает его (т. е. зверя. – ДУ.),ав другом случае при самых благоприятных условиях делает промах, стреляет и не попадает... Одним словом, перед ним в борьбе за существование встает „его величество случай", то, что мы называем удачей, счастьем и т. д., явление для него совершенно непонятное, таинственное... Вот тут-то и начинается область религии"1. Трудовая деятельность первобытных людей, как правило, не могла уверенно гарантировать воспроизводство их средств к существованию. Результат их действий зачастую не соответствовал поставленной ими цели. Вступал в силу, по меткому выражению Л. Я. Штернберга, „его величество случай", т. е. природа навязывала людям то, чего они не хотели. Неуверенность первобытных людей в результатах их производственной деятельности, отсутствие реальных средств, обеспечивавших постоянный успех охоты, рыбной ловли и иных трудовых действий, и были основной причиной, побуждавшей людей той эпохи к использованию иллюзорных, мнимых средств практического воздействия. Такое понимание причин, рождавших магию, подтверждается интересными исследованиями английского этнографа Б.Малиновского. Изучая быт жителей Тробриандовых островов (Меланезия), Малиновский попытался проанализировать, какие именно виды трудовых действий у них всегда сопровождаются магией. Оказалось, что магия необходимо предваряет и сопровождает те виды трудовой деятельности обитателей этих островов, где присутствует неуверенность в результатах человеческих действий, где большую роль играет случай, где охотника или рыболова подстерегает опасность. Например, рыбная ловля в безопасной лагуне не сопровождается у островитян магическим ритуалом. И, напротив, рыбная ловля в открытом море, в особенности полная опасностей охота на акул обязательно предваряется магическими обрядами. В сфере земледелия – подобное же разделение. Выращивание культур, требующее больших усилий и не всегда дающее ощутимый результат, сопровождается магией. Некоторые другие виды земледелия, более простые и более эффективные, не -имеют магического сопровождения. Постройка каноэ, от которых зависит подчас жизнь рыболовов, связана со сложными магическими обрядами. Постройка же домов лишена магического сопровождения1. На основании этих фактов Б.Малиновский пришел к правильному в общем выводу, что „мы находим магию там, где присутствуют элементы случая, а также весьма широко распространены эмоциональные колебания между надеждой и страхом" . Итак, мы можем констатировать, что между трудовой, производственной деятельностью первобытных людей и их магическими верованиями и обрядами существует тесная связь. Но это связь специфическая. Магия какбы восполняет с помощью иллюзий трудовую деятельность первобытных людей там, где последняя слаба, ограничена в средствах, не может постоянно обеспечить требуемый результат. Магия выступает как мнимый „эрзац", псевдозаменитель реальных средств воздействия на природу, она паразитирует на трудностях человеческой борьбы за существование. Следовательно, социальная потребность, породившая магию, принципиально отлична от социальной потребности, породившей зачатки художественного творчества. Если в ходе анализа социальных истоков искусства мы пришли к выводу, что они коренятся в свободной творческой деятельности людей, в развитии их способностей, умений и знаний, то истоки магии (и религии в целом) следует искать в ограниченности человеческой практики, в несвободе людей, в их зависимости от господствующих над ними стихийных сил. Таким образом, социальные потребности, породившие искусство и религию, различны. Однако мы часто сталкиваемся с фактами, говорящими о том, что в первобытном обществе магия и искусство сливались и переплетались. Это слияние и переплетение происходило в обрядах, к анализу которых мы и обратимся. Первобытный обряд как синкретическое, полифункциональное явление Обряд, как уже было показано выше, возникает непосредственно из трудовой деятельности. Первоначально члены первобытной общины как бы воспроизводили охоту, имитируя, с одной стороны, повадки зверя (либо с помощью его изображения на песке или на стене, либо обряжаясь в его личину) , а с другой – действия охотников, которые необходимы для добычи этого зверя. Однако такого рода действия не были простым повторением охоты: они становились символами, которые выражали и радость людей в связи с их удачной охотой, и их уверенность в том, что подобные действия обеспечат успех охоты в будущем. Первые охотничьи обряды с самого начала включали в себя и зачатки эстетического отношения к миру. В. Шерстобитов высказывает интересное предположение, что охотничий обряд возник из танца, в котором в эмоционально насыщенной форме охотники рассказывали сородичам об удачной охоте, изображали ее эпизоды, а первые рисунки животных (на песке, на глине и т. п.) возникли как раз в процессе такого рассказа о прошедшей охоте, они как бы служили наглядной иллюстрацией к пляске-спектаклю, рассказывающему об этом смертельно опасном, но жизненно важном для первобытной общины предприятии1 . Можно предположить тйкже, что подобная эмоционально насыщенная пляска-рассказ повторялась после каждой удачной охоты, что в конце концов сформировало веру первобытных людей в магическую силу самой пляски, обеспечивавшей якобы обильную добычу. Так, по-видимому, сформировался первый магический обряд овладения добычей. Эмоционально-экспрессивные действия, первоначально служившие средством сообщения о реальных событиях и одновременно выражавшие радость общины по поводу удачной охоты, постепенно превратились в действия-символы, главный смысл и назначение которых состояли в магическом обеспечении удачной охоты в будущем. Однако даже вполне сформировавшийся обряд никогда не выполнял только одной, магической, функции. Он представлял собой полифункциональное, синкретическое образование, которое выступало формой реализации сразу нескольких социальных потребностей. Помимо удовлетворения потребности в иллюзорном восполнении практической слабости первобытных людей (эта потребность реализовалась в вере в магическую, сверхъестественную силу обряда) , обряд удовлетворял их познавательную, эмоциональноэкспрессивную, учебно-воспитательную и эстетическую потребности. В охотничьем танце, в изображениях и масках, которые были его компонентами, по свидетельству этнографов, очень точно фиксировались особенности поведения зверей, их повадки. В обряде тем самым находила свою реализацию практическая потребность познания особенностей животных – объектов охоты – и передача этих знаний новым поколениям. Далее. Многие охотничьи обряды включали в себя поражение участниками танца изображения зверя копьями или дротиками. Подобные действия не могли не упражнять умение, силу и ловкость охотников и служили тем самым своеобразным способом практической подготовки к охоте. Эта сторона обряда выступает особенно ясно в тех случаях, когда подобные ритуалы практиковались подростками и юношами и включались в состав инициации (т. е. обрядов, знаменовавших переход подростков в состав взрослой мужской части общины). Многие свидетельства этнографов и археологов говорят о том, что охотничьи ритуалы в этих случаях были особым способом обучения молодежи приемам охоты. Немаловажную роль играли первобытные обряды и как форма проявления эмоций, как способ эмоциональной разрядки. По мнению многих антропологов и археологов, первобытный человек был существом гораздо более эмоциональным, чем человек современный. Это вполне объяснимо. Первобытный человек гораздо чаще, чем современный, попадал в кризисные ситуации, грозившие ему гибелью. При недостатке информации о причинах, создававших подобные ситуации, бурное эмоциональное реагирование на них было неизбежным. Бурные эмоции вызывал и успешный выход из подобных ситуаций. Чувства радости и торжества в этих случаях носили аффективный характер и требовали двигательной разрядки. Обряды выступали как способ реализации этой разрядки. Наконец, в обряде удовлетворялась и зарождавшаяся эстетическая потребность первобытных людей. Обряды органически включали в себя компоненты как изобразительного искусства (рисунки, скульптуры зверя, его маски), так и танцевально-музыкального. Археологические данные свидетельствуют о том, что значительная часть гравюр и рисунков животных на стенах пещер, а также их скульптурные изображения использовались первобытными людьми в процессе их обрядовых церемоний. В пользу этого вывода говорит тот факт, что большинство палеолитических изображений найдено в самых потаенных частях пещер, в залах, лишенных естественного освещения, причем доступ в эти части пещер крайне затруднен многочисленными естественными препятствиями1. По мнению А.П.Окладникова, магическим предназначением палеолитических рисунков объясняется, вероятно, и необычное их переслоение: рисунки нередко налагаются друг на друга так, что образуют трудноразличимое переплетение линий2. Первобытных художников, очевидно, интересовал не столько результат изобразительной деятельности, сколько сама эта деятельность, которая имела не только художественное, но и магическое значение. В некоторых пещерах особенности изображений не оставляют сомнений в том, что они использовались в процессе обрядов. Так, например, в пещере Монтеспан (Франция) были найдены остатки трех скульптур, которые изображали пещерных львов. Шея и грудь одного льва были испещрены следами дротиков и копий, другие две скульптуры были почти целиком разбиты, очевидно, в результате поражения их копьями и дротиками. В этой же пещере обнаружена глиняная скульптура медведя, причем между ее передними ногами лежал череп молодого медведя, который, очевидно, первоначально увенчивал скульптуру. Эта скульптура была также изрешечена круглыми дырками, вероятно следами от копий или дротиков. На глиняном полу сохранились отпечатки босых человеческих ног . Подобные примеры можно умножить. Все они свидетельствуют в пользу вывода о несомненной связи между изобразительным искусством эпохи палеолита и первобытными обрядами. К этому выводу пришли многие исследователи, в том числе А. П. Окладников и А. А. Формозов. В то же время в советской литературе представлены и другие точки зрения. Так, например, В. Шерстобитов полагает, что следы ударов и ран на скульптурах зверей и на их изображениях в палеолитических пещерах объясняются тем, что эти изображения использовались для обучения подростков искусству охоты1. Б. А. Фролов подчеркивает познавательные функции древних анималистических изображений2. Если исходить из сказанного выше о сущности первобытного обряда, представляется, что эти точки зрения должны рассматриваться не как взаимоисключающие, а как дополняющие друг друга. Не следует абсолютизировать ту или иную сторону первобытных ритуалов. Они представляли собой весьма сложные, синкретические, полифункциональные образования, которые одновременно удовлетворяли несколько социальных потребностей и выполняли несколько социальных функций. Отсюда следует вывод, что, хотя первобытное искусство и рождалось на принципиально иной социальной основе, чем первобытная религия, оно с самого начала своего формирования развивалось в теснейшей связи с последней1. Этот вывод подкрепляется анализом содержания первобытного изобразительного искусства. К нему мы и обратимся. Содержание первобытного изобразительного искусства В палеолитическом искусстве изображения животных, как известно, преобладают над всеми иными изображениями. По подсчетам французского исследователя А. Леруа-Гурана, в 66 пещерах с росписями имеется 610 изображений лошадей, 510 –бизонов, 205-мамонтов, 176 – козлов, 137 – первобытных быков-туров, 135–ланей, 112 - благородных оленей, 84северных оленей, 36 – медведей, 29 – львов, 16 – носорогов1. На территории СССР найдены также многочисленные скульптурные и живописные изображения животных палеолитической эпохи. Научной сенсацией было открытие палеолитической живописи в Каповой пещере на Урале в 1959 г., где обнаружены выполненные краской на скале изображения мамонтов, носорога и лошадей2. Можно ли назвать случайностью преобладание образов животных в палеолитическом изобразительном искусстве? Нет, конечно. Палеолитическое искусство было искусством охотников. Первобытный охотник запечатлевал на стенах пещер образы тех окружающих объектов, которые его больше всего интересовали и волновали, с которыми было связано все его существование. Многие исследователи первобытного искусства отмечают реалистический характер древних анималистических изображений. Б. А. Фролов подчеркивает, что создавший эти рисунки и скульптуры первобытный человек „великолепно знал анатомические особенности множества видов зверей, их поведение, физиологию, определенные элементы зоопсихологии"1. С этим можно согласиться, однако с учетом того обстоятельства, что эти знания существовали в то время не как теоретическая система, а как эмпирические представления, основой которых были непосредственные чувственные впечатления, полученные в процессе выслеживания животного и охоты на него. Отношение первобытного охотника к животному ни в коем случае не было созерцательным любованием, это было активное, практическое отношение к главному объекту его усилий, к главному источнику жизни всей первобытной общины. Первобытные анималистические изображения выподняли несколько практических функций, в том числе и функцию иллюзорного, магического замещения реального животного. При этом, чем более был похож „заместитель" на реальное животное, тем сильнее была иллюзия, что обрядовое действо обеспечит обильную добычу в будущем. Поэтому наивный реализм палеолитических рисунков и скульптур, так восхищающий современных людей, совсем не исключал, по нашему мнению, их использования в процессе магических обрядов. Ведь в первобытной магии деформация реальности состояла не в создании особых иллюзорных объектов в сознании, а лишь в том, что возникала вера в мнимую связь, существовавшую якобы между реальным действием людей (их обрядовой пляской, например) и результатами их последующих, также вполне реальных охотничьих действий. Искажение действительности в магии здесь состояло только в вере в эту вымышленную, иллюзорную связь между реальными явлениями. Сверхъестественное в подобных зачаточных религиозных представлениях еще не отделилось от естественного, еще вплетено в ткань реальных событий и образов. С этой же точки зрения следует оценивать особенности самых древних изображений человека. В большинстве своем это небольшие скульптурные изображения женщин (так называемые „палеолитические Венеры"). Подобным фигуркам присуща одна важная черта - стремление выпятить, наиболее ярко передать признаки пола: груди, выпуклый живот и мощный таз. Характерно, что лицо совершенно при этом не интересовало первобытного художника. По выражению А. П. Окладникова, „статуэтки оставались безликими"1 . Если мы вспомним, что эти статуэтки возникали в верхнем палеолите, когда формировался материнский род, то вполне обоснованным представляется мнение А. П. Окладникова, что „женские статуэтки эпохи палеолита имели связь с древним культом плодородия, были культовыми предметами, талисманами и святыней жителей палеолитических поселений"1. Другой вид антропоморфных изображений – это так называемые „колдуны", или люди в звериных масках. Как бы ни трактовать эти гравюры и рисунки – как отображение реальных магических ритуалов, в которых участвовали люди в звериных масках, или же как изображения мифических тотемных предков, – остается несомненной связь их с первобытной магической или тотемической обрядностью. Сказанное выше не означает, будто все палеолитическое искусство непосредственно связано с магическими и тотемическими верованиями и обрядами. Выше уже упоминалось, что многие произведения искусства палеолита возникали непосредственно в процессе создания орудий охоты, а также бытовых и хозяйственных предметов. Многочисленные украшения найдены, например, на так называемых „жезлах начальников" - предметах неизвестного назначения из рога с выбитым в верхней их части отверстием! На них вырезаны изображения животных (головы лошадей, северного оленя и т.п.), стебли растений, орнамент. А. П. Окладников полагает, что художественные изображения на предметах бытового обихода и орудиях труда не имели иного назначения, кроме украшения 1. Интересно также отметить, что в позднепалеолитических стоянках найдены красивые просверленные раковины морских животных, использовавшиеся в качестве бус и подвесок2. Все эти факты говорят о том, что художественное творчество первобытных людей реализовалось не только в их обрядовых действах, что эстетическое начало присутствовало и в изготовлении ими орудий и в иных сферах их хозяйственной жизни и быта. Можно предположить, что зарождавшаяся эстетическая потребность первобытных людей развивалась в двух основных направлениях. С одной стороны, она реализовалась непосредственно в трудовой деятельности, прежде всего в деятельности по изготовлению орудий труда и предметов обихода. Здесь связь художественной деятельности с древней религией отсутствует. Другое же направление реализации эстетической потребности – это первобытный обряд, в котором связь зачатков искусства с первоначальными религиозными верованиями не вызывает сомнений. Обряд выступал, по нашему мнению, и как первоначальная форма объективации такого сложного явления духовной жизни первобытного общества, как миф. Первобытная мифология представляла собой сложное синкретическое образование, рассмотрение которого совершенно необходимо для выяснения генезиса и развития как религии, так и искусства, в особенности фольклора. Происхождение первобытного мифа Вопрос о происхождении мифологии - один из самых сложных и до сих пор не решенных наукой вопросов. Этнографические и тем более археологические источники не дают прямого ответа на него. Поэтому суждения по этому вопросу неизбежно носят гипотетический характер. Изложенная ниже концепция также гипотетична, она требует дальнейших исследований и обсуждения. Для того чтобы понять происхождение первобытного мифа, нужно, на наш взгляд, остановиться, во-первых, на соотношении магического и мифологического сознания и, во-вторых, на соотношении мифа и обряда. Магические верования, как уже говорилось, представляют собой наиболее архаическую, неразвитую, примитивную форму веры в сверхъестественное. Их особенность состоит в том, что они непосредственно обслуживают определенные практические потребности первобытной общины, заменяя реальные средства воздействия на природу средствами иллюзорными, мнимыми, в качестве которых выступают магические обряды. Магическое сознание очень тесно связано с ограниченными рамками жизнедеятельности первобытных людей, оно всегда имеет строго определенное целевое назначение: либо обеспечить овладение охотничьей добычей, либо умножить ее (обряды плодородия). Соответственно и содержание магических представлений и верований также весьма узко, оно не выходит за рамки решаемой практической задачи. Однако по мере развития первобытного производства, становления первой социальной организации в виде рода и племени, развивалось и человеческое сознание. Оно все чаще выходило за рамки непосредственной сиюминутной ситуации, за рамки удовлетворения основных материальных потребностей общины. У первобытных людей возникали вопросы о происхождении окружавших их вещей, предметов и явлений, о происхождении их социальных обычаев и запретов (табу) и т. п. Ответить на эти вопросы в рациональной, адекватной реальности форме первобытные люди не могли. Их ответы неизбежно носили фантастический и в то же время чувственноконкретный, наглядный, образный характер, были одним из проявлений их развившегося воображения. Так возникли первые мифы. Наиболее древней системой верований и обрядов, в которой можно проследить постепенное превращение магических верований в мифические представления, стал, по-видимому, тотемизм. Тотемизм, судя по описаниям его этнографами, был сложной системой мифических представлений, верований и обрядов, обнимавшей все стороны жизни первобытной общины. В состав этой системы входили мифы, повествовавшие о жизни и сверхъестественных превращениях тотемических предков (полулюдейполуживотных), а также сложная система обрядов, в центре которой находился обряд интичиумы (в ходе этого обряда происходило ритуальное поедание животного-тотема, охота на которого была строжайше запрещена). В систему тотемизма входили и обряды инициации, ритуально оформлявшие посвящение юношей во взрослых членов племени1. А. Ф. Анисимов высказал весьма обоснованное, на наш взгляд, предположение, что центральный тотемический обряд интичиумы ведет свое происхождение от магического обряда умножения пищи, который был впоследствии переосмыслен с позиций родового мышления2. Тотемические мифы, например, у австралийцев представляют собой самые элементарные, зачаточные формы мифологического сознания. Таким образом, есть основания предположить, что тотемизм явился первой формой мифологического сознания. Но тотемизм был не только системой мифов и представлений, но и совокупностью обрядовых действий. В этой связи следует сказать о соотношении мифа и обряда вообще. Как мы уже подчеркивали, сознание не могло развиваться и передаваться новым поколениям вне и помимо его объективации в материальных знаках и символах. Главная, магистральная линия развития сознания первобытных людей состояла в развитии их звуковой речи, обслуживавшей прежде всего и главным образом их трудовую деятельность. Но была и другая линия развития первобытного сознания, которая реализовалась в обрядах. Обряды первоначально материализовали магические верования (хотя, как было показано, их функции были гораздо шире), а впоследствии, по-видимому, были первой и наиболее древней формой объективирования мифов. С. А. Токарев подчеркивает неразрывную связь тотемических мифов австралийцев с совершавшимися ими обрядами. По его мнению, мифы у австралийцев „служат как бы разъяснением самого совершаемого обряда. Последний обычно состоит в том, что исполнители обряда воспроизводят в лицах рассказываемые в мифе события" . Из этого С. А. Токарев делает вывод, что обряд предшествовал мифу и что миф возникал из обряда. С этим выводом, на наш взгляд, нельзя согласиться, учитывая то обстоятельство, что обряд является таковым лишь постольку, поскольку он сохраняет свою знаковую символическую природу, поскольку он служит материальным воплощением определенных идей, норм и представлений. Более правильным нам представляется мнение Е. М. Мелетинского, который считает, что „вопрос о приоритете в отношениях мифа и ритуала аналогичен проблеме соотношения курицы и яйца, о которых трудно сказать, кто кому предшествует" 2 . Миф и обряд возникали одновременно и представляли первоначально, по-видимому, нерас-члененную целостность. Иначе говоря, миф первоначально реализовался в самих обрядовых действиях, которые как бы воспроизводили мифические события и образы, перенося их в реальность. Так, тотеми-ческие обряды у австралийцев рассказывали об особых мифических временах, когда „люди были животными". Изображения мифических зооморфных предков с помощью ряженых в маски сородичей „замещали" в ритуале этих предков, отождествлялись с ними3. Так в обряде происходила реальная актуализация мифа. Этот обрядово-мифический комплекс необходимо включал в себя и эстетическую сторону, поскольку сама инсценировка мифа в обряде была зародышем многих искусств, включая и театр1. Что касается мифического повествования, выраженного в звуковой речи, то оно было первоначально вплетено в ткань обрядового действа. Лишь в последующем своем развитии миф, как рассказ о фантастических событиях, отделяется от обрядовой инсценировки этого события и обретает самостоятельное существование. Для понимания генезиса религии и искусства чрезвычайно важен анализ мифа как сложного, многоаспектного, синкретического образования, которое явилось зародышем и религиозных верований, и ряда жанров народного искусства, фольклора. Синкретизм первобытного мифа Мифы многих народов дошли до нас не в их первоначальной, архаичной форме, а в форме значительно более поздней, существенно изменившейся под воздействием новых условий жизни, новых социальных отношений. Поэтому, чтобы выявить архаичные мифологические структуры, мы должны в основном опираться на мифологию тех народов, которые сохранили наиболее древние формы производства и общественных отношений. К числу таких народов относятся прежде всего австралийские аборигены, а также некоторые другие народности Азии, Африки и Южной Америки. Важная особенность первобытного мифа состояла в том, что он выступал как нерасчлененное единство субъективного и объективного. Эта особенность мифологического сознания давно замечена исследователями. Уже немецкий философ и психолог начала века В. Вундт справедливо доказывал, что первоначально мифические образы воспринимались первобытными людьми как реальность. „Подобно тому, писал В. Вундт, - как надетая кем-нибудь на лицо маска есть для первобытного человека в действительности тот демон или то животное, которое она обозначает, а не просто изображение его... – подобно этому и появление души во сне (т. е. появление во сне образа другого человека. -Д. У.) есть для него непосредственное, принимаемое без всякой рефлексии, переживание"1. Тождество, или, точнее, нерасчлененное единство субъективного и объективного, считают важнейшим признаком мифа и советские исследователи А. Ф. Лосев и Ф. X. Кессиди. „В мифе, - пишет А. Ф. Лосев, все идеальное вполне тождественно с материальным и вещественным, а все вещественное ведет себя так, как будто бы оно было идеальным" 2. По мнению Ф. X. Кессиди, „отличительная черта мифа - это отождествление образа и предмета, субъективного и объективного, внутреннего и внешнего, части и целого и представление, что „все во всем"3. Можно согласиться с такой трактовкой мифа, но с одной оговоркой: нерасчлененное единство (тождество) субъективного и объективного, образа и предмета характерно для начальной стадии развития мифологии, для наиболее древних, архаических мифов. В дальнейшем же оно постепенно разрушается, и мифический образ воспринимается уже не как реальное бытие предмета, а лишь как его символ, его частичное воплощение, проявление и обозначение. Наиболее архаичные мифы, дошедшие до нас, -это мифы тотемические. Суть этих мифов состоит в отождествлении (полном или неполном) людей и животных. Такое отождествление было, по-видимому, первой и наиболее примитивной формой олицетворения, антропоморфизации окружающего мира. И не случайно именно животные, игравшие в эпоху палеолита решающую роль в удовлетворении основных материальных потребностей людей, стали первым объектом мифологического олицетворения. Синкретизм мифа проявлялся и в том, что он выступал как нерасчлененное единство объяснения и фантастического преобразования мира. Различные исследователи, изучавшие мифологию, издавна фиксировали наличие в мифах обеих этих сторон. При этом каждый из исследователей обычно вычленял одну из сторон, абсолютизируя ее значение и сводя к ней сущность мифологии вообще. Таковы, например, две школы в изучении мифологии, существовавшие в XIX в.: английская (Эд. Тэйлор и другие), рационализировавшая мифы и видевшая их истоки в ложном объяснении окружающего мира, и немецкая, продолжавшая традиции романтизма и классического идеализма и рассматривавшая мифы прежде всего как продукты художественной фантазии. Между тем в действительности обе указанные стороны необходимо присущи мифологическому сознанию. Более того, они неразрывно связаны друг с другом и имеют общие социальные истоки. Как уже говорилось, сфера практической материальной жизни первобытных людей была крайне ограничена. Соответственно было ограничено и их эмпирическое сознание, отражавшее причинно-следственные связи в окружающем мире. В жизнь первобытных людей постоянно вторгались опасные для них и неконтролируемые ими факторы как природного, так и социального порядка. Отношение первобытных людей к этим таинственным для них факторам в религиоведческой литературе обычно характеризуют только как страх, который рождает веру в сверхъестественное и преклонение перед ним. Повидимому, такие чувства действительно доминировали в сознании первобытного человека, но этим не исчерпывалось его отношение к непонятным и неконтролируемым им объектам. Вспомним опять-таки о самых архаических и примитивных формах иллюзорного сознания: магии и фетишизме. В магии присутствует не только вера в существование иллюзорной сверхъестественной связи между предметами, но и иллюзорная уверенность в том, что с помощью магического обряда первобытный человек может достичь определенной практической цели: убить животное, наловить рыбы, предотвратить засуху, уберечься от козней враговиноплеменников. О фетишистском наделении предмета сверхъестественными свойствами, вызванном страстным желанием первобытного человека удовлетворить свои материальные потребности, уже говорилось. Во всех этих случаях присутствуют не только страх, придавленность, отчаяние и т. п., но и стремление подчинить себе те или иные объекты окружающего мира, преобразовать их, поставить их себе на службу. Однако подобное „преобразование" окружающего мира могло в тех условиях носить только иллюзорный, фантастический характер, могло реализовываться только в их сознании. Вспомним в этой связи широко известное высказывание К. Маркса: „Всякая мифология преодолевает, подчиняет и формирует силы природы в воображении и при помощи воображения: она исчезает, следовательно, вместе с наступлением действительного господства над этими силами 1 природы" . В наиболее древних известных нам мифологических системах (например, у австралийцев) попытки объяснить мир (а объяснение вещи здесь обычно означает повествование о ее происхождении) слиты воедино с формированием фантастических образов тотемных предков, одновременно выступающих и как демиурги (творцы) окружающего мира, и как культурные герои, которые подчиняют себе стихии природы, учат людей приемам добывания огня, охоты, изготовления орудий, вводят первые общественные запреты (табу). Е. М. Мелетинский в своей книге „Поэтика мифа" выделяет особый раздел, рассказывающий о мифологических системах, в центре которых находятся синкретические образы „первопредков-демиургов-культурных героев" . В этих образах первоначально слиты и представления о сверхъестественных существах (духах, богах), создавших мир и управляющих им, и представления о людях-героях, противостоящих в активной борьбе враждебным им силам природы. Согласно верованиям центральноавстралийских племен, „тотемные предки дикие коты и ящерицы-мухоловки – с помощью каменного ножа довершили творение людей-личинок, беспомощно лежавших на выступающих из воды скалах, сделали им обрезание (обряд инициации довершает человека), научили добывать огонь трением, готовить пищу, дали им копья и бумеранги, разделили людей на две фратрии, снабдили каждого персональной чурингой как вместилищем его души"3. Аналогичные мифы о первопредках-демиургах- ■ культурных героях имеются и в древних мифологических системах других народов: меланезийцев, бушменов, чукчей, коряков, ительменов, североамериканских индейцев и т. п. Указанные мифы интересны для нас в том отношении, что в них наиболее отчетливо проявляется синкретизм мифических образов, воплотивших в себе как первые зародыши художественной фантазии, попытки фантастически преобразовать окружающий мир, так и стремление объяснить окружающее, выявив его происхождение. Одновременно здесь присутствует еще одна тенденция – мифологической сакрализации и узаконения существующих общественных порядков, обычаев и норм. Синкретизм мифа проявляется, в частности, в том, что система мифических образов повествует о происхождении предметов и явлений природы, а также социальных установлений и порядков и одновременно обосновывает необходимость и незыблемость существующего порядка как в природе, так и в обществе. Различие между природой и обществом в наиболее древних мифах не осознается. Они „космо-логичны" и „социологичны" одновременно. Преодоление хаоса, как враждебных людям стихийных сил, и становление космоса, как „правильного", „справедливого" порядка, охватывают в мифологическом сознании сферу как природных, так и социальных явлений. Мотив преодоления хаоса и становления „порядка" присутствует уже в архаических мифах о первопред-ках-демиургах-культурных героях. Так, например, у североамериканских индейцев чрезвычайно популярен цикл о близнецах. Они вырезаны из тела женщины, убитой злым духом, и брошены: один – в вигваме, а другой – в кустарнике или в ручье. Впоследствии их отец выманивает „дикого" близнеца из кустарника и приручает его. Близнецы странствуют, уничтожая различных чудовищ - великана-людоеда, гигантского лося, громовую птицу, катящуюся скалу, антилопу-людоедку, чудовищного бобра и т. п.1. По мнению советского этнографа А. М. Золотарева, мифологические образы братьев-близнецов (а еще раньше – сестер-близнецов) в фантастической форме отражали и одновременно оправдывали введение в первобытном обществе дуальной организации, т. е. возникновение экзогамных родовых групп. А. М. Золотарев считал, что миф о братьях-близнецах является „основополагающим" мифом, из которого впоследствии развились „мироустроительные и космогонические мифы"2. Если последнее суждение представляется спорным, то бесспорно, что миф о близнецах был одним из первых вариантов фантастического утверждения существующего космического и социального порядка. Как отмечает Е. М. Мелетинский, в число важнейших функций первопредкадемиурга-культурного героя входят уничтожение чудовищ и демонов, создание человека и обучение его ремеслам, установление обычаев и правил поведения людей, а также и установление режима рек и морей, климата и т. п. Таким образом, указанные мифы повествуют о становлении порядка как в природной, так и в социальной среде3. Это повествование дано не в форме абстрактных рассуждений, а в форме чувственно-конкретных представлений, в которых постоянно присутствует и художественная, эстетическая сторона. В более поздних мифологиях, создавшихся уже в эпоху разложения первобытного строя, мотив превращения хаоса в космос обычно связывается с деятельностью богов. Так, в вавилонской мифологии хаос олицетворяет чудовище-дракон Тиамат, которую побеждает бог нового поколения Мардук. В древнегреческой мифологии глава олимпийских богов Зевс побеждает „хтонических" богов, олицетворяющих подземные стихии – Кроноса и титанов и т. п. Подводя итог скрупулезному анализу многочисленных мифологических систем, Е. М. Мелетинский указывает, что „превращение хаоса в космос оказывается переходом от тьмы к свету, от воды к суше, от пустоты к веществу, от бесформенного к оформленному, от разрушения к созиданию "1. Этим процессам в природе соответствуют и процессы становления порядка и организации в обществе: обучение людей приемам трудовой деятельности, установление родового строя, сопровождаемое соответствующими запретами, регулирующими половые отношения, формирование обычаев и обрядов и т. п. Таким образом, мифологический космос включает в себя и „социум", общество. Нормы (законы) природы и нормы общества выступают в мифе в нерас-члененном единстве. Лишь впоследствии из него вычленяются специфически-моральные нормы, оформляется мораль как особая форма общественного сознания. Но это происходит уже в эпоху разложения первобытного и становления классового общества. Итак, мифологическое сознание в первобытную эпоху включало в себя и фантастические, иллюзорные верования, т.е. зачатки религии, и художественные образы и представления, т. е. зачатки искусства, и нормы, регулирующие поведение людей в общине, т. е. зачатки морали. Нередко в литературе обсуждается вопрос, можно ли в первобытном обществе говорить о религии, искусстве и морали в собственном смысле слова. Одни авторы склонны уже в первобытном обществе четко выделять и различать формы общественного сознания, другие считают понятия „искусство", „мораль", ,,религия" применимыми только к условиям классового общества. Нам представляется, что данную проблему следует решать диалектически. Конечно, в первобытном обществе искусство, мораль и религия еще не обособились в относительно самостоятельные формы общественного сознания. Ведь подобное обособление требует дальнейшего разделения труда, прежде всего отделения умственного труда от физического, и дальнейшей специализации в сфере духовной культуры (например, возникновения профессиональных служителей культа, художников и т. п.). В то же время специфически-художественные и религиозные виды деятельности в первобытной общине уже существовали, но они выступали первоначально как стороны единого нерасчлененного обрядового действа (художественная деятельность была и стороной трудового процесса) . Существовали и зачатки морального сознания, которые практически реализовались в табу (т. е. запретах деятельности и поведения) и обычаях, имевших религиозно-мифологическую мотивацию. Таким образом, исследуя первобытное общество, вполне правомерно, на наш взгляд, говорить о зачатках искусства, религии и морали, четко представляя себе в то же время, что формы общественного сознания еще не отделились в ту эпоху одна от другой, что они существовали в слитном, нерасчлененном виде и реализовывались в первобытной мифологии и соответствующих обрядах. Миф как продукт коллективного сознания первобытной общины Синкретизм первобытного мифа может быть правильно понят лишь в том случае, если мы проанализируем реальные условия и истоки мифотворчества людей той эпохи. Мифы не были продуктами индивидуальной фантазии, индивидуального воображения. Они возникали как продукт коллективного сознания первобытной общины (рода или племени). Как мы уже выяснили, первоначально мифы возникали в нерасчлененном единстве с обрядовыми действиями. Реализуя свои чаяния и ожидания в обряде, члены первобытной общины как бы коллективно творили миф, выдавая желаемое за действительное. При этом первобытный миф не выдумывался, а скорее „выплясывался". Впоследствии, несомненно, положение существенно усложняется. Мифы, фиксируясь в языке, приобретают известную самостоятельность по отношению к обряду. Но, отдифференцировавшись от обряда, миф остается достоянием коллективного сознания первобытных общностей. Этнографы неоднократно отмечали особенности мифа как продукта коллективного творчества первобытных людей. В частности, миф (в отличие от сказки) не имеет индивидуальных вариантов, он не подлежит никаким изменениям со стороны рассказчика. Его реальное бытие непосредственно связано с жизнью определенной общности людей. Многие мифы носили эзотерический характер и доступны были только посвященным (например, у австралийцев - мужчинам, прошедшим инициации). Рассказывание (или ритуальное воспроизведение) мифа есть всегда сакральный акт, определенное знаменательное событие в жизни рода или племени1. Все это отражается и в содержании мифов. Содержанием архаического мифа является не судьба отдельного человека, а судьба племени, рода, тотемной группы. Мифы повествуют о происхождении их и одновременно сакрализуют их общественную организацию. Нерасчлененность природы и человека реализуется переносом кровнородственных отношений на природу: первоначально на животных, затем на природные стихии и олицетворяющих их духов или богов. И тотемные предки, и духи, и боги различных мифологий находятся между собой в отношениях кровных родственников, причем изменение этих отношений в обществе (например, смена матриархата патриархатом) находит свое фантастическое отражение в мифологии. Новейшие исследования французского этнолога К. Леви-Строса показали, что сюжеты мифов у разных народов не являются чем-то произвольным, случайным, а подчиняются определенным закономерностям. Леви-Строс попытался выявить эти закономерности на основе анализа структурной общности различных мифов1. По-видимому, структурная общность мифов свидетельствует об определенных закономерных тенденциях развития мифологического сознания различных родо-племенных групп. Заметим, однако, что структурная общность различных мифов не должна сближаться и тем более отождествляться с логикой научного, рационального мышления. Между тем Леви-Строс пишет: „Возможно, мы откроем однажды, что одна и та же логика заключается и в мифическом, и в научном мышлении и что человек всегда мыслил одинаково хорошо"2. Но не следует забывать, что „логика" мифологических структур принципиально отличается от логики научного мышления, ибо мифологические структуры всегда дают иллюзорное, фантастическое отражение объективных связей и зависимостей, свойственных окружающему миру. Если это и логика, то особая, „мифологика", которая неадекватна объективной логике предмета. Ф. X. Кессиди справедливо замечает по этому поводу, что хотя миф и отражает некоторые реальные противоположности, но он всегда пытается преодолеть эти противоположности в сознании с помощью фантастических образов и существ1. Эволюция первобытной мифологии Синкретизм первобытного мифа наиболее полно выражен в его архаических, древнейших формах. Развитие первобытного общества, в частности совершенствование его материальной практики, усложнение родоплеменных отношений неизбежно повлекли за собой и эволюцию мифологического сознания. Эта эволюция проходила по нескольким основным направлениям. Во-первых, постепенно миф перестает быть нерас-члененным единством субъективного и объективного. В более поздних мифологических системах формируются образы духов, а затем и богов, каждый из которых выступает как чувственное, символическое воплощение определенных природных стихий или явлений, свойств и качеств человека, видов его деятельности и т. п. При этом, как показали многие исследователи, эволюция мифологических образов идет от фантастического олицетворения стихий и явлений природы к олицетворению определенных сторон социальной жизни, определенных свойств человека как общественного существа. Тот или иной бог в представлении людей той эпохи - не только фантастическое существо, но и символ определенных земных стихий или социальных явлений, „хозяин" этих стихий или явлений, управляющий ими. Так, Посейдон есть персонификация и символ моря, Гефест – кузнечного мастерства, Афина – мудрости, Афродита – любви и т. п. По выражению А. Ф. Лосева, „демон веши отделяется от самой этой вещи", чувственный мифический образ становится символическим заместителем и представителем определенных природных или социальных объектов и явлений. Как показал А.Ф. Лосев, художественная символизация богов развивается в направлении от терраморф-ных и зооморфных образов, которые соответствовали более раннему этапу развития общества и отражали страх людей перед природными стихиями* к образам антропоморфным, в которых отражались отношения между людьми на более поздних этапах развития первобытного общества. Так, например, в древнегреческой мифологии Зевс первоначально отождествлялся с громом и молнией. В дальнейшем же гром и молния превратились в атрибуты Зевса, а сам он стал главой олимпийской общины богов, принял вполне человеческий внешний облик1. Дальнейшая эволюция включает в себя переход от символа к метафоре, что является признаком распада мифологии и ее превращения в те или иные виды художественного творчества. Символ означает частичное отождествление мифического образа и символизируемого объекта, метафора же есть лишь образное сравнение, не предполагающее веры в реальность используемого образа. Здесь уже миф перестает быть мифом в собственном смысле этого слова, он становится формой выражения чисто художественного содержания, фактом искусства. Другим направлением эволюции первобытного мифа является расчленение и усложнение первоначальных мифических образов, носивших синкретический характер. Образы первопредков-демиургов-культурных героев расчленяются, причем первопред-ки-демиурги превращаются в духов, а затем богов, творящих мир и управляющих им, а культурные герои обособляются и нередко даже противостоят богам. (Вспомним знаменитый образ Прометея.) При этом сам акт творения вначале рисуется как вполне материальный процесс превращения одного объекта в другой либо (еще более древний вариант) – его похищения у первоначальных хранителей. В более поздних мифологиях, отражающих условия жизни народов, перешедших от собирательства и охоты к земледелию, скотоводству и ремеслу, возникновение вещей может быть результатом труда сверхъестественных существ-демиургов, которые лепят людей из глины, куют небесные светила в кузнице и т. п. Лишь на сравнительно позднем этапе развития мифологического сознания возникает творение с помощью мысли и слова, так называемое творение „из ничего". Так, в египетской мифологии бог Птах творит мир только „сердцем и языком", просто называя предметы. Таков же и древнееврейский бог Яхве. Эволюция мифических образов первопредков-демиургов выражает одну сторону развития мифологии, которую можно назвать религиозной. Здесь происходит постепенное формирование образов сверхъестественных существ (духов и богов), которые противопоставлены людям, как их могущественные владыки и повелители. Мир здесь постепенно раздваивается: естественное, материальное все чаще противопоставляется сверхъестественному, потустороннему. Культ становится умилостивительным, реализуется в жертвоприношениях и молитвах. В результате мифологическое сознание становится сознанием религиозным. Однако имеется и другая тенденция развития первобытной мифологии, которая наиболее ярко проявляется в мифах о культурных героях. Последние отделяются от образов богов-демиургов. Культурный герой – это богатырь, наделенный сверхъестественными свойствами. Он борется с чудовищами, символизирующими хаос, и побеждает их, обучает людей культуре и ремеслам, вводит обычаи и обряды и т. п. Таковы, например, Геракл, Тесей и Прометей в древнегреческой мифологии, Гильгамеш – в вавилонской. В подобных мифических образах нашла свое отражение не придавленность людей господствующими над ними стихийными силами, а их мечты и стремления подчинить себе эти силы, поставить их себе на службу. Именно эти мифические образы имел в виду А. М. Горький, когда он подчеркивал, что в мифах „мы слышим отзвуки работы над приручением животных, над открытием целебных трав, изобретением орудий труда"1. Мифы этого рода постепенно превратились в эпические сказания, дали начало эпосу как особому жанру фольклора. Известный советский фольклорист В. Я. Пропп писал, что „эпос, исходя из мифологических корней, преодолевает мифологию и религию. Это – закономерный путь развития эпоса всех народов"2. В другой своей книге В. Я. Пропп показал, как из мифа и ритуала постепенно возникает волшебная сказка как специфический фольклорный жанр3. Между мифологией и различными фольклорными жанрами пролегает определенная граница: миф остается мифом, пока существует вера в реальность событий, о которых в нем повествуется. Как только эта вера утрачена, миф превращается в художественное произведение: эпос, сказку и т. п. Таким образом, эволюция мифологического сознания шла не только в направлении формирования религии; развитие одной из мифологических традиций привело постепенно к преодолению особенностей мифологического сознания в собственном смысле и возникновению различных жанров народного художественного творчества - фольклора. Еще более поздние изменения религиозно-мифологического сознания, происходившие уже в классовом обществе, привели к формированию философии и морали как особых форм общественного сознания. Подведем краткие итоги. Как было показано выше, нет никаких оснований считать, что искусство и рели-• гия возникали в разные исторические эпохи, что искусство предшествовало религии. Напротив, факты свидетельствуют о том, что зачатки искусства и первоначальные религиозные верования возникали одновременно. Хотя для появления зачатков искусства и первых магических верований требовались общие гносеологические предпосылки (определенный уровень развития воображения, элементарное умение абстрагировать и обобщать), социальные потребности, породившие их, принципиально отличаются друг от друга. Художественное творчество возникало на основе успехов трудовой, производственной деятельности людей, как результат все более глубокого овладения свойствами вещей, умения придать окружающим предмета'м необходимые для людей формы, выявить их объективные качества (симметрию, гармонию, ритм и т. д.). Зачатки искусства, следовательно, связаны с той стороной человеческой практики, которая выступает как проявление человеческой свободы. Напротив, первая, наиболее архаическая форма религиозных верований, магия, возникает непосредственно из ограниченности трудовой деятельности людей, их неспособности постоянно обеспечить желаемый результат трудовых усилий. Следовательно, религия связана с той стороной человеческой практики, которая фиксирует несвободу людей, их зависимость от стихийных сил окружающего мира. Мы попытались показать, что различие социальных потребностей, порождающих искусство и религию, не исключает того, что эти потребности могут реализоваться одновременно в такой синкретической системе внепроизводственной деятельности первобытных людей, как обряды. Первобытный обряд – это одновременно и практическое воплощение магических верований, и закрепление и передача новым поколениям умений, навыков и знаний, и форма эмоциональной разрядки, и способ реализации эстетической потребности людей. Магические верования постепенно перерастали в систему мифологических представлений, которая носила также нерасчлененный, слитный характер. В мифе, как синкретическом образовании, имелась наряду с религиозной и художественно-эстетическая сторона. Эволюция мифологии пошла в дальнейшем, в эпоху разложения первобытного общества, по пути разделения этих сторон, их взаимной дифференциации. Из мифологии возникли, с одной стороны, религия как система представлений о духах и богах и поклонения им, а с другой - устное народное творчество, фольклор, в виде эпоса и сказки. Таким образом, уже в первобытную эпоху четко проявилась важнейшая особенность взаимоотношения искусства и религии: связь между ними и "даже их взаимопроникновение совсем не исключают" того, что зачатки искусства и религиозные верования возникают на принципиально различной социальной основе, удовлетворяют разные общественные потребности и выполняют специфические общественные функции. Эта особенность в измененной форме сохраняется и в классовом обществе. Без учета ее нельзя правильно понять такой сложный и противоречивый феномен культуры, как религиозное искусство.