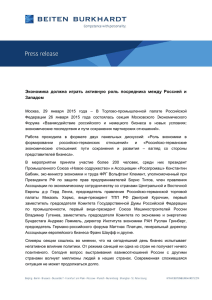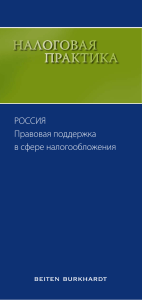Якоб Буркхардт и современная гуманитарная - Intrada
реклама

А. Е. Махов Якоб Буркхардт и современная гуманитарная мысль: изобретение нового и вечное возвращение. Книгу Буркхардта "Культура Ренессанса в Италии" (1860) постигла странная судьба: именно она в огромной степени определила расхожий образ Ренессанса, именно она ввела в оборот ряд понятий и тем, неотделимых от нашего представления о Возрождении (мы находим их уже в оглавлении книги: "пробуждение личности", "возрождение античности", "открытие мира и человека" и т. п.), — и она же стала для ученых воплощением некоего "культурологического артистизма", несовместимого с духом подлинной научности. Историческая наука и Буркхардт как-то сразу отдалились друг от друга (что не мешает им при встречах вежливо раскланиваться1), и, наверно, прав издатель Буркхардта Вильгельм Ветцольд, обративший к возможным посетителям Буркхардта в загробном мире следующий совет: «Тот, кто вознамерится разыскать Якоба Буркхардта на Элизейских полях, едва ли обнаружит его в компании дискутирующих ученых, и уж наверняка — не в обществе коллег, историков искусства; скорее его удастся встретить там, где сидят за вином Готфрид Келлер и Арнольд Беклин»2. Я попытаюсь отвлечься от частного и специального содержания спора Буркхардта и ученых (на тему о том, как должен выглядеть Ренессанс) и показать, что ситуация Буркхардта в науке содержит общезначимый момент: не в первый раз проигрывалась здесь история мыслителя, который отторгается наукой по той причине, что не принимает неких общих установок, молчаливо предполагаемых наукой и "духом научности". И на самом деле, конфликт науки и Буркхардта свидетельствует отнюдь не о 1 банальном неприятии научным "позитивизмом" некоего "артистизма" или "эстетизма", а о весьма глубоком расхождении в выборе ключевой метафоры, которая лежит в основе научного (или уже не научного?) понимания мира. О книге Буркхардта можно вполне повторить то, что А. В. Михайлов сказал по поводу "Осени Средневековья" Хейзинги: мы имеем здесь дело с "интуитивным суждением об эпохе", с целостным в?деньем, с которым бесполезно спорить, потому что тут "в?денье" оказалось сильнее конкретной мысли"3. Книга Буркхардта и в самом деле — своего рода "вид?ние", и убедительна она ровно в той мере, в какой визионер может заразить нас силой увиденного, передать нам ощущение его подлинности. О чем это видение? Если Хейзинга, этот самый суровый научный оппонент Буркхардта, увидел в своей книге Средневековье как абсолютное завершение, то Буркхардт увидел Ренессанс как абсолютное начало. Буркхардт написал книгу о рождении нового. Он показывает нам, как возникает "современный человек" — как рождается нечто новое. Но что такое — "новое"? "Новое" можно понимать двояко. Его можно понять как модификацию старого: будь то повтор на ином уровне (вспоминается пресловутое "развитие по спирали"), вариация, отклонение, просто причинная связь со старым — в любом случае "новое" при таком понимании, рождаясь, так или иначе "вспоминает" о старом, и следовательно, так или иначе "возвращается" к нему. Но можно понимать новое иначе — как нечто возникшее вполне спонтанно, не вытекающее причинным образом из старого. В так понятом новом отсутствует момент воспоминания и возвращения; в нем нет благодарного поклона прошлому, нет даже кивка. Классический пример такого нового — сотворение мира из ничего, creatio ex nihilo. У Буркхардта мы находим второе, радикальное понимание нового. "Современный человек" рождается у него как-то сам, практически из ничего, ибо Буркхардт поразительно безразличен к вопросам генезиса. Казалось бы, Ренессанс у него должен был как2 то оттолкнуться от Средних веков, как-то сослаться на них, в положительном или отрицательном смысле; он должен был вырасти либо благодаря, либо вопреки Средневековью — но ничего подобного не происходит. С проблемой преемственности, со всем Средневековьем Буркхардт разделывается одной фразой: "Средние века миновали безвозвратно, и дух смог осознать их именно потому, что они стали по отношению к нему чем-то внешним"4. Средневековье — не среда, не истоки нового человека; это небытие, которое вдруг прекратилось и возникла жизнь. Вдогонку этому небытию Буркхардт бросает в высшей степени несправедливые слова, которые не может простить ему беспристрастный историк: "Не стоит убиваться о ранней гибели наших средневековых культурных форм и представлений. Если бы они могли защитить себя, то существовали бы до сих пор. Дать бы элегической натуре, мечтающей о Средневековье, хотя бы час провести в его атмосфере, — она быстро бы затосковала по воздуху современности"5. "Новый человек" возник не благодаря Средним векам, но скорее вопреки им или даже — помимо их, невзирая на них. Бабочка вылетела из мертвой, совершенно безразличной ей куколки, — и она не верит, что имеет с этой куколкой что-либо общее. Какое возмущение должен вызвать у историка пассаж Буркхардта, где он ничтоже сумняшеся утверждает, что представление о человекемикрокосме якобы отличает современного (и ренессансного) человека от средневекового! — «современный человек стал, впервые после античного, настоящим микрокосмом, — тем, чем не был и не мог быть человек Средневековья»6. Здесь за Средние века вступается уже и современный историк Э. М. Яннсен, разъясняя ту очевидную, в принципе, вещь, что идея микрокосма «менее всего является "современной", но как раз отличает духовный мир античности, Средневековья и Ренессанса от нашей современной картины мира»7. Можно понять иронию Хейзинги, издевавшегося над этой странной картиной безмятежного самопрекращения истории — ради 3 нового, более удачного начала: "Очень удобно представить все так, как будто Средневековье полностью посвятило себя contemptus mundi, а с наступлением Ренессанса полный оркестр внезапно вступил с темой Juvat vivere — "Как радостно жить" в ликующей инструментовке. Но, увы, это мало похоже на действительность"8. Хейзинга, как настоящий ученый, видел в мире постоянное обнаружение преемственности, — то, что Буркхардт принес в жертву своему видению. В конце жизни, в набросках, публикуемых ныне под названиями "Всемирно-исторические размышления" или "Об изучении истории", Буркхардт попытается сформулировать свою философию истории — и здесь проблема возникновения нового снова решается у него с поразительной простотой и почти что с легкомыслием: "Великий всеобщий феномен: дух достигает чеголибо и что-либо создает; на этой почве основываются земные учреждения, ренты, классы; дух работает дальше, те силы противятся ему; далее следует либо их постепенное уничтожение, либо энергичный прорыв... Дух тем временем созидает нечто новое, и внешние вместилища этого нового со временем подвергаются той же участи"9. Ни слова о том, что дух (тот самый "гейст", который так не любили русские формалисты, предполагавшие "обойтись без гейста") как-либо учитывает опыт "земных учреждений" и обеспечивает историческую преемственность: понятие "нового" у Буркхардта вполне абсолютно, новое словно бы лишено генезиса и истории. И если в "Культуре Ренессанса в Италии" мы еще что-то узнаем о происхождении "земных учреждений", т. е. внешних форм "нового" (например, Буркхардт рассказывает, как возникли новые театральные жанры из средневековых мистерий), то о генезисе самих "движений духа", об истории новых духовных потребностей, составляющих сущность "современного человека", мы не узнаем ничего. Взять хотя бы ключевую тему книги — государство как произведение искусства, как "сознательное, основанное на расчете 4 творение". Но как возникает у "современного человека" (у того же итальянского ренессансного тирана) столь немыслимая в контексте Средних веков потребность в искусственном конструировании государства? Об этом ни слова, и вместо генезиса нам брошена в первой главе мистическая фраза: "в историю вступала новая живая сущность: государство как сознательное, основанное на расчете творение, как произведение искусства"10. Как, почему возникла потребность в расширенном горизонте зрения у Петрарки? Как и почему возникла потребность в описании природы, не зависимом от античных образцов? Мы не получим у Буркхардта ответа на эти вопросы. Как возникла идея римскоитальянского мирового господства? Снова вместо ответа нам брошен мистический пассаж о таинственном и необъяснимом движении духа: "Пробудившийся к самосознанию дух отдался поискам нового основательного идеала, и вскоре умозрительный образ и постулат римско-итальянского мирового господства завладел умами... "11. И напротив: когда генезис явления дан самой историей во всей очевидности, оно тут же теряет для Буркхардта привлекательность. Так, ренессансные женские личности вне Италии (например, Изабелла Баварская) ему не интересны: ведь они возникли "при экстраординарных обстоятельствах, словно бы по принуждению"12. "Обстоятельства", мотивирующие явление, дающие ему историю, небрежно названы Буркхардтом "принуждением"; движение духа должно быть свободным, а не принуждаться "обстоятельствами". Казалось бы, у Ренессанса есть одна сторона, слишком открыто противоречащая такому подходу: сам Буркхардт определил ее как "возрождение античности". Само Возрождение сознательно апеллирует здесь к прошлому, само находит себе и генезис, и историю. Но и эта отчаянная попытка самого Возрождения пустить корни в истории беспощадно пресекается Буркхардтом: он ясно дает нам понять, что никакой непрерывной линии от античности к Ренессансу нет; эта линия, проведенная ренессансными умельцами 5 — не более чем подделка, за которой стоит весьма современное — и вновь неизвестно откуда взявшееся! — умение оперировать историей как материалом для собственных конструкций. Иначе говоря: вместе с Ренессансом в мир входит только что родившийся историцизм, понимаемый Буркхардтом как явление далеко не только художественное. Буркхардт говорит, в частности, о стилизации государства, он рассказывает о "художниках от государства", которые "наивно оперировали опытом античности и даже выводили оттуда вполне официально названия партий: ottimati, aristocrazia и пр."13. Это место из первой главы может показаться частным, но это не так: ведь склонность к "операциям" с опытом любого, произвольно взятого прошлого, хотя бы с опытом античности, согласно Буркхардту, и есть одна из основных особенностей современного человека. Итак, глава о воссоздании античности, где идет речь, казалось бы, об "исторической преемственности" Ренессанса, — на самом деле указывает на обратное: на полный отказ Ренессанса от органичной "исторической преемственности", которая заменяется сознательным, художественным отношением к историческому прошлому. И не удивительно, что именно Буркхардт с его обостренным чувством разрыва традиции, с его интуицией к "абсолютно новому", угадал и в Ренессансе, и в собственной современности черты совершенно нового, поистине постмодернистского отношения к прошлому. "Сущностная характерная черта последних веков состоит в том, что они по собственному желанию, даже по самой произвольной прихоти, могут примыкать к некому давнему прошлому и в результате лишаться — не только в искусстве, но и во всех областях цивилизации — собственных твердых убеждений", — скажет он в одной из лекций 1856 г.14 И еще раньше, в известном письме Кинкелю от 13 июня 1842 г., он ясно сформулирует мысль о прекращении "исторической преемственности" и превращении прошлого в материал для свободного конструирования: "Почти у всех европейских народов, даже у пруссаков, уходит из под ног так называемая историческая почва... Искусство потеряло ныне свою 6 наивность и объективно взирает на стили всех эпох, разложенные перед ним в ряд..."15. Книга Буркхардта — вид?ние "нового человека", который возникает, как Афродита, из какой-то пены, не благодаря, а вопреки истории. Это книга о рождении нового, которое торжествует над повторением, возвращением, воспоминанием; которое и сами воспоминания (ту же память об античности!) разворачивает в будущее, неблагодарно эксплуатируя их в своих невиданных конструкциях. А теперь обратимся к науке — и к другому вид?нию, которое передал нам Фридрих Ницше в своей книге "Веселая наука": "Что если бы днем или ночью подкрался к тебе в твое уединеннейшее одиночество некий демон и сказал тебе: "Эту жизнь, как ты ее теперь живешь и жил, должен будешь ты прожить еще раз и еще бесчисленное количество раз; и ничего в ней не будет нового, но каждая боль и каждое удовольствие, каждая мысль и каждый вздох и все несказанно малое и великое в твоей жизни должно будет наново вернуться к тебе, и все в том же порядке и в той же последовательности, — также и этот паук и этот лунный свет между деревьями, также и это вот мгновение и я сам. Вечные песочные часы бытия переворачиваются все снова и снова — и ты вместе с ними, песчинка из песка!" — Разве ты не бросился бы навзничь, скрежеща зубами и проклиная говорящего так демона?"16. Так философски вполне респектабельная идея вечного возвращения впервые, возможно, была пережита как личный кошмар. Между тем именно эта идея стала, на наш взгляд, едва ли не основной эпистемологической метафорой современной гуманитарной науки. Трудно не заметить, что наиболее авторитетные, сформировавшие современное сознание концепции гуманитарной мысли XX столетия так или иначе варьируют метафору вечного возвращения. В разных областях гуманитарного знания мы находим разнообразные модификации темы глубинной структуры, к которой то или иное явление духа — будь то литературный текст, психика человека, произведение искусства, — вновь и вновь обречено 7 возвращаться. Мы приговорены наукой к глубине воспоминаний, к вечному возвращению, к относительности и проблематичности нового, которое в свою очередь приговорено к вечной связи со старым. Новое обречено возникать из старого, жить в его вечном присутствии, с вечной оглядкой на него, и это неизбывное всеприсутствие старого проблематизирует само понятие нового, которое становится призрачным и миражным; новое подназорно старому, оно — его узник и его призрак; появление нового на свет Божий напоминает прогулку по тюремному двору, после которого следует неизбежное возвращение в камеру. Вот лишь некоторые из современных вариаций на древнюю тему вечного возвращения. В психологии — учение об архетипах и подсознании как изначально и навечно данном, к которому вновь и вновь, ежечасно и ежеминутно, возвращается, не ведая о том, наша психика. Желая придать возвращающемуся старому более отчетливые черты, структурализм обращается к понятию "кода": "код" — это старое с отчетливым ликом (чего нельзя сказать о расплывчатом юнговском архетипе), но новое, выходя на свои прогулки, обречено постоянно видеть этот надзирающий за ним лик. Прообраз "кода" — конечно, "прием" формалистов, который менее строг к новому, чем код, ибо может все-таки стираться и автоматизироваться: новое за свое призрачное существование должно благодарить эту автоматизацию. В этом смысле бахтинская "память жанра" гораздо коварней, ибо способна перепрыгивать через эпохи, настигая новое и там, где оно мнит себя вполне свободным. "Память жанра" для нового гораздо страшнее, чем "прием" или "код": последние два — этакие унылые надзиратели, которые вяло плетутся на некотором расстоянии за подназорным субъектом, зато "память жанра" (как, впрочем, и архетип) — ловушка, заброшенная в будущее, хищная тварь, подстерегающая новое где-то впереди. Еще коварнее, пожалуй, оказываются "топосы", "общие места", изучение которых ввел в литературоведческую моду Эрнст Роберт Курциус. "Топос — нечто анонимное. Он срывается с пера 8 автора как литературная реминисценция. Ему, как и изобразительному мотиву, свойственно временн?е и 17 пространственное всеприсутствие" . Вместо нового слова у автора с пера "срывается" нечто анонимное и всеприсутствующее, нечто такое, что не имеет отношения ни к автору, ни к его времени, — само воплощенное возвращение. Из иных "надзирателей за новым", с неодолимой силой привлекающих современное сознание, следует упомянуть понятие ритуала — этой идеальной метафоры вечного возвращения (ибо ритуал занят преимущественно бесконечным самоповтором). Англоязычная ритуальная критика дает прекрасные примеры обреченности нового: литературная ситуация лишена новизны по определению, — Шекспир в "Гамлете" дал одну из версий мифа об Оресте (Г. Мэррей), С. Фицджералд репродуцирует в "Великом Гэтсби" ритуал инициации (У. Трой) и т. д. Искусствознание дало свой, достаточно оригинальный вариант метафоры вечного возвращения: таковым можно признать понятие схемы у Эрнста Гомбриха (в его книге "Искусство и иллюзия"). Художник не имеет дела напрямую с реальностью; он видит ее сквозь призму неких усвоенных навыков, к которым он обречен возвращаться, пока не найдет в себе силы их преодолеть. Работа художника описана у Гомбриха как некая бухгалтерия с ее кругооборотом вновь и вновь заполняемых схем-формуляров. "Индивидуальная зрительная информация ... ложится, так сказать, на уже существующий бланк или формуляр. И, как это часто случается с бланками, если на них не предусмотрено места для определенных типов важной с нашей точки зрения информации, то тем хуже для самой информации". Леонардо да Винчи, рисуя с натуры анатомическое строение тела, тем не менее бессознательно воспроизводит усвоенные им схемы Галена: для новой информации не нашлось места в его формуляре, старое торжествующе вернулось на свое место. "Как юрист или специалист по статистике вправе заявить, что ему не удается схватить суть конкретного случая без некой схемы, остова, заданных привычными для него канонами, так 9 и художник может сказать, что смотреть на предмет нет смысла, если не умеешь поймать его в сеть классификации, схематических форм"18. Новое все же возникает, — щедро допускает Гомбрих, — но не из непосредственного зрительного опыта (непосредственный опыт — contradictio in adjecto), а лишь из модификации схемы (сходство с формалистским "приемом" здесь очевидно). Новое, чтобы возникнуть, должно вырваться из круга возвращений, каковым и является гомбриховская "схема". Наконец, музыковедческий вариант все той же метафоры — учение о глубинных структурах Генриха Шенкера: снимая при анализе с музыкальной ткани слой за слоем, мы приходим к неким основополагающим, вновь и вновь возвращающимся примитивным мелодическим структурам. И, конечно же, нельзя не упомянуть активнейшую эксплуатацию во всех областях гуманитарного знания понятия мифа, приговоренность к которому воспринимается современным сознанием с непонятным удовлетворением. Чего стоит хотя бы безнадежная концепция мировой литературы, изложенная Нортропом Фраем в книге "Анатомия критики"19: литература сначала многообещающе отделяется от мифа, развивая собственные, исторически обусловленные модусы, но в конечном итоге снова возвращается к мифу. Жизнь вне мифа — то есть вне возвращения — оказывается иллюзией. Современное мышление загипнотизировано идеей возвращения, поиск бездонных глубин стал conditio sine qua non науки. Характерно, что наука, казалось бы, ведающая техникой изобретения нового, — риторика с ее учением об изобретении — вытеснена на периферию науки и едва ли оказывает влияние на современное сознание. Не удивительно, что современная гуманитарная мысль не знает, что делать с Буркхардтом, поскольку он решительно игнорирует ее ключевую метафору — образ вечного возвращения и развивает чуждую ей тему рождения нового как "сотворения из ничего". 10 Описанная ситуация вполне укладывается в противопоставление двух методологий, которые хорошо известны в истории науки. Существуют два глобальных методологических подхода к проблеме развития, эволюции, возникновения нового: в современной науке их часто называют униформизм (или актуализм) и катастрофизм20. Согласно первому взгляду, в прошлом, настоящем и будущем действовали (действуют, будут действовать) одни и те же фундаментальные силы: как сила тяготения непреложна в равной степени для всех времен мира физического, так естественный отбор всегда управлял (был, будет управлять) в биологическом мире. Согласно же гипотезе катастрофизма, в мир могут входить новые силы и принципы, или же характер и величины старых сил может меняться. Катастрофизм предполагает возможность появления на тех или иных этапах истории неких новых глобальных факторов (вплоть до изменения величин физических констант). Получается, что, вопреки, Лейбницу, "природа делает скачки" 21: in mundo datur hiatus, datur saltus. Вполне понятно, что катастрофическая методология означает для науки в некотором смысле самоубийство, поскольку допускает наличие в картине мира принципиальных белых пятен: мы не можем понять ситуацию, которая была порождена некими ныне уже не существующими и мыслительно не восстановимыми силами и принципами. Не удивительно, что катастрофизм влачит маргинальное существование на окраинах науки. В самом деле, гораздо проще и лучше ("экономней", "логичней", "методологически чище") предположить, что на протяжении всего возможного пространства-времени действуют одни и те же силы, законы и принципы: физические константы не меняются, принцип естественного отбора торжествует над всем живым, пока оно живет, а Гамлет благополучно повторяет приключения Ореста. Так выглядит научный униформизм, равно торжествующий и в пространстве, и во времени, — вечное возвращение в действии. 11 Принято считать униформистский комплекс достоянием науки современного типа и противопоставлять его христианскому "катастрофизму" с его первородным грехом в начале и Страшным судом в конце; но нельзя ли все же усмотреть истоки униформизма в некоторых установках христианства — разве не настаивает упорно малая доксология на неизменности основополагающих принципов в завершающих словах: "ныне, и присно и во веки веков?" Разве не выговаривают эти слова молчаливо и подразумеваемую глубинную методологическую установку науки? Характерный пример конфликта между униформизмом и катастрофизмом — сотрудничество, а затем противостояние Альфреда Рассела Уоллеса и Чарлза Дарвина, которое начиналось в то самое время, когда Буркхардт писал свою "Культуру Ренессанса в Италии" (в 1858 Дарвин и Уоллес предали гласности совместную работу с изложением принципа естественного отбора). Как известно, Уоллес открыл принцип естественного отбора раньше Дарвина, но, в отличие от Дарвина, воздержался от глобализации этого принципа. Дарвин был типичным униформистом и полагал, что принцип отбора действовал на протяжении всей истории; Уоллес, напротив, доказывал "существование в человеке чего-то, что не берет своего начала в его животных прародичах, чего-то, что надо приписать его духовной природе..."22. Уоллес полагал, что естественный отбор недостаточен как фактор появления человека. Сущность антропологических расхождений Дарвина и Уоллеса удачно передал выдающийся современный нейрофизиолог Джон Экклз. "Он отметил, — пишет Экклз об Уоллесе, — что требования, предъявляемые жизнью к разуму первобытного человека, были очень низкими. Естественный отбор мог наделить первобытного человека мозгом, лишь немногим превосходящим мозг обезьяны, но его мозг тем не менее лишь немногим уступал в размере мозгу среднего члена наших ученых обществ"23. Иначе говоря: если эволюция пользуется своего рода "бритвой Оккама" в форме естественного отбора, то человек явно 12 попадает в разряд "избыточных сущностей", которые следует отсечь: его появление "чрезмерно". Уоллес говорит о троекратной "катастрофе нового" в природе — о троекратном появлении в природе принципиально нового, такого, что никак не вытекает из старого: "Есть по крайней мере три стадии в развитии органического мира, когда какой-нибудь новый фактор или новая сила необходимо вступала в действие". Вопервых, появление клетки или живой протоплазмы, которое нельзя рассматривать как простое химическое усложнение: "Здесь есть нечто, стоящее выше и вне химических изменений, как бы сложны они ни были, и потому можно с полным правом сказать, что первая растительная клеточка представляла собой нечто новое в мире...". Вторая стадия — "чувствительность и сознание", третья — человек24. Что же означает каждая из этих стадий для мира живого и для истории этого мира? "В разные указанные мною стадии прогресса, — поясняет Уоллес, — изменилась самая суть вещей (по всей вероятности, в зависимости от причин высшего порядка, нежели те, которые вызывают явления органического мира)..."25 Всего-то навсего — "изменилась самая суть вещей"! Иначе говоря, каждый раз, при вступлении в историю "новых сущностей", указанных Уоллесом, история фактически прерывалась и начиналась заново. Катастрофа для истории — и катастрофа для науки, ибо мощная машина "вечного возвращения" здесь буксует, зависает в пустоте. Любопытно проследить, как далее складывались отношения Уоллеса и науки. Происходит неизбежное: апелляция, вполне как у Буркхардта, к миру духа: "Эти три различные стадии прогресса, начиная с неорганической материи и кончая человеком, ясно указывают на существование невидимого мира — мира духа, которому подчинен материальный мир..."26. Но далее Уоллесу явно изменяют вкус и чувство меры: он впадает в откровенную мистику, договаривается до ангелов, активно участвующих в деле эволюции мира27, — и вытесняется из науки в ту сферу, которую мы ныне 13 называем "паранаукой". В науке же остался Дарвин, виртуозно избежавший "катастрофы нового", покрыв всю историю живого своим естественным отбором. Победило вечное возвращение (а разве не повторяется, не возвращается ежеминутно в природе драма естественного отбора?), хотя у Дарвина оно и выглядит порой довольно глупо, и уже Уоллес иронизировал над нелепостями дарвиновского монизма, например, над идеей, что религиозный культ — повторение в новой, высшей форме (возвращение!) чувства преклонения животного перед хозяином. Идеи же Уоллеса достались в распоряжение религиозным философам. Владимир Соловьев, ценивший его работы, проделал с аргументами Уоллеса замечательный метафизический трюк: он возвел появление нового в закон природы — и таким образом доказал бессмертие души: "Если под чудом разуметь факт, противоречащий общему ходу вещей и потому невозможный, то воскресение есть прямая противоположность чуду — это есть факт безусловно необходимый в общем ходе вещей; если же под чудом разуметь факт, впервые случившийся, небывалый, то воскресение "первенца из мертвых" есть конечно чудо — совершенно такое же, как появление первой органической клеточки среди неорганического мира, или появление животного среди первобытной растительности, или первого человека среди орангутангов. В этих чудесах не сомневается естественная история, так же несомненно и чудо воскресения для истории человечества"28. Нетрудно заметить в этом пассаже отголоски идей Уоллеса; но Соловьев пошел дальше, возведя "катастрофу нового" в закон. "Физика", в отличие от метафизики, не могла бы позволить себе такую роскошь. Ситуации Буркхардта и Уоллеса в науке во многом похожи: оба не приняли глубинной эпистемологической метафоры науки и научности, оба посмели заговорить о "катастрофе нового", повергающей науку в кризис, — и оба были вытеснены из научного мейнстрима, правда, каждый по-своему: чрезмерно увлекающийся и немного наивный Уоллес за свои мистические откровения и вовсе 14 был выброшен на обочину, а ироничный и сдержанный Буркхардт — оставлен в почтительном одиночестве мэтра. И все же "катастрофа нового" продолжает оставаться тайным кошмаром науки, своего рода призраком, который является ей по ночам. Характерны попытки современной космологии избавиться от самой большой в истории "катастрофы нового" — Большого взрыва, отношение которого к наблюдаемой ныне Вселенной остается совершенно не понятным29. Так возникла инфляционная теория ("теория раздувания") и связанная с ней философия инфляционизма, которая "предпочитает рассматривать начальные условия как свободно определяемые (freely specifiable), а расширение (inflation) позволяет показать, что их (т. е. этих условий — А. М.) конкретная форма не имеет особого отношения к тому, что мы увидим сегодня"30. Иначе говоря: Большой Взрыв — сам по себе, мы — сами по себе; катастрофа объявляется несуществующей, — по крайней мере, для нас. Любопытно, что наука все же создала для себя особые жанры, в которых она позволяет себе признать катастрофу нового (как и иные еретические вещи): таковы гиффордовские лекции (лекции по "естественной теологии"), с которыми выступили многие крупнейшие ученые XX века. Джон Экклз так выразил в них свое понимание нового: "Я верю (...), что существует иерархическая структура, при которой появление (emergence) высших уровней не может быть предсказано исходя из операций, совершаемых на более низком уровне. Например, возникновение жизни не могло бы быть предсказано, даже если обладать полным знанием всех событий в доорганическом мире, точно так же не могло быть предсказано возникновение сознания"31. Буркхардт написал книгу именно таких, непредсказуемых начал, где каждое начало — маленькая катастрофа, потому что она прерывает спокойный ход истории. Не случайно во "Всемирноисторических размышлениях" он назвал творящий дух — "возмутителем" (Wьhler). Буркхардта не волновала проблема сведения нового к старому, он не был озабочен единством и 15 униформностью истории. Архаичность не была для него мерой ценности, а повторяемость не была для него мерой подлинности. Он словно бы отрицал закон сохранения, допуская вторжение нового и исчезновение старого — страшная ересь. Ту же ересь, но в еще более явной форме, допустил и Уоллес. Оба почувствовали недостаточность вечности, оба пришли к еретическому убеждению, что вечности, этой меры единства и цельности, — мало; нужна и другая мера — мера нового; нужна возможность разрыва и нового начала. Мыслители такого рода — конечно, "побежденные"; победило то, что мы сейчас считаем "наукой" с ее принципом единства мира, единства его законов, единства явлений в их сводимости к глубинным структурам — с ее незыблемым символом веры: "ныне, и присно и вовеки веков". Но и "побежденные" не исчезают из мира, а все же остаются на границах науки со своим методологическим сомнением: что если связь времен все же не обязательна, а бремя истории можно и скинуть? Да, — словно бы говорят нам эти "побежденные", — причинная связь, "порабощенность вещей историей" неизбежны; и все же есть возможность спасения из и от истории: тот, кто увидел и любяще понял свой предмет как начало, как новое, неповторимое и ни к чему не сводимое, тем самым дал ему свободу, отпустил его на волю из истории. Так Буркхардт понимает Ренессанс — и отпускает его на волю; так Уоллес понимает самого человека — и спасает его из истории. Оба прекрасно сознавали погруженность своего предмета в историю — и все же дали ему свободу и право начать с начала. О весьма прохладном отношении к книге Буркхарда, которое стало почти традицией в научном сообществе, см.: Чекалов К. А. "Буркхардт и наука о Возрождении". // Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. Пер. А. Е. Махова. М., 1996. С. 6-12. 2 Waetzoldt W. Einfьhrung // Burckhardt J. Rubens. B., 1942. S. 5. 3 Михайлов А. В. Й. Хейзинга в историографии культуры // Хейзинга Й. Осень средневековья. М., 1988. С. 421-422. 4 Буркхардт Я. Указ. соч. С. 215-216. 5 Там же. С. 158. 6 Там же. С. 376. 7 Jannsen E. M. J. Burckhardt und die Renaissance. Assen, 1970. S. 132. 1 16 Das Problem der Renaissance // Wege der Kulturgeschichte. Mьnchen, 1930. S. 134. Ьber das Studium der Geschichte / Hrsg. von P. Ganz. Mьnchen, 1982. S. 158, 165. 10 Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. М., 1996. С. 15. О смысле и истории идеи "государства как произведения искусства" см.: Махов А. Е. Якоб Буркхардт — критик истории и историк "духа" // Там же. С. 490-497. 11 Там же. С. 161. 12 Там же. С. 339. 13 Там же. С. 84. 14 Цит. по: Jannsen E. M. Op. cit. S. 5-6. 15 Burckhardt J. Briefe. Leipzig, 1935. S. 57-58. 16 Ницше Ф. Веселая наука. Пер. К. А. Свасьяна // Ницше Ф. Сочинения в двух томах. М., 1990. Т. 1. С. 660. В дальнейшем идея "вечного возвращения" приобретает у Ницше вполне позитивный смысл. 17 Curtius E. R. Zum Begriff eines historischen Topik // Toposforschung. Eine Dokumentation. Frankfurt. a. M., 1972. S. 9. 18 Gombrich E. Art and Illusion. 2 ed. Lnd., 1969. P. 62-64. 19 Frye N. Anatomy of criticism. Princeton, 1957. 20 Противостояние этих двух подходов первоначально, в XVIII в., касалось главным образом геологии и зоологии: Жорж Кювье отстаивал катастрофическое воззрение на историю земли и всего живого, видя в глобальных катаклизмах главную причину изменений видового состава животного мира; Джеймс Хаттон в "Теории земли" (1795), напротив, предположил, что геологические изменения в прошлом были вызваны теми же причинами, что действуют в настоящем. 21 Лейбниц Г. В. Новые опыты о человеческом разумении. Пер. П. С. Юшкевича // Лейбниц Г. В. Сочинения. М., 1983. Т. 2, с. 56. 22 Уоллэс А. Р. Дарвинизм. Изложение теории естественного отбора и некоторые из ее приложений. М., 1898. С. 723. 23 Eccles J. C. The Himan Mystery. The Gifford Lectures. University of Edinbirgh. 1977-1978. Lnd., 1979. С. 117. 24 Уоллес А. Р. Указ. соч. С. 724-725. 25 Там же. С. 727. 26 Там же. 27 "Было бы логичным предположить, что пропасть, отделяющая нас от Божества, заполнена бесконечным иерархическим рядом существ" и т. д.: Wallace A. R. Le Monde de la Vie. Manifestation d'un pouvoir crйateur, d'un esprit directeur et d'un but final. Gйneve, 1914. P. 66. 28 Соловьев В. Неотправленное письмо к Л. Н. Толстому // Вопросы философии и психологии, 1905. Кн. 79. С. 241-243. 29 Наблюдаемая нами видимая равномерность и симметрия Вселенной с точки зрения теории «большого взрыва» весьма загадочна: ведь взрыв должен был бы вызвать весьма неравномерное распределение вещества в пространстве (Barrow J. D. Theories of Everything. The Quest for Ultimate Explanaton. Оxford, 1991. P. 49-53). 30 Barrow J. D. Op. cit. P. 54 31 Eccles J. C. Op. cit. P. 10. 8 9 17