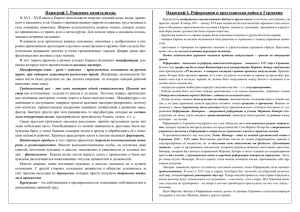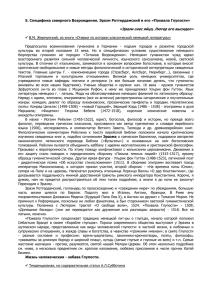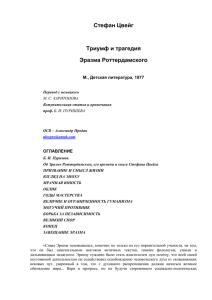Мартин Лютер о свободе и благодати, гуманизме и вере
реклама
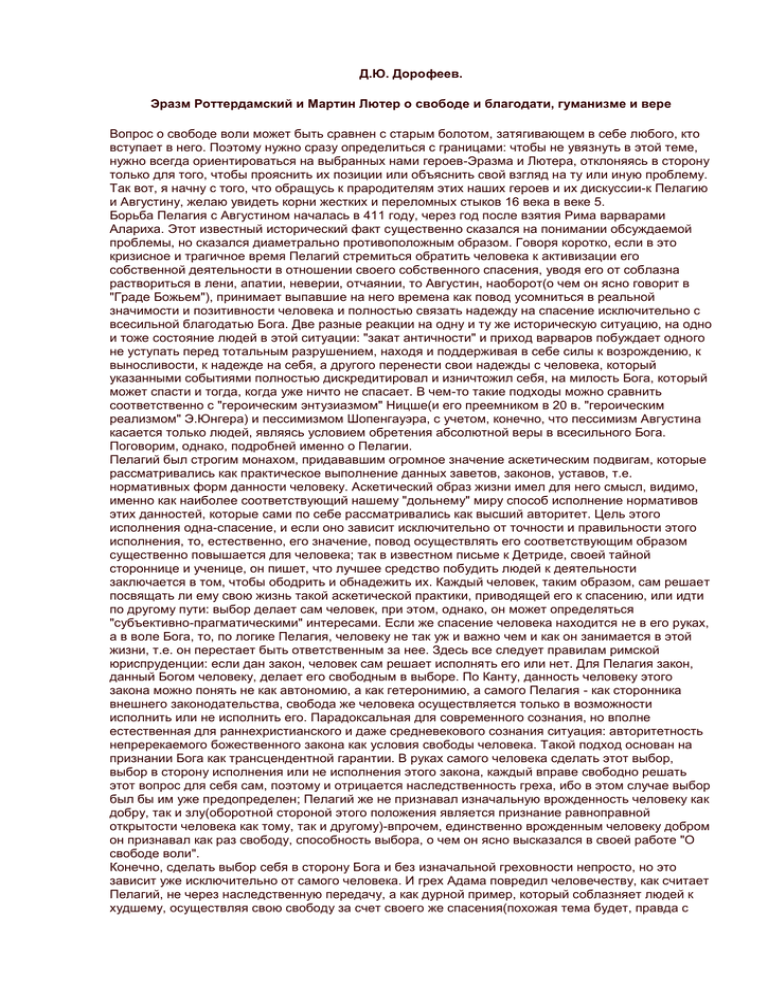
Д.Ю. Дорофеев. Эразм Роттердамский и Мартин Лютер о свободе и благодати, гуманизме и вере Вопрос о свободе воли может быть сравнен с старым болотом, затягивающем в себе любого, кто вступает в него. Поэтому нужно сразу определиться с границами: чтобы не увязнуть в этой теме, нужно всегда ориентироваться на выбранных нами героев-Эразма и Лютера, отклоняясь в сторону только для того, чтобы прояснить их позиции или объяснить свой взгляд на ту или иную проблему. Так вот, я начну с того, что обращусь к прародителям этих наших героев и их дискуссии-к Пелагию и Августину, желаю увидеть корни жестких и переломных стыков 16 века в веке 5. Борьба Пелагия с Августином началась в 411 году, через год после взятия Рима варварами Алариха. Этот известный исторический факт существенно сказался на понимании обсуждаемой проблемы, но сказался диаметрально противоположным образом. Говоря коротко, если в это кризисное и трагичное время Пелагий стремиться обратить человека к активизации его собственной деятельности в отношении своего собственного спасения, уводя его от соблазна раствориться в лени, апатии, неверии, отчаянии, то Августин, наоборот(о чем он ясно говорит в "Граде Божьем"), принимает выпавшие на него времена как повод усомниться в реальной значимости и позитивности человека и полностью связать надежду на спасение исключительно с всесильной благодатью Бога. Две разные реакции на одну и ту же историческую ситуацию, на одно и тоже состояние людей в этой ситуации: "закат античности" и приход варваров побуждает одного не уступать перед тотальным разрушением, находя и поддерживая в себе силы к возрождению, к выносливости, к надежде на себя, а другого перенести свои надежды с человека, который указанными событиями полностью дискредитировал и изничтожил себя, на милость Бога, который может спасти и тогда, когда уже ничто не спасает. В чем-то такие подходы можно сравнить соответственно с "героическим энтузиазмом" Ницше(и его преемником в 20 в. "героическим реализмом" Э.Юнгера) и пессимизмом Шопенгауэра, с учетом, конечно, что пессимизм Августина касается только людей, являясь условием обретения абсолютной веры в всесильного Бога. Поговорим, однако, подробней именно о Пелагии. Пелагий был строгим монахом, придававшим огромное значение аскетическим подвигам, которые рассматривались как практическое выполнение данных заветов, законов, уставов, т.е. нормативных форм данности человеку. Аскетический образ жизни имел для него смысл, видимо, именно как наиболее соответствующий нашему "дольнему" миру способ исполнение нормативов этих данностей, которые сами по себе рассматривались как высший авторитет. Цель этого исполнения одна-спасение, и если оно зависит исключительно от точности и правильности этого исполнения, то, естественно, его значение, повод осуществлять его соответствующим образом существенно повышается для человека; так в известном письме к Детриде, своей тайной стороннице и ученице, он пишет, что лучшее средство побудить людей к деятельности заключается в том, чтобы ободрить и обнадежить их. Каждый человек, таким образом, сам решает посвящать ли ему свою жизнь такой аскетической практики, приводящей его к спасению, или идти по другому пути: выбор делает сам человек, при этом, однако, он может определяться "субъективно-прагматическими" интересами. Если же спасение человека находится не в его руках, а в воле Бога, то, по логике Пелагия, человеку не так уж и важно чем и как он занимается в этой жизни, т.е. он перестает быть ответственным за нее. Здесь все следует правилам римской юриспруденции: если дан закон, человек сам решает исполнять его или нет. Для Пелагия закон, данный Богом человеку, делает его свободным в выборе. По Канту, данность человеку этого закона можно понять не как автономию, а как гетеронимию, а самого Пелагия - как сторонника внешнего законодательства, свобода же человека осуществляется только в возможности исполнить или не исполнить его. Парадоксальная для современного сознания, но вполне естественная для раннехристианского и даже средневекового сознания ситуация: авторитетность непререкаемого божественного закона как условия свободы человека. Такой подход основан на признании Бога как трансцендентной гарантии. В руках самого человека сделать этот выбор, выбор в сторону исполнения или не исполнения этого закона, каждый вправе свободно решать этот вопрос для себя сам, поэтому и отрицается наследственность греха, ибо в этом случае выбор был бы им уже предопределен; Пелагий же не признавал изначальную врожденность человеку как добру, так и злу(оборотной стороной этого положения является признание равноправной открытости человека как тому, так и другому)-впрочем, единственно врожденным человеку добром он признавал как раз свободу, способность выбора, о чем он ясно высказался в своей работе "О свободе воли". Конечно, сделать выбор себя в сторону Бога и без изначальной греховности непросто, но это зависит уже исключительно от самого человека. И грех Адама повредил человечеству, как считает Пелагий, не через наследственную передачу, а как дурной пример, который соблазняет людей к худшему, осуществляя свою свободу за счет своего же спасения(похожая тема будет, правда с иной оценкой, активно муссироваться в экзистенциализме). Каждый человек может выступать как "виновником" своего греха, так и своего спасения. Единство человеческого рода, негативно фундированное изначальной греховностью, заложенной Адамом, теряется, люди предстают оторванными друг от друга атомами; также, впрочем, теряется и позитивная общность людей в спасении, в котором все они едины перед спасающей благодатью Бога. Человек отрывается от человечества(которое как единое целое не существует у Пелагия, т.е. не существует и истории), держась на своей уникальности, проявляющейся в индивидуальной способности выбирать и адекватно исполнять божественные законы. Если забыть о гетерономии божественного законе, можно признать Пелагия учеником Канта, ведь действительно его позиция, исходящая из изначальности свободы человеческого выбора, можно выразить таким образом: "мы должны, следовательно, мы можем"; естественно, это не означает, что все люди безгрешны, но если человек ХОЧЕТ, если он определился в своем выборе, то он может быть без греха(здесь мы видим чрезмерно оптимистичное отношение к человеческой природе, которая сама по себе, в своей естественности предстает однородной и бесконфликтной, т.е. она никак не влияет на волюразвитие такого подхода будет еще сильнее развита у Целестия. Кант же, к слову, настаивал на неоднородности человека, проявляющейся в двойственности его чувственной и сверхчувственной, разумной составляющей, которая, например в отношении категорического императива, находится в взаимосоотнесенном контакте друг с другом; принципиальная роль отводится человеческой неоднородности, понимаемой как переплетение подлинности и неподлинности, падения и восстания, как характеристики самого способа существования и Хайдеггером). Более того, он напрямую увязывает свободу выбора с сознанием-поэтому, например, дети рождаются "чистые", не обремененные грехом, т.к. их бессознательное состояние не позволяет им осуществлять свободу выбора, в отличии от того же Адама, который согрешил будучи сознательным, т.е. отвечающим за свой выбор. Именно поэтому Пелагий так критично отнесся к словам молитвы Августина в "Исповеди"("Дай нам то, что Ты повелеваешь, и повелевай нам то, что Ты хочешь"), т.к. в ней человек выступает исключительно пассивным, воспринимающим, рецептивным началом, от которого ничего не зависит. Такая самоотдача себя Богу является, однако, сутью религии как таковой, религиозного само- и мироотношения, а Пелагий же, стремясь поднять значимость человека, проявляющуюся хотя бы в факте сознательного выбора, идет по стопам этического рационализма, заложенного еще Сократом. В связи с рационализмом хотелось бы пару слов сказать и о историческом союзнике Пелагия -Целестии. Целестий абсолютно противоположный Пелагию тип богослова. Он акцентируется на популярные проповеди, рассчитанные на многочисленную, среднего уровня аудиторию, используя, ради привлечения ее внимания, разного рода словесные ухищрения, наподобие софистических. Основным вопросом является для него вопрос о первородном грехе(о котором Пелагий старается все же говорить осторожно - на соборе в Диосполе он даже был не согласен с его пониманием самим Целестием) и он максимально радикально подходит к нему. Первородный грех не просто отрицается, но из этого отказа выводятся все возможные выводы. Так, например, спасение предстает уже делом не трудным, сверхчеловеческим - поскольку только Бог может преодолеть притяжение человеческой греховности, -- а, наоборот, легким и естественным. Дело в том, что если каждый рождается в том состоянии, в котором был Адам до греха, значит человеческая природа в своей естественности изначальна чиста и непорочна, и все, что надо делать для спасения, так это следовать за ней. Природа в своей незамутненности выступает гарантом сохранения человеческой чистоты и, следовательно, спасения. Такой подход позволяет оправдать самые темные с точки зрения христианской церкви и морали проявления человека ссылкой на то, что они являются естественными для нашей природы. Так, например, Целестий вполне оправдывал телесную похоть, против которой так страстно выступал аскет Пелагий. Здесь мы видим осуществление на религиозной основе примерно того же, что на основе установок Просвещения предстает у Руссо. Действительно, если нет первородного греха, изначально причастного всем людям, то рождается человек чистым и непорочным, а что будет с ним дальше, пойдет ли он по пути святости или греха или, в руссоистской интерпретации, по пути непосредственной естественности или опосредованной искусственности, зависит от самого человека, от его свободы. Правда, это сравнение нуждается в уточнении: если Пелагий и Целестий полностью передавали этот выбор в руки каждого отдельного человека, то Руссо подчеркивает значимость общества и социальной структуры, в котором живет человек и которое оказывает на него свое пагубное воздействие, т.е. ограничивает его свободу(поэтому для него актуальна проблема отношения Я и общества, зачастую, что видно в его романах, решаемую на пути обретения одиночества в природе или на пути естественной любви двух людей, преодолевших в себе зависимость от социальной нормированности). Вполне закономерно, что такое оправдание многочисленных действий за счет природы у большого количества людей вызвало поддержку такого учения. Кстати, можно вспомнить похожую ситуацию и в Германии 16 века, когда Лютер, представляя свое учение о том, что все люди изначально и безусловно предопределены к спасению или осуждению, что все случается по необходимости и что спасение достигается "только верой", а "не за счет дел", вдруг неожиданно для себя видел, что огромное количество людей стало вести разгульный, даже развратный образ жизни, т.к. благие действия представали для них бесполезными раз все в отношении них уже решено и решение это, как бы они себя не вели, не изменится(этот исторический пример хорошо обнажает психологию "людей", которые осуществляют тот или иной выбор не свободно, ради него самого, а ориентируясь только на "выгоды", обретаемые благодаря этому выбору. Этот же корыстный принцип хотел задействовать и Пелагий как повод к исполнению божественных заветов, а когда Лютер показал, что "выгода", т.е. спасение, уже заранее распределено, люди раскрыли свою настоящую природу) . Поэтому для Целестия и крещение, являясь внешним по отношению к природе действием, выступает значимым не в качестве мистически преображающего человека таинства(ведь тогда бы природа определялась бы извне, тогда бы человека до крещения, т.е. младенца, нужно было бы признавать несовершенным в его непорочности, а первичную природу не изначально безгрешной, раз она нуждается для своего спасения в крещении), а в качестве принятого ритуала. Здесь Целестий близок по своему формализму в отношении к законам и правилам к Пелагию. Ведь у последнего человек не связан даже с Христом внутренней личностной связью, относясь к нему формально, как исполнитель закона к законодателю-для него этого вполне достаточно для достижения спасения. Опять-таки подчеркнем, что такой формализм, делающий акцент на исполнении четко определенных норм и правил, а не на, скажем, преображающей человека личностной любви, будет характерен для протестантизма и для философов, вышедших из него, того же Канта. Такое сходство, в частности, связано с тем, что Пелагий и Целестий, как также и гностики 2-3 вв., стремились разрешить и объяснить религиозные проблемы веры строго рационально, что вынуждало отказываться от самого духа религиозности, замещая его формальным исполнением положенных норм. Формальному рационализму нет дела до внутренней реальности человека, важно лишь то, как он проявляет себя в внешней реальности, поэтому и неудивительно, что в случае разрушения основ, на которых держится формальный рационализм, человек теряет точку опоры(у Канта возможность этого разрушения преодолевается тем, что выбор этих основ человек делает для себя сам, не в силах их уже потом поменять, но все равно долг как ответственность за сделанный выбор и ориентир для последующих действий у него полностью исключает, не делая ее просто нужной в этой системе, действия, фундированные субъективным переживаниям любви). Отсюда выходит и соответствующее отношение к благодати. Само латинское слово "благодать" происходит от слова "дар"(gratia от gratis). Благодать не может пониматься иначе, кроме как бескорыстный и безосновный дар, преображающий и фундаментально меняющий человека. Благодать нужна там, где ничто другое не может помочь, где человек не может обойтись своими силами, т.е. где природа отягощена грехом. Благодать это воплощение бесконечной милости и любви Бога по отношению к людям, и ее нельзя понимать как награду за заслуги, полученную на основе определенных дел, но именно так, как благодать не преображающую, а "просвещающую" понимает ее Пелагий, заменяя мистическое таинство рациональной установкой. Определяющим принципом пелагианства здесь выступает следующее: "не милость, а правда и справедливость Бога: каждому свое и без обмана"(справедливости ради отметим, что на протяжении первого тысячелетия христианства было довольно устойчивым представление о Боге как о справедливом судье, выносящем свой приговор, слушая и сопоставляя убедительность обвинений, с одной стороны, демонов-прокуроров и с другой стороны, ангелов-адвокатов; это модель определения дальнейшее судьбы человеческой души часто присутствует в средневековой иконографии). Здесь мы видим во всей красе воплощение формально-юридического подхода, который еще приемлем, как мы говорили выше, в области этики, но невозможен в религии-различие этих двух сфер, как кажется, Пелагий так и не понял. Это объясняет, в частности, ограничение у него человека мирским, имманентным через формальное отношение к исполнению закона в мире. Таким образом достигается освобождение человека от сферы трансцендентного, от его неоднородности. А свобода его здесь полностью фундирована формальным исполнением закона, а не личностной содержательной автономией; думаю, не все согласились бы на такую свободу. Как пишет Е.Н. Трубецкой в своем фундаментальном труде о Августине, "пелагианство для того лишь объявляет человека свободным от всякого сверхприродного действия на него Божества, чтобы тем крепче связать его внешней заповедью: оно хочет отнять у своих последователей надежду на божественное милосердие, чтобы сделать их тем более ревностными исполнителями закона…Пелагианское учение, таким образом, может послужить оправданием светских настроений…оно освобождает своих последователей от церкви, и от христианства, неизбежно обращаясь в проповедь мирскую, гуманистическую"(Е.Н. Трубецкой, Религиозно-общественный идеал западного христианства, Спб, 2004, 156-157). Перед нами интересная связка: рационализм-формализм-естественность природы-гуманизм. Она четко раскрылась у Юлиана Экланского, который уже считает, что и в Священном Писании не может быть ничего, что противоречило бы разуму, который максимально возвышает имеющуюся действительность(он говорит: "все созданное не может быть лучше, чем оно есть на самом деле"), который признает полную благость человеческой природы, а сам человек выступает в своей природе автономным, независимым и самодостаточным(формула Юлиана в этом вопросе такова: "человек, эмансипированный Богом"); недаром тот же Трубецкой назвал Юлиана "гуманистом 5 века"(там же, 161). В эпоху Возрождения и гуманизма также будет четко проявляться тенденция к реабилитации человека посредством освобождения его от власти трансцендентного; но, как показало дальнейшее развитие философии(особенно в конце 19-нач. 20 веков), человек, встав на ноги, не может удовлетворяться абсолютной вовлеченностью себя в сферу имманентного, ибо, неся в себе "искорку" трансцендентного, он стремиться вырваться из ее оков, устремляясь к запредельному ей. Августин в этой связи исходит из дарованной Богом человеку благодати, изначально предопределяющей человека к спасению. Формализм римской юридической системы проявляется, хотя и иначе чем у Пелагия, и у самого Августина. Ведь само предопределение это выражение и воплощение извечного, установленного Богом порядка, и само спасение человека у Августина также как и у Пелагия, это спасение по закону-только у первого это непознаваемый закон божественного предопределения, уходящий в трансценденцию Бога, а у второго закон соответствующего поведения в мире, формирующий имманентную нормативность. Именно эта абсолютная предопределенность, по сути сводящая человеческую свободу на нет, была особенно привлекательная для Лютера в Августине. После этого предварительного вступления перейдем непосредственно к дискуссии Эразма и Лютера, дискуссии, которую Стефан Цвейг справедливо назвал одной из самых значительных в истории немецкой мысли, когда сошлись друг напротив друга "два человека, противоположных по характеру, но могучих по масштабу"(С. Цвейг, Триумф и трагедия Эразма Роттердамского, М., 1977, 227). Время, в котором они жили, было переходным для Германии. Гуманизм Возрождения, уже закрепившийся и давший обильные плоды в Италии, дошел теперь и до Германии на волне пересмотра отношения к общим установкам католической религии. Можно сказать, что некоторые принципиальные устои католицизма и в целом средневекового мироощущения оказались между двух фронтов, направляющих на них свои снаряды. Одним фронтом являлся гуманизм, стоящий на просвещенческих установках, не принимающий тотального подавления человека, необходимости его отречения от полноты жизни, критически относящийся к таким извращенным проявлениям католицизма, как, например, практика индульгенций или развращение высшего духовенства. Другим, более поздно возникшим, являлся фронт религиозного реформаторства под руководством Лютера, стремящийся победить противника на его же поле-на поле истинности христианского учения. Главным образом, как это часто бывает, именно общий враг сблизил Эразма и Лютера, хотя мотивы, по которым каждый из них боролся с ним у них были разные. Впрочем, Эразм не был принципиально против католицизма, наоборот, он до конца своих дней осознавал себя правоверным католиком, о чем не раз и говорил, он просто хотел исправить то, что считал в нем не соответствующим подлинному, как он его понимал исходя из нового гуманистического мироощущения, христианству. Особо показательно отношение Эразма и Лютера к внешнему авторитету. Если первый отрицал абсолютность его власти над человеком потому, что стремился раскрыть в человеке его свободу, то второй отрицал его в связи с тем, что подчинение ему уводило человека от подчинения Богу. Естественно, что ясность в этом вопросе наступила не сразу, и первое время, примерно до 1522 года, Лютер еще верил, что Эразм может быть ему союзником. Здесь нужно иметь в виду, вопервых, что Лютер был заинтересован в Эразме намного больше, чем тот-в нем: разница между ними была 17 лет и когда Лютер только начинал утверждаться Эразм уже был общепризнанным лидером европейской культуры; во-вторых, стремление привлечь Эразма на свою сторону было вызвано, видимо, ошибочным представлением Лютера, считавшим его богословом. Действительно, Эразм, родившийся в 1466 году в Роттердаме в качестве незаконнорожденного сына священника, уже в 21 год поступает в августинский монастырь строго устава в Стейне, а в 1492 году он был рукоположен в сан и становится секретарем епископа Камбрейского. Но уже через три года епископ отпускает Эразма учиться и тот выбирает богословский факультет Сорбонны, где он впервые серьезно знакомится с трудами Августина, получая в 40 лет степень доктора богословия. После этого он пускается в ознакомительные путешествия по странам Европы. К 50 годам его уже признают как бесспорного авторитета европейской культуры, а в 1517 году и церковь проявляет свое уважение к нему, освобождая его от любой цензуры. Но для Эразма, не любившего влезать в теологические дебри, богословские проблемы всегда были важны не сами по себе, а как возможность развернуть гуманистические ценности и установки. Лютеру же, даже если он и чувствовал некую сдержанность Эразма по отношению к чисто религиозному богословствованию в реформаторском духе(так Лютер еще в конце 1516 года в письме Спалатину пишет, что недоволен тем, что Эразм недостаточно уделяет внимания проблеме первородного греха, а в письме Лангу от 1 марта 1517 года он пророчески утверждает "день ото дня уменьшается моя любовь к нему…человеческое заботит его гораздо больше, нежели божественное"--см. цит. по: Эразм Роттердамский, Философские произведения, М., 1986, 648), очень соблазнительно и выгодно было иметь союзником такого известного человека. Поэтому в первом письме, которое он пишет Эразму от 28 марта 1519 года Лютер называет его "красой нашей и надеждой", уничижая себя настолько чрезмерно, что это даже не может не казаться искусственным, подчеркивая общность между ними и их взаимное уважение друг к другу. С другой стороны, Эразм длительное время не был знаком с основными положениями Лютерова учения, ограничиваясь признанием уважения к его личности, стремлением вернуться к некой исходной простоте христианского учения, а также поддержкой его борьбы с крайностями католицизма. Резкое отрицательное отношение возникло прежде всего у Лютера, правда открыто он выражал его в письмах к друзьям, но не самому Эразму, желая отложить неминуемый разрыв в отношениях между ними. Так, например, в письме от 9 мая 1521 года Спалатину Лютер называет Эразма "бегемотом", утверждая, что он "далек от благодати; он больше озабочен тем, как достичь покоя, а о кресте думает меньше всего"--(цит. по И. Гобри, Лютер, М., 2000, 312.), но в письме самому Эразму от 18 апреля 1524 года, видимо уже не имея в отношении него каких-либо надежд на союзничество и открыто признавая его критические выпады в сторону лютеран, он просит его "отказаться от горьких и соленых фигур своего красноречия" и "если ты не можешь сделать ничего иного, будь только зрителем нашей трагедии, не присоединяйся к врагам, а главное-не издавай ты против меня книжонок, как и я не стану их против тебя издавать"(Эразм Роттердамский, Философские произведения, М., 1986, 589). Этим письмом Лютер как бы хочет успеть заставить Эразма отказаться от открытой публичной дискуссии, которую тот начал своим трактатом "Диатриба, или рассуждение о свободе воли", изданным в сентябре 1524 года в Базеле, т.е. когда указанное письмо было получено, работа над трактатом уже шла. В ответ на "Диатрибу" Лютер садится за свой известный трактат "О рабстве воли", который, наряду с Катехизисом, он в дальнейшем признавал самым важным произведением своей жизни. Книга вышла на латинском языке в декабре 1525 года и в течении короткого времени многократно переиздавалась. Ответом Эразма на произведение Лютера стал написанный в течении нескольких месяцев "Гипераспистес 1"(в переводе с греческого-воин со щитом), потом последовал "Гипераспистес 2"(до сих пор существующий только на латинском) и еще одно произведение, уже последнее, в котором Эразм подымает проблему свободы воли-"О желанном церковном согласии", но на все эти труды Лютер уже не отвечал. В этом смысле, повторю, человеческое своеволие не может изменить свою определенность-я подчеркиваю здесь "человеческое" потому, что, скажем, всемогущее бесконечное "своеволие" Бога может изменить человека в любой момент, как это, например, произошло с обращением язычника Савла; такой поворот, как писал об этом Кьеркегор, также совершается в "мгновении" и спонтанно, но по воле Бога, изначально предопределившего его. Неудивительно, что именно в протестантизме, где такая установка в своем радикальном выражении была осуществлена Лютером, абсолютизировавшем изначально предопределяющую божественную благодать, вопрос о человеческой свободе решался наиболее жестко и однозначно. Само латинское слово "благодать", как мы уже упоминали, происходит от слова "дар", и в этой связи подчеркивается, что благодать полностью "бескорыстна", не определяется ничем земным, не может быть ничем выслужена человеком и никак не связана с его определенностью; на этом и строилась концепция бессмысленности любых дел человека для его спасения. Полностью отвергая свободу человека в мире, лютеранство добивалось его, так сказать, переориентации с мира на Бога, от которого он полностью зависел. Такой подход напоминает схему, коротко рассмотренную выше, о связи судьбы и свободы. Действительно, человек полностью предопределенный Богом(в данном случае функция полного предопределения снимает различия между Богом и судьбой) обретает автономию в мире, освобождается от связанности с миром, поскольку не мирские отношения, могущие выстраиваться самим человеком, влияют на него в перспективе спасения или осуждения, а изначальная предвечная его определенность Богом. Нам сейчас нет необходимости касаться богословских тонкостей взаимосоотношения божественной благодати и человеческой свободы в христианстве, хотя рассмотрение этой проблемы может как раз показать, что первая не позволяет понимать вторую как своеволие, раскрывая ее принципиальную конечность, которая, однако, фундируется не изнутри человека, а извне Богом-и это принципиальная разница в понимании человеческой конечности в христианстве, религии вообще и, скажем, в экзистенциализме Хайдеггера или Сартра(которые, идя по этому пути, не могли не подойти к развитию теории трансцендентной имманентности человека). Мы просто обратимся к некоторым сторонам знаменитой дискуссии Лютера и Эразма, а точнее-к некоторым возражениям последнего, которые рассмотрим в контексте обсуждаемой нами проблемы. Итак, сразу необходимо подчеркнуть, что в качестве главного эразмовского основоположения в вопросе о свободе является его твердое отстаивание позиции о неоднородности человека. Да, первородный грех Адама не прошел мимо природы человека, негативно изменив ее, и Эразм, в отличии от Пелагия и в еще большой степени Целестия, принимает его закабаляющее действие в том числе и на человеческую свободу. Но, однако, после греха свобода человека, оказавшись испорчена, не исчезла совсем: осталась, как говорит Эразм, "искорка разума, отличающая добродетельное от недобродетельного", а также некая склонность воли, позволяющая, несмотря на склонность к греху, стремиться к добродетели(см. Э.Роттердамский, Гипераспистес-1\\Эразм Роттердамский, Философские произведения. М., 1986, 573). Само такое стремление как раз воплощает человеческую неоднородность: его наличие говорит о светлой стороне человека, побуждающей устремляться к праведности, к которой-и в этом проявляется его отягощенность грехом-сам он может только стремиться, не обладая ею(кстати, очень характерно, что при такой позиции Эразм критично относится к представлению Мани, основоположника манихейства, о двойной природе человека, благодаря которой он, с одной стороны, не может не грешить, а с другой-не может не совершать добра: ведь такой подход свидетельствует не о взаимосоотнесенной неоднородности, а о противополагаемой, дуалистической неоднородности, основающейся в каждом случае на своей определенной данности). Нетрудно увидеть, что такая установка в своем принципе очень близка той, которая выражена Платоном в "Пире": Сократ, рассказывая о своем разговоре с мантинеянкой Диотимой, представляет природу Эроса как неоднородную, что проявляется и в его статусе великого гения, связующего мир людей и богов, и в его происхождении от Пороса(бога богатства) и Пении(богини бедности), и в его внешности, и в его отношении к смерти, совмещающей бессмертность и смертность, но главное в том, что он философ, занимающий промежуточное положение между мудрецом и невеждой, что выражается в стремлении, но не обладании мудростью(см. Платон, Пир, 202е-204е). Так вот, по Эразму, такое стремление есть у всех как "след" неиспорченной грехопадением свободной человеческой природы, но у одних людей для его осуществления достаточно собственно человеческих сил и усилий, которыми можно вымалить так называемую "оправдывающую благодать", а у других оно остается бездейственным и бессильным, если на человека не спустится особая благодать, понимаемая как "действенная или побуждающая". Таким образом Эразм старается преодолеть лютеровский радикализм, исходящий из принципа "или-или", предложив вместо него взаимосоотнесенную неоднородность греха("рабства") и невинности(свободы) человека, всемогущей благодати Бога и свободы воли человека, причастной как имманентной конечности, так и трансцендентной бесконечности. Это позволяет ему жестко критиковать одно из самых главных оснований лютеровской концепции-о полном ничтожестве человека. "После первородного греха, но больше-после личного греха и свобода утрачена не полностью, и нет абсолютного рабства. Появилась слабость зрения, но не слепота; появилась хромата, но не погибель; нанесена рана, но смерть не наступила; приблизилась болезнь, но не гибель. Ведь остается какая-то искорка разума, остается какая-то тяга к добродетели, пусть и недейственная. Но она-ничто не изза того, что ее самой по себе недостаточно для возвращения прежней свободы, а из-за того, что раненая и истощенная, она не в состоянии сделать того, что могла; однако же она обращает все остатки своих сил для ободряющей благодати!"(Эразм Роттердамский, Гиперасписпес-1, 577). Все это приводит к реабилитации(после лютеровских изничтоживающих нападок на него) мира как значимого для человека "факта", а, следовательно, к реабилитации определенности человека, могущего теперь быть свободным и развертывая свою соотнесенность с миром: человеческая автономия выступала не как замкнутая, а как открытая миру. Для Эразма это имеет особый смысл еще и потому, что для него как гуманиста важно было не позволить изничтожить значимость таких проявлений, как совершенство языка, знания, культуры в целом, которые оценивались Лютером как формы "мирского рабства", уводящие человека от Бога в сторону мира--Лютер, например, говорил, что "истина сильнее красноречия, вдохновение важнее ума, вера выше просвещенности"(цит. по: там же, 665). Действительно, лютеровская теория полной предопределенности, рабства человеческой воли от мира и веры, которая как благодатный дар позволяет преодолеть это рабство, полностью приняв свой собственную ничтожность и "отдавшись" божественной воле не оставляет места для какой-либо иной направленности, кроме как направленности в сторону Бога. Но, повторюсь, и сама эта направленность, проявляющаяся в вере, основана на изначальной предопределенности Бога, полагающего своим предвечным решением одних к спасению, других-к осуждению. Поэтому все деяния человека, облагодетельствованного верой, это деяния проявляющей себя в человеке и через него исключительно одной лишь божественной благодати, которая не оставляет здесь ни малейшего места собственно человеческому. Это приводит к тому, что верующий, видя в своей вере знак божественной избранности, рассматривает себя не как конечного человека, а как голос Бога, изливающего себя через него. Собственно, при таком взгляде на соотношение божественной благодати и человеческой воли свобода человека действительно невозможна. Эразм очень тонко понял, что у Лютера человек это лишь амфора, заливаемая вином божественной благодати и полностью им определяемая. И, конечно, не удивительно, что человек, ощущающий в себе течение этого вина, все порывы, движения, направленности, побуждения, имеющие в нем место, приписывает не себя, а именно божественной благодати, полностью поэтому отдаваясь и следуя ей в своих действиях(такой подход вообще свойственен многим мистическим сектам, в частностям английским, имевшим широкое распространение в конце 18-нач. 19 века, о которых мы вскользь говорили выше в связи с Блейком). Лютер был убежден, что он является одним из таких избранных, и эта уверенность давала ему силы бороться и непримиримо отстаивать свои позиции, осуществить свою жизнь с небывалой для отдельного человека исторической продуктивностью(недаром Гете, отвечая на вопрос Эккермана о исторических личностях, в наибольшей степени изменивших мир на протяжении своей жизни, всегда называл Лютера наряду с Петром 1 и Наполеоном). Он полностью отдавался бьющей в нем спонтанности-не свободной человеческой спонтанности, а спонтанности божественной благодати, направляющей, ведущей его, проявляющей себя в нем. В таких случаях все значение человека сводилось лишь к тому, чтобы не сопротивляться этому изливанию и во всем следовать ему. Весь жизненный путь Лютера показывает как он держался за эту божественную благодатную спонтанность в нем, бывшую для него единственным критерием и указателем, как он вслушивался и искал ее в минуты кризисного сомнения или отчаяния, с какой энергией он проводил ее в жизнь(в этом смысле нужно понимать ту связь в протестантизме между успешностью своей деятельности и своей богоизбранностью, которую раскрыл М. Вебер в своем классическом труде "Протестантская этика и дух капитализма"). Для нас этот пример особенно показателен, так как оттеняет наше собственное понимание спонтанности именно как свободного самополагания человека. Лютеранство отрицает человеческую свободу не только исходя из трансцендентных оснований, связанных с монистической абсолютизацией воли Бога, но и опираясь на имманентные основания: для него, в силу первородного греха, невозможно быть свободным в-мире, т.е. бытие человека как изначально (априорно) искаженное грехом есть "бытие-в-мире", понятое как рабское подчинение всему мирскому. Действительно, если мир стал греховным через человека, а сам грех понимается как естественное служение миру, а не Богу, то укорененность человека в мире фундируется его неотъемлемой греховностью-и наоборот. В этом смысле бытие человека до грехопадения есть бытие не в-мире, а в-Боге. Поэтому мир "мирского" определяет человека потому, что в акте грехопадения человек выбрал себя как "раба мира", лишив себя свободы. В таком положении мир только уводит от Бога, но не может свободно привести человека к Богу поскольку его сущность предопределена грехом-только сам Бог силой своей благодати может преодолеть эту предопределенность, обратив ее, в некотором смысле насильно, в сторону света. Нам здесь важно подчеркнуть, что здесь мир постоянно соблазняет человека не, так сказать, извне, а благодаря самому человеку, выбравшего в лице Адама свою вовлеченность, заброшенность в мир: отрицательная определенность мира полагается отрицательной самоопределенностью человека посредством грехопадения. И я не случайно использовал здесь знаменитое хайдеггеровское понятие: ведь у немецкого философа абсолютизация заброшенности напрямую связана с неподлинностью человеческого существования, а подлинность-с ее экстатическим трансцендированием. Но Хайдеггер здесь не является слепым пассивным адептом Лютера, а философски переосмысляет его-ведь этот выход из(ex-stasis) заброшенности осуществляется у него не через идущий из сферы трансцендентного дар благодати, а на основе мира, и именно такой подход позволяет развивать диалектическую взаимосоотнесенность подлинного и неподлинного, могущую быть понятой как взаимосоотнесенность трансцендентного и имманентного. В любом случае, как бы его не оценивать, бытие человека выступает здесь как бытие-в-мире, показывающую сущностную связанность и соотнесенность человека и мира, только в ней и могущих рассматриваться. Теперь я позволю себе высказать свои суждения по поводу этой дискуссии в конкретной перспективе, которую можно определить так: спонтанная исступленность и умеренная сдержанность. Каждый, кто подходит к исследованию темы "Эразм и Лютер" сразу отмечает противоположность их устоев, установок, жизненных позиций, мироощущений. Это определяется и особенностью их жизненного пути, осознанным предпочтением разных истоков(в одном случае классики античности, в другом-пророки Ветхого Завета), в одном случае гуманистическим, в другом-самозабвенно религиозном мировоззрением, но и, конечно, диаметральной несхожестью характеров. Приведу высказывание Ульриха Цазия, знавшего обоих наших героев, в котором, как кажется, их инородность заявлена очень четко: "Лютером владеет воинственный дух, порождающий вокруг себя вражду, тяжбы, ревность, гнев, ссоры, расколы, зависть и убийства. Эразм всегда настроен миролюбиво, и от него исходит дух мягкости, доброжелательности, благонравия, верности и снисходительности. Лютер говорит первое, что приходит ему в голову, а потом защищает свои высказывания с жаром и настойчивостью; Эразм излагает свои убеждения сдержанно и скромно, в самом любезном тоне. Когда речь заходит о толковании отрывков из Священного Писания, Эразм старается прояснить их смысл исходя из общего контекста;…Лютер поворачивает, переворачивает и выворачивает наизнанку каждое слово, пока весь контекст не зазвучит по-другому"(цит. по И.Гобри, Лютер, 305). Различие основополагающих жизненных остовов этих двух крупнейших личностей было им заметно и в период самых дружественных отношений между ними. Приведу несколько примеров. Отвечая на первое письмо Лютера к нему, Эразм подчеркивает, что умеренностью можно добиться больше, чем буйством. В письме Эразма Меланхтону 1520 года говорится: "Я поддерживаю Лютера настолько, насколько это возможно, но все его сторонники, то есть почти все порядочные люди искренне сожалеют, что он не проявил в своих сочинениях большей осторожности и умеренности"(цит. по И. Гобри, Лютер, 311). Эразм в письме Лютеру от 11 апреля 1526 года пишет: "Одно меня мучает, как и всякого добропорядочного человека: что ты своим дерзким, необузданным, мятежным нравом сотрясаешь весь мир гибельным раздором"(Эразм Роттердамский, Философские произведения, 593). Характерно, что уже в первом письме Эразму Лютер стремиться создать его образ удобным себе и своим установкам, т.е. как человека "принципиального", "страстного", даже где-то "исступленного"; так он пишет: "меня весьма радует, что среди прочих даров Христовых есть у тебя и тот, что ты многим не нравишься: так я обычно отличаю дары Бога милостивого от даров Бога гневного" и дальше: "хотя ты весьма сдержан, твой дух пылает скрытой благодарностью и любовью к Богу"(там же, 584). Эти отличия особенно ярко всплывают при сравнении стилей письма Эразма и Лютера. Эразм с самого раннего времени подчеркивает, что Лютеру надо бы выражаться помягче, ему, видимо, режет слух несдерживаемая резкость, безаппеляционность и радикализм народной речи Лютера, которая не перестает быть таковой и в латыни. Лютер же, так же с ранних времен их общения, воздавая великую славу и почет изысканности и красоте речи, просвещенности и образованности Эразма, подчеркивает свое ничтожество говоря в первом письме ему, что "я должен почтить твой выдающийся дух, обогащающий и меня, и всех людей-пусть даже я и сделаю это наиварварским языком"(там же, 585), видит в этой "культурности" некое внешнее наслоение, уводящее человека от Бога, вводящее его в определенные, строго заданные формы и непозволяющие ему раскрыть себя в своей естественной, изначально присущей ему непосредственности порыва, чувств, переживаний. Совершенство языка, знания, культуры это для Лютера все то, что относится к миру, к имманентному, и нельзя давать им власть в себе над собой, ибо эта власть закабаляет человека, погружая его в мир, а не навстречу Богу: "истина сильнее красноречия,- говорит он, - вдохновение важнее ума, вера выше просвещенности"(цит. по: там же, 665). Не будем также забывать, что Лютер не был богословом систематиком, в протестантизме эту функцию выполняли Меланхтон и Кальвин, и его многочисленные произведения написаны так, как будто они должны быть произнесены вслух, с особенностями проповеди, т.е. они подчиняются законам устной речи, а не речи академически письменной, приверженцем которой является Эразм. Поэтому и произведения Лютера таковы, как будто их автор бросается в последний, самый решительный бой, когда важно только одно: победить. Эразм же пишет принципиально иначе, он сознательно избегает крайностей, исходя в этом из опыта греческой античности. Поэтому он и называет свое сочинение "Диатрибы", по гречески научное исследование, которое в античности было очень близко жаноровой форме диалога. И в нем он постоянно повторяет свое неприятие яростного спора, боясь выступать от лица истины в непоколебимых утверждениях и подчеркивая наличие множества мнений, имеющих право быть. Приведем лишь несколько цитат оттуда, ясно показывающих отношение Эразма в этом вопросе: "я всегда по какому-то необъяснимому врожденному чувству отвращался от сражений и всегда предпочитал выступать на более свободных полях муз, чем биться врукопашную"; "я хочу быть собеседником, а не судьей, исследователем, а не основоположником; я готов учиться у каждого, кто предлагает что-то более правильное и достоверное, хотя я охотно советовался бы и с людьми среднего ума; в вопросах такого рода не следует спорить так упрямо; это больше вредит христианскому согласию, чем помогает благочестию"(там же, 219-220)". Казалось бы, подход Эразма намного предпочтительней и привлекательней своей открытостью и воздержанной умеренностью, а подход Лютера в отстаивании истины очень легко и соблазнительно объявить догматическим и агрессивно-авторитарным. Может быть. Но я хотел бы акцентировать внимание на другом, немного отстранясь от содержательной сути нашего спора. Может ли сдержанность и отсутствие желания, способности, даже смелости сравниться по продуктивности с необузданной спонтанностью в проявлении своей позиции, в максимальном радикализме в проведении своих выводов, в вдохновленной неуступчивости в борьбе за отстаивание своей истины перед лицом соперника? Первое направлено на приоритет восприятия другого, на рецептивность, второе-на спонтанное проявление и раскрытие своей установки, дающее силы идти в этом до конца; первое определяется формой, огранкой, второе-страстью и порывом в выражении своего содержания. Конечно, и тут нет никаких сомнений, общаться легче с первым, но второй, как кажется, схватывает больше и смотрит дальше. В конце концов безапелляционно отстаивать и развертывать свою позицию в порыве самозабвенного, даже исступленного убеждения может только тот, у кого есть такая позиция, у кого есть абсолютная убежденность в ее истинности и силы на ее выявление перед другими в достаточной для них степени очевидности. Понятное дело, что Другой в такой установке может быть только или тем, на кого направлены эти слова, чтобы сделать его своим сторонником, кто воспринимает из и принимает их, или враг, кого нельзя уже переубедить, но кого надо сломить, показав его несостоятельность в глазах оставшихся. Эразм признает диалог, но в такой сдержанно-корректной форме, что можно усомниться в действительной значимости его содержательных порывов; для Лютера диалог возможен только на поле брани, где есть непререкаемый победитель и побежденный(недаром Эразм в письме Меланхтону писал о лютеранах в целом: "они очень любят ссылаться на евангелие, только никому кроме себя не позволяют его толковать"--цит. по И.Гобри, Лютер, 316). Кстати, характерно, что Хайдеггер, для которого Лютер сыграл очень большое значение, упрекал Кассирера, "гуманиста", во время их давосской дискуссии именно в мягкости с его стороны во время спора, не позволившей ему быть по-настоящему эффективным. Итак, можно ли прорваться к "дикому бытию", как выражался Мерло-Понти, без самозабвенной решительности спонтанности, могущей позволить себе не оглядываться по сторонам и радикально идти до самого конца, и нужно ли абсолютизировать умеренную сдержанность, делающую приоритет на воспринимаемости и усвояемости данности, а не на собственном самовыражении? Пусть каждый ответит на этот вопрос сам, пусть каждый честно признается себе, на что он может притязать.