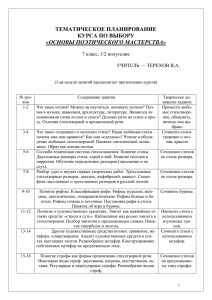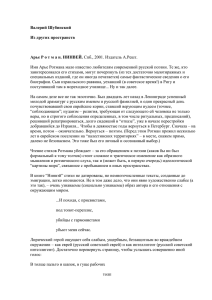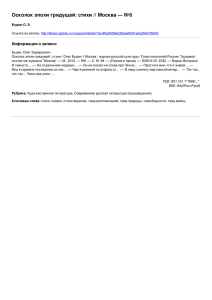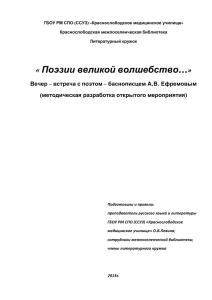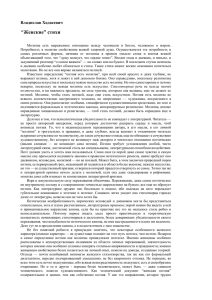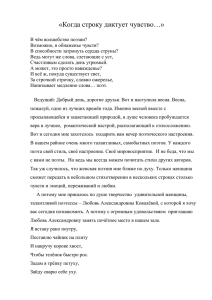О читателе, теле и славе
реклама
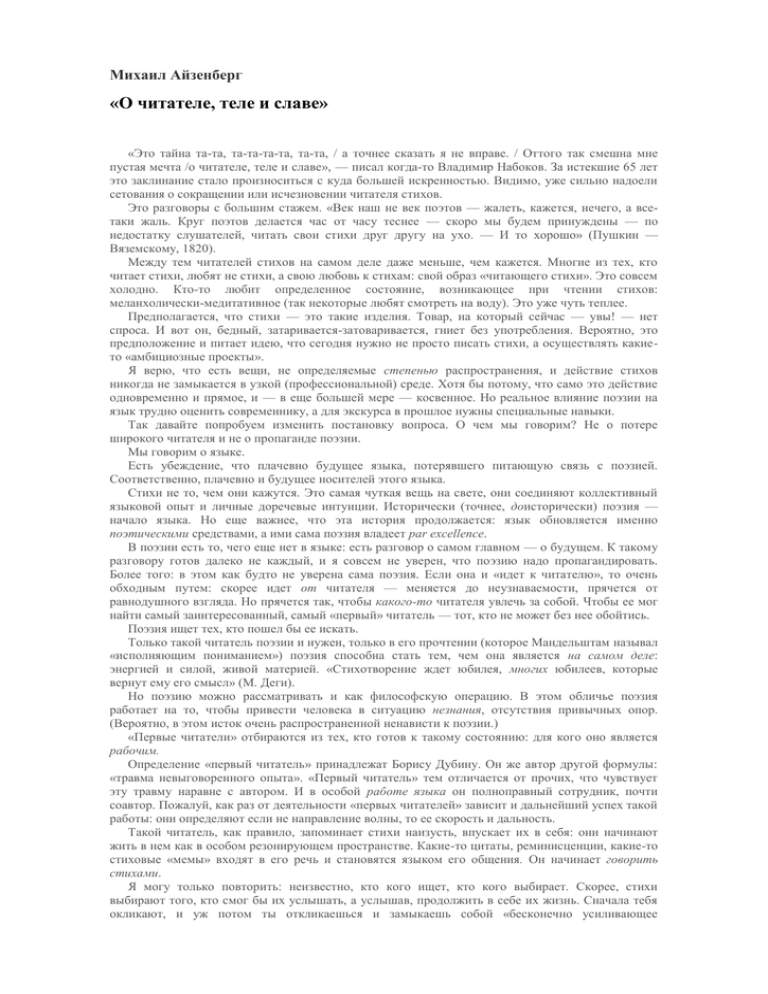
Михаил Айзенберг «О читателе, теле и славе» «Это тайна та-та, та-та-та-та, та-та, / а точнее сказать я не вправе. / Оттого так смешна мне пустая мечта /о читателе, теле и славе», — писал когда-то Владимир Набоков. За истекшие 65 лет это заклинание стало произноситься с куда большей искренностью. Видимо, уже сильно надоели сетования о сокращении или исчезновении читателя стихов. Это разговоры с большим стажем. «Век наш не век поэтов — жалеть, кажется, нечего, а всетаки жаль. Круг поэтов делается час от часу теснее — скоро мы будем принуждены — по недостатку слушателей, читать свои стихи друг другу на ухо. — И то хорошо» (Пушкин — Вяземскому, 1820). Между тем читателей стихов на самом деле даже меньше, чем кажется. Многие из тех, кто читает стихи, любят не стихи, а свою любовь к стихам: свой образ «читающего стихи». Это совсем холодно. Кто-то любит определенное состояние, возникающее при чтении стихов: меланхолически-медитативное (так некоторые любят смотреть на воду). Это уже чуть теплее. Предполагается, что стихи — это такие изделия. Товар, на который сейчас — увы! — нет спроса. И вот он, бедный, затаривается-затоваривается, гниет без употребления. Вероятно, это предположение и питает идею, что сегодня нужно не просто писать стихи, а осуществлять какието «амбициозные проекты». Я верю, что есть вещи, не определяемые степенью распространения, и действие стихов никогда не замыкается в узкой (профессиональной) среде. Хотя бы потому, что само это действие одновременно и прямое, и — в еще большей мере — косвенное. Но реальное влияние поэзии на язык трудно оценить современнику, а для экскурса в прошлое нужны специальные навыки. Так давайте попробуем изменить постановку вопроса. О чем мы говорим? Не о потере широкого читателя и не о пропаганде поэзии. Мы говорим о языке. Есть убеждение, что плачевно будущее языка, потерявшего питающую связь с поэзией. Соответственно, плачевно и будущее носителей этого языка. Стихи не то, чем они кажутся. Это самая чуткая вещь на свете, они соединяют коллективный языковой опыт и личные доречевые интуиции. Исторически (точнее, доисторически) поэзия — начало языка. Но еще важнее, что эта история продолжается: язык обновляется именно поэтическими средствами, а ими сама поэзия владеет par excellence. В поэзии есть то, чего еще нет в языке: есть разговор о самом главном — о будущем. К такому разговору готов далеко не каждый, и я совсем не уверен, что поэзию надо пропагандировать. Более того: в этом как будто не уверена сама поэзия. Если она и «идет к читателю», то очень обходным путем: скорее идет от читателя — меняется до неузнаваемости, прячется от равнодушного взгляда. Но прячется так, чтобы какого-то читателя увлечь за собой. Чтобы ее мог найти самый заинтересованный, самый «первый» читатель — тот, кто не может без нее обойтись. Поэзия ищет тех, кто пошел бы ее искать. Только такой читатель поэзии и нужен, только в его прочтении (которое Мандельштам называл «исполняющим пониманием») поэзия способна стать тем, чем она является на самом деле: энергией и силой, живой материей. «Стихотворение ждет юбилея, многих юбилеев, которые вернут ему его смысл» (М. Деги). Но поэзию можно рассматривать и как философскую операцию. В этом обличье поэзия работает на то, чтобы привести человека в ситуацию незнания, отсутствия привычных опор. (Вероятно, в этом исток очень распространенной ненависти к поэзии.) «Первые читатели» отбираются из тех, кто готов к такому состоянию: для кого оно является рабочим. Определение «первый читатель» принадлежат Борису Дубину. Он же автор другой формулы: «травма невыговоренного опыта». «Первый читатель» тем отличается от прочих, что чувствует эту травму наравне с автором. И в особой работе языка он полноправный сотрудник, почти соавтор. Пожалуй, как раз от деятельности «первых читателей» зависит и дальнейший успех такой работы: они определяют если не направление волны, то ее скорость и дальность. Такой читатель, как правило, запоминает стихи наизусть, впускает их в себя: они начинают жить в нем как в особом резонирующем пространстве. Какие-то цитаты, реминисценции, какие-то стиховые «мемы» входят в его речь и становятся языком его общения. Он начинает говорить стихами. Я могу только повторить: неизвестно, кто кого ищет, кто кого выбирает. Скорее, стихи выбирают того, кто смог бы их услышать, а услышав, продолжить в себе их жизнь. Сначала тебя окликают, и уж потом ты откликаешься и замыкаешь собой «бесконечно усиливающее самонастраивающееся устройство — поэтическое произведение, развивающееся вглубь при каждом конгениальном прикосновении к нему» (В.Н.Топоров). Но как происходит это взаимодействие — поэзии и языка? Мне представляется, что на первом — и решающем — этапе действуют какие-то самые активные агенты: переносчики, разносчики «нового трепета», новых вибраций. Они вторгаются в коснеющие, застывающие массивы языка и приводят их в движение. Море языка начинает волноваться. Меняется не словарь — изменяется ритм (существования и внутренней речи). Какая-то частота пульсаций. Ближайшие слои языка начинают следовать примеру агентов: копировать их повадку. Они учат мысль собственной пластике, динамике. Учат ее иначе двигаться. И научить этому могут только стихи. 2009 http://os.colta.ru/literature/projects/130/details/9899/?attempt=1