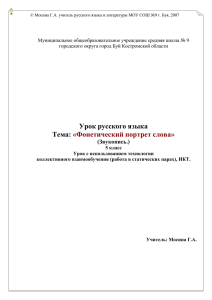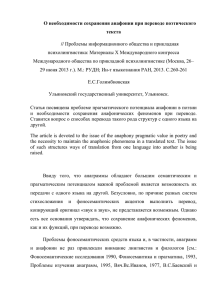Гербстман
реклама

А. Гербстман Звукопись Пушкина Высказывания Пушкина, относящиеся к звуковому строению стиха, сравнительное изучение последовательных стадий его упорной работы над звукописью — от черновых набросков до печатного текста, — неповторимая гармония и мелодичность его поэтических творений свидетельствуют о том, что поэт придавал исключительно большое значение не только выражению “чувств и дум”, но и “волшебным звукам”. Однако, в то время как метрика, строфика, рифма Пушкина исследованы достаточно широко и убедительно, звукописи великого художника явно не повезло: если не считать разрозненных, случайных высказываний, ей посвящены всего лишь две-три статьи В.Брюсова, написанные в 20-х годах нашего века, да и то с позиций “формальной школы”, рассматривавшей и звукопись как сумму приемов, в полном отрыве от содержания, смысла, идейной сущности произведения. К сожалению, и в наши дни, когда вопросы художественного мастерства привлекают все больше и больше внимания, звукопись, не исключая и пушкинской, продолжает пребывать в полном забвении. Вопреки утверждению В.Брюсова, что “у Пушкина... каждый стих, каждая буква в словах стиха поставлены на свое место прежде всего по законам евфонии”, что “звуки имели для него значение первенствующее” (“Звукопись Пушкина”, Избр. соч., Гослитиздат, т. 2, М. 1955, стр. 481, 482), сам Пушкин, говоря о звукописи, всецело подчинял ее содержанию, будучи убежден, что “волшебные звуки” призваны прежде вceгo подкрепить логические связи, музыкально подчеркнуть или оттенить мысль, идею, содержание. За доказательствами далеко ходить не приходится. Вспомним, что писал Пушкин П.А.Вяземскому о его стихотворении “Нарвский водопад”: “... с гневом сердитый влаги властелин — Вла Вла звуки музыкальные, но можно ли напр., сказать о молнии властительница небесного огня? Водопад сам состоит из влаги, как молния сама огонь. Перемени как-нибудь, валяй его с каких-нибудь стремнин, вершин и тому подобное” [А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, Изд. АН СССР, М. 1937. стр. 209; в дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страниц или глав и строф “Евгения Онегина”]. Пушкин советовал Вяземскому устранить “музыкальные звуки” потому, что понятия, содержавшиеся в словах, носивших их, были неточны, сбивчивы по своему смыслу; он призывал друга отказаться от выразительной звукописи во имя торжества логики, ради придания высказываемой поэтом мысли, создаваемому им образу реалистической точности даже в малейших деталях. Совет этот закономерно вытекал из его собственного опыта работы над звуковым строением стиха, в жертву которому поэт никогда не приносил содержания. Произведем над одним известным образцом гениальной пушкинской звукописи небольшой опыт. Всем нам памятен предельно выразительный зрительно-словесный образ, содержащийся в начале рассказа героини народной баллады “Жених” о якобы виденном ею сне: Наташа, заблудившаяся поздней ночью в глухом, дремучем лесу, так передает запомнившиеся ей картины природы: мне СнилоСь, — говорит она, — заШла я в леС дремучий, и было поздно; чуть луна Светила из-за тучи; С тропинки СбилаСь я: в глуШи не СлыШно было ни дуШи, и СоСны лиШь да ели верШинами Шумели... Выделим основные узоры звукописи. “С” в сочетании с “ш” передает шум лесных вершин (об этом говорят последние две строки): ...С...С...Ш...С...С...С...С...С...Ш...С...Ш...Ш...С...С...Ш...Ш... Ш... Наполненное лирическим тембром плавное звукосочетание согласного “л” с переменным гласным: ...ло...ла...ле...ло...лу...ла...ла...лу...лы...ло...ли...ли...ли — переплетается с создающим настроение напряженной настороженности сочетанием переменного согласного с гласной “у”: ...му...чу...лу...ту...лу...ду...шу... Забудем о звукописи, заложим на минуту уши ватой, чтобы не слышать ее... Сделаем это, и зрительно-словесный образ сохранится во всей своей цельности с присущим ему логическим единством и эмоциональной выразительностью. Но если мы попытаемся оторвать звукопись от содержания, от смысла, от зрительно-словесного образа, придать ей самостоятельное значение, мы сейчас же останемся у разбитого корыта — с грудой ничего не говорящих звуков в самых бессмысленных сочетаниях. Именно в таком положении оказывались формалисты, стремившиеся реальные смысловые и образные связи, существующие в поэзии, подменить набором случайных звукосочетаний, ничего не дающих ни уму ни сердцу. Поэтическое содержание, в широком смысле слова, определяет звукопись и в какой-то мере подкрепляется ею: в свете этого абсолютного закона и должно идти изучение звукописи — выявление ее характерных, существенных форм, их систематизация и классификация. Мы начнем с простейшего — с элементов звукописи, которые, как правило, входят в более сложную звукописную систему, но в отдельных случаях могут представлять собою пусть небольшое, но законченное целое, — и постепенно перейдем ко все более и более сложным формам. За примерами обратимся к рукописям пушкинского романа в стихах “Евгений Онегин”, поскольку они сохранились в такой мере, что позволяют проникнуть и в этот уголок творческой лаборатории художника. Терминологическая система, установленная и применяемая нами, носит чисто рабочий характер. 1. Звуковая скрепа В черновой рукописи “Евгения Онегина” последняя строка строфы XLVIII первой главы первоначально имела такой вид: Напевы Тассовых октав (Т. 6. стр. 249). Однако, работая над черновиком, поэт зачеркнул эпитет “Тассовых” и поставил вместо него другой — “Торкватовых”. С этим эпитетом строка прошла через все стадии дальнейшей обработки текста, с ним попала и в печать. Что принесла замена эпитета звуковому строению строки? Уже в первоначальном наброске между эпитетом “Тассовых” и определяемым им понятием “октав” имелись ясные для слуха звуковые связи: тассовых октав, — совпадающие звуки как бы подкрепляли логическую и грамматическую связь между словами. Замена эпитета значительно усилила их звуковое единство: торкватовых октав, — теперь эпитет не только включил в свой звуковой состав все звуки определяемого понятия, но в дополнение к этому повторил три пятых из них. Обогащение звукописи повело к еще большему сближению понятий, связанных между собою по смыслу. Подобное скрепление при помощи звуков двух или более понятий, между которыми существуют логические и синтаксические связи, можно назвать звуковой скрепой. Звуковая скрепа встречается в поэзии очень часто, она обладает способностью скреплять не только эпитет и определяемое им понятие, но и выполнять иные аналогичные функции, “помогая” содержанию, смыслу, логике. В таких примерах, как “ветер веет” (2, XXVIII), “лето... летит” (7, XXIX), “прости, приют” (7. XXXII), “журчанье... ручья” (1, LIV), звуковая скрепа подкрепляет логические связи между действием и объектом или субъектом действия. Иногда она выполняет ту же функцию во взаимоотношениях между обстоятельством и действием: “язвительно злословил” (1,ХП). Воспроизводя многообразие явлений действительности и ее динамику, Пушкин в “Евгении Онегине” нередко использует разнообразные перечни, перечисляя в. быстром темпе то предметы, то действия, то состояния. Перечисляемые понятия всегда связаны между собой какой-либо смысловой общностью, которая обычно подкрепляется разнообразными звуковыми скрепами: “обоз обычный, три кибитки... кастрюльки, стулья, сундуки, варенье... тюфяки, перины, клетки с петухами, горшки...” (7, XXXI). Изредка звуковой скрепе придается характер звукоподражания — “жук жужжал” (7, XV). В таких случаях звуковая скрепа обычно включается в состав более широкой звуковой картины. Звуковая скрепа, скрепляющая более двух взаимосвязанных понятий, расположенных в одной строке, приобретает характер “сквозной” и становится особенно выразительной. К примеру: “ей рано нравились романы” (2, XXIX), “вчуже чувство уважал (2, XIV), “кровать покрытая ковром” (7, XIX). Чем большее количество звуков в звуковой скрепе совпадает, чем гармоничнее их порядок, тем отчетливей слышится звукопись, тем уверенней выполняет она свою соединительную функцию. Существенную роль играют в звуковой скрепе, как и в звукописи в целом, совпадение ударений и разноударность: хотя в звуковых скрепах — “разговóр благоразỳмный” (2, XI) и “перекрахмáленный нахáл” (8, XXVI) — совпадает одинаковое количество звуков (по пяти в каждой), но в первой из них ударение приходится на различные гласные за пределами комплекса звукового совпадения, а во второй падает на один и тот же звук “а” в рамках комплекса совпадения — вторая звуковая скрепа слышится четче, звучит убедительней. 2. Звуковая гамма Наиболее организованной в звуковом отношении, весьма часто встречающейся формой звукописи является звуковая гамма; она образуется повторением звукосочетания гласного и согласного, иногда двух согласных звуков, из которых один постоянный, другой переменный. Строфа XVI третьей главы “Евгения Онегина” построена в основном на звуковых гаммах, приобретающих в соответствии с эволюцией содержания все новую и новую звуковую тональность. Тоска любви Татьяну гонит, И в сад идет она грустить. И вдруг недвижны очи клонит И лень ей далее ступить. Приподнялася грудь, ланиты Мгновенным пламенем покрыты, Дыханье замерло в устах, И в слухе шум, и блеск в очах... Настанет ночь; луна обходит Дозором дальний свод небес, И соловей во мгле древес Напевы звучные заводит, Татьяна в темноте не спит И тихо с няней говорит. Первые восемь строк заняты описанием состояния Татьяны в продолжение дня; остальные шесть строк уделены картине ночи, расчлененной на три части, по две строки в каждой: в первой речь идет о лунной ночи, во второй о пении соловья, в третьей о разговоре Татьяны с няней в темноте. Нетрудно заметить, что каждому смысловому отрезку строфы' соответствуют свои звуковые гаммы: в первых восьми строках и в последних двух, где говорится непосредственно о Татьяне, переплетаются две звуковые гаммы — т/х/ и н/х/ [/х/ обозначает здесь переменную гласную], причем звуковой состав имени героини строится на этих же гаммах; картина лунной ночи сопровождается гаммой н/х/; как только появляется соловей, возникает звуковая гамма в/х/, вытесняющая и т/х/ и н/х/. Звуковая гамма благодаря организованности и четкости входящих в нее звукосочетаний подкрепляет имеющиеся в произведении логические связи, мысли, образы, иногда выделяет, отграничивает определенное смысловое единство, иногда, как в приведенном примере, как бы делит произведение на части, каждая из которых приобретает вполне уловимую звуко-смысловую целостность. В чем же заключаются звуковые стимулы, придающие той или иной звуковой гамме ее тональность? В рассмотренной строфе звучащее с самого начала “Татьяну” — Та-тья-ну — т/х/ + т/х/ + н/х/ — подчиняет себе дальнейшую звукопись, пока в строках 9—10 и 11—12 не появятся новые предметы описаний — “настанет ночь” и “соловей”; Татьяна на некоторое время перестанет быть главным объектом изображения, а новые его объекты — ночь и соловей — определят последовательно звуковые гаммы двустрочий; с возвращением имени героини в последних двух строках вновь получат преобладание присущие ему, вызванные им звуковые гаммы т/х/ и н/х/. 3. Определяющий звуковой комплекс В приведенном примере основные логические понятия — “Татьяна”, “ночь”, “соловей” —являются определяющими и для звукописи: перед нами весьма существенный и многообразный элемент звукописи — определяющий звуковой комплекс. Рассмотрим сперва его простейшие формы — слияние звуковых комплексов и их разветвление. Заглянем в творческую лабораторию поэта и приведем основные этапы его работы над шестой и седьмой строками LVIII строфы первой главы: 1. Первые черновые наброски: Любви печальную тревогу Я слишком может быть узнал вар.: Я слишком долго испытал 2. Поправки в черновике, перенесенные в беловую рукопись: Любви безумную тревогу Я слишком сильно испытал 3. Печатный текст Любви безумную тревогу Я безотрадно испытал (Т. 6, стр. 257 и 29.) В первых двух вариантах интересующего нас явления — слияния звуковых комплексов — мы не находим; однако во втором уже появился усилительный эпитет — “безумную”, заменив менее выразительный “печальную”. Когда поэт дорабатывает текст для печати, гениальный слух подсказывает ему, что новый эпитет должен быть подкреплен и в звуковом отношении; и вместо двух слов — “слишком долго”, “слишком сильно” — появляется одно — “безотрадно”; звуковая связь сразу становится слышимой: безумную — безотрадно, но этим богатство звукописи не исчерпывается: любви безумную тревогу я безотрадно испытал. Звуковые комплексы без—н и тр соединяются в без—тр — н: происходит слияние звуковых комплексов, причем они как бы подготавливают синтезирующий звуковой комплекс. Нетрудно обнаружить и смысловую связь между сливающимися звуковыми комплексами и их звуковым “итогом”: “безумная тревога” была испытана “безотрадно” — звукопись скрепляет существенные логические понятия отрывка., При разветвлении звукового комплекса определяющая функция звукописи выступает на первое место: звуковой комплекс определенного понятия как бы “снабжает” своими звуками не менее двух последующих понятий. Работая над двумя последними строками строфы XXXVII первой главы, Пушкин после нескольких черновых проб остановился в черновой рукописи на следующем варианте: Но предлагать им наконец Устал [он] саблю иль свинец (Т. 6, стр. 243.) Вариант этот был перенесен и в беловую рукопись; однако перед отправкой рукописи первой главы в печать поэт внес в текст значительные изменения, и свет эти строки увидели в таком оформлении: Но разлюбил он наконец И брань и саблю и свинец (Т, 6, стр. 21.) От этого выиграла не только смысловая сторона, но и звуковая: даже не привыкший разбираться в тонкостях поэтической звукописи слух может без труда уловить созвучность слов — “разлюбил” — “брань” — “саблю”: но разлюбил он наконец и брань и саблю и свинец В этом двустишии звуковой комплекс ра—люб—л разветвился на два — бра и аблю. Логические связи в словосочетании “разлюбил брань и саблю”, очевидны и без комментариев, - так звукопись действует рука об руку с содержанием и синтаксисом. Перейдем от элементов звукописи к ее более сложным видам. Обратимся к тем случаям, когда в сочетании звуковых скреп, в переливах звуковых гамм, в слиянии и разветвлении звуковых комплексов происходит звуковая подготовка существенного понятия, названия, имени, или, наоборот, определяющий звуковой комплекс, заключающийся в существенном для содержания понятии, названии, имени, оказывает мощное влияние на звуковой состав значительной части последующей звукописи. Примеры, в которых происходит звуковая подготовка имени, являются самыми наглядными. В черновиках второй главы вместо имени “Татьяна” первоначально стояло другое имя —“Наташа”. Имеющееся между этими двумя именами, звуковое сходство погашается редким и сильным звуком “ш”, а также отсутствием смягчения и йотированной гласной в первоначальном имени героини. Имя “Наташа” было подано в таком звуковом контексте: Я новый карандаш беру Чтоб описать ее сестру— Ее сестра звалась... Наташа (Т. 6. стр. 289.) В звукописи слова “карандаш” содержится почти полная анаграмма имени Наташа, имя в звуковом отношении подготовлено этой звукописью. Кроме того, звуковой состав имени Наташа закреплялся и некоторыми последующими вариантами первых черновых набросков: Мы нынче именем таким Страницы нашего романа Неустрашаясь освятим. (Там же.) Окончательно имя героини — Татьяна — было зафиксировано уже в черновой рукописи, однако звуковое его “окружение” оставалось прежним до беловой рукописи включительно. И только в конце беловой рукописи второй главы появляются варианты, говорящие о том, что поэт ищет звуки, более гармонирующие с установленным именем героини: Позвольте мне, читатель <мой>, Займусь я старшею <сестрой> Занять вас старшею сестрой (Там же, стр. 567.) И в печатном тексте мы находим отчетливо выраженную звуковую подготовку имени Татьяна: Позвольте мне, читатель мой Заняться старшею сестрой. Ее сестра звалась Татьяна... (Там же, стр. 41—42.) Известно, что уродливые, карикатурные образы страшилищ сна Татьяны характеризуют ее отношение к соседям-помещикам, которых ей предстоит увидеть на “веселом празднике именин”. Но, может быть, менее известно, что, наделяя персонажей сновидения героини звуковыми характеристиками, поэт этим самым ведет и звуковую подготовку фамилий почти всех гостей, съехавшихся на семейное торжество в дом Лариных. В ранних рукописях звуковая подготовка подобного рода отсутствовала, — она появляется лишь на последних стадиях обработки текста. Приведем несколько примеров: Другой с петушьей головой... Тут остов чопорный и гордый Там карла с хвостиком... Вот мельница в присядку пляшет И крыльями трещит и машет... Здесь ведьма с козьей бородой... Вот рак верхом на пауке... (Т. 6, стр. 104.) Уездный франтик Петушков Приехал толстый Пустяков С семьей Панфила Харликова И отставной советник Флянов Гвоздин, хозяин превосходный Приехал и мосье Трике (Там же, стр. 108—109.) Мы видим, что образы сна Татьяны являются звуковыми подобиями реальности и вместе с тем от них протягиваются нити логической связи сатирического характера к явлениям действительности, окружающей героиню. Перейдём от звуковой подготовки, идущей от анализа к синтезу, к собственно определяющему звуковому комплексу, который поведет нас как бы в обратном направлении — от звукового синтеза к звуковому анализу. В рассмотренных примерах звуковые комплексы “Татьяна”, “ночь”, “соловей”, в известной степени и “Наташа”, определяли звуковой состав последующей звукописи. Из множества примеров приведем один, если не самый убедительный, то весьма показательный: звукопись строфы XX главы четвертой складывается под влиянием звукового комплекса, завершающего предыдущую строфу: он вас так любит... как родной: Гм! Гм! Читатель благородный, Здорова ль ваша вся родня? Позвольте: может быть, угодно Теперь узнать вам от меня, Что значит имянно “родные”. “Родные” люди вот какие. Мы их обязаны ласкать, Любить, душевно уважать. И, по обычаю народа, О рождестве их навещать, Или по почте поздравлять, Чтоб остальное время года Не думали о нас они... И так, дай бог им долги дни! , (Т. 6, стр. 81.) Звуковой комплекс родной играет определяющую роль для последующей звукописи в пределах целой онегинской строфы. 4. Звукообраз Если роль звукописи в раскрытии художественного образа достаточно существенна, его можно рассматривать и как звукообраз. В зависимости от характера участия звукописи в создании художественного образа можно различать и определять и разнообразные формы звукообраза — от простейших и простых до сложных и сложнейших. К простейшим формам звукообраза мы отнесем звукоподражание, к простым — звуковой эскиз, к сложным — звуковую картину и звуковую характеристику, к сложнейшим — комплексный, или развернутый звукообраз. Звукоподражанием именуется приблизительное воспроизведение звуками речи звуков, присущих тем или иным явлениям действительности: к примеру, звуковая гамма в/х/, если речь идет о ветре, может дать и звукоподражание, то есть с некоторой приближенностью воспроизвести звуки, присущие ветру: “летит, а не птица, воет, а не зверь”, “без рук, без ног, а дверь (иногда: ворота) отворяет”, “что быстрее всего на свете?” (народные загадки с отгадкой “ветер”); “куда как весело! вот вечер: вьюга воет...” (Пушкин); “я вольный ветер, я вечно вею...” (Бальмонт); “вьюга память похоронит, навсегда затворит дверь...” (Блок)... Однако ни в коем случае нельзя сводить необозримое богатство звукописи в поэзии к звукоподражанию! Во-первых, язык вовсе не так уж богат звукоподражательными словами, как это может показаться на первый взгляд, — напротив, по отношению к словарному фонду языка процент звукоподражательных слов чрезвычайно низок, и звукоподражание лишь потому и пользуется столь широкой популярностью и признанием у многих читателей, литературоведов и второстепенных поэтов, что оно в силу своей звуковой наглядности способно назойливо внедряться в слух и надолго удерживаться в памяти. Во-вторых, звуки не имеют определенной, постоянной объективной связи со смыслом: известное соотношение со смыслом звук приобретает только в определенном контексте. Так, повторное “в” или звуковая гамма в/х/ может воспроизводить не только вой ветра, но и характеризовать напевы соловья и многое другое. В-третьих, звукоподражание в чистом виде, изолированно от других компонентов звукописи вообще встречается очень редко, а тем более у большого художника: обычно оно включается в более или менее широкую систему звукописи, и его следует рассматривать не “имманентно”, а в составе такой системы. Наконец, в назидание некоторым нашим теоретикам и поэтам стоит напомнить о том, что именно злоупотребление звукоподражанием не только свидетельствует порою о нарушении чувства меры и дурном вкусе, но и ведет к тому, что смысл подменяется звукописью, если только звукопись не превращается в прямую заумь. Звукоподражание у Пушкина всегда отличается замечательным чувством меры и тонким вкусом, самостийно оно встречается у него очень редко, обычно являясь составной частью звукового эскиза или звуковой картины, если только не включается в еще более сложную систему звукописи. Начало строфы XXXV первой главы было сперва набросано в таком виде: Где ж мой Онегин... полусонный В постелю с бала едет он А П<етер>б<ург> неугомонный Уже встает — (Т. 6. стр. 242.) Повторение ударного гласного “о” в сочетании с согласным “н” создавало впечатление звукоподражания — ну хотя бы колокольному звону, в данном смысловом контексте не слишком уместному. Однако поэт не хочет отказаться от эффекта однообразия, создаваемого этим повторением, и ищет путей к тому, чтобы несколько приглушить малоуместное звукоподражание. Достигает он цели посредством введения более подходящего звукоподражания, соответствующего реальным обстоятельствам предутренней жизни столицы: он вычеркивает “уже встает —” и заменяет его звукоподражательным словосочетанием “уж барабаном пробуждён”. Теперь все на месте: и звукопись не в разладе с действительностью, и он...он...он...ён созвучно с звукоподражанием, ставшим основой звукописи ба...бу...ба — ба...бу, и с определяющим звуковым комплексом, заключающимся в имени героя: Что ж мой Онегин? Полусонный В постелю с бала едет он: А Петербург неугомонный Уж барабаном пробуждён. (Т. 6, стр. 20.) Строфа XV седьмой главы начинается с беглых перечислений, в отрывистой форме быстро сменяющихся в восприятии Татьяны, погруженной в свои мечты, впечатлений вечера, переходящего в ночь. На фоне сложного переплетения локальных звуковых гамм в/х/, /х/е, л/х/, д/х/, р/х/ и редко встречающейся гаммы “хо” (“тихо... расходились хороводы”), на фоне звуков вечернего умиротворения в сознание героини вдруг врезается резкое — “жук жужжал”. Само по себе это словосочетание носит явно выраженный звукоподражательный характер и в качестве звукоподражания приводится везде и всюду. Однако рассматривать его вне связи с системой звукописи отрывка и строфы нельзя! Во-первых, жужжание жука не ограничивается этим словосочетанием: жук жужжал уж…уж... В слух мечтающей Татьяны врывается резкое жук жужжал; но майский жук проносится мимо, и уже издали слышится затихающее уж (“обратная” звуковая гамма при наличии “прямой” — /х/ж и ж/х/ — всегда звучит несколько приглушенней, чем “прямая”). Хороводы расходятся, и в последний раз совсем издалека долетает едва слышное — уж, атонируемое последующей звукописью, но еще раз эхом отдающееся в подсознании Татьяны — “в свои мечты погружена...”. Перед нами не локализованное звукоподражание, а звуковой эскиз. Но здесь и звуковой эскиз не имеет права на самостоятельное существование: он раскрывается на фоне сложной системы звукописи, связанной с быстрой сменой картин — наступления вечера, умиротворения природы и людей, приближения ночи... Все это в целом вряд ли можно уложить в малогабаритный звуковой эскиз — перед нами более масштабное явление звукописи, которое можно назвать звуковой картиной. Между звукоподражанием и звуковым эскизом, с одной стороны, и звуковой картиной — с другой, можно установить различия не только количественные, но и качественные. В то время как звуковой эскиз построен на звукоподражании, в звуковой картине наличие звукоподражания вовсе не обязательно: устраните из вышеприведенного контекста звукоподражание “жук жужжал” — звуковая картина сохранится. В звуковой картине звукопись говорит не непосредственно звуком, а смыслом, который можно из звука извлечь. Показательным примером для понимания своеобразных свойств звуковой картины и присущего ей “языка звуков” может служить описание Кавказских гор в главе “Странствие”: Вдали — Кавказские громады К ним путь открыт — промчалась брань За их естественную грань Чрез их упорные преграды Брега Арагвы и Куры Узрели русские шатры (Т. 6, стр. 499—500.) На фоне насыщающей отрывок звуковой гаммы р/х/ разворачивается своеобразная гамма парных согласных звуков — “р” в сочетании с переменным согласным: гр...кр...пр...бр...гр...чр...рн...пр...гр...бр...зр...тр. Что это? Звукоподражание грому в горах или грохоту горных обвалов?.. Нет, здесь нет прямого звукоподражания, здесь поэт, для того чтобы подкрепить звукописью основную мысль отрывка о том, с какими трудностями русские войска преодолевают “упорные преграды”, концентрирует труднопроизносимые, тяжело в совокупности звучащие скопления многих пар согласных звуков, разнокачественных по своей природе. Это и есть звуковая картина, нередко представляющая собою сложный звукообраз. Сами по себе эти грузные звукосочетания ничего не воспроизводят, ничего не говорят, во всей совокупности их нет прямого самостоятельного смысла; в ином контексте они могут передавать и звуки грома, и горного обвала, и многое другое... Смысл начинает брезжить в них в связи с содержанием! В этом отношении звуковой картине сродни звуковая характеристика. В звуковой характеристике лишенные прямого смысла, ничему не подражающие звуки, будучи опосредствованны вложенным в образованные ими слова и предложения содержанием, могут живописать разнообразные явления и даже способствовать характеристике их социальной сущности. Вспомним, как поэт характеризует в строфе XXXV второй главы супругов Лариных: Они хранили в жизни мирной Привычки милой старины; У них на масленице жирной Водились русские блины; Два раза в год они говели; Любили круглые качели, Подблюдны песни, хоровод; В день троицын, когда народ Зевая слушает молебен, Умильно на пучок зари Они роняли слезки три... (Т. 6, стр. 47.) Формально основой звукописи в приведенном отрывке является звуковая гамма /х/и(ы), которая охватывает семь строк, затем в двух строках умолкает полностью, а в последних двух возобновляется. Вспомним, что Пушкин дополнил этой строфой характеристику родителей Татьяны после того, как глава была написана. Звуковая гамма /х/и(ы) звучит только там, где речь идет именно о помещиках Лариных, и прерывается, где говорится не о Лариных, а о народе, и, как только повествование возвращается к Лариным, вновь начинает звучать с прежней выразительностью. Причем гамма отличается настойчивым, последовательным однообразием — тридцать четыре раза (семнадцать раз под ударением) на протяжении девяти строк повторяется один и тот же звук “и”(ы), — в то время как поэт с замечательным мастерством обычно дает самую сложную игру гласных; да и согласные изрядно повторяются: “н” — одиннадцать раз, “л” — восемь... Какая унылая, монотонная звукопись! Но ведь речь идет о жизни, о быте именно супругов Лариных, о жизни однообразной, неподвижной, неизменной — о патриархальном прозябании мелких провинциальных помещиков. Яркую смысловую характеристику и подкрепляет звуковая гамма, столь же монотонная, неизменная, застывшая, как и сама их жизнь! Как только появится упоминание о народе, сейчас же зазвучат, переплетаясь сложной звуковой вязью, разнообразные ударные звуковые гаммы локального характера — де...ро...да...ро...лу…ле..., создавая совсем иную звуковую характеристику. Так, используя одну лишь — элементарную форму звукописи — звуковую гамму, поэт создает тонкий и глубокий звукообраз. Пушкин является великим мастером комплексного звукообраза: стихотворения “К морю”, “Пророк”, “Талисман”, “Анчар”, “Обвал”, “Делибаш”, “В часы забав иль праздной скуки”, “Бесы”, “Заклинание”, “Для берегов отчизны дальней”, “Эхо” и многие другие являются подлинными шедеврами в этом высшем жанре звукописи, использующем все ее элементы, все формы. Комплексные звукообразы насыщают и пушкинский роман в стихах, но мы вынуждены ограничиться в пределах журнальной статьи одним-двумя примерами. Строфу LIII первой главы по содержанию можно разделить на две части: в первой сатирически описываются попы и гости, съехавшиеся “со всех сторон” на поминки дяди Онегина; во второй, занимающей последние шесть строк, речь идет о герое, ставшем сельским жителем. Сатирически обобщенный образ “недругов и другов”, “охотников до похорон”, “попов и гостей”, обжор и бездельников раскрыт в первой части в соответствующем “звуковом сопровождении”: нашел он ПОлон двор услуги: к ПОкойнику со всех сторон съезжались недруги и други, охотники до ПОхорон. ПОкойника ПОхоронили. ПОПЫ и гости ели, ПИли, и ПОсле важно разошлись, как будто делом занялись. (Т. 6, стр. 27.) Комически звучащая гамма п/х/ усиливает здесь общую сатирическую тенденцию; гамма эта не только создает комическое впечатление сама по себе, но и выполняет функцию подготовки существенного — попы. Звукосочетание попы является кульминацией звуковой гаммы, после которой она начинает притихать — пи...по... и все. Изменяется содержание, изменяется и звукопись. На передний план выступает “Онегин” с новым звуковым строем. По сравнению с подготовительными рукописями здесь введено звукоподражание лицемерным соболезнованиям гостей — “недругов и другов”: ...ех...охо...охо...охо... Все это в совокупности дает сложный звуковой образ, дополняющий и подкрепляющий сатирический смысловой образ. Обратимся в заключение к знаменитой строфе XXXVII седьмой главы, замечательному образцу патриотической эпики поэта. Напрасно ждал Наполеон. Последним счастьем упоенный. Москвы коленопреклоненной С ключами старого Кремля: Нет, не пошла Москва моя К нему с повинной головою. Не праздник, не приемный дар, Она готовила пожар Нетерпеливому герою. Отселе, в думу погружен, Глядел на грозный пламень он. Прощай, свидетель падшей славы... (Т. 6. стр. 155.) Определяющий звуковой комплекс Наполеон проходит через весь текст; но в то время, как в первых трех строках он звучит полностью, в строке “С ключами старого Кремля” он исчезает и в дальнейшем подвергается решительной деформации и разложению на дезорганизованные звуковые обрывки, словно неудача “С ключами старого Кремля” разрушила его, превратила в мелкие осколки... _____________ Мы сделали упор на связи звукописи со смыслом, содержанием, идеей, так как именно эти связи обычно выпадали из поля зрения исследователей, уделявших немало внимания ее эмоциональной и эстетической функции. Но звукопись, как известно, порой пытаются использовать и чисто формалистически: придавая ей самодовлеющее значение, превращая ее в самоцель. Результатом подобного подхода бывает не только смысловое заумничанье, но нередко и разрушение звукописи. Набор бессмысленных звукосочетаний не только не способствует созданию эстетического впечатления, но, наоборот, разрушает его. Изучение различных жанров и стилей поэзии убеждает в том, что звукопись прежде всего подкрепляет логические связи, музыкально подчеркивает мысль, содержание, идею. Вместе с тем она нередко усиливает и художественное впечатление, оказывает эмоциональное воздействие. Связи между звукописью и смыслом, подчинение звукописи содержанию далеко не всегда носит явный, открытый характер, не всегда раскрывается непосредственно. Иногда эти связи и отношения являются весьма отдаленными, косвенными, трудно установимыми, и в таких случаях может сложиться впечатление, будто звукопись независима от смысла. Указанные выше формы звукописи мы можем обнаружить и у Гомера (это доказано в замечательных работах проф. Г. А. Харазова, к сожалению, погибших в Великую Отечественную войну), и у Вергилия (это показал В.Брюсов), и у Данте, Гёте, Байрона, Некрасова, Блока, Маяковского... Было бы неправильно, однако, на этом основании утверждать, что формы звукописи во веки веков остаются неизменными — внеисторичными и безличными, то есть не связанными с индивидуальностью художника. Подобное мнение является глубоко ошибочным. Звукопись имеет свою историю, специфические обстоятельства которой — к примеру, возникновение нового творческого метода, смена ведущего жанра, обусловленные историческим развитием и т.п., — могут вызвать к жизни и новые формы звукописи, и новые сочетания уже известных форм... Разумеется, в выборе средств звуковой выразительности индивидуальные интересы и вкусы художника могут играть значительную роль. Все это говорит о том, что нельзя пользоваться готовыми схемами в качестве некоей универсальной “отмычки” и при изучении явлений звукописи. К любому поэтическому материалу необходимо подойти конкретно — учесть историю, посчитаться с творческой индивидуальностью художника, а главное — исследовать материал и тогда уже делать выводы, устанавливать формы, соотносить их с содержанием. Иначе получится, как у О.Брика с его пресловутыми “звуковыми повторами”: сделав интересное открытие, он не только проглядел многообразие форм звукописи, но и “подстриг” Пушкина и Лермонтова в отношении звукописи под одну гребенку. Нередко в связи с звукописью приходится слышать такой вопрос: сознательно ли поэт пользуется звукописью, сознательно ли вводит в свои творения все эти звуковые скрепы, звуковые гаммы, звуковые комплексы, звукоподражания и т.п. Мы полагаем, что художественное мышление поэта и его слух, как уже упоминалось, образуют в процессе творчества неразрывное единство, органически связывая между собой и развитие сюжета, и лепку образа, и ритм, и звукопись, включая и рифму... На ранней стадии работы поэту вряд ли приходится специально задумываться над звукописью, выделяя ее особо (может быть, за исключением отдельных редких случаев). Когда же наступает стадия обработки написанного, слух вправе и обособить звукопись — поэт может кое-что заменить, кое-что добавить, а случается и устранить... Именно о таком творческом процессе и свидетельствуют рукописи Пушкина! г. Ленинград Текст дается по изданию: “Вопросы литературы”, 1964, № 5, с. 178-192