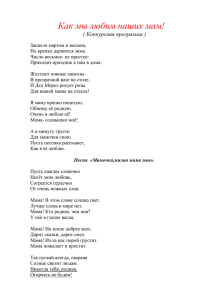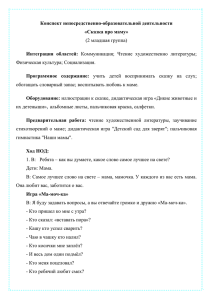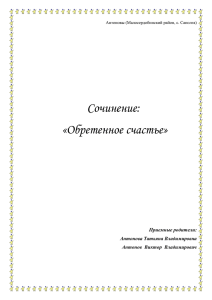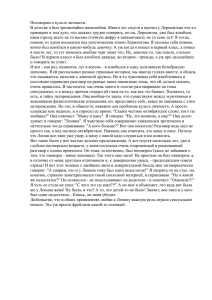ГАБАЕВА Н.С. Воспоминания о маме
реклама

ГАБАЕВА Н.С. Воспоминания о маме Дорогая Асюша, я хочу оставить тебе эти записки как память о нашей семье, о моих близких, которых ты уже не застала, о климате в нашем доме в довоенное время – время моего детства. Хочу, чтобы все доброе, что было тогда, отзывалось, сохранялось и в тебе через связь поколений. Однако, вопреки сказанному, начну с ареста мамы, о чем ты тоже должна знать и помнить, как и о всех наших близких с такой же печальной судьбой. Это событие для меня было, пожалуй, соизмеримо с войной и ее последствиями. Но, если война явилась бедой всего народа, затронувшей почти каждую семью, переменившей во многом сходным образом судьбы людей, то арест мамы воспринимался мной как удар по моей семье, по мне (хотя подобных мне, конечно, было много). Надолго поселилось во мне ощущение второсортности, бесправности. А было так – 1949 год – год поступления в Университет -это было счастьем. Глядя назад, понимаю, что к этому времени понемногу налаживались наши материальные дела после очень тяжелых в этом отношении военных и первых послевоенных лет. Ина поступила в Мухинское училище. Появились две наши хоть и небольшие студенческие стипендии. Мама даже предложила мне брать уроки музыки – я с радостью согласилась. И вот, вернувшись с одного из первых уроков – это был понедельник 13 февраля 1950 года – я застала в комнатах чужих людей. Как я узнала позже, это были понятые: управхоз, сосед-партиец, еще кто-то. Они стояли в дверях первой комнаты. В самой комнате страшный развал, валяющиеся на полу вещи и бумаги, белье. Трое мужчин, кажется, в военной форме, рылись в ящиках письменного стола, в книгах. Мама молча сидела на Ининой кровати, была спокойна. Мне разрешили сесть рядом. Мы держались за руки. Разговаривать запретили. Так прошло часа полтора-два после моего прихода. Какие-то бумаги связывали в пачки. Перед уходом мама зашла в уборную, она была у нac в конце коридора. Один из мужчин сразу же пошел следом за ней и стоял у двери нашей "каморки", пока она не вышла. Боялись, что убежит? В окно я видела, как мама и трое ее спутников сели в черную легковую машину. Уехали. Я осталась одна в бедламе вывороченных на пол вещей с ощущением полной растерянности и потребности в защите. Инстинктивно я выбрала людей, которые, действительно, оказались самыми верными друзьями в это страшное время – я пошла к Милорадовичам. Не помню ни как шла, ни как рассказывала о произошедшем, хотя осталось ощущение их той же растерянности, в которой пребывала и я. От них, уже с Таней (ее отпустили со мной в такой ситуации! Лишь позже я оценила отзывчивость и смелость Таниных родителей – Людмилы Ивановны и Николая Сергеевича) мы бросились к Константину Ивановичу Пангало, жившему в то время в «Астории» – он был в своей обычной командировке в Ленинграде в связи с ВИРом. К.И. оказался в гостях у академика Жуковского, Маргарита Константиновна дала нам адрес, куда мы и пошли. Подробностей не помню, осталась в памяти большая прихожая фешенебельной квартиры, растерянность Константина Ивановича, выслушавшего мой рассказ. Кажется, он вышел с нами. Пo наивности я ждала каких-то действий, заступничества за маму, но поняла, что этого не произойдет. К.И. очень скоро уехал обратно в Тирасполь. Придя домой, застала Ину и полночи мы приводили в относительный порядок хаос, оставшийся после обыска. Когда маму увозили мне был оставлен адрес для справок – ул.Воинова (ныне опять Шпалерная), подъезд такой-то, окно такое-то. На следующий день в этом окне мне сообщили, что раз в неделю я могу приносить передачу, других сведений дано не было. Я настойчиво добивалась узнать, за что взята мама, в чем обвиняется? Посылали из окна в окно, из одного учреждения в другое в районе Большого дома. После нескольких дней безуспешных поисков и безучастных ответов в одном окне посоветовали обратиться в военную прокуратуру - дело, действительно, оказалось там. Я добилась приема у какого-то должностного лица военной прокуратуры: против двери в отдалении от нее большой письменный стол, за столом "лицо", мне было неприязненно разъяснено, что мама обвиняется в антисоветской деятельности. Хорошо помню, что шла по улице, плача, с чувством горькой обиды за маму и полной беспомощности, понимая, что такое обвинение – это обреченность. Формулировка обвинения почему-то потрясла меня больше, чем сам арест. Арест все же оставлял надежду: разберутся, поймут, что это ошибка; характер обвинения такой надежды не оставлял. А университетская жизнь шла своим чередом – я ходила на занятия, даже танцевала на каком то вечере (сама ужасаясь этому). Как я понимаю теперь -это вероятно была защитная реакция – я старалась не потерять инерции, сохранить хотя бы внешне видимость прежней жизни. В какой-то момент мной овладела мысль бросить университет – это было движение ребенка, который бьет угол стола, о который стукнулся. Помню Таню и Витю Сохина у меня дома, убеждающих меня в нелепости этой затеи. Почему-то сидели на полу около рояля. Тогда, кажется, впервые от Вити я услышала потом ставшую привычной фразу – "Лес рубят – щепки летят". В университете о произошедшем я, кажется, сказала только Андрею Верещагину, с которым на первых курсах была дружна и нашла в нем полное сочувствие. Его крестной матерью была некая Мильевна, прошедшая лагеря и дружившая с Солженициным. Какое-то время я ждала, что меня исключат из университета, на счастье этого не случилось. Кто-то посоветовал мне самой подать в деканат бумагу, извещающую об аресте мамы, я это сделала, думаю это заявление лежит в моем личном деле и по сейчас. Дальше долгие месяцы без известий, лишь безответные передачи "туда" через узкое окошко в безучастные руки охранницы. Самым страшным были мысли о возможности расстрела, ведь я не знала меры серьезности обвинения. Как-то очередную передачу не приняли, указав адрес, куда следует обратиться. Оказалось, мама переведена в тюремную психиатрическую больницу, кажется, где-то на окраине города. Впрочем, что в психиатрическую, я узнала уже впоследствии от мамы. Через три недели маму вернули обратно в большой дом. Сдав весеннюю сессию, я устроилась работать ночным дежурным в ЛИИЖТЕ Осуждение пресловутой тройкой (или ОСО) состоялось через десять месяцев после ареста – в дакабре. Перед этапом было разрешено свидание. Пошли с Иной. Долго вели по каким-то коридорам, переходам. Комната, разделенная пополам двумя барьерами с сеткой до потолка, в промежутке охранник. Помню захлестнувшую меня радость – видеть маму! – ее успокоительные слова, что теперь тяжелое позади. От нее же мы узнали и приговор – Восемь лет концлагеря, место отбывания было неизвестно; его мы узнали из первого письма. Каргопольлаг Архангельской области, станция Ерцево, лагпункт №... Разрешалось одно письмо и одна посылка в месяц, одно свидание в год.