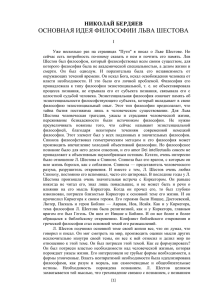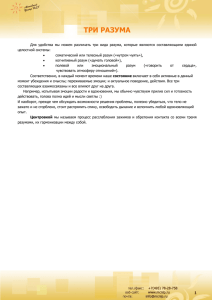ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ КРИТИКА РАЗУМА В РУССКОЙ
реклама
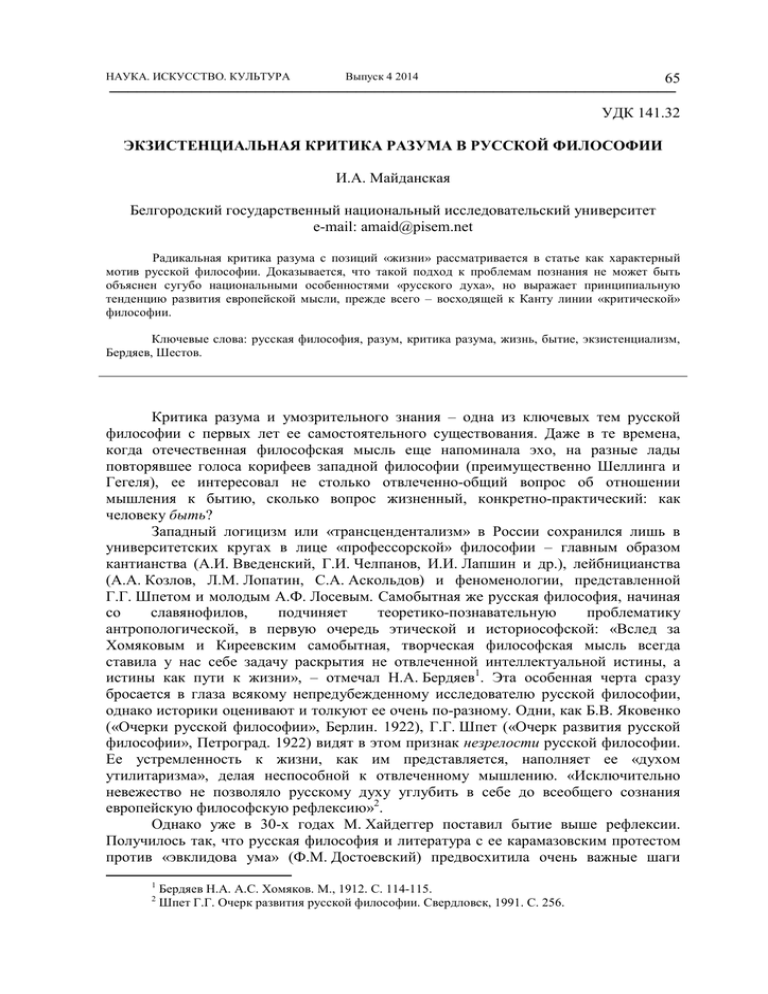
НАУКА. ИСКУССТВО. КУЛЬТУРА Выпуск 4 2014 65 ______________________________________________________________ УДК 141.32 ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ КРИТИКА РАЗУМА В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ И.А. Майданская Белгородский государственный национальный исследовательский университет e-mail: amaid@pisem.net Радикальная критика разума с позиций «жизни» рассматривается в статье как характерный мотив русской философии. Доказывается, что такой подход к проблемам познания не может быть объяснен сугубо национальными особенностями «русского духа», но выражает принципиальную тенденцию развития европейской мысли, прежде всего – восходящей к Канту линии «критической» философии. Ключевые слова: русская философия, разум, критика разума, жизнь, бытие, экзистенциализм, Бердяев, Шестов. Критика разума и умозрительного знания – одна из ключевых тем русской философии с первых лет ее самостоятельного существования. Даже в те времена, когда отечественная философская мысль еще напоминала эхо, на разные лады повторявшее голоса корифеев западной философии (преимущественно Шеллинга и Гегеля), ее интересовал не столько отвлеченно-общий вопрос об отношении мышления к бытию, сколько вопрос жизненный, конкретно-практический: как человеку быть? Западный логицизм или «трансцендентализм» в России сохранился лишь в университетских кругах в лице «профессорской» философии – главным образом кантианства (А.И. Введенский, Г.И. Челпанов, И.И. Лапшин и др.), лейбницианства (А.А. Козлов, Л.М. Лопатин, С.А. Аскольдов) и феноменологии, представленной Г.Г. Шпетом и молодым А.Ф. Лосевым. Самобытная же русская философия, начиная со славянофилов, подчиняет теоретико-познавательную проблематику антропологической, в первую очередь этической и историософской: «Вслед за Хомяковым и Киреевским самобытная, творческая философская мысль всегда ставила у нас себе задачу раскрытия не отвлеченной интеллектуальной истины, а истины как пути к жизни», – отмечал Н.А. Бердяев1. Эта особенная черта сразу бросается в глаза всякому непредубежденному исследователю русской философии, однако историки оценивают и толкуют ее очень по-разному. Одни, как Б.В. Яковенко («Очерки русской философии», Берлин. 1922), Г.Г. Шпет («Очерк развития русской философии», Петроград. 1922) видят в этом признак незрелости русской философии. Ее устремленность к жизни, как им представляется, наполняет ее «духом утилитаризма», делая неспособной к отвлеченному мышлению. «Исключительно невежество не позволяло русскому духу углубить в себе до всеобщего сознания европейскую философскую рефлексию»2. Однако уже в 30-х годах М. Хайдеггер поставил бытие выше рефлексии. Получилось так, что русская философия и литература с ее карамазовским протестом против «эвклидова ума» (Ф.М. Достоевский) предвосхитила очень важные шаги 1 2 Бердяев Н.А. А.С. Хомяков. М., 1912. С. 114-115. Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии. Свердловск, 1991. С. 256. НАУКА. ИСКУССТВО. КУЛЬТУРА Выпуск 4 2014 66 ______________________________________________________________ западноевропейской философской мысли. Отвлеченной, «эвклидовой» рефлексии русские философы противопоставили разнообразные учения об «откровенном» знании, т.е. знании-вере обращенном к Библии (представители Духовных Академий, от Ф.А. Голубинского до В.И. Несмелова и П.А. Флоренского), о «живом знании» (славянофилы, С.Л. Франк), интуиции как опыте непосредственного усмотрения бытия (Н.О. Лосский). Эта линия «неэвклидовой» теории познания нашла свое завершение в экзистенциальной философии Н.А. Бердяева и Л.И. Шестова. При всей своей самобытности эти два русских философа не находились в стороне от большой дороги европейской мысли. Они лишь придали законченное выражение той «критике разума», которую начали западные мыслители – Кант, Фихте, Шопенгауэр. «Мне пришлось ограничить знания, чтобы освободить место вере…» – так определил результат своей «критики разума» Кант3. В сущности, то же самое, но гораздо радикальнее, чем Кант, делают русские философы. Обращаясь к вере, Кант хотел только компенсировать обнаруженные им недостатки рефлексивного знания, умозрения. Если бы он пришел к выводу, что рассудок в состоянии собственными силами справиться с загадками бытия, вера оказалась бы ненужной – ее легко заменила бы уверенность, даваемая рефлексией. «Но ведь задача Канта была не в том, чтобы возвеличить и отстоять во что бы то не стало знание, – пишет Шестов. – Он затеял “критику” чистого разума, значит, он должен был прежде… поставить вопрос: точно ли наши знания и то, что обычно именуется философией есть нечто столь ценное, что его нужно защищать, каких бы жертв это ни стоило?»4. Бердяеву кантовская критика разума также кажется слишком робкой, хотя он и признает заслугу Канта, положившего ей начало. Кант вводит в философию веру и показывает необходимость веры для всякого мыслящего существа. Но что это за вера? Ее независимость от разума «самая жалкая», только «кажущаяся», на деле кантовская вера находится в услужении у разума5. Рефлексия и умозрение сначала, уже в рамках немецкой классической философии, принялись разрушать себя сами и, в конце концов, «освободили место вере» в гораздо большей степени, чем предполагал, начиная критику разума, Кант. В этом направлении шли не только русские философы, но и некоторые западные – достаточно вспомнить Кьеркегора и Ницше. Все они стремились преодолеть разграничение философии на теоретическую и практическую, на теорию познания и этику, выдвигая на первый план бытийно-человеческое измерение познания. Они измеряют истинность знания не только его доказательностью и логичностью, но свободой и благом, которые познание несет человеку. Настоящие истины, говорит Шестов, равнодушны к признанию и доказательствам, «они свободно даются и принимаются тоже свободно»6. Считается, что этическое воззрение на проблемы познания является отличительным свойством русской религиозной философии. Это, в общем-то, верно, однако с той оговоркой, что ростки такого воззрения встречаются уже в «критической» философии. Так, Бердяев пишет: «Своеобразие моего философского типа прежде всего в том, что я положил в основание философии не бытие, а 3 Кант И. Критика чистого разума // Сочинения. М., 1966-1970. Т. 3. С. 95. Шестов Л. Власть ключей. Афины и Иерусалим. М., 1993. С. 358. 5 Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. С. 44. 6 Шестов Л. Власть ключей. Афины и Иерусалим. М., 1993. С. 648. 4 НАУКА. ИСКУССТВО. КУЛЬТУРА Выпуск 4 2014 67 ______________________________________________________________ свободу… В сущности я всю жизнь пишу философию свободы»7. Очень похожее признание мы находим в одном из писем И.Г. Фихте: «Моя система от начала и до конца есть лишь анализ понятия свободы»8. Это больше, чем внешнее сходство, хотя, разумеется, понимание свободы у Фихте и у Бердяева разное. В своих прекрасных работах о фихтевской философии9 Б.П. Вышеславцев и И.А. Ильин показали, как происходит прорыв трансцендентальной «критической» философии в нравственное – оцениваемое в категориях свободы и совести – измерение мысли. Таким образом, можно утверждать, что своеобразный подход русского экзистенциализма к проблемам познания не может быть объяснен сугубо национальными особенностями «русского духа», а выражает принципиальную тенденцию развития европейской мысли, прежде всего – восходящей к Канту линии «критической» философии. При этом нельзя отрицать, что некоторые свойства духовного склада русского человека благоприятствовали развитию экзистенциального миросозерцания, как это в особенности хорошо видно из истории русской литературы и публицистики. Что же это за свойства? Не вдаваясь в старые споры о «русской душе», заметим лишь, что распространение экзистенциализма всегда связано с наличием в человеческом бытии резко антиномических черт, трагизма или даже «катастрофичности». Нам кажется, следует согласиться с теми мыслителями, кто, как Чаадаев или Бердяев, полагает, что именно эти черты определяют ход российской истории. Заблудившийся на обширной меже Запада с Востоком, русский народ «страшно одинок в мире», он как бы стоит «вне времени», писал П.Я. Чаадаев. Это классические атрибуты «подпольного человека», как его описал Ф.М. Достоевский, т.е. человека, выпавшего из мира и оставшегося наедине с собственной экзистенцией. Только Чаадаев говорит не об индивидууме, а о целом народе, очутившемся в «пограничной ситуации». Бердяев отмечал «антиномическую полярность» русской души, сочетающей в себе крайности, казалось бы несовместимые: рабство и анархическую вольность, иступленные искания Бога и воинствующее безбожие, обостренное сознание личности и безличный коллективизм10. Объяснение этого сочетания полярных качеств – тема отдельного большого исследования. Здесь можно отметить только некоторые причины: отсталость и неравномерность социального и интеллектуального развития в России, отчуждение народа и интеллигенции от власти, а интеллигенции – от народа. Угнетенность и подавленность русских людей компенсировалась фанатической верой во всеобщее спасение или, напротив, нигилизмом и нетерпимостью к другому человеку, общественному классу, чужой вере. В силу этих бытийных качеств в русском духе интуиция всегда преобладала над рассудком, интенсивная эмоциональная жизнь оставляла очень мало места умозрению, этика и историософия оттеснили на второй план теорию познания и логику. Посмотрим, как конкретно отразилась на теории познания бытийная доминанта русского духа. В истории часто бывает, что отсталые в социально-экономическом отношении нации в духовном развитии опережают остальные, ведущие гораздо более 7 Бердяев Н.А. Самопознание (Опыт философской автобиографии). М., 1991. С. 51. Цит. по: Гайденко П.П. Парадоксы свободы и учения Фихте. М., 1990. С. 3. 9 См.: Вышеславцев Б.П. Этика Фихте. М., 1914; Ильин И.А. Философия Фихте как религия совести // Вопросы философии и психологии. Кн. 112. 1912. 10 Бердяев Н.А. Мировоззрение Достоевского // Н.А. Бердяев о русской философии. Свердловск, 1991. С. 30. 8 НАУКА. ИСКУССТВО. КУЛЬТУРА Выпуск 4 2014 68 ______________________________________________________________ благополучие существование. Достаточно вспомнить классическую немецкую философию, возникшую в политически раздробленной и по европейским меркам отсталой Германии, или русскую литературу XIX века. Последняя стала источником, в котором отечественная философия почерпнула идею конкретного человеческого существования, в то время как в других странах философия все еще ориентировалась в большей мере на научную рациональность с ее абстрактным пониманием бытия как объекта, противостоящего мышлению. Для большинства русских философов познавательное отношение человека к миру не выступает как независимое и самостоятельное отношение. Оно рассматривается как лишь одна из сторон его бытия в мире. В.В. Зеньковский склонен усматривать в этом «своеобразную особенность» русской философии. «За исключением небольшой группы правоверных кантианцев, философы очень склонны к так называемому онтологизму при разрешении вопросов теории познания, т.е. признанию, что познание не является первичным определяющим началом в человеке… Русский онтологизм выражает не примат “реальности” над познанием, а включенность познания в наше отношение к миру, в наше “действование” в нем»11. Разумеется, познание есть жизнь, форма существования человека, но не единственная и не главная форма существования. Почему мы должны отдавать познанию предпочтение перед художественным восприятием мира, перед верой или даже перед простым жизненным опытом человека? Ничто не вынуждает нас делать это, да и само различие этих форм бытия довольно условно: нет настоящего познания без фантазии, без веры, без опытных данных. Просто замечательно выразил своеобразие русского «жизнеощущения» С.Л. Франк. «Новый западноевропейский человек ощущает себя именно как индивидуальное мыслящее сознание…, он чувствует себя, так сказать, разведенным с бытием… Русскому духу путь от “мыслю” к “существую” всегда представлялся абсолютно искусственным; истинный путь для него ведет, напротив, от “существую” к “мыслю”»12. Русская философия никогда не питала доверия к отвлеченному (от жизни) мышлению. Мышлением движет рожденная жизнью страсть – с этим согласны практически все русские философы. В тяжеловесных и чрезвычайно абстрактных построениях гегелевской логики А.И. Герцен и В.И. Ленин видят «алгебру революции», В.Г. Белинский, читая тексты фихтевского наукоучения, «чуял запах крови». С другой стороны, Шестов в пристрастии философов к «чистому разуму» сумел разглядеть простой человеческий страх, боязнь непредсказуемых перемен, который таит в себе бытие. От них и бежит человек в «интеллигибельный» мир, где он надеется обрести свободу и вечность. Сказав, что знание предполагает бытие и само есть известная форма человеческого бытия, мы наметили еще только общую направленность русской философской мысли. Разделение философов происходит сразу, как они подходят к следующей проблеме: какое, собственно говоря, бытие выражается в форме знания? Экономическая жизнь людей? Всеединство Бога? Моя персональная экзистенция? Для Бердяева и Шестова бытие не отвлеченная идея или внешняя человеку реальность: бытие – духовный факт, индивидуально переживаемый каждым 11 Зеньковский В.В. История русской философии. Ленинград. 1991. Т. 1. Ч. 1. С. 15-16. Отличительную особенность экзистенциальной онтологии верно указывает Слаатте: «Говоря об “онтологическом”, Бердяев имеет в виду Бытие как существование и Дух, а не выдуманное абстрактное Бытие» (Slaatte H.A. Time, Existence and Destiny: N. Berdyaev’s Philosophy of Time. New York. 1988. P. 17). 12 Франк С.Л. Русское мировоззрение // Духовные основы общества. М., 1992. С. 479. НАУКА. ИСКУССТВО. КУЛЬТУРА Выпуск 4 2014 69 ______________________________________________________________ человеком. Таким – «человеческим» – бытием они стараются измерить смысл знания. Что оно дает личности? Способно или нет знание сделать человека счастливым? Возможно ли познать конкретное бытие личности? Все это важные проблемы экзистенциальной теории познания, почти не затрагивавшиеся прежней метафизикой. В отличие от традиционной гносеологии, экзистенциализм интересуется не столько логикой мысли, сколько ее бытийным смыслом, не уставая напоминать, что «познание есть все же дело человеческое»13. Познание может существовать, только когда дано бытие человека, который познает. Конкретное бытие «предшествует самому первоначальному акту»14, поэтому познание нельзя отделять от бытия и противопоставлять бытию. Бердяев расценивал классический тезис о противоположности мышления и бытия как «корень рабства философии». Противопоставляя мышление бытию, философы тем самым отбирают у бытия и противопоставляют ему его собственную высшую форму – мыслящий дух, – а затем ломают голову над тем, как согласовать две одинаково ложные абстракции: небытийную, «чистую» мысль и бессмысленное бытие. Естественно, для мышления такое абстрактное бытие всегда было и навеки останется чем-то чуждым, «трансцендентным», «вещью в себе». Изъяв из бытия мысль, философы лишили бытие ценности и смысла. Ведь «в предметном, вещном, объектном мире смысла нет. Смысл раскрывается из человека, из его активности, и означает открытие человекоподобности бытия»15. «Человекоподобное» бытие раскрывается как особая духовная жизнь, изменяющая бытие изнутри, поддерживающая бытие в постоянной динамике и не дающая ему успокоиться и стать безличным и внешним для человека «объектом». Бытие не только субъект познания, но и единственно возможный предмет познания. В человеке бытие познает себя. Поэтому познание есть, в сущности своей, отношение бытия к бытию, «раскрытие бытия на встречу себе» и «просветление бытия» (Н. Бердяев). Таким образом, в познании бытие творчески себя усовершенствует. Все это относится лишь к познанию в целом, взятому «интегрально». Отдельным же формам познания эти признаки присущи только в известных пределах. Так, рассудок, очень важный и полезный в практической жизни, принимаясь за поиски философских истин, превращается в «умозрение», которое омертвляет бытие. Свидетельству чувств, которые имеют огромное творческое значение в таких сферах бытия, как музыка, литература, философия, нельзя безоговорочно доверять в сере экономической жизни или в точных науках. Словом, необходимо как следует поразмыслить над тем, какое место человек может отвести той или иной познавательной способности, чтобы она не вредила «здоровью» бытия, а способствовала его приращению и просветлению. Общепринятые теории познания основываются на принципиальном различении эмпирического и теоретического уровней познания. Чувственный опыт обращен к единичным и переходящим вещам, разум имеет дело только с вещами вечными и общими. Опыт показывает, как вещи существуют, разум стремится к знанию их сущности (всеобщих и вечных законов существования). Принимая это представление об уровнях познания, Лев Шестов кардинально пересматривает оценку опыта и разума. Он оценивает их с точки зрения того, что дает личности опыт и что разум. 13 Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. С. 73. Там же, с. 70. 15 Бердяев Н.А. О назначении человека. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. М., 1993. С. 26. 14 НАУКА. ИСКУССТВО. КУЛЬТУРА Выпуск 4 2014 70 ______________________________________________________________ Разум помещает нас в мир, который не зависит от нашей воли и не оставляет места для субъективности – в «интеллигибельный» мир треугольников, атомов, законов механики и тому подобных общезначимых истин. Какому человеку хорошо живется в таком мире? Очевидно, только тому, кто готов добровольно подчиниться необходимости, научное знание которой дает ему пищу, одежду, кров. Многие и многие люди, говорит Шестов, обменяли свою свободу и творческие потенции на житейские блага цивилизации, а в свое оправдание сочинили метафизическое определение свободы – как «познанной необходимости». Опыт вращается в мире явлений – звуков, красок, форм. Все это, конечно, вещи очень субъективные, сотворенные мною при участии слуха, зрения, вкуса, а не «вещи в себе», каких доискивается чистый разум. Но в этом мире человек – хозяин и творец, и то, что его окружают вещи бренные и приходящие, есть не недостаток, а достоинство: благодаря этому он может творить что-то новое, небывалое. Там, где существуют только вещи бесконечные и несотворенные, нет места творчеству, не может быть никакого прироста бытия. Поэтому «теория познания, которая хочет… проникнуть в “бытие”, состоит в том, чтоб принять и научиться видеть сущность бытия в том мире, который, хоть и зависит или даже именно потому, что зависит от субъекта (т.е. от живого существа), имеет все то, за что его стоит любить и ценить»16. В мире чистого разума люди без конца воюют, вооружившись «железными» аргументами логики и геометрическими доказательствами. «Люди всегда верили только в физическую силу и, сообразно своим идеалам и верованиям, создали образ истины, опояшенной мечом… И нужно, чтобы “логос” имел туже принудительную силу, что камень или дубина»17. Каждая новая научная идея утверждает свое право на существование, опровергая прежние идеи, и это нескончаемая вражда – bellum omnia contra omnes – является естественной формой существования разума. Иное дело чувственный мир: мое восприятие вещей здесь ни в чем не ущемляет и не опровергает твое восприятие. Моцарт мирно уживается с Вагнером при всем различии их восприятия мира. Здесь сколько людей, столько миров, и «не нужно быть единственно истинным миром и воевать с другими мирами, оспаривая у них право на предикат “быть”. Красота неревнива и нетруслива: она верит в себя и спокойно существует рядом с другой красотой. Ревнив по природе своей только смертный человек, который еще не вышел сейчас из периода борьбы за существование»18. Отсюда видно, почему то, что прежде считалось достоинством знания – его всеобщность и необходимость, – Шестов оценивает как недостаток, а в незавершенном, во многом случайном и произвольном опыте усматривает истинную и адекватную человеческому существованию форму знания. «Истина… – в единичном, неповторяющемся, непонятном, “случайном”»19. Шестова не в меньшей мере, чем Юма или Шопенгауэра можно было бы назвать «философом опыта». Пожалуй, даже в гораздо более высоком смысле, потому что понятие опыта у Шестова значительно глубже и обширнее. Шестов подчеркнуто историчен, он никогда не сводит все разнообразие духовных явлений к безличным гносеологическим схемам, как это делает традиционная эмпирическая философия. В шестовском «опыте» сконцентрирована духовная культура эпохи, он всегда чутко прислушивается к индивидуальности автора, стремится передать неповторимое 16 Шестов Л. Власть ключей. Афины и Иерусалим. С. 621. Там же, с. 141. 18 Там же, с. 141-142. 19 Шестов Л. На весах Иова. Париж. 1975. С. 371. 17 НАУКА. ИСКУССТВО. КУЛЬТУРА Выпуск 4 2014 71 ______________________________________________________________ звучание культурных текстов, приводя их в оригинале – по-гречески, по-латыни, понемецки. Отметим, что среди различных форм опыта главенствующим для Шестова, как для большей части русских философов, является опыт религиозный, в первую очередь тот, что сосредоточен в Библии. По определению Шестова, «опыт есть беспорядочное, ничем не обусловленное следование событий. Всюду нас подстерегают капризные fiat, всюду нам грозят произвольные, ничем, кроме fiat, не вызванные неожиданности»20. Святое Писание и есть такого рода опыт: не рассуждения не демонстрация, а свободно струящийся поток сознания, направляемый лишь чувством чудесного fiat («да будет»). Этот опыт лежит в основе шестовской теории познания. Шестова нередко обвиняли в крайнем иррационализме и агностицизме. «Восстание против разума – основная задача всей философской и литературной деятельности самого Шестова, единственный пафос всех его писаний и единственное их вдохновение» – категорично утверждает В.Ф. Асмус21. Из писавших о Шестове в советский период один только В. Ерофеев решается несколько смягчить эту характеристику, определяя взгляды Шестова как «рациональный иррационализм»22. Те же самые характеристики дают философии Шестова и «несоветские» историки философии. «Религиозный иррационализм в облачении радикального скепсиса – такова формальная характеристика его философского творчества. Шестов – скептик и иррационалист во имя Божие»23. В вышедших впервые на Западе трудах по истории русской философии Н.О. Лосского и В.В. Зеньковского термин «иррационализм» встречается уже в названии раздела, отведенного философии Шестова. В.В. Зеньковский, впрочем, оговаривается, что видит «в его иррационализме вторичный слой в его творчестве: первичным надо считать его религиозный мир»24. Верно ли, что Шестов исповедовал иррационализм? Его тексты, следует признать, часто дают формальный повод к такому истолкованию. «Знание не только есть и не может быть источником истины – по Библии истина живет там, где знание кончается»25. Разве это не кредо иррационализма? Но взгляните на примечание Шестова к этой фразе: «под знанием здесь разумеются те всеобщие и необходимые истины, к которым, по Канту, жадно стремится разум, а не опыт, всегда разум раздражающий»26. То есть, по сути дела, речь ведется лишь об одном виде знания – об «истинах» отвлеченного разума, «умозрения». Однако Шестов далеко не всегда это специально уточняет. Опытному знанию открыта иная, настоящая истина; больше того, «Шестов настаивает, что истина есть обязательный принцип существования», – отмечал Луис Шейн27. Но и разум тоже не закрыт для истины. Только разум обладает не всей полнотой истины, а одной ее частью – истиной об отчужденном существовании человека, протекающем в мире вещественном, внешнем. Если бы разум довольствовался познанием внешнего мира и не претендовал на то, что его истины 20 Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия. М., 1992. С. 223. Асмус В.Ф. Л. Шестов и Кьеркегор // Философские науки. № 4. 1972. С. 71. 22 Ерофеев В. Остается одно: произвол // Вопросы литературы. № 10. 1975. С. 180. 23 Левицкий С.А. Силуэты русской мысли: Бакунин, Шестов // Грани. № 54. 1963. С. 203. 24 Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 2. Ч. 2. С. 84. 25 Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия. С. 186-187. 26 Там же, с. 187. 27 Shein L.J. Lev Shestov: A Russian Existentialist // The Russian Review. 1967, vol. 26, no. 3, 21 p. 282. НАУКА. ИСКУССТВО. КУЛЬТУРА Выпуск 4 2014 72 ______________________________________________________________ распространяются абсолютно на все существующее, включая и духовную жизнь людей, – Шестов, вероятно, не имел бы ничего против такого разума. Он не отвергает истинности предписаний разума, а хотел бы лишь ограничить применение разума: «Истины разума – и предписываемые им законы, в которые, в свое время и на своем месте, были полезными и нужными, когда они становятся автономными, когда они освобождаются от Бога, когда они облекаются в ризы вечности и неизменности – перестают быть истинами. Они окаменевают сами и всех, кто на них глядит, превращают в камень»28. А каковы должны быть те границы («время и место»), в пределах которых истины разума «полезны и нужны»? в книге «На весах Иова» Шестов сравнивает науку с врачом, а философию со священником. Врач продлевает физическую жизнь человека, священник заботится о душе, так что их действия в сущности не пересекаются; враждуют они только оттого, что не сознают своего настоящего назначения и вмешиваются в чужие дела, в которых они не компетентны и приносят только вред. Шейн подчеркивает, что «Шестов ничего не имел против разума и науки в повседневной жизни. Не это было его проблемой. Против чего он восставал – так это против притязаний разума и науки быть единственным авторитетом в этом мире»29. Шестов отвергает, следовательно, не самый разум, а лишь претензию разума сделать человека равным Богу – «откроются глаза ваши и будете, как боги, знающими», как обещал человеку лукавый библейский змей, – и принести ему знание добра и зла. Как и Кант, Шестов стремится установить границы применимости разума, переступив которые, разум превращается в неразумие, становится «отвлеченным». То, что у Шестова эти границы оказываются значительно у́же, чем у Канта, еще не делает его безусловным иррационалистом. Творчество Шестова не вмещается в дилемму рационализм – иррационализм. Португальский философ Вийера дель Альмейда более правильно определяет учение Шестова как «сверхрационализм»30, в том смысле, что у разума есть своя правда, но существует сверх того и правда личного опыта человека, правда тех ценностей, в которые он «субъективно» верит, не испрашивая разрешения у разума. Когда многомерное, полифоническое существование человека сводится к одному измерению – к «совокупности общественных отношений», – разум становится «отвлеченным», т.е. отвлекается от иных форм человеческого бытия и воображает себя хозяином мира. «В таком уме только и может родиться замысел тотального переустройства или обустройства “неразумного” мира»31. Философия абсолютного разума легко превращается в тоталитарную идеологию, как это случилось в начале века с марксизмом. Все, что недоступно рациональному пониманию, в том числе неповторимая индивидуальность человеческого существования, уничтожается или отбрасывается абсолютным разумом как малозначащая «случайность». Шестов ясно предвидел беды, которые несет человеку абсолютизация научной рациональности, отсюда его страстные речи – предостережения портив слепого 28 Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия. С. 197. Shein L.J. Lev Shestov: A Russian Existentialist, p. 281. Хорошо сказано по этому поводу у А. Лазарева: «Шестов не объявляет просто похода против разума и логики: здесь, на отмели времен, где нужно сообща вести борьбу за существование, нужны общеобязательные истины науки, как нужны нормы морали. Но он восстает против захвата разумом власти там, где речь идет о “последней истине”…, в философии» (Лазарев А. Л. Шестов // Современные записки. № 61. 1936. С. 214). 30 См.: Ловцкий Г.Л. Л. Шестов: «На весах Иова» // Современные записки. № 41. 1930. С. 535. 31 Ахутин А.В. Одинокий мыслитель // Шестов Л. Сочинения. М., 1993. Т. 1. С. 14. 29 НАУКА. ИСКУССТВО. КУЛЬТУРА Выпуск 4 2014 73 ______________________________________________________________ доверия разуму, которые при поверхностном чтении воспринимаются как иррационализм. Итак, если рассматривать знания онтологически, т.е. искать его форму, которая была бы адекватна конкретному человеческому существованию, то такой формой является знание-опыт, а не знание-умозрение. Для «умозрения», или отвлеченного разума, истина – в соответствии знания объективной реальности (классическая аристотелевская парадигма), для него не стоит вопрос о том, а соответствует ли знание живому человеческому бытию. Если не соответствует – тем хуже для человека. В опытном же знании всегда присутствует нечто субъективное, опыт никогда в точности не соответствует объективной реальности. Мой опыт есть не что иное, как непосредственное выражение, переживание моего бытия. Мы подробно остановились на взглядах Шестова потому, что он заслужил репутацию самого последовательного и непримиримого критика разума во всей истории русской философии. Однако Шестов был не одинок. Многие русские философы хорошо понимали недостаточность научно-теоретической формы познания, когда речь идет о такой специфической «вещи», как человеческая душа. И стремились преодолеть противоположность рассудка и чувственного опыта, разума и веры, стремились дать «универсальный синтез науки, философии и религии» (Вл.Соловьев). Конечной целью критики разума должен быть не отказ от разума, а его усовершенствование – формирование «всецелого разума» (А. Хомяков), «цельного знания» (Вл. Соловьев), «интегрального познания» (В. Розанов). Разум не должен бежать от всего неповторимого и случайного, от эмоций и от веры в трансцендентное бытие. Лишь в прочном союзе всех познавательных способностей открывается человеку истина бытия. Список литературы 1 Shein L.J. Lev Shestov: A Russian Existentialist // The Russian Review. 1967. Vol. 26, no. 3. 2 Slaatte H.A. Time, Existence and Destiny: N. Berdyaev’s Philosophy of Time. New York. 1988. 3 Асмус В.Ф. Л. Шестов и Кьеркегор // Философские науки. № 4. 1972. 4 Ахутин А.В. Одинокий мыслитель // Шестов Л. Сочинения, 2 т. М., 1993. Т. 1. 5 Бердяев Н.А. А.С. Хомяков. М., 1912. 6 Бердяев Н.А. Мировоззрение Достоевского // Н.А. Бердяев о русской философии. Свердловск, 1991. 7 Бердяев Н.А. О назначении человека. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. М., 1993. С. 26. 8 Бердяев Н.А. Самопознание (Опыт философской автобиографии). М., 1991. 9 Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. 10 Вышеславцев Б.П. Этика Фихте. М., 1914. 11 Гайденко П.П. Парадоксы свободы и учения Фихте. М., 1990. 12 Ерофеев В. Остается одно: произвол // Вопросы литературы. № 10. 1975. 13 Зеньковский В.В. История русской философии. Ленинград. 1991. Т. 1. Ч. 1. 14 Ильин И.А. Философия Фихте как религия совести // Вопросы философии и психологии. Кн. 112. 1912. 15 Кант И. Критика чистого разума // Сочинения. М., 1966-1970. Т. 3. 16 Лазарев А.Л. Шестов // Современные записки. № 61. 1936. 17 Левицкий С.А. Силуэты русской мысли: Бакунин, Шестов // Грани. № 54. 1963. 18 Ловцкий Г.Л. Л. Шестов: «На весах Иова» // Современные записки. № 41. 1930. 19 Франк С.Л. Русское мировоззрение // Духовные основы общества. М., 1992. 20 Шестов Л. Власть ключей. Афины и Иерусалим. М., 1993. 21 Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия. М., 1992. НАУКА. ИСКУССТВО. КУЛЬТУРА Выпуск 4 2014 74 ______________________________________________________________ 22 23 Шестов Л. На весах Иова. Париж, 1975. Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии. Свердловск. 1991. EXISTENTIAL CRITIQUE OF REASON IN RUSSIAN PHILOSOPHY I.A. Maidanskaya Belgorod state national research university e-mail: amaid@pisem.net Radical critique of reason from the standpoint of «life» is considered in the article as a typical motif of Russian philosophy. It is proved that such an approach to the problems of cognition can not be explained by purely national features of the «Russian mind». It expresses a fundamental trend in the development of European thought. And first of all, it is a trend of «critical» philosophy, going back to Kant. Keywords: Russian philosophy, reason, critique of reason, existentialism, life, being, Berdyaev, Shestov.