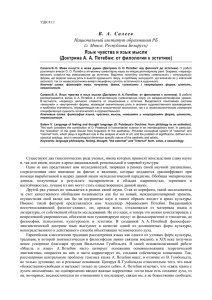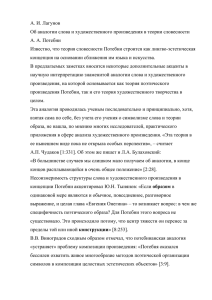Идеи А.А. Потебни в эстетических трудах Андрея Белого
реклама

А. И. Лагунов Идеи А.А. Потебни в эстетических трудах Андрея Белого В предыдущей статье [7:3–8] мы уже говорили о том, насколько важно современное осмысление проблемы «А.А. Потебня и формирование теории русского символизма» – оно способно показать жизнь и развитие идей ученого в изменившихся социо-культурной ситуации, в рамках иной, модернистской художественно-эстетической парадигмы. Цель предлагаемой работы – проследить «потебнианские» истоки и корни в теоретических концепциях Андрея Белого, их переосмысление и развитие в процессе выработки и оформления им теории символизма и символистского творчества. Андрей Белый обращается к трудам Потебни значительно позже В. Брюсова и И. Анненского – в ту пору, когда русский символизм в целом начинает осознавать надвигающийся кризис течения и в лице А. Блока и Вяч. Иванова подводит его «итоги» и формулирует «заветы». У А. Белого в этом отношении, как известно, была своя позиция: он был на всех этапах своего творческого пути не просто приверженцем, но и искренним защитником теории и практики символизма, оставаясь вместе с тем смелым экспериментатором в области словесного искусства, вырабатывающим свое, независимое ни от каких теоретических установок отношение к нему. При этом у него извечное символистское стремление постичь предельно непостижимое, освоить неведомое неизбежно влечет за собой пристальное внимание к подробностям – к тем молекулам и атомам поэтической формы, из которых и вырастает произведение искусства. Отсюда вытекает и известное допущение Белого-теоретика о том, что эстетика возможна как точная наука, вплоть до наделения семантическим статусом отдельных звуков, но отсюда же и явное преувеличение «внерациональности» слова, его «магии» и т.п. Все это имеет прямое отношение к тому неоднозначному восприятию и развитию как философских и общефилологических, так факультативных концепций Потебни, которые развивал в своих теоретических работах А. Белый. Само его обращение к трудам А.А. Потебни относится к напряженному периоду теоретических исканий 1909 года, когда он готовит для только что открывшегося издательства «Мусагет» книгу статей «Символизм», которая, по замыслу автора, должна была наметить основные вехи для будущей системы символизма. Однако собранные в ней статьи, написанные в разные годы и несшие в себе следы уже пережитых в свое время философских влияний (Шопенгауэра, Вундта, Геффдинга и др.), уже не могли его удовлетворить. В своих мемуарах «Между двух революций» он пишет о том, что в то время «я не раз колебался, стоит ли выпускать эту рыхлую, неуклюжую книжицу… Очерк теории символизма мне виделся ясно: если бы были возможности мне затвориться на несколько месяцев, я предпочел бы готовить к печати заново написанный труд, опуская эскизы к нему (материал статей, с которыми во многом я был уже не согласен)» [1:335]. А. Белый спешно пишет обширный комментарий к этой книге (более 1/3 всего ее почти 600-страничного текста), новые статьи, в том числе «Магию слова» и «Эмблематику смысла», включаемые в уже набиравшийся в типографии текст книги. Вот тут-то, в стремлении подвести надежную не только философскую, но и филологическую базу под обоснование теоретических основ символизма, А. Белый впервые в этих целях ищет опору и в идеях А.А. Потебни. Приведя в комментариях общие положения ученого об аналогии слова и художественного произведения, А. Белый так поясняет их: «Слово и поэзия объединяются и тем, что в деятельности состоит из нераздельного взаимодействия трех элементов: формы, содержания и внутренней формы, или, по нашей терминологии, – символистского образа… Здесь Потебня подходит к той границе, где начинается уже исповедание символистской школы поэзии; русские символисты подписались бы под словами глубочайшего русского ученого: между тем и другими нет коренных противоречий; это показывает, что русские символисты имеют под собой твердую базу» [2:575]. Это слишком общее, даже декларативное суждение, чтобы судить о его правомерности или адекватности. Отметим, однако, что А. Белый отнюдь не включает идею Потебни в круг символистских представлений, не «использует» ее в своих интересах. Он совершенно четко указывает на то, что учение его о внутренней форме слова, и только оно «подходит к границе» символистских интерпретаций искусства слова, т.е. видит в этом аспекте учения Потебни один из важнейших истоков теории символизма. И для этого, думается, были веские основания. Давно признано, что одна из основных идей харьковского ученого – идея символичности художественного образа. Но что касается слова, в котором жива внутренняя форма, то его символичность, по мнению некоторых исследователей, ограничивается по-гегелевски понятой знаковой природой символа. Вот как, например, формулирует эту мысль А.Б. Муратов, оспаривая положение В.В. Виноградова о том, что в учении Потебни «символическая структура противопоставлена знаку» [6:6]: «Потебня в этом случае оставался на почве рационалистического понимания символа, его знаковой основы, понимания, утвержденного Гегелем, который в борьбе с романтическими воззрениями отстаивал, что «символ есть прежде всего некоторый знак»; поэтому и Потебня пользуется понятиями знак и символ как синонимами» [10:110]. Но, во-первых, почти всегда не как синонимами (друг друга заменяющими, семантически однородными), а через запятую, (друг друга поясняющих); вовторых, Потебня не мог не видеть структурной разницы между ними: символ, в отличие от знака, по крайней мере двучленен, а, следовательно, многозначен, многомысленен. Как представляется, здесь сказываются отголоски укоренившихся представлений о «рационалистическом», «интеллектуалистском» характере потебнианских теорий. Андрей Белый, кажется, впервые начал осмысливать их в совершенно противоположном ключе – «прозревая» в логическом движении его мысли дерзновение и страстный поиск истины: «И читали, пожалуй, его не мало; а между тем просмотрели в нем замечательного ученого; в его сухих грамматических исследованиях видели добросовестность; просмотрели огромный талант… усматривали неясность, неудобочитаемость; дерзновение – просмотрели… Отчетливость мысли сочетается в нем с многосторонностью освещения; дерзновение выводов с серьезной их обоснованностью; богатство и разнообразие мысли тонет в еще большем богатстве фактов, им подобных; самостоятельность как бы прячется под маской им приводимых цитат» [3:241]. А самое важное, считает А. Белый, заключается в том, что Потебня именно потому входит в ряд наиболее выдающихся европейских филологовмыслителей, что «современные художники видят у него обоснование и развитие их мыслей», и прежде всего символисты, которые «только недавно как бы вновь открыли его труды: с изумлением мы находим там ответы на наиболее жгучие вопросы…» [3:241]. Конечно, символисты, и А. Белый в первую очередь, во многом развивали и переосмысливали идеи Потебни, но, как заметил еще в 70-х годах прошлого века Б.А. Ларин, «ведь для переосмысления должны же быть основания» [8:28]. Эти основания появились у А. Белого во время интенсивных теоретических исканий 1909-1910 годов, когда то, что в период «бури и натиска» символизма зиждилось на духе и казалось очевидным, потребовало более конкретного теоретического, в том числе и филологического, обоснования. В этом плане характерно то, что В. Брюсов, который, по воспоминаниям А. Белого, еще на заре символизма «рылся в Потебне, никем еще не читаемом в тот период» [4:165], искал в его работах отнюдь не обоснования его теории, а подтверждения своим мыслям о «самоценности» и познавательном значении слова. А. Белый к этому времени уже далек от прежних «аргонавтических» аллюзий, осталось позади и «шопенгауэрство», в 1909–1910-х годах его теоретическим утверждениям ближе всего фрейбургская школа неокантианцев и особенно Риккерт. Именно на них он опирается в «обосновании доктрины символизма» в статье «Эмблематика смысла», где, в частности, обосновывается примат творчества над познанием: только в переживании можно преодолеть хаос; переживаемый хаос уже не хаос, а «мы становимся образом Логоса, организующего хаос. Мы познаем, переживая: это познание – не познание, оно – творчество» [5:43]. Отсюда выводится и новое определение символа как образа индивидуального переживания, осуществляемого в единстве формы и содержания, формулируется конечная цель искусства – не только и не столько познание, сколько преображение жизни и мира. И хотя Потебня в этой статье не упоминается и не цитируется, можно вполне предположить, что и его труды, интенсивно изучавшиеся в это время А. Белым наряду и параллельно с трудами философов фрейбургской школы, учитывались им, особенно в размышлениях о роли познания и творчества, о символизации в этом процессе, о самом символе. Это тем более вероятно, что вслед за «Эмблематикой смысла», законченной в конце сентября 1909 г., в октябре этого же года он пишет статью «Магия слова», которая, с одной стороны, вся построена на материалах, взятых из его «Записок по теории словесности», со многими отсылками к этому труду и цитациями из него, а с другой – является ярким примером модернистской трансформации его учения о слове. В этой статье А. Белый переводит с философского на лингвистический уровень, на уровень слова, собственно те же вопросы, во всяком случае, главные из них, которые рассматривались и в «Эмблематике смысла» – о познании и творчестве, о символе, но сосредоточившись главным образом на «средствах изобразительности», в которых и заключен весь процесс «творческой символизации». В самом «языке, как в деятельности, органическим началом являются средства изобразительности», убежден А. Белый, и поясняет: переход от «прилагательного к эпитету неприметен, в свою очередь всякий эпитет близок к той или иной более сложной форме (метафоре, метонимии, синекдохе)». «Потебня доказывает не без основания, – продолжает А. Белый, – что всякий эпитет (ornans) есть вместе с тем и синекдоха; с другой стороны, он же указывает случаи, когда синекдоха покрывает и метонимию; в метонимии мы уже имеем тенденцию творить само познание; содержание многих причинных взаимодействий, устанавливаемых нами, рождается первично из некоторых метонимических комбинаций образов (где пространство переносится во время, время в пространство; где смысл метонимического образа в том, что в действии его уже содержится причина, или в причине действия» [5:137–138]. И далее идет пространный, в полном взаимодействии с Потебней, анализ «неотделимых друг от друга», «переходящих одна в другую» форм выразительности, но выводы из всего этого анализа очень часто переходят из сферы потебнианского учения в сферу интересов самого А. Белого. Так, выводя из учения Потебни тезис о том, что все мифическое мышление сложилось под влиянием творчества языка, что образ в мифе становится причиной существующей видимости, что поэтическая речь прямо связана с мифическим творчеством, он приходит к выводу, во многих отношениях противоречащему Потебне: «Реальная сила творчества неизмерима сознанием, сознание всегда следует за творчеством. …Такое утверждение силы творчества в словах есть религиозное утверждение; оно вопреки сознанию» [5:141–142]. Потебня, как известно, полагал иначе: в слове, как в поэтическом образе, осуществляется одновременно и акт познания, и акт творчества, они находятся в диалектической, а не иерархической связи друг с другом. А. Белый в своем утверждении приоритета творчества над познанием шел далеко, полностью солидаризуясь с неокантианцами, говоря о том, что «сон познания создан словом», и даже не столько словом, сколько «творчеством нового мира в звуке»: «Звук сам по себе неделим, всемогущ, неизменяем; но перекрестные ходы звуков, случайные звуковые отклики, вызываемые воспоминанием, начинают плести покров вечной иллюзии; мы называем эту иллюзию познанием, пока познание наше, разложив до конца на звуки, не станет для нас немым математическим значком. Познание становится номенклатурой пустых и немых слов; немых, потому что они не говорят ни о чем, пусты, потому что из них изъято всяческое содержание … вне психизма (т.е. индивидуального переживания – А.Л.) нет звука, нет слов, нет жизни, нет творчества. Познание оказывается незнанием» [5:136]. И далее: «Скажем прямо: нет никакого познания в смысле объяснения явлений словом» [5:136]. Ясно, что под этими утверждениями, как будто и вытекающими из его теории языка и слова как средства познания, но как бы повернутой наоборот, Потебня никогда не подписался бы. Это, отдавая заслуженную дань старому ученому, заговорило новое время. Новое искусство слова, оставившее позади эпоху Потебни и начинающее новый виток спирали в его развитии. Его деятели – а А. Белый в плане развития теории символизма может считаться полноправным представителем этого нового течения модернистского искусства – при всем пиетете к учению Потебни – уже не могут ограничиваться его рамками. Опираясь на него, они вынуждены трансформировать его в соответствии с новой парадигмой в развитии всей человеческой жизнедеятельности, в том числе культуры, искусства и литературы. Как ясно из прежде изложенного, А. Белый, отталкиваясь от учения о слове Потебни, решительно меняет акценты: если у Потебни слово в первую очередь – средство познания, а затем уже связанного с познанием творчества, то по А. Белому выходит, что «говорит тот, кто творит», а «познающий есть всегда неопределенный рев бессловесной души; познаваемое – встречный рев стихий жизни; только словесный фейерверк возникающих на границе двух непереступаемых бездн создает иллюзию познания; но это познание – не познание, а творчество нового мира в звуке» [5:136]. Звучащее слово – вот, по А. Белому, единственная реальность, вокруг него пустота. «Миры отвлеченных понятий, как и миры сущностей, как бы мы эти сущности не называли (материя, дух, природа) – не реальны: их и нет вовсе без слова; слово – единственный реальный корабль, на котором мы плывем от одной неизвестности в другую» [5:137]. Только слово созидает мир, объективирует пространство и время. Не названного словом не существует. Разделяемые в этот период А. Белым неокантианские идеи о ценности переживаний и творчества достигают в этой статье своего апогея. Называние словом различных «неизвестностей» в процессе переживания – не познание, это творчество себя и мира. «Когда, – пишет А. Белый, – я говорю «я», я создаю звуковой символ; я утверждаю этот символ, как существующий; только в эту минуту я сознаю себя» [5:137]. Казалось бы, столь далекие от философии языка Потебни неокантианские основы статьи А. Белого должны были бы далеко увести его от ключевых положений ученого. В некоторых моментах это так и происходит, но в главном – нет. Более того, основные положения новой философской школы, уже отмеченные выше – апология особой ценности переживания и творчества, осуществляемое в процессе символизации, – коррелировал с некоторыми важными акцентами потебнианского учения, а именно с проблемой мышления и понимания, в которой важную роль играют мышление и переживание «единого», т.е. личностного переживания (в терминологии А. Белого – «психизм»), а также понимание языка как деятельности, творческой функции слова посредством символизации. Эта корреляция столь важных для А. Белого в этот период философскотеоретических источников оказалась для него, по-видимому, решающей предпосылкой к осознанию и определению символа как «индивидуального образа переживания», данного в произведении искусства в единстве формы и содержания, очень важное для символизма на кризисном этапе его развития. Явственным же переосмыслением идей Потебни, кроме уже отмеченного понимания познания как переживания, в процессе которого оно становится не познанием вовсе, а творчеством, являются также его представления о «магии слов». Всякое живое слово, по А. Белому, не только самое мощное и, по сути, единственное орудие творчества, оно «есть магия заклятия» [5:137]. В принципе само творчество есть наименование, т.е. магия заклинания и заговора. Потебня, как известно, тоже анализировал различные проявления веры в магию слова, но считал их проявлением донаучного, мифологического мышления. Для А. Белого же она – одно из извечных проявлений творческой сущности слова: «Неспроста магия признает власть слова. Сама живая речь есть непрерывная магия; удачно созданным словом я проникаю глубже в сущность явлений, нежели в процессе аналитического мышления; мышлением я различаю явление; словом я подчиняю явление, покоряю его; творчество живой речи есть всегда борьба человека с враждебным стихиями, его окружающими; слово зажигает светом победы окружающий меня мрак» [2:481]. Как теоретик и практик символизма, А. Белый не мог не ощущать, что в его понимании творчества как вербализации мира в процессе переживания нет никакой онтологии, кроме самого личного переживания. Поэтому можно предположить, что сама «магия слов» была для него на этом этапе неким «замещением» онтологии (религии? Бога?). Если же с этим не согласиться, то мы имеем здесь уже не религию Логоса, как у неокантианцев, а религию художественного слова, в которой художник, замещая Творца, становится демиургом, создателем слов, творящим миры, а искусство – теургией. Вероятнее всего, имеет место и то, и другое. В своих теоретических работах А. Белый часто избегает однозначных и тем более прямолинейных суждений – они просто несовместимы с поисковым, эвристическим характером его «экспериментальной эстетики». Как бы то ни было, но идея теругической сущности искусства, чаще всего не так резко и громко подчеркнутая и выделенная, как в «Магии слов», но в той или иной форме всегда была в центре внимания А. Белоготеоретика, поэта и писателя. И само направление творческой адаптации идей Потебни в теоретических работах А. Белого шло именно по этой линии. Это касается также и интерпретации размышлений Потебни о роли мифа в языке и поэзии, чрезвычайно высоко им ценимых. В познании как в словесном творчестве, в этом процессе заполнения пустоты «фейерверком слов», у А. Белого есть, по выражению К. Мочульского, «своя космогония и теогония» [9:132]; сформулированная им в «Магии слов»: «Прежде, – пишет А. Белый, – пустота зажигалась огнями образов: это был процесс мифического творчества. Слово рождало образный символ – метафору, метафора представлялась действительно существующей; слово рождало миф, миф рождал религию, религия – философию, философия – термин» [5:137]. Нетрудно заметить, что в этой «теогонии» та же последовательность, что и в размышлениях Потебни о путях развития мышления и языка: от мифа к поэзии, от поэзии к науке. Но для А. Белого в центре внимания не мышление, тем более научное, которое способно родить только термин, а само слово, его творческая потенция, и миф. В этом смысле характерно его проницательное замечание о том, что «все многообразие его (Потебни – А.Л.) трудов, вся кропотливая работа его «Записок по русской грамматике» клонится к установлению аналогии между словом и мифом» [3:245]. Органическая связь живого поэтического слова с мифом, творчество слов, вообще художественное творчество и искусство в целом, основанные на живущих в языке, слове, памяти, миропредставлении современного человека, то, что сейчас мы называем мифопоэзией и на чем зиждется модернистское искусство, начало которому положили символисты – вот одно из главных направлений теоретических изысканий А. Белого. И в том, что он прозорливо усматривает некоторый «уклон» к этому в фундаментальных трудах Потебни, который сам ученый, возможно, и не осознавал – яркий пример их жизненности. В череде эпох творения истинных мыслителей прошлого оцениваются и осмысливаются по-новому. Литература 1. Белый А. Между двух революций. – М., 1990. 2. Белый А. Символизм. – М., 1910. 3. Белый А. Мысль и язык (Философия языка А.А. Потебни // Логос. – Кн. 1. – М., 1910. 4. Белый А. Начало века. – М.-Л., 1935. 5. Белый А. Символизм как миропонимание. – М., 1994. 6. Виноградов В.В. О теории художественной речи. – М., 1971. 7. Лагунов А.И. Учение А.А. Потебни в эстетических концепциях русских символистов (В. Брюсов, И. Анненский) // Вестник ХНУ им. В.Н. Каразина. – 2004. – № 607. – Серия филология. – Вып. 39. 8. Ларин Б.А. Эстетика слова и язык писателя. – Л., 1974. 9. Мочульский К. Андрей Белый. – Томск, 1997. 10. Муратов А.Б. О теории образности А.А. Потебни // Известия АН СССР. – Серия литературы и языка. – 1977. – № 2. – Т. 36. АНОТАЦІЯ У статті розглянуті сприйняття і трансформація ідей О.О. Потебні у теоретичних роботах Андрєя Бєлого 1909 р. SUMMARY There are perception and transformation of A.A. Potebnya’s ideas in aesthetic works by Andrey Bely (1909) are analyzed in the article.