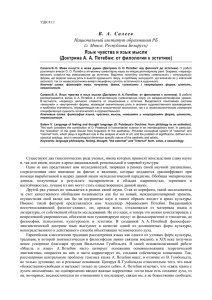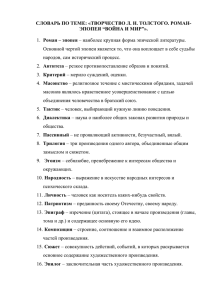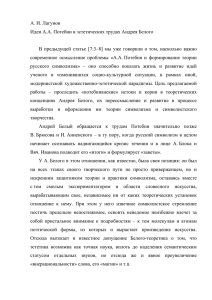Об аналогии слова и художественного произведения в теории
реклама

А. И. Лагунов Об аналогии слова и художественного произведения в теории словесности А. А. Потебни Известно, что теория словесности Потебни строится как лингво-эстетическая концепция на основании сближения им языка и искусства. В предлагаемых заметках вносятся некоторые дополнительные акценты в научную интерпретацию знаменитой аналогии слова и художественного произведения, на которой основывается как теория поэтического произведения Потебни, так и его теория художественного творчества в целом. Эта аналогия проводилась ученым последовательно и принципиально, хотя, взятая сама по себе, без учета его учения о символизме слова и теории образа, не нашла, по мнению многих исследователей, практического приложения в сфере анализа художественного произведения. «Эта теория в ее нынешнем виде пока не открыла особых перспектив», – считает А.П. Чудаков [1:331]. Об этом же пишет и Л.А. Булаховский: «В большинстве случаев мы слишком мало получаем об аналогии, в конце концов расплывающейся в очень общее положение» [2:28]. Несоизмеримость структуры слова и художественного произведения в концепции Потебни акцентировал Ю.Н. Тынянов: «Если образом в одинаковой мере являются и обычное, повседневное, разговорное выражение, и целая глава «Евгения Онегина» – то возникает вопрос: в чем же специфичность поэтического образа? Для Потебни этого вопроса не существовало. Это происходило потому, что центр тяжести он перенес за пределы той или иной конструкции» [8:253]. В.В. Виноградов сходным образом отмечал, что потебнианская аналогия «устраняет» проблему композиции произведения: «Потебня оказался бессилен охватить живое многообразие методов поэтической организации символов в композиции целостных эстетических объектов» [3:9]. Конструкция, композиция, построение – их многообразие и разнообразие в разных видах художественных произведений – вот то звено, которого фатально недостает, по мнению Ю.Н. Тынянова и В.В. Виноградова (еще резче ставили эти вопросы формалисты, например, В. Шкловский), этой аналогии. Трудно согласиться и с теми исследователями, которые считали, что аналогия слова и литературного произведения для Потебни – только некое «образное сопоставление» [4:21], целью которого является прояснение самой мысли о субстанциональном единстве слова и словесного творения. Ученый, конечно же, понимал разницу в масштабах слова и, например, романа, неоднократно возвращался к ее уточнению. Вот, например, одно из таких уточнений относительно внешней формы слова и словесного произведения: «Разница между внешнею формою слова (звуком) и поэтического произведения та, что в последнем, как проявлении более сложной душевной деятельности, внешняя форма более проникнута мыслью. Впрочем, и членораздельный звук, форма слова, проникнут мыслью: Гумбольдт, как мы видели выше, может понять его только как “работу духа”» [7:179]. Смысл и психологически-творческая установка такого рода автокомментирования ясны – снять любые сомнения в правомерности аналогии. Однако и сомневающихся, и скептиков, не видящих особых перспектив для литературоведения в этой аналогии, было, как мы видели, немало. В этой связи обращает на себя внимание тот факт, что отсутствие открытого критического подхода к различным аспектам учения Потебни, в том числе и базирующимся на аналогии слова и искусства, и самой аналогии, можно отметить лишь в символистской эстетике, если не считать прямых последователей ученого из харьковской психологической школы. В построении своей эстетики русские символисты широко использовали учение Потебни, опирались на него, развивали, а часто и трансформировали его основные положения, но никогда не ставили их под сомнение. Создается впечатление некой общности, родственности в самих генетических основаниях потебнианского учения и символистской эстетики. Прояснение этой общей основы, безусловно, помогает уточнению многих проблем, связанных с ролью и значением учения Потебни в эстетике и литературоведении ХХ и ХХI веков. Мы попытаемся рассмотреть эти общие истоки лишь в ограниченной сфере, связанной с аналогией слова и литературного произведения. Прежде всего, необходимо постоянно иметь в виду, что речь идет об аналогии и ни в коем случае не о тождестве. Аналогии и сходства, главным образом по функции в процессе познания и творчества, чрезвычайно значимы в методологии Потебни как мыслителя и исследователя. Конкретизируя, например, свой тезис о том, что «искусство есть творчество в том же смысле, как слово», он так поясняет эту аналогию: «…В поэтическом – следовательно, вообще художественном произведении есть те же самые стихии, что и в слове: содержание (или идея), соответствующее чувственному образу или развитому из него понятию; внутренняя форма, образ, который указывает на это содержание, соответствующий представлению (которое тоже имеет значение только как символ, намек на известную совокупность чувственных восприятий, или на понятие), и, наконец, внешняя форма, в которой объективируется художественный образ [7:179]. Слово и произведение, таким образом, не только аналогичным образом трехчастно структурированы, они являются также продуктом аналогичной творческой деятельности сознания: в акте художественного творчества повторяется та же самая форма деятельности, в итоге которой возник сам язык. Тип структуры целостного художественного произведения и взаимоотношения его элементов, таким образом, полностью обусловлены соотношением аналогичных элементов в слове и его первоначальной поэтичностью. Поэтому перед Потебней и не могла возникать проблема соотношения морфологических и семантических элементов в построении художественных произведений, к тому же морфологическое изучение поэзии началось у нас по сути только с возникновением «формальной школы». У него структура слова как бы эксплицириуется вовне и становится не только определяющим, но и творящим началом того целого (словесного произведения), составной частью которого оно (слово со своей трехчастной структурой, а значит, с живым представлением) выступает. Структура слова, являющегося, как и произведение, результатом творческого акта, деятельного сознания (духа), становится аналогом структуры произведения словесного искусства. При этом ученый прекрасно понимал, что хотя структура художественного произведения и строится по аналогии со структурой слова, оно в своей целостности является структурой более высокого уровня, чем его внутренне структурированный строящий элемент, т.е. слово. И если для слова его внешней формой является не просто звук в его вещной данности, а «звук, уже сформированный мыслью», и только «при существовании для нас символизма слова (при осознании внутренней формы) его звуки становятся внешнею формою, необходимо требуемой содержанием» [7:177], то «формой поэтического произведения будет не звук, первоначальная внешняя форма, а слово, единство звука и значения» [7:178]. Таким образом, не вообще язык, не словесный материал в своей вещной определенности является средством сотворения художественного произведения, а прежде всего слово, которое со своей внутренней формой и образностью является творческим фактором языка и именно поэтому фактом поэзии: «Язык не есть только материал поэзии, – утверждает ученый, – как мрамор – ваяния, но сама поэзия, а между тем поэзия в нем невозможна, если забыто наглядное значение слова» [7:198]. Именно слово со своей трехчленной структурой, изначальным принципиальным качеством которого является поэтичность, слово, содержащее в себе творческие интенции языка, и является своего рода изначальной поэтической субстанцией в создании словесного художественного произведения, в самом себе содержащей (в силу структурированности) некий заряд формотворческой энергии, который, как было отмечено выше, стремится к эксплицированию вовне. При этом, как отмечает А. Хан, слово «как изначальная поэтическая субстанция обладает внутренним телеологическим смыслом», и именно «эманация этого внутреннего телеологического смысла и строит органическим путем законы целого как свое внутреннее подобие» [9:171–172]. В художественном произведении, таким образом, развертывается и получает общее структурное воплощение только то, что изначально было задано в его творящей единице как неком прообразе, идеале, символическом «отпечатке» ее структуры. Кажется, сам ученый имеет в виду нечто подобное, когда утверждает: «Слово только потому есть орган мысли и непременное условие всего позднейшего развития понимания мира, что первоначально есть символ, идеал и имеет все свойства художественного произведения» [7:196]. Есть ли и каковы философские основания такого рода концепции слова и произведения? Г. Шпет в своей книге «Внутренняя форма слова (этюды и вариации на темы Гумбольдта)» упоминает о понятии внутренней формы у Гумбольдта как о возможном переосмыслении платоновского эйдоса [10:54]. Можно ли допустить такую возможность по отношению к развитию этого понятия в учении Потебни, и если да, то как это сказывается на аналогии слова и художественного произведения? Конечно, в этом случае эйдос следует понимать в самом общем, платоновском и неоплатоническим смысле, а не таким, каким он определен и разработан феноменалистами или, скажем, в «Философии имени» А.Ф. Лосева. И только в этом смысле, как представляется, можно допустить, что гумбольдтовско-потебнианское понятие внутренней формы как некой идеальной, органической, цельной формотворческой энергии восходит к эйдосу Платона и неоплатоников как идеальной живой полноты, цельности, пронизанными вечно творящей энергией, стремящейся к инобытию. Его воздействие на материю создает из нее благодаря заключенной в самом эйдосе идеальной определенности смысла, целостные материальные объекты. Однако степень их идеальности, а, значит, и степень воплощенности в них творящего духа эйдоса зависит от способности бесформенной материи претворятся в его материальный «сосуд». Вряд ли возможно без многих оговорок прочерчивать прямую линию от философии Платона и неоплатоников к философии языка Потебни, как это делает в уже цитировавшейся выше статье А. Хан, так как прямых свидетельств такого рода преемственности в трудах ученого мы не нашли. Но немаловажным аргументом, на наш взгляд, является тот бесспорный факт, что многие из выдающихся русских филологов ХХ века, в разных аспектах развивающие учение о слове и эйдосе – П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, А.Ф. Лосев, Г.П. Федотов, Г. Шпет и др. – неизменно включали в контекст своих исследований и философию языка Потебни как важнейшее звено в непрерывной генеалогической цепи осмысления и научного изучения слова, творчества, искусства. Приведем некоторые высказывания по этому поводу А.Ф. Лосева. В примечаниях к «Философии имени» он пишет: «Наша “диалектика человеческого слова” ближе всего подходит к тому конгломерату феноменологических, психологических, логических и лингвистических идей и методов, который характерен для прекрасного исследования А. Потебни “Мысль и язык”» [6:228]. В другой своей книге – «Диалектика художественной формы» – философ замечает, что в изучении имен (т.е. философии слова – А.Л.) он следует «платоновскому “Кратилу” (в понимании его Проклом) и что этой традиции следуют Гегель, Шеллинг, В. Гумбольдт, К. Аксаков, Потебня, Гуссерль и Кассирер» [5:157]. Символизм образа и поэтического языка – одно из фундаментальных положений, на котором, собственно, и базируется аналогия слова и художественного произведения Потебни. У философов и эстетиков русского ренессанса начала ХХ в., развивавших в области философии языка и творчества его идеи, сам феномен символа стал непосредственно связываться с эйдосом, понятие которого было развито и углублено по сравнению с Платоном и неоплатониками. Тот же А.Ф. Лосев детальнейшим образом прослеживает в «Философии имени» (1923 г.) эволюцию изначальных потенций слова от эйдоса (в значении конкретного идеального смысла) через растворение эйдоса в инобытии и его образного становления благодаря логосу к символу: «…в символе мы находим инобытийный материал, подчиняющийся в своей организации эйдосу. Символ – не эйдос, но воплощенность эйдоса в инобытии, и притом необязательно в фактическои и реальном инобытии. Символ в собственном смысле слова есть именно не реальный переход в инобытие, но смысловая же вобранность инобытия в эйдос. Эйдос … вбирает в себя инобытие как материал, перестраивается, заново создается; и уже оказывается в нем внутреннее и внешнее, хотя и даны они оба – в своем полном самотождестве. Отсюда символ и есть неисчерпаемое богатство апофатических возможностей, смысла» [6:112]. Не напоминают ли эти переходы и превращения эйдоса, хотя бы функционально, роль слова с живым значением и его трехчастной формой по отношению к художественному произведению в знаменитой аналогии Потебни? И не жила ли в спонтанной памяти ученого, воплотившего в своих трудах последнее слово европейской философии и филологической науки, принципиально утверждавшего конструктивный смысл своей аналогии, еще одна аналогия – слова и платоновского эйдоса? Если это так, то становится особенно очевидным, почему символисты прямо соотносили свою теорию творчества с теорией Потебни, включая и его аналогию слова и художественного произведения; почему исследователи «формальной школы» ее не принимали, наконец, почему в советском литературоведении, стремящимся «подтянуть» ученого к материалистической философии, эта аналогия встречала настороженное отношение и практически не осмысливалась. Другими словами, «Жизнь в веках» учения Потебни обрела бы большую определенность. Литература 1. Академические школы в русском литературоведении. – М., 1975. 2. Булаховский Л.А. Александр Афанасьевич Потебня. – К., 1952. 3. Виноградов В.В. К построению теории поэтического языка // Поэтика. – Вып. ІІІ. – Л., 1927. 4. Коцюбинська М. Образне слово в літературному творі. – К., 1960. 5. Лосев А.Ф. Диалектика художественной формы. – М., 1927. 6. Лосев А.Ф. Философия имени. – М., 1990. 7. Потебня А.А. Эстетика и поэтика. – М., 1976. 8. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. – М., 1977. 9. Хан А. Теория словесности А. Потебни и некоторые вопросы философии творчества русского символизма // Dissertationes Slavicae. XVII, Szeged, 1985. 10. Шпет Г. Внутренняя форма слова (этюды и вариации на темы Гумбольдта. – М., 1927. АНОТАЦІЯ У статті здійснено спробу обґрунтування гіпотези щодо зв’язку аналогії слова та художнього твору в ученні О.О. Потебні з платонівським поняттям ейдоса. SUMMARY The article presents an attempt at substantiating the hypothesis of the relationship between the word – literary work analogy in Potebnia’s doctrine and the Platonian concept of eidos.