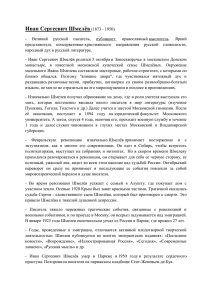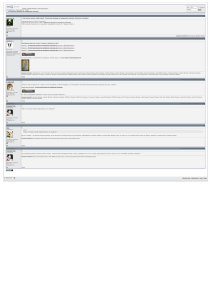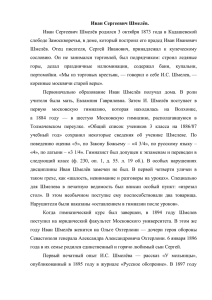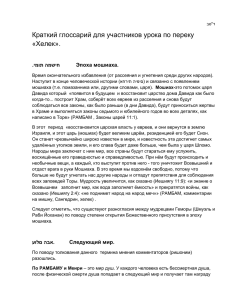ТРАГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МИРА В «СОЛНЦЕ МЁРТВЫХ» И
реклама
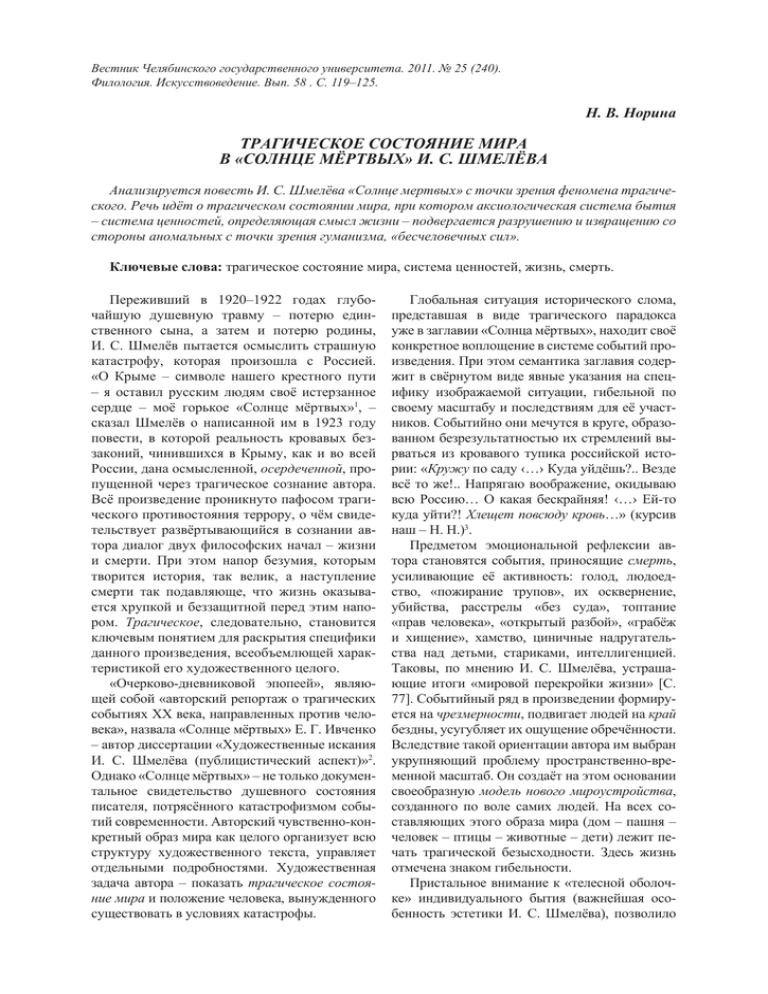
Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 25 (240). Филология. Искусствоведение. Вып. 58 . С. 119–125. Н. В. Норина ТРАГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МИРА В «СОЛНЦЕ МЁРТВЫХ» И. С. ШМЕЛЁВА Анализируется повесть И. С. Шмелёва «Солнце мертвых» с точки зрения феномена трагического. Речь идёт о трагическом состоянии мира, при котором аксиологическая система бытия – система ценностей, определяющая смысл жизни – подвергается разрушению и извращению со стороны аномальных с точки зрения гуманизма, «бесчеловечных сил». Ключевые слова: трагическое состояние мира, система ценностей, жизнь, смерть. Переживший в 1920–1922 годах глубочайшую душевную травму – потерю единственного сына, а затем и потерю родины, И. С. Шмелёв пытается осмыслить страшную катастрофу, которая произошла с Россией. «О Крыме – символе нашего крестного пути – я оставил русским людям своё истерзанное сердце – моё горькое «Солнце мёртвых»1, – сказал Шмелёв о написанной им в 1923 году повести, в которой реальность кровавых беззаконий, чинившихся в Крыму, как и во всей России, дана осмысленной, осердеченной, пропущенной через трагическое сознание автора. Всё произведение проникнуто пафосом трагического противостояния террору, о чём свидетельствует развёртывающийся в сознании автора диалог двух философских начал – жизни и смерти. При этом напор безумия, которым творится история, так велик, а наступление смерти так подавляюще, что жизнь оказывается хрупкой и беззащитной перед этим напором. Трагическое, следовательно, становится ключевым понятием для раскрытия специфики данного произведения, всеобъемлющей характеристикой его художественного целого. «Очерково-дневниковой эпопеей», являющей собой «авторский репортаж о трагических событиях ХХ века, направленных против человека», назвала «Солнце мёртвых» Е. Г. Ивченко – автор диссертации «Художественные искания И. С. Шмелёва (публицистический аспект)»2. Однако «Солнце мёртвых» – не только документальное свидетельство душевного состояния писателя, потрясённого катастрофизмом событий современности. Авторский чувственно-конкретный образ мира как целого организует всю структуру художественного текста, управляет отдельными подробностями. Художественная задача автора – показать трагическое состояние мира и положение человека, вынужденного существовать в условиях катастрофы. Глобальная ситуация исторического слома, представшая в виде трагического парадокса уже в заглавии «Солнца мёртвых», находит своё конкретное воплощение в системе событий произведения. При этом семантика заглавия содержит в свёрнутом виде явные указания на специфику изображаемой ситуации, гибельной по своему масштабу и последствиям для её участников. Событийно они мечутся в круге, образованном безрезультатностью их стремлений вырваться из кровавого тупика российской истории: «Кружу по саду ‹…› Куда уйдёшь?.. Везде всё то же!.. Напрягаю воображение, окидываю всю Россию… О какая бескрайняя! ‹…› Ей-то куда уйти?! Хлещет повсюду кровь…» (курсив наш – Н. Н.)3. Предметом эмоциональной рефлексии автора становятся события, приносящие смерть, усиливающие её активность: голод, людоедство, «пожирание трупов», их осквернение, убийства, расстрелы «без суда», топтание «прав человека», «открытый разбой», «грабёж и хищение», хамство, циничные надругательства над детьми, стариками, интеллигенцией. Таковы, по мнению И. С. Шмелёва, устрашающие итоги «мировой перекройки жизни» [С. 77]. Событийный ряд в произведении формируется на чрезмерности, подвигает людей на край бездны, усугубляет их ощущение обречённости. Вследствие такой ориентации автора им выбран укрупняющий проблему пространственно-временной масштаб. Он создаёт на этом основании своеобразную модель нового мироустройства, созданного по воле самих людей. На всех составляющих этого образа мира (дом – пашня – человек – птицы – животные – дети) лежит печать трагической безысходности. Здесь жизнь отмечена знаком гибельности. Пристальное внимание к «телесной оболочке» индивидуального бытия (важнейшая особенность эстетики И. С. Шмелёва), позволило 120 писателю, как в зеркале, отразить крушение привычной упорядоченности, показать, с чего начинается процесс физического и духовного уничтожения человека. Апокалипсическиабсурдная образность, взятая писателем на пределе, вводит читателя в зону шокового воздействия, отмеченную эмоционально-ошеломляющими характеристиками вещного мира: «А вы «ма-га-зи-ны»-то обследуйте! где злато и серебро, и бриллианты, и жемчуга, и ду-ши, ду-ши опустошённые, человеческие, глаза, истаявшие слезами!..» [С. 45]. Всякая вещь у Шмелёва – это не просто материальный объект, она становится знаком духовного и человеческого («В вещах ведь часть души человеческой остаётся, прилипает…» [С. 40]), иными словами, «обретает дар говорить не только о себе, но и о том, что выше её и что больше связано с человеческим, нежели с вещным»4, в частности, с человеческой трагедией: «Живут вещи в Глубокой балке, живуткричат» [С. 76]. В условиях всеобщей деформации вещи не просто меняют свои функции («мешковина на шее – вместо шарфа» [С. 38]; шкаф «со стеклянной дверцей» «нисколько не хуже гроба» [С. 40]; Евангелие, пущенное «на пакеты» [С. 63]), более того, абсурдным становится сам процесс их изготовления, превращаясь в «шокирующий знак», казалось бы, невозможной вывернутости всех человеческих отношений: «чаши из черепов человечьих – пирам веселье, человечьи кости – игрокам на счастье» [С. 18]. Символическое пространство российской «пустыни» с «голосом пустых полей», «шорохом кровавых подземелий», с её «пустынным криком» помимо природных включает изображение архитектурно-пространственных компонентов: дома и сада. Пространственная картина опустелой и «оголённой» микросреды обитания человека выстраивается с помощью бередящих душу материальных знаков всеобщей изуродованности и неестественности, воспринятых автором физически, увиденных и прочувствованных им как страдания и боль живого существа: «Смотрят в пустой песок выбитыми глазами дачи», «слепая дача, с вывернутой решеткой» [С. 14]. Образ дома связывается у Шмелёва с негативными коннотациями: калека (по В. Далю, «увечный или урод»), сирота (в словаре В. Даля: «беспомощный», «одинокий», «бесприютный», «нищий»), лачуга (у В. Даля: «хижинка, плохая избёнка»). Содержательные границы концепта «дом», включающего в свой состав представления о коренных ценностях человека, таких как Н. В. Норина уклад, семья, род, связь поколений, жизнь, в индивидуально-авторском словоупотреблении катастрофически сужаются до отрицательных признаков: «сарай-дача» [С. 128]; «Стонет на ржавых петлях болтающаяся дверца сарайчика, бухает ветром в калеке-дачке…» [С. 147]; «скворешник-гробик» [С. 136]; «гробовая крышка дома Одарюка» [С. 163]. Вечное понятие «дома», символизирующее «ось мира», для каждой отдельно взятой личности олицетворяет прежде всего погружённость в «поэзию семейную», создаваемую особого рода воспоминаниями, «портретами дорогих лиц», книгами (ныне «учтёнными» и «высланными» куда-то…» [С. 26]), интимными подробностями и деталями человеческого существования: «У нас ещё диван был, «Костей» звали… Студент-репетитор на нём спал, Костя. И «Костю» забрали… Забрали у меня, например, портрет отца-генерала… единственное воспоминание! “Генерала забрать!” Забрали! И генерал-то мирный, ботаникой занимался» [С. 40]. Писательский акцент на психологически окрашенных, «вещественных» деталях «частной жизни» человека, в которых материализована его душа, гибнущая в хаосе бессмысленного уничтожения, заостряет трагический смысл таких, например, метафор: «содраны с человеческих душ покровы», «оголённая сущность жизни». И ещё: «вдруг оборвалась громадная, веками налаженная жизнь»5. Автор последнего высказывания – И. А. Бунин, который, как и И. С. Шмелёв, писал о недопустимости для личности нового миропорядка, основанного на недооценке единичного. В парижской речи «Миссия русской эмиграции» (16 февраля 1924 года) неисчислимую меру «содеянного в России» И. А. Бунин оценивает с помощью концепта «дом», актуализируя наличествующие в его структуре общенациональный и общечеловеческий признаки «страна», «родина»: «Была Россия, был великий, ломившийся от всякого скарба дом, населённый огромным и во всех смыслах могучим семейством, созданный благословенными трудами многих и многих поколений, освящённый богопочитанием, памятью о прошлом и всем тем, что называется культом и культурою. Что же с ним сделали? Заплатили за свержение домоправителя полным разгромом буквально всего дома и неслыханным братоубийством, всем тем кошмарно-кровавым балаганом, чудовищные последствия которого неисчислимы и, быть может, вовеки непоправимы»6. В «Солнце мёртвых» непоправимые для Трагическое состояние мира в «Солнце мёртвых» И. С. Шмелева российского «дома» последствия разнузданного грабежа, «всячески прославляемого» новым домоправителем («планетарным» злодеем, по И. А. Бунину), фиксируются И. С. Шмелёвым во множестве конкретных примеров «добытого (и «добитого» – Н. Н.) дерзаньем» [С. 77]: «Заглохла ферма. Растаскивают её соседи. Там – пустота и кровь» [С. 79]; «Уходит в прошлое и калека-дачка учительницы екатеринославской, – последнюю раму кто-то вырвал…» [С. 117]; «По Михал Василичу поминки правят, старый дом растаскивают другой день. Волокут, кто – что» [С. 157]; «Уйдём… и завтра же выбьют стёкла, развалят стены, раскроют крышу, поволокут, потащат… с довольным гоготом мертвецов» [С. 158]. С «уходом» человека, пишет И. С. Шмелёв, «и виноградники, и сады, и дачи, всё – бесхозяйное, всё – пустое!» [С. 32]. Сад, как и дом, более не способен защититься и защитить от палящего природного солнца. При этом негативные признаки солнца (палящее, иссушающее, жгучее) могут быть осмыслены как реализация концептуальной связи «солнца» и «огня» в его уничтожающем значении. Сад становится пространством смерти: «Голубые глицинии давно опали, засохли тисы перед крылечком…» [С. 64]; «Гляжу на сухие грядки, – солнце и с них сползает. Да, огурцы пожухли. Поклеваны помидоры, висят кровяными лоскутками. И поливать не надо. Всматриваюсь в потрескавшуюся у ног землю» [с. 65]; «В миндальных садах пожар?..», «кипарис» «красной свечой качается… полыхает» [С. 155]. И. С. Шмелёв использует «пространственный язык для выражения непространственных понятий»7. Так, сравнение «полыхающего» кипариса с «красной свечой» символизирует гибель культурной духовности (средоточием которой выступают у писателя Дом и Сад – Н. Н.) под напором «всесокрушающего» «камня-тьмы». Не случайно Саду в авторском словоупотреблении неизменно отводится высокая ступень культурной иерархии – царство (в словаре В. Даля: весь объем творчества. Царство спасения) – в противовес всеобщему нравственному падению, обнищанию и «одичанию»: «Погибает “розовое царство”. Задичали, заглохли, посохли розы. Полезли изпод корней дикие побеги. Треснуло и осело днище громадного водоёма. Посохли сливы, и вишни, и грецкие орехи, и “кальвили”; заржавели-задичали забытые персидские деревья. ‹…› Дичает Тихая Пристань, год за годом уходит в камень» [С. 111]. 121 Образ гибнущего «живого», который является одним из концептуально важных у И. С. Шмелёва, складывается из трагического единства того, что создано человеком и что является основой его субъектной определённости, и природно-космических начал так называемого «божьего мира». Частью последнего являются, в частности, образы птиц и зверей, связанных в единую систему с образами людей. Ласковые интонации, как в разговоре с ребёнком, окрашивают сострадательное слово рассказчика, обращённое к животным (насильно отторгаемые от живого единства с человеком, звери и птицы вынуждены «своими силами» бороться за существование): «маленькие друзья мои» [С. 85]; «ласковая моя» [С. 32]; «покажи свои глазки…», «солнце моё живое», «маленькая незнайка» [С. 28]; «наша родная, собеседница кроткая, молчаливый товарищ в скорби» [С. 62]. Особо акцентированные в тексте эпизоды с участием детей и домашних животных, укрупняющие гуманистические представления писателя о норме, о пределах дозволенного (судьба ребёнка – мера людских деяний), оказываются в одном смысловом ряду, как напоминание о противостоящей Хаосу слабеющей, но не исчезающей Гармонии: «Есть ещё детские голоски, есть ласка» [С. 22]; девочка шести лет, «как индюшка, глядит на меня глазком, – ‹…› нет жмыха?! Как и Тамарка, она ещё не может понять, что случилось» [С. 68]; Павка-павлин «был такой добрый, он так доверчиво говорил…» [С. 120]; «Он ещё хотел жить, бедняга, своими силами хотел жить, – ничей» [С. 119]; «Я слышу… неистовый голос Ляли: «Ай-йу-а-ай!» – дикий, пустынный крик, похожий на крик павлина» [С. 23]. Конкретно-чувственный образ Павкипавлина («величайшее чудо жизни» – Н. Н.) поэтизируется И. С. Шмелёвым, наделяется признаками «единственного» в своём роде, исключительного по ценности существа. «Радужное опахало хвоста» «этой красивой птицы» ассоциируется у автора с «наичудеснейшим» «экраном» жизни, зеркально отражающим родовидовую уникальность природно-космического универсума. Дополнительной иллюстрацией этой мысли И. С. Шмелёва может служить пример из романа В. Вересаева «В тупике»: «Медленно ступала по траве около колодца невиданно огромная и красивая птица с огненно-красной шеей, с пышным хвостом, отливавшим зелёною чернью… Петух? Это – «просто» петух? Миллионы лет, в муках, трудах и борьбе, создавалась из первобытной слизи эта сверкающая 122 красота, – и вот шагает по траве простой петух, и никто не чувствует, во что обошелся он жизни и какой он чудесно-необычайный…»8. Своим сущностным смыслом, таящимся в «умной тишине вечности»9, Павка-павлин и другие птицы, попадающие в кругозор рассказчика в «Солнце мёртвых», активно «оформляют» его сознание, усиливают интенцию осмысленного общения с миром. Вступая с «домашней птицей» в диалог, рассказчик у И. С. Шмелёва, прежде всего, вступает в диалог со смыслом, со стихией разумно-живой жизни, явленной в «слове», и в особенности в «имени»: «Они отзываются на ласку, задрёмывают на коленях, ‹…›, разговаривают даже с нами» [С. 15]; «это наше родное, кому открываешь душу. Свидетели нашего умирания. Всё поверяешь им, и они так умеют слушать!» [С. 22]; «умная русская курочка» [С. 32]; «Это не кусок мяса: это наша родная, собеседница кроткая, молчаливый товарищ в скорби» [С. 62]. Важно при этом то, что всякий раз конкретное живое существо у И. С. Шмелёва, небезразличное повествователю в сущностном плане, выступает обладателем своего собственного имени: Павка-павлин, курочки Жемчужка, Торпедка, Жаднюха, коровы Тамарка и Рябка, коза Прелесть, «выкормок Прелести, козел-великан, стриженый, сизый и крутобокий, – и Сударь и Бубик вместе» [С. 112], кобыла Лярва и другие. Имя – основание жизни. Как писал А. Ф. Лосев, «именем и словами создан и держится мир»10. Именно поэтому единственным противодействием трагическому крушению этих последних смысловых опор, определяющих жизнь во всей её пестроте и уникальности, видится автору в «Солнце мёртвых» необходимость изо всех сил «уцепиться» словом и именем за жизнь и «не даваться» надвигающейся из далей тысячелетий «пустыне». Подобная позиция, ценностно выдвигаемая автором, была своего рода намеренным вызовом обезличивающей тенденции современности, стирающей всё, что попадало под определения «частного», «личностного», «индивидуальнонеповторимого». Наиболее ошеломляющим в плане соотношения с российской трагедией становится у И. С. Шмелёва образ «выщипанной птицы». Его смысл выходит далеко за рамки буквального значения, прикреплённого в повести к судьбе «ограбленного и забитого» Павки-павлина, у которого «отняли хвост татарские дети, вырвали» [С. 118]. Наращение значения образа происходит и в контексте собственно шме- Н. В. Норина лёвского «Солнца мёртвых» («Пропал Павка. Всё-таки оставалось что-то от прежней жизни: грустно поглядывала она глазком павлиньим…» [С. 117]) и в перекличках с близлежащими литературными мирами. К примеру, потрясающий по силе своего воздействия на читателя образ оголённого, окровавленного, но всё ещё агонизирующего «живого» запечатлевает И. А. Бунин на страницах «Окаянных дней»: «Мужики, разгромившие осенью семнадцатого года одну помещичью усадьбу под Ельцом, ощипали, оборвали для потехи перья с живых павлинов и пустили их, окровавленных, летать, метаться, тыкаться с пронзительными криками куда попало»11. Акцент на телесных слагаемых трагедии ради большей выразительности в передаче состояния душевного потрясения, эмоций боли, страха и ужаса, приводит И. С. Шмелёва, как и И. А. Бунина, к художественному воссозданию впечатляющей по силе трагизма картины планомерно-масштабного сдирания «кожных покровов» буквально со всего «живого»: растений, животных, человека. Ещё одну грань «России-мученицы» воплощают в произведении «умирающие кони» – символ «величия-ужаса трагедии» сотен тысяч русских солдат, офицеров, «под плевками, в издевках», «стоявших» за честь России, «верных долгу»12: «Как конские статуи, на рыжих горах, на черной синеве моря, – из камня, из чугуна, из меди. ‹…› Дольше всех держался вороной конь, огромный, – должно быть, артиллерийский. Он зашел на гладкий бугор, поднявшийся из глубоких балок, взошел по узкому перешейку и – заблудился. Стоял у края» [С. 34]. Образ огромного, рослого коня, «дни и ночи» стоявшего на бугре у «края» бездны, – своего рода реминисценция из «Медного всадника» А. С. Пушкина: «Куда ты скачешь, гордый конь, / И где опустишь ты копыта?» Куда, по мысли поэта, грозный монарх вёл Россию, «над самой бездной, / На высоте, уздой железной» поднявши её «на дыбы»? Для И. С. Шмелёва Пётр – «великий собиратель» России; в «великих кройках Петра» виделось писателю хоть и «мучительное, со всеми народными силами, проявление государственной мысли», но «Духом Жизни указанное в удел» российской истории13. И. С. Шмелёв убеждён: государственное разложение современной ему российской действительности – результат преступной деятельности множества недовольных русской историей, лишенных «национальной чести» «духовных босяков», для кого «Россия не существовала, как родина»14. Трагическое состояние мира в «Солнце мёртвых» И. С. Шмелева Обрыв всех связей, обеспечивавших гармоническое единство ранее «скроенного» старанием ли человека, Богом-творцом, либо «хозяйской мудростью» самой Жизни, писатель фиксирует с помощью слов со значением «рвать», «разделять на части резким движением, с силой», «отрывая, отделять»: «теоретики, словокройщики» [С. 52]; «рвёте самую память Руси» [С. 72]; «с приятным волнением читаете вы о «величайшем из опытов» – мировой перекройке жизни» [С. 77]. В кровавой кроильне истории, где выкраивается, как пишет И. С. Шмелёв, «величественное» Будущее социализма, человек оказывается всего лишь «материалом» или, по словам доктора в «Солнце мёртвых», «лабораторным матерьяльцем», идущим на изготовление чего-нибудь: «чаши из черепов человечьих», игральные «человечьи кости», «портфели из “русской” кожи», «“русский” волос» [С. 18]. Человеческие останки опредмечиваются, приобретают вещественный статус, «на манер» «курячьих перьев», засовываемых предприимчивой «кухаркой» в лукошко, становятся частью мирового товарооборота: «разлетятся всюду блестящие пёрышки выщипанной российской птицы! Вещи находят руки, а человек могилу. Теперь человек и могилы не находит» [С. 146]. Неожиданный парадокс («Теперь человек и могилы не находит»), выставленный автором в отмену вековой мудрости таких, например, народных изречений: «Мёртвый не без могилы», «Горе умереть, а за могилой дело не станет», свидетельствует о смещении представлений о пределах «страшного и противоестественного», совершаемого в отношении живых и мёртвых, домов и гробов, «брошенных, как сор», как «отбросы и шлак», равно поруганных и осквернённых. «Произошло великое падение России, а вместе с тем и вообще падение человека», – констатировал И. А. Бунин, подразумевая под этим вопиющим фактом «величайшее в мире попрание и бесчестие всех основ человеческого существования»15. И. С. Шмелёв в «Солнце мёртвых» изображает людей затравленных, уничтоженных страхом: «одичали, затравлены… всюду кровь» [С. 83]; «Не с кем говорить стало… Боятся говорить! И думать скоро будут бояться!» [С. 140]. Мрачная «шизофреническая» реальность нового мироустройства, начисто отвергающего значимость индивида, превращает человека в «человечье» подобие – «огородное чучело», отпугивающий внешний облик которого вызывает у зрителей естественное чувство 123 ужаса. То и дело читаем: «угрюмый», «слабый», «босая», «замызганная», «унылая», «больная», «оборванка», «драная», «рваный», «грязный», «боится», «дрожит», «ковыляет», «идёт-колышется», «плетётся», «идёт-мотается». «Лицо» смертельно больного, изувеченного голодом человека становится лейтмотивной портретной деталью, создающей в тексте сюрреалистический эффект визуального шока: «с напряжённым лицом без мысли, одуревшая от невзгоды» [С. 14]; «все тощают, у всех глаза провалились и почернели лица» [С. 25]; «Лицо испитое, желтое, глаза ввалились. С такими лицами выходят из больницы после тяжкой болезни» [С. 29]; «опухшее желтое лицо – лицо округи» [С. 82]; «Лицо… – сносилось его лицо: синегубый серый пузырь, воск грязный» [С. 104]; «его, кисель киселём лицо» [С. 136]; «У всех лица – мертвецов ходячих» [С. 160]. Путь «дальнейшего сопротивления» грозит человеку «лишь бесплодной, бессмысленной гибелью»16: «Сгорел доктор. Ушёл в огне. Сам себя сжёг… или, быть может, несчастный случай?.. Теперь не страшно. Доктор сгорел, как сучок в печурке» [С. 156]. В кошмаре надвигающейся на человека бездуховности с присущей ей противоестественной свободой от всего («… теперь нет души, и нет ничего святого» [С. 69]) жизнь, как «разумное проявление бытия», теряет свой смысл: «Не могу осмыслить. Или я одичал, разучился думать? Разучился мыслить?! А для чего теперь нужно мыслить!» [С. 23]; «Я хочу оборвать последнее, что меня вяжет с жизнью, – слова людские» [С. 30]. Сокрытием «живых энергий бытия» в бездне абсолютной тьмы оборачивается для человека уничтожение «мысли-слова», сдирание покровов со всех таинственных его глубин. Гибель живого организма слова начинается, по мнению И. С. Шмелёва, с разрушения его физической оболочки – «определённой совокупности» «членораздельных звуков, произносимых человеческим голосом»17: «Теперь люди говорят срыву, нетвёрдо глядят в глаза. Начинают рычать иные» [С. 22]; «И этот воющий голос – голос человечий? и рык-зык, этот?!» [С. 60]. Писатель в «Солнце мёртвых» настойчиво акцентирует внимание читателя на процессе катастрофического замещения «стихии разумного общения живых существ в свете смысла и умной гармонии»18 общением в раздражении, «неутолимой злобе», аффекте: «Останутся только разумные?! Останутся только дикие, сумеют урвать последнее» [С. 127]; «последние слова-ласки втоптаны 124 сапогами в ночную грязь» [С. 69]. Автор точно обозначает причину всеобщего «онемения» и духовной парализованности: «Чуть слово какое – по-двал!» [С. 105]. «Распад, разрушение слова, его сокровенного смысла, звука и веса»19 делает принципиально неосуществимым акт самосознания человека, существующего по «образу» и «подобию» сущности, цель которой – движение от растительного и животного организма к высшей разумности живого существа: «Провалиться с таким треском, с таким балаганным дребезгом, кинуть под гогот и топот и рык победное воскресение из животного праха в «жизнь вечно-высоко-человеческую», к чему стремились лучшие из людей, уже восходивших на белоснежные вершины духа, – это значит уже не провалиться, а вовсе не быть!» [С. 51]. Насильно выброшенный за пределы смысла человек, физически искалеченный голодом, «онемелый», с «позеленевшим лицом» [С. 64], «без мысли-слова» и «без имени», являет собой величайшее откровение и выражение распадающегося на глазах, истребляемого бытия: «Он смотрит неподвижно, как уже не сущий» [С. 55]. И. С. Шмелёв, по сути, создаёт трагическую модель мира, в котором всё живущее Словом и свидетельствующее о нём подвергается бессмысленному уничтожению. Примером кощунственного стирания следов «высшей разумности человека» в земном бытии становится изъятие и уничтожение книг, являющих, по мысли автора, итог огромной эволюции человечества, достигшего уровня культурной духовности: «Приказали описывать и отбирать книги… Соберут и пошлют куда-то…» [С. 27], «Читать книги? Вычитаны все книги, впустую вышли. Они говорят о той, о т о й жизни… которая уже вбита в землю. А новой нету… И не будет. Вернулась давняя жизнь, пещерных предков» [С. 26]. Слово, оказываясь на службе у «хватких ловкачей», притязающих на мировое владычество, делается пустотелым, «заборным», нужным лишь для того, чтобы «замазать глаза рабам», «наглухо забить» им уши [С. 77]. Таковы «черные», «проклятые» «слова-приказы» [С. 37]; «слова, лозунги и программы, требующие неумолимо крови» [С. 90]; «подмывающие слова», «громкие побрякушки», «куча гремучих слов, проданных за пятак беспардонно-беспутными строкописцами» [С. 77] (Ср. у И. А. Бунина: «Тон газет ‹…› – высокопарноплощадный жаргон, – всё те же угрозы, остервенелое хвастовство, и всё так плоско, лживо Н. В. Норина так явно, что не веришь ни единому слову»20). Обрыв этой связи становится опасной обезличивающей чертой исторически нового состояния реальности, вызывающей тревогу не только у писателей, но и философов-современников. Без слова и имени, предостерегал А. Ф. Лосев, человек «принципиально анти-социален ‹…›, следовательно, также и не индивидуален, не-сущий, он – чисто животный организм или, если ещё человек, умалишённый человек»21. Именно в таком обезличивающем ракурсе предстают у И. С. Шмелёва творцы «новой» жизни, «теоретики, словокройщики», рвущие «самую память Руси», стирающие «имена-лики»: «Ялта, сменившая янтарное, виноградное своё имя на… какое! Ялта… солнечная морянка, издёвкой пьяного палача – Красноармейск отныне! ‹…› Злобой неутолимой, гнойным плевком в глаза – тянет от этого слова готтентота» [С. 72]. По степени жизненности смысловой образ Ялты, любовно выраженный в авторском сознании и слове, неизмеримо выше и значительнее тех навязываемых оголтелым временем чужеродных словесных замен, смертоносную сущность которых осмыслить и понять невозможно. И, наконец, (воспользуемся чрезвычайно метким выражением В. Вересаева) – «редкий случай феноменального сумасшествия расы»: «Самое имя («отчизны» – Н. Н.) взяли, пустили по миру, безымянной, родства не помнящей» [С. 72]. «Похоть зла», «отныне» воцарившаяся и заключившая весь мир в свои оковы, лишила человека чувства приобщённости к мировой гармонии, ослабив тем самым и его веру в силу молитвенного Слова, напрямую обращённого к Богу. Под натиском «вывернутости внечеловеческой», в которой – «страшная пустота, ничто»22, живое общение с Богом оборачивается мучительными размышлениями о Нём: «Бога у меня нет: синее небо пусто» [С.16]; «Вам не кажется, что всё небо в мухах? Мухи всё, мухи…» [С. 52]. Верующему человеку больше неоткуда черпать силы для жизни из-за отсутствия в ней несомненных признаков Бога: «смысла и умной гармонии», «душевной мудрости в людях» [С. 85]. Обрыв связующих с Богом нитей, грозящий Жизни полным провалом и пустотой, воплощается в «Солнце мёртвых» в кощунственном стирании ликов Священного – в образах поруганных и осквернённых святынь: колокола («целый мир», по И. С. Шмелёву, «пир звонный»23 – Н. Н.) «сменяли на спирт подвальный» [С. 59], в «Проповеди Нагорной продают камсу ржавую на базаре, Евангелие Трагическое состояние мира в «Солнце мёртвых» И. С. Шмелева пустили на пакеты…» [С. 63], «на Кресте – бутылка» [С. 76]. Отсутствие прямой обращённости к Богу через молитву делает ненужной и саму эту молитву: «Сегодня я забыл – «Отче наш»! Три часа вспоминал – не мог!» [С. 45]; «Вы представьте только, что все, все забудут, как читается «Отче наш»?! Помойка ведь надвигается. И уходит из этой помойки – в ничто!! Досадно. Досадно, что я, как я теперь есть, не имею логического права верить! Ибо, как после такой помойки поверишь, что там есть что-то? И «там» обанкротилось» [С. 51]. Обрыв этой высшей духовной связи, которая одна лишь даёт человеку силы бороться и противостоять вселенскому злу, делает его абсолютно беззащитным и беспомощным перед напором этого зла. По мысли И. С. Шмелёва, если «ушла душа – смерть неизбежна всему тленному»24. И это, по мнению писателя, касается не только частной жизни отдельного человека, но и «жизни всеобщей», как «предмета “философии Истории“», которая «уже подошла к провалу и вот-вот провалится…»25. Итак, к физическому и духовному уничтожению человека – жертвы хаотического движения Истории – И. С. Шмелёв подходит с точки зрения бытийной значимости: в представлении писателя бессмысленное разрушение предметной и природной среды обитания человека, одухотворённой присутствием его неповторимой индивидуальности, равно как и посягательство на уничтожение Духа, грозит гибелью основам самого мироздания. Эстетическая форма оксюморона, в которую облекается заглавный образ произведения, отражает взаимодействие предельных противоположностей – Космоса как духовной упорядоченности живого мира и грозящего уничтожить его кровавого Хаоса российской истории. С одной стороны, лейтмотивный образ-символ Солнца связывается И. С. Шмелёвым с апокалипсическими идеями, трагическое мировосприятие писателя расширяется до пределов Вселенского катастрофического крушения, с другой же стороны, в экстремальной ситуации края бытия автор, чувствуя отсутствие Бога, страстно ищет Его – спасителя мира и души человеческой, гаранта непрерывности духовной жизни («Чаю Воскресения Мёртвых!»). Примечания См: Азадовский, К. М., Бонгард-Левин, Г. М. Встреча [вступ. ст.] // Константин Бальмонт 1 125 – Ивану Шмелёву / Письма и стихотворения. 1926–1936. М. : Наука : Собрание, 2005. С. 14. 2 Ивченко, Е. Г. Художественные искания И. С. Шмелёва : публицистический аспект : дис. … д-ра филол. наук. Краснодар, 1998. С. 177. 3 Шмелёв, И. С. Солнце мёртвых : эпопея. М. : Скифы, 1991. С. 123. Далее ссылки на это издание – только с указанием страницы. 4 Грек, А. Г. Православный быт в творчестве И. С. Шмелёва как художественно-эстетическая категория // И. С. Шмелёв и литературный процесс накануне ХХI века : материалы междунар. науч. конф. Симферополь : Таврия-Плюс, 1999. С. 58. 5 Бунин, И. А. Окаянные дни // Собр. соч. : в 6 т. Т. 6. Тёмные аллеи. Рассказы (1931–1952). Окаянные дни. М. : Сантакс, 1994. С. 346. 6 Бунин, И. А. Миссия русской эмиграции // Там же. С. 409. 7 Лотман, Ю. М. Дом в «Мастере и Маргарите» // Ю. М. Лотман. О русской литературе. СПб. : Искусство-СПБ, 2005. С. 752. 8 Вересаев, В. В тупике; Сестры: [Романы] / предисл. В. Лидина; подг. текста, послесл., примеч. В. Нольде, Е. Зайончковского. М. : Кн. палата, 1990. С. 35. 9 Лосев, А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Самое само : сочинения. М. : ЭКСМО-Пресс, 1999. С. 368. 10 Лосев, А. Ф. Философия имени // Там же. С. 153. 11 Бунин, И. А. Окаянные дни… С. 397. 12 Шмелёв, И. С. Публицистика // Шмелёв И. С. Собр. соч. : в 5 т. Т. 2. Въезд в Париж : рассказы, воспоминания. М. : Рус. кн. : Известия, 2004. С. 427. 13 Там же. С. 451. 14 Там же. С. 464. 15 Бунин, И. А. Миссия… С. 409. 16 Там же. С. 406. 17 Лосев, А. Ф. Философия… С. 47. 18 Там же. С. 153. 19 Бунин, И. А. Окаянные дни… С. 373. 20 Там же. С. 334. 21 Лосев, А. Ф. Философия… С. 57. 22 Ильин, И. А. Собрание сочинений : переписка двух Иванов (1947 – 1950) / сост. и коммент. Ю. Т. Лисицы. М. : Рус. кн., 2000. С. 270–272. 23 Там же. С. 42. 24 Там же. С. 275. 25 Там же. С. 357.