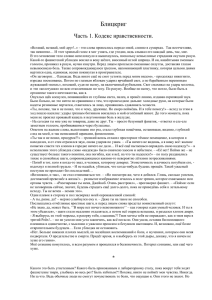БЕЛЫЙ ВОРОН Литературный альманах
реклама

Литературный альманах БЕЛЫЙ ВОРОН Екатеринбург – Нью-Йорк Межсезонье 2013 BELYJ VORON 2013/5(13)/ OFF-SEASON Literary Magazine Copyrights © 2013 by Auden Wystan Hugh, Barna Vladimir, Berford Tatiana, Betaki Vasiliy (successors), Bezem Naftali, Bochenkova Olga, Boldirev Nikolay, Borodin Vasiliy, Bukowski Charles, Choe Chiwon (최치원), Coppée François Édouard Joachim, Cortázar Julio, Dario Ruben, Dickinson Emily Elizabeth, Ellmann Richard David, Ducic Jovan, Emelin Valentin, Epifanov Petr, Ermak Denis, Geller Dmitriy, Giorgio di Marosa, Ginsberg Irwin Allen, Gordejchuk Anna, Heidenstam von Carl Gustaf Verner, Heinesen William, Heo Cho (혜초), Ilyin Vladimir, Jahier Piero, Kazarin Juriy, Kim Ben Hak (김병학), Komkov Oleg, Ko In (고은), Kowit Steve, Krotkov Andrey, Li Meng (李萌), Li Stanislav, Lesmian Boleslaw, Levchin Rafael, Lishianskij Ilia, Lovecraft Howard Phillips, Markelova Olga, Michkovskij Oleg, Molodyj Vadim, Mueller Lisel, Nikulina Maja, Pavlov Aleksandr, Paterson «Banjo» Andrew Barton, Parra Josefa, Pereleshin Valeriy (successors), Pessoa Fernando António Nogueira, Pizarnik Alejandra, Plath Sylvia, Poljakova-Sevostyanova Irina, Pound Ezra Weston Loomis, Reshetov Aleksey (successors), Rilke Rainer Maria, Rebora Clemente, Ryu Ok (여옥), Ryzhiy Boris (successors), Ser Ijo (설요), Service Robert William, Slepukhin Sergey, Slepukhina Evdokia, Smirnov-Sadovskij Dmitriy, Storni Alfonsina, Stus Vasil, St. Vincent Millay Edna, Teasdale Sara, Ten Pep-sa (정법사), Ungaretti Giuseppe, Valek Miroslav, Van Hyo Rem (왕효렴), Vernikov Aleksandr, Vitkovskij Evgeniy, Walcott Derek Alton, Yuri (유리왕), Zeldovich Gennadiy. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any means, including information storage and retrieval systems, without permission in writing from the Publisher and/or the Author, except by a reviewer who may quote brief passages in a review. Еditorial board: Evdokia Slepukhina, Tatyana Krasnova, Aleksandr Kuzmenkov, Evgenia Perova, Vadim Molodyj, Maria Ogarkova, Chief Editor: Sergei Slepukhin Picture on the cover by Dmitriy Geller (Moscow). “The Rain in the Autumn Night”, the illustration to the poem by Choe Chiwon (최치원). Ink, pen. 2013 Book design and logotype by Evdokia Slepukhina ISBN 978-1-304-70242-5 Eudokia Publishing House eudokiya@gmail.com Printed in the United States of America 4 ВАДИМ МОЛОДЫЙ. БЕЛЫЙ ВОРОН – ИНОСТРАНЕЦ. Слово редактора 6 ВЕРНЕР ФОН ХЕЙДЕНСТАМ. ДЕРЕВО ФОЛЬКУНГОВ. Фрагмент романа, перевод со шведского О. Боченковой РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ. ПИСЬМА ИЗ МЮЗОТ. Перевод с немецкого О. Мичковского ГОВАРД ФИЛЛИПС ЛАВКРАФТ. ДЕРЕВО. Рассказ, перевод с английского Д. Ермака ВИЛЬЯМ ХАЙНЕСЕН. МУХИ. Рассказ, перевод с датского О. Маркеловой. 22 61 64 80 84 88 98 99 110 113 116 117 118 120 123 125 133 143 148 ФЕРНАНДО ПЕССОА. АНТИНОЙ. Перевод с английского В. Перелешина, рис. В. Бородина ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ГЛАЗАМИ ИТАЛЬЯНСКИХ ПОЭТОВ. «ЗАЧЕМ?» Перевод с итальянского П. Епифанова, рис. С. Слепухина РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ. СОНЕТЫ К ОРФЕЮ. Перевод с немецкого Н. Болдырева, рис. С. Слепухина ЙОВАН ДУЧИЧ. ТРЕПЕТ СТРАННЫЙ. Перевод с сербского О. Комкова, рис. С. Слепухина МИРОСЛАВ ВАЛЕК. УПРАЗДНЕНИЕ СТАТУЙ. Перевод со словацкого Р. Левчина, рис. В. Бородина ВЛАДИМИР БАРНА. АНГЕЛ СЛОВА. КАТРЕНЫ. Перевод с украинского В. Ильина ПОЭТЫ США. НА ГРАНИ. Перевод с английского В. Емелина ОКОНЧАНИЯ. Перевод с английского А. Павлова ВАСИЛЬ СТУС. А ЗЭК ТАНЦУЕТ... Перевод с украинского В. Бетаки РОБЕРТ СЕРВИС. ИЩА ЗОЛОТУЮ ЖИЛУ Перевод с английского Е. Витковского, рис. В. Бородина ЭНДРЮ БАРТОН «БАНДЖО» ПАТЕРСОН. ВДОЛЬ РЕЧУШКИ МУКИ-РИВЕР… Перевод с английского А. Кроткова ПОЭЗИЯ ИСПАНИИ, АРГЕНТИНЫ, УРУГВАЯ. «ХОЧУ ЛЮБВИ ЖЕСТОКОЙ...» Перевод с испанского А. Гордейчук, рис. В. Бородина РУБЕН ДАРИО. РАКОВИНА СЕРДЦА. Перевод с испанского И. Поляковой-Севостьяновой СТИХИ ПОЭТОВ КОРЕИ. ПРОЛИВНОЙ ДОЖДЬ Перевод с корейского С. Ли, рис. В. Бородина, Д. Геллера БОЛЕСЛАВ ЛЕСЬМАН. ЗАПОЗДАЛАЯ ВСТРЕЧА Перевод с польского Г. Зельдовича, рис. В. Бородина ФРАНСУА КОППЕ. НА ВОЗДУХЕ И В КОМНАТАХ Перевод с французского Т. Берфорд, рис. В. Бородина ГОВАРД ФИЛЛИПС ЛАВКРАФТ. ГРИБЫ С ЮГГОТА. Перевод с английского О. Мичковского рис. Е. и С. Слепухиных 156 FOUR POETS FROM THE URALS. The poems translated into English by A. Vernikov 164 ИЛЬЯ ЛИСНЯНСКИЙ. КОВЧЕГ ПРОРОКА (художник Нафтали Безем, Израиль) Эссе 178 ДМИТРИЙ СМИРНОВ-САДОВСКИЙ. СТРАННИК ДУХА. Эссе 186 202 ЛИ МЭН. ИСТОРИЯ ОДНОЙ КНИГИ. Эссе. Перевод с китайского – автора. ЕВГЕНИЙ ВИТКОВСКИЙ. АПОСТЕРИОРИ. Эссе 224 3 Уважаемые читатели, перед вами первый номер Белого Ворона, посвященный литературному переводу. Позвольте начать с пространной цитаты: «Один мудрый поэт сказал, что стихи надо переводить, как прозу, только гораздо лучше. Что же, прозу надо переводить, как стихи, только намного хуже? Я не согласен. Хорошую прозу, как и хорошие стихи – одинаково трудно перевести. В искусстве нет ничего легкого... Когда берешься за поэта, его надо сначала выдумать по-русски, потом смешать в пробирке, скажем, 10% Бунина, 5% Ходасевича, 40% Клюева... И заставить работать эту смесь как некоего синтетического поэта; если она синтезируется, а не останется аморфной водичкой, то этот поэт оживет под другим именем... Точность в переводе невозможна. Знаменитый спор о том, что лучше – чтобы было по-русски лучше или точнее – аморален: если по-русски плохо, то и предмета для спора нет. Вначале по-русски должно быть хорошо...» (Из интервью Е. В. Витковского Елене Калашниковой) Итак, что же такое адекватный поэтический перевод? Упрощая проблему, можно сказать, что переводчик всегда балансирует между красотой перевода и его точностью. Иногда бывает, что перевод прекрасно написан и красив, но не имеет ничего общего с оригиналом. А иногда перевод дословно воспроизводит оригинал, но его невозможно читать. Найти золотую середину необыкновенно трудно, но, почти всегда, возможно. Почти всегда, потому, что есть поэты, которых пока еще никому не удалось по-настоящему перевести. Переводчик не обязательно является поэтом, пишущим оригинальные стихи. Есть великие переводчики, не написавшие в жизни ни одной собственной строки, но благодаря их подвижническому труду, читатель, не знающий, к примеру, испанского и французского языков, может наслаждаться гением Лорки и Бодлера. Для меня абсолютным авторитетом в оценке качества перевода является Евгений Владимирович Витковский. Я не буду перечислять всего, что сделал этот человек для русской культуры – это потребовало бы отдельной статьи, скажу лишь, что созданный и руководимый Витковским «Век перевода» – это лучшая школа, о которой может мечтать любой переводчик. Что касается переводов самого Витковского – почитайте его Сервиса и Пессоа. Думаю, что никакие комментарии и дифирамбы здесь не нужны. Вадим Молодый, редактор 4 МЯТЕЖНЫЙ КАРАНДАШ ДЕРЕВО ФОЛЬКУНГОВ (Роман, отрывок. Перевод со шведского ОЛЬГИ БОЧЕНКОВОЙ) 1. Над узким заливом, черной лентой петляющим между островами, высилась скала, издавна служившая ориентиром мореходам и рыбакам. На самой ее вершине был насыпан высокий холм, под которым некогда похоронили деву-воительницу, — сидящей на белом каменном троне, в полном вооружении и с прислоненным к плечу копьем. Много могильных камней, покрытых рунами, обветренных и поросших мхом, виднелось еще между соснами, и не было вблизи старого кладбища ни дорог, ни торжищ, ни крестьянских дворов. Зимой здесь гулял лишь ветер. О том, что эта местность не забыта человеком, свидетельствовало разве несколько кораблей, выволоченных на берег и заботливо укутанных ельником и берестой. В месяце Йойе, в самом начале весны, на побережье появлялись викинги. Они приезжали на санях с топорами, пилами и тесом. И тогда торговцы расставляли вокруг могилы девы свои палатки. Несколько недель здесь царило оживление, как на тинге, стучали топоры, а в котлах кипела смола. Наконец викинги спускали корабли на воду и выходили в море, после чего этот край снова становился безлюдным. Однажды вечером, в самом конце осени, с моря подул сильный ветер. Отброшенные им чайки, словно вороны, прыгали по земле. Небо даже в час заката оставалось серым. И когда в расщелине среди туч показались первые созвездья, на насыпанный над девой холм вышел карлик, с ног до головы одетый в лисий мех. Это был финн Йургримме. За спиной у него висел шаманский бубен, а на серебряной цепи, служившей поясом, болтались привязанные каменные топорики и ножи. Он встал спиной к морю, словно вслушиваясь в доносившиеся из глубины берега голоса, а потом наклонился вперед, подняв руки с выставленными большими пальцами, и во весь голос прокричал в землю: — Слышишь ли? Слышишь? Ныне заплачут женщины в Фёресвалле! Далеко до Фёресвалля, семь дней пути. Но никогда не слышал я такого громкого плача! Порывшись в мерзлой траве, карлик сорвал несколько сухих веточек, после чего снова выпрямился и прислушался. — Ударь же в свой щит, дева холма! Пробуди сородичей от смертного сна! Ныне трясутся половицы под жертвенным камнем в главном святилище свеев. Это Ас-Тор гневается на нас. Смилуйся, смилуйся над нами, живущими! Тем временем на море все отчетливее проступали силуэты кораблей. Сейчас уже ясно был виден их ровный ряд, наклоненные вперед мачты и раздутые паруса. Вот заревел рог, перекрывая 6 шторм, и три корабля устремились по направлению к берегу. Остальные, окутанные облаками снежной пыли, продолжали путь на восток, намереваясь обойти мыс. Это были крупные военные суда, числом двадцать два, и теперь они всей силой начертанных на парусах смертоносных рун, раскрашенных деревянных драконов с зияющими пастями, ощетинившихся вепрей и взбешенных быков боролись с морской стихией. Им нужно было добраться до бухты Сигтуны до ледостава, а некоторым и дальше, к поросшим тростником илистым берегам Ароса. Там встретят их сытно дымящиеся жертвенники, и жрицы спустятся к самой воде с ветками священного уппсальского дерева, чтобы окропить их дракары кровью. Ничего сейчас не хотели викинги, как этого. И не существовало подводного рифа, способного воспрепятствовать их стремлению. Они дали себе клятву ни при каких обстоятельствах не отклоняться от намеченного курса. На носу среднего из трех отделившихся кораблей красовалась голова Фрейи. Обросшая сосульками самых невероятных размеров и форм, она больше походила на тысячерукое морское чудовище, потому кормчий, перерубив топором обледенелые канаты, забросил ее под лавку, чтобы не пугать владыку прибрежных вод. Корабль носил имя Менглёд, другой испостаси юной богини, о чем возвещали и руны на его парусе. Вдоль его бортов уже были выставлены щиты — счастливый знак скорого возвращения. Однако несмотря на это, настроение у команды, состоявшей, ко всему прочему, из золотоволосых жителей южных лесов, славящихся своим жизнелюбием, было отнюдь не радужное. Команда роптала, и кормчий, тыча пальцем в направлении залива, то и дело подбадривал людей крепким словцом. Даже рулевой, не сводивший глаз с окутанной снежным туманом скалы, огрызался все громче и развязней. Таков был обычай гётов с побережья. В открытом море они слепо повиновались своему хёвдингу, но стоило завидеть вдали очертания родного берега, как спешили излить на него все накопившееся за время пути недовольство. Они сочиняли песни, на манер героических, но с самыми оскорбительными сравнениями, какие только приходили им на ум. Кричали, что никогда еще пара дубовых досок не осквернялась ношением такой жирной туши, что ни один дракар на свете не украшала еще голова столь тупого борова. Он единственный молчал, стиснув зубы. Недавний повелитель, ставший посмешищем, хёвдинг и морской король, Фольке Фильбютер. Он присел на перевернутую бочку в дальнем углу кормы. Только в таком положении его фигура не превышала средний человеческий рост, хотя едва доставала до плеча великанурулевому. Украшающее шлем крыло морского орла еще больше вытягивало ее. Тем не менее хёвдинг выглядел недостойным своего почетного места, потому что в изрядно потрепанном орлином крыле сильно недоставало перьев, из дыр на кожаной куртке пробивался мех, а косые и крупные стежки, которыми были приторочены многочисленные заплаты, свидетельствовали о том, что одежду он чинит себе сам. Его плечи были широки, но покаты. Вся сила казалась сосредоточенной в жилистых руках, почти целиком голых. В сумерках русые волосы выглядели почти белыми и закрывали подбородок и щеки, придавая его облику нечто женственное. Однако стоило ему повернуться — и за отливающими серебром прядями обнаруживалось обветренное и угрюмое, испещренное морщинами лицо. Сейчас глаза хёвдинга блуждали поверх шхер, где неугомонные морские души спорили за лучшее место под негреющим стальным солнцем, или вглядывались вдаль в поисках подходящей льдины, чтобы отплыть на ней на зимовье в море. Иногда до него доносились их проклятья и стоны, и тогда он смешно вздрагивал и ёжился. Кормчий, дикого вида берсеркер, почти плашмя улегся на штевень, высматривая мели в успокоившейся воде. Не ослабляя внимания, он завел руку за спину и провел ладонью по темени сморщенного седовласого старичка, сидевшего на корме со скрещенными вокруг мачты ногами. — Скажи ты, раб, — проговорил он, не оборачиваясь. — Это ты готовил нам еду и следил за запасом воды. Ты хорошо делал свое дело и от силы раза три получил взбучку. Но мы ни разу не слышали, что ты думаешь о хёвдинге. Ныне пришло твое время. Моего красноречия хватает разве на то, чтобы назвать его свиньей. Найди более изысканное сравнение — и я признаю твою победу. Раб послушно скорчил подходящую к случаю гримасу и постучал по мачте пальцами, словно трогал струны арфы. Красиво изогнутый мясистый нос с красными прожилками выдавал в ней жизнелюбивого уроженца юга. Смешно скривив губы, как деревенская девушка, попробовавшая клюквы, он издал носовой звук, прочищая горло, повернулся к команде и запел: — Хороша была наша Фрея в светлых волнах Ниёрвы1. Видели мы и горы Голубой земли2, и играющих в воде чернокожих женщин. Но ничего не замечал наш хёвдинг, и даже самый искусный воин не мог соблазнить его поединком. И когда мы плевали в рот матери Христа, он отталкивал нас в сторону, чтобы снять с ее пальцев перстни. Ничто не заботило его, кроме золота и серебра. Он явился к нам издалека и думал только о возвращении. Не смог он забыть, что и отец, и дед его пахали землю. Хорошее наследство получили бы его дети, если бы мог он их иметь. 1 2 Ниёрва — Гибралтарский пролив. Голубая земля — древнескандинавское название Северной Африки. 7 — Мы и не знали, какой скальд среди нас! — восхищенно развел руками кормчий. Ободренный раб возвысил голос: — Принес нас ветер к поганому берегу Юрсалаланда1, и тут-то наш хёвдинг округлил глаза. Он увидел мельницы, что приводятся в движение ветром. Столько муки — успевай мешки подставлять. Никогда не слышал он о таком чуде. Говорил о нем всю дорогу, не давая нам спать. Слышишь ли, хёвдинг? Теперь ты дома. Давай же, мучной король, принимайся за дело! — Примусь, не бойся! — отозвался Фольке, поднимаясь с бочки. Сейчас он уже имел право ответить. — Не вы ли жители южных лесов, чьи дома обсыпаны мучной пылью? Жаль, что сейчас не лето, иначе я бы отсюда слышал, как шумят колосьями нивы в Эстергюллене. И правда, кормчий, этот старик больший выдумщик, чем ты. Веселье на борту стихло, сменившись приглушенным бормотанием. Двое мужчин переглянулись и первыми сошли в воду, чтобы, согласно обычаю викингов, на плечах отнести Фольке Фильбютера на берег. Там он поднялся на холм, широко шагая и не обращая внимания на все еще возившегося возле могилы карлика. Достав из кармана горсть земли, Фольке бросил ее в сухую траву. А потом стал на колени и заговорил, обращаясь к той, что восседала там, внизу, на белом каменном троне: — Отправляясь в плаванье, я взял на счастье частичку твоего праха, и ты немало помогла мне. Нищим ушел я из отчего дома, где слишком много таких теснилось по лавкам. Бесприютен скитался я, словно гагара в осеннем небе. Ни разу не осушил я рога под закопченным кровом и не спал на мягких подушках. Но семь городов сжег я в королевстве франков. И теперь я богат и могу купить себе землю. Я устал, и мне наскучило море, которое с такой неохотой оставляют мои люди. Они — рабы его, и у них своенравный хозяин. Рабы — те, кто жаждет только славы или женской ласки. Я — единственный свободный человек на этом корабле, потому что не люблю ни женщины, ни моря, и ничего под этим солнцем. Скажи, о дева холма, когда ты в последний раз видела такого свободного человека? Когда стоял на твоей могиле такой счастливец? Вот шлем и меч — последние знаки моего рабства, и я жертвую их тебе. Чтобы идти туда, куда я хочу. Чтобы в покое считать свои годы. Чтобы каждое утро выходить к своей волчьей яме и забирать добычу. Чтобы день-деньской щуриться на солнце на торфяной скамье и слушать, как растет хлеб. Фольке воткнул меч в землю и повесил на его рукоятку шлем, оставшись с непокрытой головой. — А я говорю, лучше тебе вернуться на свой корабль, — возвысил визгливый голос карлик. — Я говорю тебе, хёвдинг, если ты землепашец и ищешь мира, беги. Ныне сойдут на землю боги, чтобы отобрать достойное семя. Ни красота, ни благородство не прельстят их, но полюбится им то, что даст самые крепкие ростки. Из него поднимется дерево, в чьей кроне будут играть бури и прятаться звезды. Широко раскинется оно и покроет собой все живущее. Не только людей, но и боевых коней в стойлах, и быков с их плугами, и диких зверей в лесах. Все узнают вкус росы с его листьев и запах капающей с них крови. Так говорили мне нынче ночью высокородные асы. Оглянулся Фольке Фильбютер и, сомкнув руки в замок, положил их на голову карлика. — Не оплакивай живых, колдун, занимайся-ка лучше мертвецами. Не богам я верю, а только силе своих рук. Долог путь до Фёресвалля, но мне не нужна их земля. А теперь, люди, несите мешки, кости и весы. Поделим добычу, пока не стемнело. Последние лучи заходящего солнца извивались на глади моря светящимися червячками. Люди снова вошли по колено в воду. Ветер гудел на холме, закладывая уши, поэтому они почти не слышали приказов своего хёвдинга, скорее обо всем догадывались по его жестам. Обычно по возвращении их корабль был до отказа набит тюками с оружием, пряностями, украшениями и тканями. На этот раз на борту находился всего один мешок, зато очень большой и доверху полный монет, драгоценностей, золотых и серебряных слитков. Его поднимали на берег почти всей командой. Фольке Фильбютер сорвал печать и погрузил ладони в содержимое мешка. Некоторое время он медлил, просеивая монеты между пальцами, точно крестьянин зерно. Потом взял весы и принялся отмерять полагавшуюся каждому долю. Часть людей осталась внизу заниматься кораблем. Каждый, кто выбрасывал не менее пяти очков, получал столько золота, сколько мог зачерпнуть зараз обеими руками. Последним получил свою долю кормчий. После того как были заполнены все баулы и пазухи, Фольке Фильбютер сгреб оставшееся и с большим трудом взвалил мешок на спину. — Доброму хёвдингу полагается хорошее вознаграждение, — заметил он. И побрел между могилами, словно бродяга с котомкой за плечами. Ноша оказалась настолько тяжелой, что время от времени он отдыхал, опершись на испещренные рунами камни. — Слушай же, хёвдинг! — снова закричал ему вслед визгливый карлик. — Я вижу, как братья отпирают ворота в храме в Уппсале и как люди с факелами выбегают во двор. Я вижу старика с мертвыми глазами в хижине на соломе. Ныне умер последний король из рода Ивара Видфамне2. 1 2 Юрсала — древнескандинавское название Иерусалима. Ивар Видфамне (Ивар Широкие объятья) — полулегендарный правитель древнескандинавских земель. 8 2. Вот уже две ночи блуждал Фольке Фильбютер по лесам, где на тропинках уже лежал снег тонким слоем. В светлое время суток викинг прятался в зарослях, опасаясь разбойников, и спал, крепко обнимая свой мешок. На исходе третьего дня он расположился на пригорке, так густо поросшем березовым молодняком, что земля под ним оставалась черной. Фольке лег под ветками, свернувшись калачиком, и, подперев щеку рукой, смотрел на белый солнечный диск, который то куда-то плыл, оставаясь на месте, то вдруг неожиданно менял цвет и дрожал, словно отражался в воде. У Фольке с утра не было во рту маковой росинки. Он взял на язык немного снега, но тот лишь ожег ему гортань и раздразнил жажду. В конце концов рука Фольке затекла, и он опустил голову, прижав ухо к земле. Веки его отяжелели, но слух — единственное, что продолжало в нем бодрствовать, — обострился до предела. Сквозь сон ему почудился странный гул, доносившийся будто из-под земли. Викинг поднял голову, но продолжал его слышать. Потом он различил мягкий, ритмичный топот и странный звук, будто снежная крупа стучала по натянутой шкуре. Наконец в нос ударил едкий кисловатый дымок. Фольке снова закрыл глаза, так и не успев как следует проснуться, и подумал о том, что ему снится кузница и мирное человеческое жилье. Но потом мысль о сокровищах пронзила мозг, как слепящий солнечный луч. Он снова схватился за мешок и встряхнулся. Решив выяснить происхождение странных звуков, Фольке осторожно пополз по пригорку. В одном месте он заметил, что дым стал гуще и что именно он заставлял солнце дрожать и менять цвет. Ладонь Фольке легла на что-то мягкое, в то время как вокруг вся почва была усеяна хвоей и колкими веточками. Мех! Откинув его в сторону, викинг обнаружил узкий лаз, ведущий в освещенную землянку. Там было полно дыма, из-за которого он не мог различить ничего, кроме тлеющих под котлом поленьев да прыгающих по земляному полу мохнатых ног. В конце концов в дальнем углу, за кучами охотничьих принадлежностей и обглоданных костей, он разглядел пару рук на фоне желтеющего барабана. Время от времени в такт этим осторожным, одними ногтями, ударам, танцующие повторяли какие-то слова. И тогда по землянке пробегал похожий на порыв ветра свистящий шепот. Фольке снова задернул полог и решил убраться подобру-поздорову и не испытывать судьбу. Но не успел он снова закинуть мешок на свою ноющую спину, как одна из женщин, не выбиваясь из ритма, заговорила на понятном ему языке: — Отец, отец, я слышу, как воет Лунный Пес. Лунный Гарм1 хочет поглотить бледное зимнее солнце. Наполни мой рог, отец, я изнемогаю. Сдвинулась тяжелая глиняная крышка, и послышался плеск воды. Не в силах больше сдерживать жажду, Фольке рывком откинул полог. В лицо ему ударил едкий дым, сквозь который он разглядел двух молодых женщин, которые смотрели в его сторону, взявшись за руки и не переставая ритмично раскачиваться. Заметив незваного гостя, девушки разом отпрянули и прижались к стене с выпученными от ужаса и налитыми кровью глазами и скрещенными на груди тоненькими желтоватыми ручонками. Обе были совершенно голые и обуты в меховые унты. На крохотных запястьях сверкали браслеты из прозрачного белого камня. Потом с кучи обглоданных костей в углу пещеры поднялся мужчина, судя по всему, в возрасте, хотя заплетенные в косички волосы оставались черными как смоль. Он отложил барабан в сторону и заговорил, прищелкивая языком на манер финнов-карликов: — Зачем ты пришел к нам, странник из народа асов? Это большое зло. Сверкнули его глаза, наполненные слезами. У Фольке запершило в горле, но карлик не дал ему ответить. — Это место не для таких, как ты. Разве ты не знаешь, чужак, что наш танец длится до полного изнеможения, пока мы не упадем и не заглянем за край земли? Тогда мы видим Одноглазого, Бога источника2, который рассказывает нам о том, что происходит, и открывает будущее. И сегодня ему было бы о чем нам поведать. Так что тебе нужно, оружие или украшения? — Для меня это не более чем пригорок с каменистой землей, — отвечал Фольке как мог громко. — А если это священное место, оно не может быть осквернено добрым делом. Я голоден и умираю от жажды. Все что мне надо — глоток воды из вашего рога. Выйди сюда, старик, и сам посмотри, может ли безоружный человек с мешком за плечами причинить вам зло. — И на каменистых пригорках каждое лето зеленеет новая трава, — сказал карлик. — Какая прорастет в этом году — о том мы хотели спросить Одноглазого. Не разузнать ли нам заодно у него, милые дочери, что носит этот чужеземец в своем мешке? Фольке вздрогнул и отодвинулся в сторону. — В мешке у меня тряпки да старые сапоги, — пробурчал он, — а безоружный человек для бродяг — верная пожива. Далеко ли до ближайшей деревни, старик? 1 2 Гарм — в германской мифологии огромный пес, охраняющий вход в Хелльхейм, царство мертвых. Одноглазый бог источника — Один, по преданию, пожертвовавший глазом, чтобы испить из источника мудрости. 9 — Странные у тебя тряпки, если так гремят, — спокойно заметил карлик со слезящимися глазами. — Капли чужого пота у тебя в мешке, викинг. Тяжкий груз — награбленное, а до ближайшей деревни тебе еще идти и идти. Но карлику не место среди землепашцев. Он не помнит ни отца, ни матери и просто живет в лесу со своими дочерями. Зловещие созвездья стояли на небе всю нынешнюю осень, и это пугает его. Добрый, добрый король правил нами. И крепкого был он здоровья, когда отправлялся на тинг, увенчанный серебряным венцом благословенной старости. В самых глухих лесных уголках слышали мы, как гремят щиты, воздавая ему славу. Никому не делал зла Эмунд, потомок богов. Спокойно курились хижины карликов, и те, кто жертвовали Тору и Фрейе, находили у него защиту. За это христиане прозвали его поганым, а мы, остальные, мудрым1. Ныне умер добрый Эмунд, и вот что я скажу тебе, чужак: он не оставил сына. — Все-то вы, карлики, знаете, — отвечал ему Фольке Фильбютер. — А с тобой мы уже встречались, это ты стоял на холме девы. Показал бы ты мне тогда кратчайшую дорогу, не скитался бы я голодный трое суток. Какое мне дело до того, кто правит в Уппсале? Король — гость, что приглашает к столу хозяина и пирует за его счет. И отец, и дед, и братья мои были храбрыми мужами, но ни один не продал себя на королевскую службу. А теперь подай мне рог, карлик. — Или ты никогда не слышал о сокровище, что хранится в пещере старого Йургримме? — продолжал карлик, не слушая его. — Знаешь ли ты о Гарме, волке-псе, что хочет поглотить луну? Когда-то древний мастер взял бычий рог и пропел над ним заклинание. Потом натер его соком болиголова, от которого теряют разум, одел в драгоценную оправу и назвал в честь Лунного Пса. С тех пор рог передает свою силу тому, кто пьет из него. И человек, подобно Лунному Псу, хочет поглотить луну и звезды. Мастер так испугался своей работы, что спрятал Пса в дупле старого дерева. Там пчелы облепили его воском и наполнили медом. Но старый Йургримме нашел Лунного Пса по велению своих богов. Это из него хочешь ты утолить свою жажду. — Твои боги заботят меня так же мало, как и лунные псы. Йургримме приблизился к нему. Рог оказался тупой и короткий, с металлическим кольцом вокруг основания и деревянным наконечником на противоположном конце. К нему были приделаны неуклюжие железные лапы, похожие на собачьи. — Никогда не оскорбляй богов, странник, — сказал старик, протягивая Фольке Лунного Пса. — Мы, карлики, знаем об этом больше, чем ты. Чем дальше мы бежим от людей в леса, тем чаще видим богов и разговариваем с ними. Они живут в каждом источнике, каждом дубе и каждом венке омелы на нем. Есть они и в медовой браге, и в петухе, что приветствует солнце каждое утро, и в рыбе, что стоит в реке пониже порогов. Пастухи могут рассказать тебе о добродушном Торе, скрывающемся в расщелинах скал со своими козами. Завидев нас, он в гневе бьет молотом по камню, так что с наших поясов сыплются каменные топорики. Но мы подбираем и храним его обереги. Тому, кто захочет угождать всем богам, ни на что больше не останется времени. Поэтому мы, карлики, выбрали камень. Из него рождается то, что мы любим больше всего на свете: золото и серебро. И я спрашиваю тебя, чужак, разве не прекрасно ступать по земле, кишащей божествами? Что скажешь, чужак? Или тебе смешна мудрость старого Йургримме? — Мне смешна мудрость старого Йургримме. — ответил Фольке. — И я могу достойно заплатить за твой живительный напиток. Что ты за него хочешь, карлик? — Мы, карлики, ничего не хотим, — отвечал Йургримме, — потому что нам надо слишком много. Но мы знаем, что в этом мире принадлежит нам, и своего не упустим. Еще там, на скале, я привязал тебя к себе, начертав на земле тайные знаки. Вот поэтому ты в конце концов и пришел в моей пещере. Бери же и пей! От тебя не приходится ждать большой опасности, потому что ты не христианин. Но помни, если поклоняющийся Христу утолит жажду из этого рога, то возжелает не только луну со звездами, но и все невидимое глазу, что связано с этими светилами. Бойся такого человека! Фольке взял рог и с удовольствием выпил кисловатый напиток. Тем временем карлик отвязал от пояса каменный нож и незаметно сделал надрез в углу его мешка. — Мне понравилось твое можжевеловое варево, — сказал викинг, возвращая рог. — Если тебе ничего от меня не надо, благодарю и желаю здравствовать. С этими словами он снова взвалил мешок на спину и продолжил путь. Вскоре за деревьями заблестело озеро с поросшими тростником берегами. За ним пошли одиночные крестьянские дворы, обрабатываемые поля и луга. Фольке заметил, что его мешок стал легче. На пологом склоне с редкими голыми дубами викинг обнаружил заброшенный хлев без дверей и присел отдохнуть на высокий, как скамейка, порог. Здесь он снял с плеч свою ношу и обмер, заметив, что угол мешка сморщился, как высохшее яблоко. 1 Речь идет о шведском короле Эмунде Старом, правившем ок. 1047 г. В оригинале – Den gamle – старый, однако в устаревшем значении слова, – мудрый. 10 Нащупав пальцем небольшую дырку, Фольке понял, что часть драгоценного содержимого осталась на дороге. Тогда он перевязал место пореза веревкой, снова взвалил мешок на плечо и поспешил к пещере карлика. Однако на этот раз в ней никого не оказалось. Лишь кучка золы осталась на месте костра. Усталый и злой пустился Фольке в обратный путь. По дороге ему удалось подобрать лишь несколько монет, большая часть пропажи сгинула, спрятанная под снегом до следующей оттепели. Лишь к вечеру успел он снова добраться до заброшенного хлева. Гнев и обида быстро отступили перед свойственной ему крестьянской расчетливостью, и Фольке успокоился. — Почему должен викинг, словно бездомный бродяга, скитаться в поисках пристанища? — спросил он громко, будто обращаясь к кустарникам и деревьям на пригорке. — Места здесь много и земля хорошая. Я построю здесь хутор и назову его Фолькетюна, и вы, карлики, станете моими рабами. 3. Пятеро признанных знатоков закона указали Фольке землю в лесу, и он так обрадовался ей, что не отверг даже бесполезного болотца с краю. В присутствии свидетелей уплатил викинг причитающееся бывшему владельцу, Ульву Ульвссону, а тот немедля переплавил полученное в маленькие серебряные столбики, которые закопал в тайном месте. Вот что сделал Фольке, прежде чем взять во дворах огонь и начать выжигать и выкорчевывать под пашню лес. В те времена не было в стране свеев и гётов ни бродяг, ни нищих. Те, кто ничего не имел, жили при богатых дворах и оставались довольны. А на севере были еще охотничьи племена, что поклонялись воинственному богу Ти и блюли старый закон. Он позволял оставлять при себе отнятое силой и половину украденного, а вот попрошаек велел убивать на месте. Оседлые крестьяне давно уже смотрели на него как на дикость, однако горячих голов хватало везде. Им-то и не давала покоя слава о богатствах Фольке Фильбютера. Поэтому к его двору стекался народ. Многие нанимались работниками, но большинство добровольно отдавалось в холопство. Вскоре Фольке обзавелся внушительным отрядом охраны, который ночами грелся у костров на огнище. А у подножья холма выросла просторная изба, сложенная из крепких дубовых бревен и утепленная еще зеленым мхом. Летом подсыхающие стены трещали, словно в них гнездилось множество сверчков с крепкими, как древесина, челюстями. В избе Фольке не было ни хозяйского кресла со столбами, ни кровати, устланной шкурами. Хозяину оказалось довольно длинной скамьи у очага да охапки сена на утоптанном земляном полу. Он мог бы купить и ковры, и резные чаши, однако для начала приобрел двенадцать белых кур да красного петуха. Вскоре появились козы и овцы. Для всей этой блеющей, мычащей и кудахтающей братии Фольке соорудил загон в одном из углов своей просторной избы. Дверь в сени он всегда оставлял приоткрытой для безопасности. Притолока ее располагалась так низко, что входящему даже при среднем росте приходилось сильно нагибаться. И если им оказывался враг, у хозяина оставалось время встретить его ударом сучковатой дубинки, которая на этот случай всегда лежала на скамье. Постепенно Фольке обзавелся амбарами и прочими хозяйственными постройками. Потом на конюшне появились низенькие мохнатые лошаденки, а в хлеву замычали пегие коровы. Щеки Фольке округлились и раскраснелись, как у жены, что имеет привычку дольше положенного задерживаться возле своих молочных крынок. Голос приобрел особую зычность и глубину, а в руках по-прежнему чувствовалась сила, способная своротить шею медведю. Каждое утро, лишь только в домашнем загоне голосил петух, выспавшийся хозяин Фолькетюны поднимался со своей соломы. Он начинал день с осмотра волчьей ямы, а потом — поскольку та каждый раз оказывалась пустой — отправлялся к работникам на поля. Ни разу еще рука раба не коснулась большого плуга, в такой чести держал его Фольке. Он сам доил своих коров и ухаживал за лошадьми и быками и пах, как пастух. С рабами он обращался мягко, потому что они были как волосы на его темени и кожа на его запястьях. Напротив, Фольке считал делом своей хозяйской чести хорошо одевать и сытно кормить их. Вероятно, они простили бы ему и побои, и голод, потому что по-своему любили хозяина. Они хотели видеть в нем человека значительного, а никак не ровню себе и только больше гордились бы им, если бы он справил своему коню роскошную сбрую с колокольчиками, обил бы стены дома дорогими тканями и застелил кружевной скатертью стол, за который им не суждено было сесть. Презрительные усмешки на лицах гостей раздражали дворню, вызывая недовольство и едва ли не ропот. Однако Фольке твердо стоял на своем и ничего не желал менять. Иногда через лес проезжали купцы с халландской солью, которая сильно дорожала неспокойные времена. А случалось им иметь при себе большие сокровища, Фольке мог послать своих людей на грабеж. Так прирастало его богатство. Убитых сбрасывали в болотце, мимо которого и сам он проезжал не иначе, как в сопровождении верных людей и средь бела дня. Тора, Фрею, Одина и Христа викинг хулил одинаково и ни во что не верил. Однако найденный в лесу каменный топорик бога молнии, из тех, что носят на поясах карлики, подобрал и повесил на дверь, дабы тот хранил его от пожара. И еще, тайком, чтоб не видели рабы, нанял одного христианина почитать заклинания над большим плугом. Фольке полагал, что в таком серьез- 11 ном деле, как бережение дома, хозяин должен испробовать все возможные средства. Ни дождь, ни снег не могли помешать его кровавым жертвоприношениям в день Тора. Фольке даже построил себе некое подобие маленького храма. Его святилище стояло в дубовой рощице и хорошо просматривалось с дороги: совершенно круглое, из вбитых в землю столбов, крытое провалившейся берестой и с замшелыми идолами внутри. Стоило Фольке разглядеть недобрые предзнаменования во внутренностях жертвенных животных, как его тут же охватывал суеверный страх. И тогда его охрана всю ночь жгла факелы и не смыкала глаз. Но лишь только в отверстии дымохода мелькали первые лучи солнца, Фольке снова обретал уверенность в себе на следующие семь дней. И рабы видели все это. Они старались повиноваться своему хозяину со всем смирением, на какое только были способны, однако ни трепета, ни почтения к нему не испытывали. В то утро, направляясь по своему обыкновению к волчьей яме, Фольке Фильбютер перекинул через плечо лопату и сказал рабам, косившим неподалеку траву: — Велика моя Фолькетюна, много в ней плодородной земли и все устроено разумно. Одна только яма зря занимает место и ни разу не приносила мне добычи. Не засыпать ли нам ее, дети? — Я думаю, — отвечал староста, который считался главным среди рабов, — это было бы не слишком умно. И на пустом берегу можно однажды найти красивую раковину. А старая скотница, которая командовала женщинами и держала ключи от кладовых, тоже хотела что-то сказать, но не решалась, и заговорила, лишь встретив вопросительный взгляд хозяина: — Уже отсюда ты можешь видеть, что хворост, которым присыпана яма, разбросан. Сегодня у тебя есть добыча. Но я хочу предупредить: если эта раковина и покажется тебе красивой, берегись, как бы не порезать об нее пальцы. Фольке удивился и, вскинув лопату, как топор, готовый обрушиться на голову неизвестного врага, крадучись приблизился к яме. Но когда разбросал ветки и заглянул в нее, настороженность на лице сменилась беззаботной веселостью, так что Фольке даже покраснел, как будто его прошиб хмель. — Кривоногий Ас-Тор! — вскричал он, опуская лопату. — Вот так улов! Некоторое время он молчал, словно погруженный в раздумья. Никогда еще рабы не видели его таким. Лето стояло в самом разгаре. В воздухе висли тяжелые шмели, двор пестрел цветами, а поле уже волновалось золотыми колосьями пшеницы. Где-то там, у озера, стоял одинокий рыбак с гибкой удочкой из обугленного на костре дубового прута. Люди осторожно окружили яму. Только старая скотница все еще держалась в стороне и смотрела на них из-за ели. Там, на дне, сидела финская дева, маленькая и хрупкая, и испуганно тянула вверх тощие ручонки. Фольке узнал ее сразу, хотя лицо ее и было наполовину прикрыто мехом. Это была одна из дочерей карлика, что танцевала тогда в пещере в одних только унтах, звеня браслетами. Теперь бусы из такого же прозрачного камня, несколько раз обернутые ее вокруг ее шеи, сверкали в ее лисьей шубке, как дождевые капли на солнце. В карих глазах, тогда безумных и наполненных кровью, теперь стоял спокойный блеск, как на поверхности лесного озера. Однажды Фольке видел ее во сне: она разламывала в руках эти прозрачные бусины, словно щелкала орехи, и из каждой выползала маленькая черная гусеница с рогом на лбу. — Если мне не изменяет зрение, — сказал Фольке, — ты украсила свой пояс монетами, которые я некогда обронил в снег. Как видишь, я не скор на расправу, в чем в чем, а в этом вы, карлики, обвинить меня не можете. Как же ты попала туда? — Я заблудилась ночью в лесу, — заскулила она, прищелкивая языком и жестикулируя пальцами на манер финнов. — Никто не слышит плача лесной дочери, никто не поможет ей, если она упадет в яму, а сама она слишком мала, чтобы выбраться наверх. И тут к толпе рабов приблизилась скотница. — Она такая ласковая, малышка, и ладно сложена, — заметила старуха, глядя на пленницу, — но ты не должен слушать ее, хозяин. Карлики никогда не говорят правду. Когда кто-нибудь из них видит рыжую лису, то обязательно назовет ее белой. Что-нибудь здесь да не так, будь уверен. Я достаточно наслышана и о Йургримме, и о его пещере. Если бы он хотел честно продать тебе одну из своих дочерей, то явился бы с ними к тебе на двор. Коли возьмешь ее в дом, попомнишь еще мои слова. Много зла принесет тебе дочь Йургримме. Фольке продолжал думать, опершись на лопату. — Или я, по-вашему, до конца дней своих обречен торчать здесь один да любоваться вашими закопченными рожами? — спросил он наконец. — Что касается нас, дворовых, — возразила ему скотница, — я знавала господ познатней тебя, что не гнушались взять к себе в постель рабыню. В иных поместьях не встретишь девки, у которой за спиной не орал бы младенец в корзине. Так уж повелось здесь, в лесу. — У меня рабыни довольствуются пучком соломы в углу, — отвечал ей Фольке. — Оставь ее, пусть сидит в яме, — продолжала старуха. — Она знает руны, которые лучше всякой лестницы помогут ей выбраться наверх, если она того захочет. Мы, рабы, тоже думаем о чести двора. Пусть ты не молод, зато богат, и любой из соседей с радостью отдаст за тебя дочь. Фольке повернулся и пошел прочь. Видя это, остальные тоже начали расходиться, чтобы снова приступить каждый к своей работе. 12 — А я слышал о гордых крестьянских дочерях, что ложатся на скамейку вместе со своими братьями, а от мужа только и требуют, что ключей от кладовых, — бормотал он, шагая по лугу. Ближе к обеду Фольке вернулся в избу. Все это время он не переставал думать о дочери карлика и вспоминал то свой сон, то ее танец в пещере. Но была еще одна мысль, которая волновала его едва ли не больше: дворовые впервые воспротивились ему и вздумали давать советы. Такова была их благодарность за доброе отношение и новую одежду, что выдавал он им каждую осень. Быть может, именно этим и объяснялось его упрямство. Тут Фольке заметил, что люди снова оставили свои обычные занятия и собрались возле ямы с лопатами, и кликнул старосту. — Мы решили, что будет лучше зарыть яму вместе с ней, — сказал ему тот и запнулся. — А то золото и серебро, что висит у нее на поясе, мы откопаем следующим летом. Фольке Фильбютер уселся за стол, где уже дымилась миска с кашей. Он набрал полную ложку и подул на нее, краем глаза наблюдая за толпой. Рабы ждали старосту и, когда тот, не торопясь, приблизился, стали совещаться. При этом они ходили по краю ямы, время от времени заглядывая в нее. Староста же указывал в сторону дома. По-видимому, он уговаривал их подождать и дать хозяину закончить с едой, но люди были чем-то взволнованы и проявляли нетерпение. — Что сделала я вам плохого? — причитала из ямы девушка. — Найдите в лесу моего отца, он дорого за меня заплатит. Каменный глаз, каменный лоб, бог у порогов! Умасумбла, помоги мне! — Теперь тебе не помогут твои каменные боги, — ласково улыбнулся ей староста. — Лучше закрой глаза и пригнись, так оно для тебя пройдет быстрее. Рабы раскидали сучья. Их спины, и без того вечно скрюченные, согнулись еще больше. Кожаные передники затрещали. И вскоре ничего не стало слышно, кроме тихого плача из ямы, стука лопат да шороха смешанной с песком земли, которой дворовые засыпали могилу несчастной лесной девы. 4. Вдоволь насытившись, Фольке Фильбютер отодвинул миску и вышел во двор. — Мы решили зарыть ее, хозяин, — сказал староста, поправляя висевший на поясе кнут. — И ты сам будешь нам за это благодарен. Не удостаивая его ответом, Фольке заглянул в яму. Теперь из земли торчала лишь голова девушки да рука, которую она вытянула вверх, словно ища помощи. Фольке схватил ее ладонь, горячую и потную, и выдернул пленницу на свет божий, а потом, не разжимая пальцев, как куклу, понес ее в избу и посадил на солому в углу. После этого Фольке направился к своему сундуку. Кроме множества висячих замков и запоров он имел окантовку из тяжелого серого камня, так что сдвинуть его с места было под силу лишь нескольким крепким мужчинам. На некоторое время Фольке задумался, перебирая украшения и драгоценные слитки. Потом выбрал золотую цепь и перебросил ее через потолочную балку возле очага. Цепь состояла из множества изящно переплетенных звеньев и была украшена жемчужинами разной величины, а ее застежка светилась в полумраке горницы голубым, как вечерняя звезда. — Как тебя зовут? — спросил Фольке. — Меня зовут Дочь Йургримме, — отвечала пленница. Он ласково потрепал ее по голове. — Не печалься, маленькая лесная дева. Отныне ты останешься со мной, в Фолькетюне, и тебе больше не придется скоблить лисью шкуру себе на платье. Пусть эта цепь висит перед твоими карими глазами. Она — последнее, что ты будешь видеть, засыпая на соломе каждую ночь, и первое — просыпаясь. А если покажешь себя умницей, сможешь когда-нибудь снять ее с балки и считать своей. И тогда дочь карлика вытерла слезы и стала приживаться в Фолькетюне. Вскоре ее больше не тянуло в лес. Лишь изредка, ясными звездными ночами, убегала она к сестре, ворожить и плясать. И каждый раз приносила с собой несколько монет, из тех, что Фольке когда-то обронил в снег, а потом подобрали карлики. Деньги она ссыпала в хозяйский сундук, и дворовые постепенно начали привыкать к ней, потому что она несла в дом богатство и никогда не бывала грустна. Наконец возле частокола, которым был отгорожен участок с избой и сараем, все чаще стали замечать старого Йургримме. Иногда он появлялся здесь с другой своей дочерью, и оба стояли у самых ворот, надвинув на глаза меховые шапки, чтобы одолжить в хозяйском доме котел или обменять штуку домотканого полотна на битую лесную птицу. И тогда жена Фольке бросала требуемое в траву, а сама тут же убегала в избу вместе с другими рабами и запирала дверь. Карлики же, совершив обмен, тут же исчезали в лесу. Иногда Фольке наблюдал за ними через дымовое отверстие в крыше и, будучи в настроении, мог пустить им вслед пару стрел. На следующее лето она родила ему сына. И тогда Фольке взял ее на руки и поднял к потолочной балке, чтобы она сама смогла снять себе золотую цепь. В тот день дочь Йургримме лежала на соломе и играла с младенцем и подарком мужа, а уже на следующее утро хлопотала возле очага 13 и чистила котлы. Ее место по-прежнему было среди рабов, и она не имела ни связки ключей, ни плаща, полагавшегося свободной жене. Мальчика назвали Ингемунд. Мать никогда не давала ему грудь и кормила выбитой из вареных костей сердцевиной. Потом у нее родился Халльстен, а на третье лето — Ингевальд. Дочь Йургримме часто брала детей в лес. Сначала она носила их в корзине за спиной, а потом поставила на лыжи. И вскоре сыновья Фольке шныряли в окрестных чащах наперегонки с волками. Достигнув отроческого возраста, все трое явились к отцу, который принял их, сидя на скамье в горнице. Фольке спросил, не желают ли они бросить жребий, кому владеть Фолькетюной, или предпочтут наняться к кому-нибудь на службу, по примеру других юношей из богатых крестьянских дворов. Он захотел испытать их, и Ингемунд с Халльстеном тут же показали отцу свое искусство. Оба принесли ему по три дюжины собственноручно изготовленных стрел, а потом по разу метнули сучковатую дубину Фольке, да так, что та, перелетев через всю горницу, приземлилась во дворе в траву. Только младший, Ингевальд, оказался неуклюж и обнаружил ловкость лишь при разгадывании загадок да в умении ответить на любой отцовский вопрос. — Хорошо же, дети, — рассудил хозяин. — Ты, Ингевальд, как самый молодой и слабый, останешься со мной и будешь кормиться за моим столом, покуда я не умру, а потом унаследуешь Фолькетюну. А вы, двое, откройте сундук и возьмите оттуда, сколько нужно каждому, чтобы набрать команду в полсотни человек да справить оружие и кольчугу. Там, в заливе, возле Холма девы, стоят три моих корабля, и среди них один, посвященный Менглёд. Все они сделаны из крепкого дуба и хорошо проконопачены, вам остается лишь подновить их. Как человек темный, я не буду давать вам никаких советов. Не стану и препоручать вас каким-либо богам, поскольку вы увидите многих и ни один из них не поможет, когда вам изменит собственная рука. Ступайте же и остерегайтесь приближаться ко мне, если вернетесь ни с чем, пусть даже и застанете меня на смертном одре. И вот Ингемунд с Халльстеном отправились к восточному заливу, а Ингевальд остался дома. Мать баловала его и наряжала в разноцветные тряпки, по обычаю карликов, но он обтачивал колья и плел корзины из ивовых прутьев вместе с дворовыми, а вечерами сидел с ними у очага и чесал шерсть да слушал их неспешные разговоры. Он жил в их мире, перенял их задумчивую угрюмость и оставался рабом до мозга костей. Любимым развлечением Фольке были холопские свадьбы. Он устраивал их сам от нечего делать и выбирал пары посмешнее. Вот и на этот раз Фольке решил выдать замуж старуху Туву Соломенная подстилка, что, по своей дряхлости, целыми днями стонала за перегородкой в овчарне, а в женихи ей назначил молодого парня по имени Кальв. Староста согнал дворовых и выстроил их для свадебного танца друг напротив друга с пучками травы в руках. Он редко бил их, когда они работали, потому что, подражая хозяину, хотел быть милостив с ними. Но во время игр и праздников их нельзя было расшевелить иначе, кроме как щелкая кнутом по жилистым икрам и плоским ступням. — Тува! Тува! — кричал Фольке, смеясь затуманившимися от слез глазами. — Уж не думала ли ты отлежаться в овчарне, когда твое брачное ложе устлано соломой? Иди же, повеселись с нами! Или нет, подожди, Тува. Скажи-ка нам для начала, правда ли, что когда-то тебя, молодую и глупую, викинги похищали друг у друга с корабля на корабль ради твоих белых рук? Старуха стояла посреди круга и задумчиво чесала лоб скрюченными пальцами. — Ты стесняешься говорить об этом, Тува? — продолжал, раззадорившись, Фольке. — Или, может, боишься своего жениха, такого молодого и горячего? Если так, скажи нам, по крайней мере, правда ли, что ты дочь могущественного фризского конунга? — Его я не помню, — помедлив, отвечала старуха. — Зато я помню молодую женщину, мою мать, и узкое окно в каменной стене, через которое она рвала для меня вишни. — А я думаю, что это правда! — веселился Фольке. — Твоя невеста знатного рода, Кальв. Кроме того, она ласковая и скромная. Ну-ка, шевелите ногами! Подбодри-ка их! — кричал он старосте. — Пригладь жениху пятки! Ну-ка, ну-ка! Ингевальд вжался в стену, где стояли самые робкие, которых даже плетка не могла выгнать на середину горницы. Некоторые с непривычки маялись без работы и от нечего делать то обметали с полок пыль, то перевешивали котлы с крючка на крючок. Перепуганные куры с кудахтаньем метались из угла в угол, так что в воздухе кружились перья, опилки и солома. Внезапно солнечный луч, пробившись сквозь плотную завесу пыли и мусора, пал на грубые, сморщенные лица, и так же быстро исчез. Старая скотница уже подала миску с медовой кашей и вытирала рог, собираясь в кладовую за сладостями, когда староста вдруг устремился к Фольке, расталкивая гостей локтями. — На лугу чужой вол, хозяин, — сообщил он. — Потому что все наши заперты в хлеву. — Твоя правда, — кивнул Фольке, показывая на приоткрытую дверь, за которой уже виднелась выкрашенная в голубой цвет повозка. 14 Запряженный в нее вол лоснился от чистоты и сытости и приятно пах. На вожжах болтались кисти, а хомут был украшен разноцветной резьбой, изображающей цветы и листья, и множеством маленьких позвякивающих колокольчиков. Бросив вожжи, из повозки выпрыгнул мужчина, чьи ноги были до колен крест-накрест перемотаны белыми лентами, с окладистой седой бородой во всю грудь и умными, ясными глазами. Именно их и увидел Фольке в первую очередь, когда, согнувшись в три погибели, мужчина прошел в низкую дверь и с удивлением оглядел горницу. Куры, на которых он наткнулся с порога, испуганно разбежались вдоль стен, а дворовые так и застыли с пучками травы в руках, не соображая дать дорогу незваному гостю. Ему тоже потребовалось время, чтобы разглядеть в полумраке и пыли Фольке Фильбютера, все еще сидевшего на скамье с дымящейся миской на коленях. — Ульв Ульвссон приветствует тебя, сосед, — обратился к Фольке пришелец. Он нахмурил брови, вместо того чтобы усмехнуться, как обычно делали чужаки при виде жилища Фольке, и остановился поодаль, неприветливо глядя хозяину в глаза. — Если помнишь, это у меня ты купил большую часть своей обширной земли. С тех пор мы не виделись. И вот я решил навестить тебя, Фольке Фильбютер, и хочу загадать тебе одну загадку. Скажи-ка мне, что за муж, над которым все насмехаются, вместо того чтобы бояться, как бешеного медведя, и почитать, как ярла? Фольке воткнул ложку в горку крупы. — Ингевальд, Ингевальд, сын мой, подойди-ка сюда, — позвал он. — Яви нам быстрый ум, покажи, что ты сын своей матери. Твой отец не мастер разгадывать загадки. Только не мямли, как когда говоришь с рабами. Не робей, Ингевальд. Назови-ка нам человека, над которым все насмехаются, вместо того чтобы бояться, как медведя, и почитать, как ярла. Ингевальд прижался к подпирающему потолок столбу, однако вскоре стряхнул смущение и вышел вперед. От матери он унаследовал живые карие глаза и желтоватый цвет лица. В его ушах покачивались серебряные серьги, а к рубахе было пришито множество ярких лоскутов. Юноша стыдливо опустил голову, однако глаза выдавали, как нравилось ему быть в центре всеобщего внимания. Не без кокетства выступил он к очагу и дерзко ответил: — Это Ульв Ульвссон, что незван вломился на свадьбу, да еще поспел к самому угощению. Сосед прикусил губу. — Хорошая загадка имеет несколько ответов, — сказал он. — Меня оскорбили в твоем доме, но я стерплю и это, Фольке Фильбютер. Я и сам явился сюда не для того, чтобы воздавать тебе честь. По правде сказать, не похоже, чтобы здесь праздновали свадьбу. Я не вижу ни венков в углах, ни цветов на полу. Зато постоянно натыкаюсь на кучи мусора, а у двери чудом не вывихнул ногу. Потолочные балки снаружи черны от копоти, зато изнутри хорошо выбелены куриным пометом. Еще я слышал, на свадьбах принято обивать стены цветным полотном, между тем развешенные на них телячьи шкуры издают такой запах, что с порога отбивают и жажду, и вкус к угощениям. И ты сидишь здесь и мучаешь своих рабов, в то время как при твоем богатстве мог бы стать первым человеком в округе. Вот что имел я в виду в своей загадке, если это еще надо объяснять. Нет ни одного торговца, который за глаза не смеялся бы над тем, как ты пыхтишь над своей кашей. Фольке слушал и чувствовал, как слова соседа заполняют его голову и уши, но они не доходили его сознания. Где-то в глубине души он понимал, что Ульв Ульвссон пришел дать ему добрый совет, однако жизнь научила его не принимать подарков, которые самому ему казались подозрительными. Они лишь вызывали у него стыдливое смущение. До сих пор он считал себя первым хозяином в округе, и ему было неприятно столкнуться с человеком, чье превосходство над собой он не признать не мог. Ульв Ульвссон все еще стоял у дверей, ни на шаг не приблизившись к Фольке. — Почему я никогда не видел тебя на тинге, как других богатых хозяев? — продолжал он. — Нам нужны люди. Или ты не знаешь, что творит ярл Стенкиль после смерти Эмунда? Вместо того чтобы пить во славу старых богов на винтреблоде1 в Уппсале, он, потупив глаза, бормотал христианские заклинания. — Ярл Стенкиль не подкует мне лошадь и не будет стричь моих овец, — отвечал на это Фольке. — И здесь, в Фолькетюне, правлю я, а не какой-то там худородный ярл. Ты все сказал, Ульв Ульвссон? — Нет, не все. — Ну так говори быстрей, потому что до меня плохо доходят местные новости. — Хорошо же, слушай следующую новость, — вздохнул Ульв Ульвссон. — Вчера у нас в округе появился первый нищий. — Я не понимаю тебя, сосед. — Вчера здесь появился человек, который ходит по дворам и просит еды. Фольке Фильбютер вскочил, красный от негодования. 1 Винтерблод (Мидвинтерблод) — праздник зимнего жертвоприношения. 15 — Позор слышать такое! Приведите же мне этого бродягу, и я научу его ходить за плугом. Или его хозяин так скуп, что не кормит и не одевает его? — Об этом ты сможешь спросить его сам, если только пожелаешь разговаривать с попрошайкой, — ответил Ульв Ульвссон. — Только помни, какой штраф полагается за убийство чужого жреца. Это единственное, что заставляет нас щадить христиан. Сейчас он на пути в Фолькетюну, и я торопился как мог, чтобы опередить его. Не думай, что стараюсь ради тебя. Полагаю, ты и без меня знаешь, сколько положить в его суму. Но скажу тебе прямо: времена настали плохие, и таким, как мы, лучше держаться вместе… А вот, вижу, и он бредет через лужайку, легок на помине. В этот момент все дружно повернулись к двери. На пороге в лучах солнечного света возник старик с сучковатым посохом в одной руке и небольшой котомкой в другой. Его рубаха была подпоясана грубой бечевкой, и он так решительно шлепал по земле босыми ногами, словно боялся куда-то опоздать и потому избегал ненужных задержек в пути. Старик вышел на середину горницы и начал просто и без лишних предисловий: — Подайте милостыню ради Иисуса Христа Сына Божиего. Меня зовут Якоб. Или вы до сих пор ничего не слышали о старом Якобе? Я прошу у вас не ради себя, но ради моего Господа. Я буду доволен и куском хлеба, но если ты богат, хозяин, отдай десятую часть того, что имеешь, а если праведен, отдай все. — Ингевальд, сын мой, — позвал Фольке срывающимся от гнева голосом. — Или это не моя земля? А если моя, то когда здесь такое было, чтобы кому-нибудь что-нибудь давали, ничего не беря взамен? Возьми же у старика котомку и дай ему два удара палкой: один за него самого, а другой за его господина, который так плохо кормит и одевает его, что вынуждает попрошайничать. Ингевальд выступил вперед и выхватил у нищего котомку. В ней лежало несколько монет и перстней и кусок сухого хлеба. Протянув хлеб Якобу, Ингевальд привязал котомку с оставшимся содержимым к своему поясу, после чего размахнулся и стукнул старика по спине палкой. Юноша вложил в первый удар столько силы, что его не хватило на второй, который получился вялым. Ингевальд смутился, однако в следующий момент он был ошарашен по-настоящему, потому что старик ухватил его за шею и звонко поцеловал в обе щеки. — Благодарю тебя, сын мой, за то, что дал мне возможность пострадать за моего Господа. Благословляю вас всех, братья мои, и люблю. Я с радостью остался бы здесь, чтобы рассказать вам о своем Господе, но я вижу, сейчас не лучшее время для проповеди. С этими словами Якоб покинул дом так же решительно, как и вошел в него, чтобы продолжить свое странствие. От боли на его глазах выступили слезы, но лицо сияло, словно он только что испытал самую большую радость в жизни. На мгновенье Ульв Ульвссон зажмурился. — Это опасные люди, — пробормотал он, поглаживая бороду. Фольке растеряно молчал, а когда опомнился, голос его зазвучал еще увереннее, чем прежде. — Ингевальд, сын мой, — сказал он. — Ты хорошо сделал свое дело. Подойди же и скрепи наш союз с Ульвом Ульвссоном рукопожатием. Не робей. Он наш сосед и не желает нам зла. Иди ко мне, чтобы я смог сам подвести тебя к нему. Ульв Ульвссон говорил сурово, как и все богатые хозяева, но только теперь я понимаю, что он имел в виду. На тинге нужны люди, но я человек темный и слишком долго жил в лесу. Да и кольчуга моя заржавела так, что, пожалуй, рассыпется, если я снова попробую ее надеть. Ты возьмешь оружие и новую кольчугу, Ингевальд, и поедешь на тинг вместо меня. Он подвел сына к Ульву Ульвссону, но тот, помня дерзкий ответ юноши на свою загадку, презрительно взглянул на Ингевальда и вместо рукопожатия наотмашь ударил его по щеке. — Я вижу, — сказал Ульв Ульвссон, обращаясь к Фольке Фюльбитеру, — что волосы у твоего сына жесткие, как конская грива, а щеки гладкие и желтые и даже не покраснели от моей оплеухи. Это верный признак финской крови. Это карлики никогда не краснеют, сколько ты их ни щипай и ни бей. На тинге вряд ли станут слушать такого, даже если его приведешь ты. На твоем месте я бы отнес его в лес в свое время. С таким ли потомством собираешься ты основывать новый род и поместье? Тут Фольке Фильбютер схватил соседа за ворот и застыл как громом пораженный. Такого оскорбления в собственном доме, да еще и на глазах у всей дворни, он не ожидал. А насмешливый тон и спокойная улыбка Ульва Ульвссона просто ошеломили его. Наконец нависшую в горнице тишину нарушил шепот Ингевальда: — Если хочешь, отец, запрем дверь и убьем его. А потом мы со старостой бросим тело в болото. — У меня хороший слух, — сказал Ульв Ульвссон. — И я знаю также, что если выступлю против тебя на тинге и посоветую там покопаться в твоем болоте, у тебя будут большие неприятности. И я давно бы сделал это, если бы мудрость не подсказывала мне, что сейчас нам, соседям и богатым хозяевам, нужно держаться вместе против христиан. Тут Фольке Фильбютер опомнился и отпустил его ворот. 16 — Ты безоружен, Ульв Ульвссон, и находишься под моей крышей, — сказал он. — Но если ты покинешь Фолькетюну прямо сейчас, я обещаю, что твой дом сгорит уже нынешней ночью. А если ты действительно хочешь сделать меня своим союзником, то посади меня в свою красивую повозку, отвези в самый богатый в округе двор и будь сватом моему сыну. Я и сам понимаю, что так, как есть, продолжаться не может. Мне-то уже все равно, но Ингевальд взрослеет и скоро получит богатое наследство. И если ты принимаешь мои условия, одолжи мне свой синий плащ. Мой, грубый и домотканый, не годится для такого дела. И хотел бы я видеть того хозяина, который скажет «нет», когда Фольке Фильбютер приедет сватать его дочь для своего полукарлика-сына. — После твоего самый богатый двор в округе мой, — отвечал Фольке Фильбютеру Ульв Ульвссон. Фольке вздрогнул, словно перед ним только что распахнулась потайная дверь, за которой он увидел тайный ход, о существовании которого не подозревал раньше. Он не умел лукавить. Множество мыслей вихрем пронеслись у него в голове. На некоторое время ему показалось, что теперь нить разговора перешла в его руки и настал его черед предлагать и советовать. Он недоверчиво посмотрел на Ульва Ульвссона и спросил, понизив голос почти до шепота: — А не кажется ли тебе, сосед, что главный наш разговор еще впереди? Он хлопнул Ульва Ульвссона по плечу и тут же снова отпрянул, встретив настороженный взгляд гостя. — Все, что хотел, я тебе уже сказал, — ответил Ульв Ульвссон после долгой паузы, словно желая тем самым окончательно развеять все сомнения. — Однако признаю, что пока я сюда ехал, разное приходило мне в голову. Я ведь тогда еще не знал, как ты живешь. На границе наших с тобой владений я остановился напоить быка, и в тот момент подумал о том, что у тебя, как и у меня, вероятно, есть дети, и что между двумя домами нет союза прочнее, чем брачный. — Ты откровенен со мной, Ульв Ульвссон. — Дай же мне договорить. Так вот, стоило мне только войти в твою избу и увидеть твоего сына, как эти мысли улетучились прочь. Твой сын полукровка, и я считаю, что моя дочь слишком хороша для него. — Долог день девицы, которая сидит и ждет жениха, сосед, и ты не должен быть так суров с нею, — сказал на это Фольке Фильбютер. — Твоей дочери понравится в Фолькетюне. Сладко будет она спать под моей крышей, сытно есть за моим столом. — Что-то я не вижу у тебя стола, Фольке Фильбютер, — отвечал на это Ульв Ульвссон, — а моей дочери хорошо и там, где она сейчас. Нет в твоей Фолькетюне ни обычая, ни порядка. Рабы так и пялятся, будто в жизни человека не видели. — А знаешь ли ты, сосед, что я хёвдинг и имею три корабля? Ульв Ульвссон улыбнулся. — Звучит как сказка, но люди говорят, что это правда. — Первый нищий явился сегодня ко мне во двор, — продолжал Фольке Фильбютер. — Ты сам сказал, сосед, что предвещают такие птицы. Выбирай же теперь: война или союз между нашими домами. Ульв Ульвссон повернулся, как будто собрался идти, но потом остановился и посмотрел на Фольке. — Этого я один решить не могу. — Разве у тебя есть взрослые сыновья? — удивился Фольке. — И они становятся очень упрямы, когда речь заходит о сватовстве сестры, — кивнул Ульв Ульвссон. — Мы древний род, и все наши предки были лагманами1, однако не считай нас заносчивыми. Кто знает, быть может, яркие тряпки твоего полукарлика больше придутся по душе моим сыновьям, чем мне. Как я ступил под твою крышу, так и ты имеешь право ступить под мою со своим делом. И тоже можешь встретить насмешку или отказ. Однако я не против разумной сделки. Друзьями мы с тобой не станем, но я хотел бы, по крайней мере, не видеть в тебе врага. Возьми мой плащ. Разве не собирался ты одолжить его у меня? Фольке Фильбютер завернулся в плащ Ульва Ульвссона и застегнул на вороте застежку. Потом он направился к своему сундуку и достал оттуда шкатулку из липовой древесины. В ней лежал маленький золотой венец. Изящно переплетенные дубовые листья выглядели как живые. Дворня вытянула шеи: никогда прежде не доводилось им видеть такой красоты. Только теперь они по-настоящему прониклись уважением к своему хозяину. — Вот что она получит, — сказал Фольке Фильбютер. — И еще шитое серебром покрывало, и золотой перстень с браслетом, и белого жеребца со сбруей. Ты еще увидишь свадьбу в Фолькетюне, Ульв Ульвссон. Ульв Ульвссон помог соседу усесться в повозку, которая оказалась слишком тесной для такого грузного пассажира. И когда Фольке наконец устроился на скамейке со своим ларцом на ко- 1 Лагманы — «люди закона», судьи. 17 ленях и вол зашагал через луг, дворня долго еще слышала, как хозяин перечислял свои сокровища, пока его голос не смолк в дали: — Две серебряные ложки она получит, и двести двадцать локтей домотканого полотна, и перину, и подушку на птичьем пуху, и подушку на скамью с золотой вышивкой, и пятьдесят марок серебра… А ее братьям я дам по рубахе с серебряными пуговицами… а ты, Ульв Ульвссон получишь два полных воза обмолоченного зерна… Хотел бы я посмотреть на того, кто скажет «нет», кривоногий Ас-Тор! 5. После отъезда хозяина в доме все смолкло. Внезапно тишину нарушил удар кнута. Таким образом староста дал рабам понять, что на сегодня они свободны, и вскоре серая толпа разошлась во дворе. Ингевальд все еще стоял в дверях. От стыда у него перехватывало дыхание и горело лицо. Словно только сейчас открылись его глаза, и он вдруг увидел кучи мусора и грязь в доме и впервые почувствовал, как воняют развешенные на стенах телячьи шкуры. Он вспоминал, как жалок был его богатый отец со своей шкатулкой на коленях, каким дикарем выглядел он рядом с почтенным соседом. Никогда еще не видел Ингевальд такого человека, как Ульв Ульвссон, никогда не слышал таких гордых и разумных речей. Мучили юношу и мысли о старом Якобе, холодные губы которого он до сих пор чувствовал на своем виске. Ингевальд выскочил во двор, чтобы по своей привычке последовать за рабами, но не нашел там ни одного человека. Тогда он вспомнил, что, выходя на улицу, дворовые о чем-то перешептывались. Его еще удивило, что даже Тува, вместо того чтобы, как обычно, забиться в свой угол, вышла вместе со всеми из избы. — Ингевальд! — позвал голос из-за сарая. Но и там никого не оказалось. Скот был на пастбище. Ингевальд оглядел пустые стойла с паутиной в углах. — Ингевальд! — позвал голос из другого конца дома, вялый и невнятный, как у раба. Но и там было пусто. Ингевальд начал подозревать, что дворовые смеются над ним. Неужели даже они его презирают? Разве его вина в том, что он рожден не от свободной жены? Никого не мог найти Ингевальд, как ни искал. Богатый наследник Фолькетюны, разодетый в цветные тряпки, он стоял на дороге, между еще свежими следами колес на примятой траве, а усевшаяся на карниз стайка сорок высмеивала его. Тут он вспомнил, что последние несколько ночей многие рабы убегали куда-то из избы, другие же перешептывались и иногда всхлипывали, не давая ему спать. От него что-то скрывали. Обиженный, Ингевальд побрел в лес, без всякой цели, просто для того, чтобы выплакать или развеять душившие его слезы. Стоял безветренный летний вечер. Неподвижные дубы казались еще выше. В воздухе деловито жужжали последние шмели, еще не успевшие забраться в свои обросшие мхом гнезда. Вон белка высунула головку из своего дупла разведать погоду. Убедившись, что на небе ни облачка, она выбросила кусочки мха, предохранявшие ее жилище от холода, и вскоре по лубяной крыше святилища Фольке, что стояло как раз под ее деревом, застучала ореховая скорлупа. Этот звук вывел Ингевальда из оцепенения, и он отвернулся, чтобы ненароком не встретиться глазами с храмовыми идолами. Он боялся их, но еще больше — стыдился, поскольку уже не смел причислять себя к роду, который они защищали. Неподалеку от дороги находился источник, где, как считалось, обитали благосклонные к людям духи. Ингевальд часто сиживал на его берегу, любуясь своей веселой одеждой и огромными серебряными кольцами в ушах. Иногда ему чудилось бледное женское лицо, и тогда, охваченный внезапным порывом, он был готов броситься в объятья водяной девы. Но на этот раз он увидел себя глазами Ульва Ульвссона. — Все так, — произнес Ингевальд, всхлипывая, — у меня щеки словно из дубленой кожи, и не краснеют, сколько ни щипай. И волосы как конская грива. Никогда не стоять мне на тинге рядом со свободнорожденными мужами. Приди я туда, никто не будет меня там слушать. И все станут смеяться над моими тряпками. С этими словами Ингевальд сорвал с себя разноцветную рубаху и плюнул в свое отражение. А потом побрел дальше и вскоре заметил, что движется как раз по направлению к месту, где обычно проходил тинг. Тогда Ингевальд ускорил шаг. Ему подумалось, что, коль скоро ему никогда не придется держать речь на почтенном собрании, он может, по крайней мере, высказать свое горе священным каменным глыбам. Постепенно дубовый лес редел, уступая место крестьянским пашням. Наконец показался огражденный плоскими каменными глыбами тинговый холм. К удивлению Ингевальда, он кишел народом. Первой мыслью юноши было спрятаться, словно он, раб, находился в запретном для него месте. Однако, наблюдая из-за кустов, Ингевальд не обнаружил в толпе собравшихся ни одного синего плаща. Только серые и домотканые, как у рабов и дворовых. Многих он узнал, это 18 были люди его отца. Возле одного из камней сидела уставшая от жизни Тува и, как всегда, кряхтела. Не на этот ли холопский тинг убегали они последние несколько ночей? В лагмане, который, опершись на посох, держал речь в центре круга, Ингевальд узнал Якоба. Время от времени старик просил тишины и замолкал, и тогда становилось слышно, как стрекочут сверчки в мокрой, душистой траве. Ингевальд видел, как проповедник подошел к Туве и негромко спросил, что она думает о смерти. — Об этом мы, рабы, не думаем, — отвечала та. — Тор и Фрея презирают нас, а Одноглазый, бог порогов, покровительствует финнам-карликам. Но твои речи, Якоб, большое утешение для меня. — А я лучше тебя понял, что говорил нам Якоб, — сказал староста, который стоял рядом с ней все еще с кнутом за поясом. — Теперь и у нас, рабов, появился свой бог. — Так оно и есть, — подхватил Якоб. — А потому радуйтесь и ждите и не противьтесь, когда хозяева станут крестить вас во имя нового Господа. Нынче и королю стало неуютно среди язычников в Уппсале, и он все чаще наезжает к мои братьям в Скару. Сотни хёвдингов и дружинников каждый год собираются там, чтобы принять святое крещение. Терпение — вот ваша первая добродетель, но уже отныне свет воссияет вам. Сейчас я дам каждому по щепотке соли, сколько ее хватит в моей котомке. И да будет вам соль этой соли и пламя мудрости защитой от зла. Отныне посвящаю вас новому Богу и Его сыну. А сейчас я обойду вас, скольких смогу, и дуну на ваши лица. Улетай, князь тьмы, ты, дьявол, ибо эти тела — храм Господа. Сажей и солью рисую я вам кресты между бровями, чтобы испугался князь тьмы, если захочет вернуться. Глупый и неученый, я благословляю вас всех, и тех, кто стоит возле меня, и тех, кто прячется там, за кустами и ветками. Господня любовь да будет с вами! Якоб положил ладони на головы Тувы и старосты и остановился, шепча заклинания. Потом поцеловал тех, кто был рядом с ним, подобрал валявшуюся в траве нищенскую суму и побрел прочь своей быстрой походкой. Глаза рабов светились гордостью, как будто проповедник начертал на их лицах знак Тора. Снова и снова передавали они друг другу историю о том, как Якоб благодарил за удары в дикой Фолькетюне, и не переставали удивляться. — Ты думаешь, он такой же раб, как мы? — спрашивали они друг друга, расходясь по своим домам. — Я видела что-то красное за кустом можжевельника, — прошептала одна из женщин. — Не иначе, хозяйский сын из Фолькетюны. Неужели и он слушал? — Я никому ничего не скажу, — отвечал ей сквозь зубы Ингевальд. — Но теперь я знаю своего бога. Там, на скалах у водопада, стоит Одноглазый. Сейчас я пойду и разобью его, и ни один раб не пожалеет о нем. Ингевальд чувствовал, что кто-то следует за ним неслышными семенящими шашками, но не оборачивался. Наконец он свернул с тропинки и ступил под сосны, в высокий вереск. Вырезанные на стволах знаки, местами почти заросшие, указывали, что он на правильном пути. Начинало темнеть, поэтому иногда Ингевальд останавливался, чтобы разглядеть их. В это время шаги за спиной тоже стихали. Его рубашка постоянно за что-то цеплялась, и Ингевальду доставляло радость дергать ее, так что на ветках оставались висеть разноцветные лоскуты. Вскоре послышалось журчание воды, и Ингевальд ступил на протоптанную дорожку. Здесь находилась пещера Йургримме, а дальше, за грудой камней, шумел водопад. Одноглазый стоял на плоском камне. Его сужающаяся кверху фигура напоминала пестик и, окруженная четырьмя меньшими каменными глыбами, не внушала ни особенного почтения, ни страха. Где-то посредине идола чернела дыра, словно оставленная гигантским пальцем. Это и был его знаменитый глаз. Ингевальд оперся локтем на идола и заглянул в водопад. Он по-прежнему чувствовал, что не один. Разбросанные в траве кости жертвенных животных, уже почерневшие и поросшие мхом, хрустели под чьими-то ногами, как сухой хворост. Впрочем, Ингевальд давно понял, кто идет за ним по пятам. Он скосил глаза и сразу увидел ее. Женщина стояла на краю обрыва и тоже смотрела вниз, где, падая с камней, черная лесная река образовывала водовороты и взбивалась в белую пену. Ингевальд удивился, какая она маленькая и отталкивающе безобразная. «Неужели это она родила меня на свет?» — подумал он. Они долго стояли так, словно не знали друг друга. — Ингевальд, — сказала наконец женщина, — я была с рабами и слышала, что ты бормотал сквозь зубы. Поэтому я пошла за тобой. — Разве ты боишься, что я разобью Умасумблу, бога камня? — усмехнулся Ингевальд. 19 — Нет, я боюсь, что у тебя не достанет мужества сделать это, — отвечала она. — Но ты должен, сын. Месть — лучшее утешение и самая большая радость в этом мире. А кроме нее — золото и серебро. И это единственное, что стоит твоих усилий. Женщина приблизилась. Он говорила, жуя лист папоротника и прищелкивая языком, и Ингевальд вдруг почувствовал такое отвращение к ней, что никакая сила не заставила бы его сейчас назвать ее матерью. — Я вижу, — голос ее дрожал, — это у Ульва Ульвссона одолжил ты глаза, которыми сейчас на меня смотришь. Уж лучше бы они горели, как у лесного волка. Болит ли еще твоя щека после его удара, сын? — продолжала она. — Ни дня не останусь я в доме хозяина, который стерпел такое оскорбление. Я должна или уйти, или задушить его сегодня ночью. — Так уходи! — воскликнул Ингевальд. — Убирайся к своему Йургримме! — Йургримме мертв, — отвечала она ему. — Здесь принес он в жертву мою сестру, чтобы продлить себе жизнь, но после этого стал нерадостен и нигде не находил себе покоя. Тогда он вернулся в свою пещеру и заколол себя каменным ножом. И когда я вошла и увидела его мертвого, то расставила вокруг него рыболовные снасти и котлы, и Лунного Пса вложила в его окоченевшие руки. А потом забросала вход землей и торфом. И сейчас над головой Йургримме пасется лось… Да, иди, иди, дочь карлика, — передразнила она, играя пальцами. — Старик и сам не знал, откуда он явился. А говорят, мы ведем род от древних хёвдингов, которые жили далеко на севере. У их женщин росла борода, и они охотились на зубров с луком и стрелами и побеждали великанов силою заклинаний. В тех землях стоял высокий лес, полный снега и разной дичи. А теперь мы обеднели и нас осталось мало. Теперь редко кому доведется увидеть карлика в лесу. Наша пещера оставалась последней. Много же ночей и дней придется скитаться дочери Йургримме, прежде чем она встретит сородичей. Но когда карлики перестают говорить друг с другом, они быстро забывают слова и только воют и свистят, как ветер. — Уходи же, уходи, — с горечью повторил Ингевальд. — Перейди вброд реку за последним порогом. Там кончаются все дороги и начинается глушь. Зачем ты дала мне жизнь, если не имеешь мужества забрать ее у меня? Раб может купить себе свободу и стать не хуже других, но чем мне откупиться от всего того зла, что вошло в меня с твоей кровью? Братья знали, что делают, когда уплыли от тебя в дальние страны. Что будет с домом Фольке Фильбютера? Ни голуби, ни орлы не живут в кротовьих норах. Лишь торговцы солью приходят к нам, да и те плюются, едва выйдя за порог. Даже если я обрею голову и вымажу щеки красной краской, ты останешься в моем теле и в моей крови. Что может быть хуже этого? Умасумбла, бог порогов, помоги нам! Тут Ингевальд захохотал и, обхватив руками идола, поднял его с камня и бросил в водопад. Он удивился невесть откуда взявшийся силе, а Одноглазый с грохотом рухнул на дно и остался лежать там спиной кверху, неотличимый от прочих камней. — Полукровка, полукарлик… — торжествующе залепетала мать. — Теперь-то я узнаю в тебе свою кровь. Теперь-то я вижу, что в тебе не угас огонь мести. Почему я ни разу не напоила тебя из Лунного Гарма? Зачем я оставила рог мертвому, который никогда не испытает жажды? Мы должны достать Пса, Ингевальд. Мы разроем могилу и заберем у Йургримме его сокровище. Видишь ли, все люди жаждут, но их желания спят, как дети в колыбелях. Но стоит тебе осушить Лунного Пса — и твои младенцы проснутся и превратятся в чудовищ и диких лесных собак, которые проглотят луну вместе со звездами. А если ты станешь христианином, то кроме небесных светил, они сожрут и то невидимое, что таится за ними. Покажи мне свои руки. Достаточно ли остры твои ногти, чтобы копать? И скажи, хочешь ли ты напиться из Лунного Гарма? — Я хочу, — отвечал Ингевальд. И тогда мать взяла его за запястье, и они вместе побежали через заросли папоротника к пещере Йургримме и там, разрыв руками землю, смешанную с кореньями и кусочками коры, добрались наконец до мертвеца. — Йургримме! — закричала мать в ухо карлику. — Мы не тронем ни твоих котлов, ни рыболовных снастей, но заберем самое ценное из того, чем ты владеешь. Йургримме был похож на высохшее полено, и когда мать отпустила его, он рухнул на земляную стену. Он сидел, поджав колени и сжимая в руках свою драгоценность. Женщина взяла у него рог, зачерпнула жидкости из глиняного горшка, пригубила и протянула оставшееся сыну. Раз за разом наполняла она Пса до краев, а Ингевальд все пил и пил. — Твое пойло прокисло, но меня мучает жажда, — сказал он. — Йургримме, — обратилась к мертвецу женщина, в последний раз стукнув рогом о глиняное дно, — ты вот все сидишь с вытянутыми руками, а между тем в них давно уже ничего нет. Мы забрали у тебя Пса. Она продолжала шевелить губами, словно собиралась сказать еще что-то, но язык больше не слушался ее, а в глазах загорелись сумасшедшие огоньки. Это было то самое безумие, что постоянно дремлет в душах карликов. В нем они забывают себя, соединяясь с окружающим их лесным миром, а потому оно таит для них источник бесконечного блаженства. Когда желания дочери Йургримме покинули свои младенческие колыбели и приняли облик огромных волков, ей захоте- 20 лось стать похожей на одну валу1, что некогда бродила по крестьянским дворам, спрятав глаза под надвинутым капюшоном и натянув на руки перчатки с когтями рыси. Хозяева принимали ее со страхом и почтением и всегда провожали в дом, где хорошо угощали и обязательно подавали к столу жареное змеиное сердце. Дочь Йургримме слышала о ней. Защитить себя от людей и их зла — вот все, что ей оставалось нужно. Ей было в пору летать над поросшими лесом горами, подобно легкой птичке, а по ночам врываться в избы, опрокидывая горшки и метлы и заливая водой пламя в очаге, чтобы будить крестьян звериными воплями, оставаясь при этом невидимой и непойманной. Ей хотелось похищать из колыбелей детей в священную ночь зимнего солнцестояния и уносить их на многие мили, чтобы подложить в кровать какой-нибудь жене или молодой девушке. Напрасно пыталась заговорить дочь Йургримме. Как ни раскрывался и ни сжимался ее рот, как ни вытягивались и ни округлялись губы, не могла она вспомнить ни единого звука, кроме тех, что некогда слышала возле холма Йургримме. Мышцы ее лица задергались, глаза закатились, и она принялась стрекотать, как сверчок, и урчать, как ночной козодой. Наконец она сомкнула руки на затылке сына и, глядя в потолок, пронзительно засвистела. Тонкий, всюду проникающий звук разнесся по лесу, и, словно лишившись разума, Ингевальд засвистел вместе с ней. Его глаза налились кровью, так что он смотрел на мать через красноватую пленку. А потом угасло сознание, и он уже не помнил, как выбрался наружу и где блуждал потом. Ее свист, похожий на ветер, время от времени доносился до него со стороны брода, за которым кончались все дороги и начиналась глушь, и каждый раз словно уносил его куда-то. В висках у Ингевальда стучало, и они были холодными, как лед. Он удивлялся тому, что куда-то идет и при этом держит в руках что-то гладкое и нетяжелое. Лишь почувствовав, что ноги промокли насквозь, а ветки больше не царапают руки и спину, Ингевальд понял, что ступил в высокую луговую траву. Наконец он уперся взглядом в темнеющий фронтон Фолькетюны, и дорогу ему преградила дощатая дверь. Рабы уже вернулись и теперь храпели на соломе. За перегородкой, среди коз и овец, вздыхала Тува. Не выпуская из рук Лунного Пса, Ингевальд упал на первое попавшееся свободное место. Ночью ему снилась мать. Она сидела у него на груди и пронзительно свистела, однако он больше не мог вторить ей, потому что она уперлась локтями ему в горло. — Ты стонешь во сне, — сказала ему наутро Туве. — Перевернись на другой бок. Ингевальд кивнул. Он подумал, что это заколдованный лесной рог навевает ему дурные сны. На рассвете вернулся Фольке Фильбютер. На нем все еще был плащ Ульва Ульвссона, теперь, правда, в пятнах меда. Хозяин кликнул Туву и велел ей тотчас затопить очаг. 1905–07 1 Вала — древнескандинавская прорицательница. 21 ПИСЬМА ИЗ МЮЗОТ (перевод с немецкого ОЛЕГА МИЧКОВСКОГО) 1. Княгине Марии фон Турн-унд-Таксис Гогенлоэ Отель «Шато Бельвю», Сьер (Вале), 25 июля 1921 года ...Близится конец июля, а я не у Вас. Покуда не готовьте для меня комнату, но и не ставьте крест на моем приезде: быть может, в августе. В последние недели я нередко был весьма близок к тому, чтобы объявить о своем прибытии, и всякий раз, когда я желал это сделать, я испытывал своеобразный прилив сил; но, с другой стороны, этот чудесный Вале не отпускает меня: приехав сюда, в Сьер и Сьон, я поступил опрометчиво; я рассказывал Вам, как очаровали меня эти места, когда я увидел их впервые в прошлом году, в сезон сбора винограда. То обстоятельство, что в характере здешнего ландшафта столь необычным образом переплелись Испания и Прованс, пленило меня уже тогда, так как оба эти ландшафта в последние годы перед войной заявили мне о себе более внятно и определенно, чем все остальное; и вот теперь я обнаруживаю их голоса слитыми в унисон в одной из широко раскинувшихся горных долин Швейцарии! И эта созвучность, это фамильное сходство отнюдь не плод моего воображения. Буквально на днях я прочел в одном очерке о растительном мире Валлиса, что здесь встречаются некоторые цветы, которые не растут больше нигде, кроме Прованса и Испании; примерно то же относится к бабочкам: так дух великой реки (а Рону я всегда считал одной из прекраснейших!) наделяет те страны, через которые она протекает, общими дарами и родственными чертами. Здесь ее долина, обрамленная высокими горами, настолько широка и настолько щедро заполнена небольшими возвышенностями, что взгляду непрерывно представляется игра пленительнейших метаморфоз, своего рода шахматная игра холмов. Словно они продолжают перемещаться и распределяться – столь творчески действует ритм, в котором меняется расположение видимого вместе со смещением точки наблюдения, – и движения старинных особняков и замков в этой оптической игре кажутся тем более чарующими, что в большинстве случаев их фоном снова оказывается склон виноградника, роща, поляна или серые скалы, на котором они смотрятся столь же органично, как узоры на ковре; ибо неописуемое (почти безоблачное) небо, занимающее значительную часть этих перспектив, одухотворяет их столь прозрачным воздухом, что особое взаимное расположение деталей пейзажа, совсем как в Испании, в определенные часы создает впечатление того натяжения, какое существует в нашем восприятии между звездами одного созвездия. А теперь о главном, что меня задержало: около трех недель тому назад, когда я (со своей спутницей) выехал из Этуа, нам порекомендовали здесь (мы не хотели долго оставаться в отеле) небольшой дом, который при первом же осмотре обнаружил свою непригодность; мы принялись осматривать другие дома в окрестностях, время шло, – пока внезапно не нашлось то, перед чем 22 было трудно устоять. Этот старинный замок в виде башни, чья кладка восходит к тринадцатому веку, а потолки с накатом и некоторые предметы обстановки (сундуки, столы, стулья) остались от восемнадцатого, предлагался на продажу или в аренду. По цене весьма скромной, но все же значительно выше той суммы, которою я располагал в швейцарских франках. И вот на прошлой неделе один из моих друзей, давно знающий этот так называемый Chateau de Muzot (произносится: Мюзот), один из Райнхартов, что живут в В., арендовал этот дом для меня! И уже завтра я съезжаю из отеля, чтобы поставить небольшой эксперимент по выживанию в довольно суровых условиях замка, которые давят на тебя, как доспехи! Разве я не должен попробовать? раз уж так все сложилось. Присутствие моей подруги позволит вести небольшое домашнее хозяйство, пока не найдется подходящая прислуга, – если все получится, то я смогу еще какое-то время прожить в Мюзот с экономкой. Замок расположен примерно в двадцати минутах пути круто в гору от Сьера, в не слишком засушливом, удачном, изобилующем родниками месте, – с видами на долину, склоны гор и упоительнейшие бездны небес. К владению также относится маленькая сельская церковка, расположенная чуть левее и выше, среди виноградников (на открытке ее не видно). Снимок не дает истинного представления о Мюзот, деревья в саду заметно подросли, не виден и могучий старый тополь, расположенный в нескольких шагах ближе и правее и составляющий неотъемлемую часть внешнего вида замчика, с какой бы стороны на него ни смотреть. Сам я говорю «замчик», поскольку именно таков полносоставный тип средневекового замка, какие сохраняются здесь еще повсюду; они состояли из одного компактного корпуса, заключавшего в себе все остальное. Вход расположен с обратной стороны, где Вы видите выступающую покатую крышу: на этом этаже (с длинным, пристроенным спереди балконом) находятся столовая, небольшой будуар и гостиная; здесь же кухня (устроенная по-современному); прежняя кухня занимала все место под ней на первом этаже и была единственным большим помещением (ныне нежилом, используемом для хранения садового инвентаря и т.д.). На следующем этаже устроился я. Там находится моя скромная спальня, куда свет попадает через узкий оконный проем справа; правда, напротив еще имеется небольшой балкон, упирающийся в дерево. Расположенное рядом окно с двойными рамами и следующее, за углом, окно на солнечном западном фасаде относятся к моему рабочему кабинету, который мы вчера более или менее обставили, пользуясь подручными средствами; в нем много такого, что манит и притягивает меня: старинные сундуки, дубовый стол 1600 года и потемневший от времени бревенчатый потолок, где вырезана дата MDCXVII; впрочем, говорить о притягательности было бы не совсем точно: ибо в сущности весь Мюзот, в котором меня что-то держит, внушает мне некую тревогу и чувство подавленности; насколько это было возможно, я ознакомился с древнейшими сведениями из его истории; построили его предположительно де Блоней; в XV веке им владели де ля Тур-Шатийоны, в начале XVI, за год до сражения при Мариньяно, в нем состоялась свадьба Изабель де Шеврон и Жана де Монтея (до сих пор известны все гости и обстоятельства этого трехдневного празднества). Жан де Монтей пал на поле брани под Мариньяно, и его тело было доставлено в Мюзот к молодой вдове. Сразу после этого к ней воспылали страстью два претендента и в этом пылу прониклись столь яростной взаимной неприязнью, что пронзили друг друга на дуэли. Несчастная Изабель, переносившая утрату супруга, казалось бы, с таким достоинством, не вынесла гибели обоих женихов, между которыми она еще сама не успела сделать выбор; она потеряла рассудок и с тех пор покидала Мюзот только по ночам, обманывая бдительность своей старухи-кормилицы Урсулы; почти каждую ночь можно было видеть, как она бредет, «très légèrement habillée» в Мьеж на могилу своих вспыльчивых ухажеров, и существует предание, будто в конце концов одной зимней ночью на клабдище в Мьеже... был найден ее окоченевший труп. – Так что надо быть готовым к этой Изабелле или к мертвому Монтею, возвращающемуся из Мариньяно с регулярностью маятника, и ничему не удивляться. Замок Мюзот, после того как мы в нем прибрались, стал во всех отношениях светлее и уютнее; в его помещениях, как во всех этих средневековых домах, есть что-то простодушно-деревенское, грубоватое, без задней мысли... И надо же – пока я не забыл: рядом с моей спальней, в верхнем этаже, находится так называемая капелла, выходящая на задний двор: небольшая выбеленная комната, имеющая вход со стороны лестничной площадки через необычайно низкий, еще вполне готически-средневековый дверной проем, и в каменной стене над ним, в виде сильно выступающего рельефа, изображен вовсе не крест, но: большая свастика! Итак, Вы видите, княгиня, что в настоящий момент я нахожусь во власти этого Мюзот: и я должен сделать попытку. Если бы Вы только его видели! Когда приближаешься к нему со стороны долины, он всякий раз возникает, словно некое чудо, над ныне уже выгоревшими розовыми кустами своего маленького сада, храня цвет старого тесового камня, изначально серо-фиолетового, но подрумянившегося и покрывшегося позолотой на солнце, как иные стены все в той же Андалузии. Далее: пожалуйста, передайте всем от меня большой, большой привет – князю, Паше и особенно Касснеру; как уже было сказано, я еще не вполне оставил надежду приехать к Вам. Моя главная забота – найти себе на зиму, т.е. уже на осень, для тихого уединения и работы, что-нибудь вроде «Берга». Скоро должно выясниться, обладает ли Мюзот свойствами, чтобы стать и оставаться этим в течение ближайшего времени. Зима здесь, говорят, очень мягкая и благоприятная; к тому же в Мюзот есть чудесная каменная печь деревенского типа из зернистого серого кварцита. Если 23 Швейцария еще раз предоставит мне приемлемый зимний приют, так что мне уже не придется искать его в другой стране, то тогда я, возможно, вообще никуда не выберусь, ибо времени останется в обрез, а я бы хотел как можно раньше начать свое осеннее затворничество, с тем чтобы оно незаметно перешло в долгую зиму. Если же я не достигну более полного взаимопонимания с Мюзот и в августе отправлюсь в Каринтию, где жена Пурчера, Н. В., вроде бы присмотрела для меня один старомодный дом на берегу озера, – то тогда я обязательно заеду в Богемию. Меня очень манит и прельщает то, что мы сможем вместе пролистать книги Станисласа де Гуэты! Хотя, по правде говоря, я не нуждаюсь в еще одном стимуле в дополнение ко всему тому, что говорит во мне в пользу Лаучина: наша встреча оказала на меня неописуемо благотворное действие, но даже она была всего лишь предварением многообразной общности и не только не уменьшила потребность в нескольких совместных неделях, но сделала ее тем более настоятельной. Когда Ваше первое письмо застало меня в Этуа, я стоял на пороге многих трудностей; теперь они отчасти преодолены, и, быть может, впредь мне удастся не доставлять огорчений и в то же время восстановить Мое в его правах, привести его в полное равновесие. – Моя спутница останется здесь лишь на то время, пока я буду нуждаться в ее помощи. На нее этот ландшафт, который мы, кстати, открыли с ней вместе в прошлом году, оказывает столь же поразительное действие, как и на меня, и я надеюсь, что ее большое и милое живописное дарование еще весьма многообразно проявит себя на здешнем материале. Я заканчиваю, любезная княгиня. Как долго думает оставаться Касснер? Возможность застать его у Вас, безусловно, существенно повлияла бы на определение моих сроков, если бы мне все же пришлось отправиться в путь. Этуа был мил и гостеприимен до последнего момента. Всей, всей, всей душой рядом с Вами всегда Ваш D. S. 3. Рабочему И. Х. (приславшему рукопись стихов) Уважаемый господин Х., никак не ожидал получить от Вас номер Т.: выражаю свою благодарность с опозданием; с еще большим опозданием возвращаю Вам рукопись, которую я так и не нашел, куда пристроить. К счастью, в конце публикации читаю объявление о выходе Вашего собрания сочинений в том же издательстве «Т.», так что необходимость обращаться к другому издателю отпадает сама собой. Честно сказать, мне было бы сложно замолвить слово за Ваши стихи: они говорят на языке того времени, которое, возможно, является для Вас своим; я же воспринимаю его обстоятельства исключительно извне, не находя устойчивой связи с ними. Нашего брата нелегко разубедить в том, что бурлящая масса буквально захлестывающей нас продукции переливается через край не от избытка, но от неблагополучия и беспорядка – выходя из берегов всего того, что было для нас не столько ограничением, сколько естественным мерилом. Я вовсе не хочу усугублять Ваше уныние и смятение в такое время, когда непосредственные обстоятельства жизни суровы и неприветливы к Вам; и все же ровно столько необходимо было высказать, как Вы того сами невольно потребовали. Не знаю, какое métier Вы освоили, но Вам как рабочему должен быть присущ опыт определенного умения, и радость от хорошо сделанной работы не должна быть для Вас чем-то абсолютно неизведанным. Если Вы хотя бы на мгновение кинете взгляд на зыбь своих литературных свершений, стоя на этой основательной, надежной почве, от Вас не ускользнет, в сколь большой степени там Вами играет случай и в сколь малой степени Вы научились использовать перо в качестве того, чем оно прежде всего является: в качестве честного, послушного и ответственного инструмента. Надеюсь, Вы не сочтете за нелюбезность то, что на прямоту Вашего обращения ко мне я отвечаю той же прямотой. В остальном примите мои наилучшие пожелания; всегда нужно надеяться на то, что именно в те моменты, когда все кажется безнадежным и невыносимым, близок скорый поворот к лучшему. Пусть же у Вас не только достанет терпения дождаться лучшего, но и хватит духу приблизить его. Р. М. Р. 4. Графине Мариетте фон Куртан Замок Мюзот-сюр-Сьер, Вале, 1 августа 1921 года Любезная графиня, ... еще в прошлом году, когда я открыл для себя Валлис в его самый совершенный сезон: во время сбора винограда, я хотел – и как хотел! – передать Вам и графине Элизабет привет из него – родины Ваших предков; но тогда я провел здесь всего три дня, не имея под рукой книжки с адресами; кроме того, будучи поражен этими грандиозными, величественными ландшафтами, я не мог понять, сами ли они так покорили и наполнили меня или скорее их удивительное сродство с дав- 24 но изведанными, любимыми и ныне по-прежнему далекими уголками Испании и Прованса, которые словно слились воедино в этой прекрасной широкой долине Роны! Желание понять, в чем же собственно дело: только ли в созвучиях с теми землями, ставшими в годы перед войной настолько близкими мне, что внешнее сходство с ними сделало для меня внутренне ощутимыми определенные соответствия в настроении и душе – или же это сам Вале так пришелся мне по сердцу в своем величественном и одновременно столь прелестно изменчивом, в пределах этого величия, образе, – это желание несколько недель тому назад снова привело меня в эти места, и на этот раз я решил ознакомиться с ними подробнее и основательнее. И вот оказалось, что на меня действует и то, и другое: воспоминание о тогдашних ландшафтах Роны и одновременно ее здешнее окружение: бесподобное! Я не знаю, любезная графиня Мариетта, приводила ли когда-нибудь судьба Вас и Ваших близких на древнейшую родину Ваших предков: но даже если нет, какой же счастливой я должен Вас считать, если порой Вы чувствуете, как в Вас брезжит осознание этого происхождения, накладывая свой отпечаток на Ваши мечты, действия или хотя бы мимолетную улыбку... Как бы я хотел Вам описать, если Вы его не знаете, этот край! Его огромность в пределах широко расступившихся гор; его многообразие; его игру: эту игру перспектив и пересечений. Я не стану браться за это сейчас, – иначе я испишу многие страницы и все же не превзойду то, что есть у Вас в крови. В большом дворце, построенном графом Жаном Франсуа де Куртаном (около 1670 года) внизу, в Сьере, ныне – и уже с давних пор – располагается отель «Шато Бельвю», (до сих пор заслуживающий обоих составных частей своего названия), но чуть выше стоит еще один – скромный и на удивление тихий – дом, находящийся в наследственном владении Куртанов (если я правильно понял, в нем живет одна или несколько представительниц семьи де Куртан); поддерживаете ли Вы отношения с этими родственницами или с теми, что живут в Сьоне? Примите, любезная графиня, это послание как отклик на столь многочисленные приветствия и подайте в ответ на него, пока я здесь нахожусь, небольшой знак. Как Ваше здоровье? – В июне исполнилось уже два года с тех пор, как я живу в Швейцарии, но, возможно, именно в Валлисе состоит смысл моего довольно-таки бесцельного эмигрантского существования! Как он близок мне! Искренне преданный Вам, любезная графиня, Ваш Рильке 5. Норе Пурчер-Виденбрук Замок Мюзот-сюр-Сьер, Вале, 17 августа 1921 года Любезная милостивая государыня, я, несчастный, надеявшийся получить от Вас так много доброго содействия – и вот самое большее, о чем я осмеливаюсь Вас просить: не делайте никаких выводов из моего закоснелого молчания, заслуживающего одного порицания и осуждения, и, ради Бога, не давайте ему никакого имени! Ибо, если бы Вы, о ужас! начали давать ему имена, то слово «неблагодарность» было бы еще самым мягким из них, и Вы из чувства справедливости не смогли бы ограничиться им. Как я должен оправдываться? – Бесполезно! С одной стороны, Вы, любезная всемилостивейшая графиня, в ожидании и всегда одинаково великой готовности быть сердечной покровительницей моего «возвращения домой» в Каринтию, – а по эту сторону я, глухой ко внушениям и неделями хранящий непростительное молчание. Воистину скверный случай, один из тех, что почти безнадежны... Три или четыре дня назад, когда пришло очередное письмо от Вас (об Этуа), перед мной как раз лежало предыдущее, пространное и благожелательное, и я внимательно и вдумчиво перечитывал его. Это в сущности почти все, что я могу привести в свое оправдание. Против меня вопиет и свидетельствует все остальное – ведь не смягчу же я свою вину, назвав себя воплощением нерешительности? И даже ссылка на ту необыкновенную жару, что стоит уже много недель и только усугубляет мою тяжесть на принятие решений, есть не более чем пустая отговорка. Но подумайте: всякий раз, когда мне кажется, что я разделался со Швейцарией, среди гостеприимных сил этой страны зарождается какое-нибудь неожиданное противодействие: свое предыдущее письмо, точнее, телеграмму, я отправил Вам еще из «Бельвю» – но уже тогда существовала вероятность того, что я сниму здесь, чуть выше Сьерры, старинную башню, именуемую в этих краях «Замком Мюзот», – башню с многовековым прошлым, суровую и грубую, поселиться в которой было почти одно и то же, что облачиться в старые доспехи, – соблазн, испытываемый мною всегда, когда представляются подобные возможности, одержал победу и на этот раз: я снял Мюзот, обставил его, т.е. переставил в соответствии со своим вкусом находившуюся в нем мебель (частью восходящую к XVII веку), – и теперь осталось проверить на опыте, подойдет ли для меня это пристанище на период очередной рабочей зимы, к которой, как Вы знаете, я собираюсь приступить уже осенью. В эти июльские дни (когда возникало ощущение лета втройне) подобный опыт уже сам по себе заключал в себе нечто насильственное, ибо не столько я подвергал испытанию эту суровую 25 Tour de Muzot, сколько она меня, – так что у меня были дни почти-болезни и уж, во всяком случае, много дней, когда я испытывал непреодолимейшую апатию в борьбе с жарой и непосредственными тяготами или, лучше сказать, требованиями, которые налагала на меня моя рыцарская обитель. Проклинать ее – ах, как часто! – и все же не иметь сил бросить ее, из-за необъяснимого влечения и из-за этой чудной ронской долины, напоминающей мне два временно утраченных ландшафта: Испанию и Прованс, которые – давно, еще до 1914 года – оказали на меня наибольшее влияние и о которых мне самым непостижимым образом напоминают здешние окрестности, создавая ощущение, будто я снова нахожусь там. En fin de compte, если бы я решил описать то, что удерживает меня здесь, мне пришлось бы дать описание всего Вале – этой, пожалуй, крупнейшей европейской долины, в чьих границах игра красиво слепленных и покрытых зеленью холмов обусловливает богатейшие изменения панорамы; ландшафты формируются у тебя на глазах, словно в дни творения, – а то, что происходит в пределах этих перспектив с предметами (домами и деревьями), создает иллюзию тех расстояний и натяжений, которые нам известны по восходам созвездий: будто из этой величественной развернутости и взаимосоотнесенности деталей выдвигается пространство, – явление, которое не воспринималось бы с такой убедительностью, если бы не воздух, принимающий во всем предметном неописуемое участие, заливающий все собой и делающий каждый промежуток, вплоть до задних планов, к их вящей радости, сценой многих прочувствованных (кто бы мог подумать!) превращений... Когда, моя любезная милостивая государыня, я смогу правдиво рассказать Вам обо всем (это заодно послужит и некоторым оправданием) – когда же, когда? – Ибо теперь, признаюсь, не исключено, что весь каринтийский план со всеми его последствиями может быть перенесен на будущий год. Дело не в том, что я могу решиться провести зиму в Мюзот, – для меня он слишком суров, слишком moyen-age, недостаточно мягок (в сущности подобные дома-крепости подходят нам лишь в том случае, если в них жили по-господски вплоть до Dixhuitieme, когда они были слегка «обставлены» и смягчены!), но как только я начал это осознавать – в борьбе с упрямосредневеково-грубыми стенами, – как появился (стараниями друзей) еще один (тоже швейцарский) зимний вариант, имеющий то преимущество, что по своим условиям он необычайно схож с моей прошлогодней зимней квартирой – замком Берг. Это дом того же типа, расположенный в той же части кантона Цюрих: главные соображения, склоняющие меня в пользу этого варианта; ибо поскольку я хочу как можно скорее обрести необходимую для работы тишину и в ней продолжить прерванное в Берге, – то квартира, не требующая значительных перестановок и позволяющая быстро в ней освоиться, была бы для меня наиболее желательной. К сожалению, я смогу поехать и осмотреть предложенный мне дом только в конце августа или даже в первые дни сентября и лишь после этого окончательно предсказать судьбу своей зимы. Если тот замчик мне приглянется, то меня ждет еще одна швейцарская зима, что всего несколько недель назад казалось мне абсолютно немыслимым. И в таком случае у меня вряд ли будет другой выбор, иначе как вплоть до переезда на новое местожительство продолжать пользоваться замком Мюзот и на время отложить все мысли о поездках. Сообщаю это вам, поверьте, с тяжелым сердцем! – Почти со столь же тяжелым, с каким я переживаю отказ от Лаучина. Я уже предупредил княгиню Марию, когда мы виделись с ней в Этуа, что не следует ждать меня слишком определенно, но теперь, когда с моим приездом действительно ничего не вышло, я все же чувствую себя виноватым перед ней: у нас было так много совместных планов на нынешний год, и к тому же – мы подсчитали это – я не был в Лаучине девять лет! Но, помимо этого, меня особенно угнетает еще и то, что в июне я не доложил Вам, какие живые и добрые воспоминания посетили княгиню Таксис при получении привета от Вас, – и как мне было дано поручение немедленно вернуть Вам сердечный привет... уже тогда, как вижу, начались мои безответственные упущения, – и уж совсем непростительными выглядят они, любезная графиня, рядом с Вашим намерением прислать мне те рукописи, которые, судя по тому, что Вы о них написали, должны быть для меня особенно интересными и желанными. При любых других обстоятельствах, зная о Вашем милом доверии ко мне, я бы обратился к Вам с просьбой немедленно дать мне ознакомиться с ними, но при теперешнем положении вещей я уже сам не решаюсь рекомендовать Вам отсылку. Вряд ли я смогу в ближайшее время улучить подходящий, исполненный безраздельного участия и внимания момент (о меньшем не может быть и речи!) для Ваших листков. – С этого чтения я бы предпочел начать свое ближайшее (и тогда уже по-настоящему спокойное) затворничество. Однако если Вас торопит необходимость возврата издателю (я знаю, что как только подобное железо легло на издательскую наковальню, ему уже нельзя давать остыть), то тогда я все же прошу Вас прислать мне их сейчас; в этом случае я отложу все остальное и уделю ближайший досуг, который отвоюю у «мюзотизма» и сопутствующих ему обстоятельств, тем работам, что не могут не быть сильными и прекрасными, ибо вышли из искреннего порыва Вашей юной души. Я с радостью предвкушаю это занятие как особенно отрадное: ведь оно сделает Ваш образ более осязаемым для меня и вдобавок усилит уже давно знакомое мне ощущение внутренней близости и привязанности к Вам. – Пожалуйста, передайте от меня огромный привет моему доброму другу Пурчеру, и, если Вас это не очень затруднит, поблагодарите от меня Александра Лерне за его написанное еще в 26 Тюрингии письмо. Щедрой компенсацией за опосредованный способ получения этой благодарности послужит для него то, что посредником будете Вы. Из-за ознакомления со страной и борьбы с Мюзот и чрезмерными проявлениями лета у меня накопилось столько задолженностей, что я напишу ему лишь позднее. На прилагаемой почтовой открытке Мюзот показан не так, как следует; сколько бы я ни ворчал на этот отвратительный дом, я все же должен заверить Вас, что он неописуемо привлекателен. Маленький сад с тех пор подрос и стал симпатичнее; Мьеж (соседний населенный пункт) отделен оврагом и находится вовсе не так навязчиво близко; а величественный тополь, расположенный впереди справа и задающий масштаб всему пейзажу, не попал на фото. Не говоря уже об атмосфере и цвете: впереди светлая вьющаяся зелень виноградника и прелестный, радующий глаз орешник, а между всем этим – оттенки одухотвореннейшей перспективы. И еще для слуха: тишина, сладчайшая и чистейшая, сопровождаемая журчанием пробегающего мимо имения потока, не говоря уже о домашней песне неиссякаемого источника перед моей башней-крепостью, которая, впрочем (пусть это будет сказано в оправдание ее претенциозного титула), всегда была полноценным маленьким замком – не составной его частью, но цельным добротным жилищем, какие в этой местности встречаются повсюду; его первыми владельцами были де Блоней, позднее – могущественные, нередко устрашающие де ля Туры (Шатийоны), – затем де Шевроны и (через брачные узы) де Монтеи, жившие там, должно быть, еще в XVII веке; позднее в Мюзот, вероятно, восседали фогты, а потом, в течение долгих медленных столетий – крестьяне... Занятно: в третьем этаже, где располагаются мои комнаты (внизу находятся Salle a manger и небольшая гостиная), сохранилась маленькое выбеленное помещение, именуемое «капеллой». Каменная рама низенькой двери (выходящей на лестничную площадку) сохранилась еще со средних веков, и над ней, в виде сильно выступающего рельефа, изображен почему-то не крест, а свастика! Довольно, моя любезная милостивая государыня, – несмотря ни на что, надеюсь на Вашу доброту и остаюсь всецело преданным Вам. Всегда Ваш Рильке 6. Норе Пурчер-Виденбрук Замок Мюзот-сюр-Сьер, Вале, 25 сентября 1921 года Любезная милостивая государыня, 23 августа Вы написали мне письмо и, исполненные доброго доверия, послали мне искренние и прочувствованные стихотворения: как же может не пугать меня дата, которую я вынужден указать в этом письме! Все сложилось хуже, чем я думал. Забота о своей «точной» зиме вынудила меня ко всевозможным поездкам (правда, в пределах Швейцарии), и даже сегодня я еще не знаю, останется ли моим прибежищем Мюзот, или же мне стоит воспользоваться гостеприимством друзей в кантоне Ааргау; все дело в отсутствии надежной экономки: найти такую представляется мне почти невозможным, особенно с учетом тех довольно тяжелых условий, с которыми ей пришлось бы справляться в Мюзот. А время идет, и моя уверенность в том, что я смогу обрести столь необходимое мне бескомпромиссное уединение в каком-нибудь глухом, полностью устраивающем меня месте (каковым год назад был славный Берг), слабеет день ото дня. Я говорю это не для того, чтобы обременить Вас хотя бы тенью своих забот, но лишь потому, что это единственное, чем я могут объяснить свое опоздание с ответом на Ваше письмо. Более же всего – хочу сразу в этом признаться – более всего меня огорчает то, что я не могу исполнить Вашу просьбу написать предисловие к этим стихам. Вы бы зашли слишком далеко, милая и уважаемая графиня, если бы увидели в этих словах осуждение того, что было сделано Вами от всей души: эти стихи родились из самого непосредственного впечатления, и большинство из них способны постоять сами за себя; порой встречаются строки столь совершенные по исполнению, словно содержание, отлитое в форму добросовестного изложения, было еще тщательно обработано сердцем. Все это я понял и прочувствовал в полной мере и пошел бы против своего искреннейшего убеждения, если бы признался в меньшем. И все же: по-моему, одна из роковых особенностей нашего времени заключается в том, что его всепроникающие стремительные потоки выхватывают подобные исповеди из ящиков письменных столов, из (увы, слишком проницаемых!) домов и мчат их – куда, куда? На суд общественности, заваливаемой куда более несовершенной, фальшивой и вымученной продукцией и не имеющей ни времени, ни способности быть более внимательной и восприимчивой к тому подлинному, что порой встречается в этой несущейся массе, нежели, скажем, к чему-то броскому или дешевособлазнительному. Разве (часто спрашиваю я себя) интерьеры не стали бы снова более жилыми, теплыми и душевными, если бы многое из созданного в них возвращалось обратно в виде отклика? Посудите сами: сколь велика, сколь полноценна мощь Ваших стихов в пределах Ваших четырех стен: это сила, не так ли? аромат, фимиам – всюду проникающий, всякую вещь обволакивающий и возвышающий; и как она разбавляется и теряется в огромном ветреном, рассеивающем пространстве публичности. Надлежит ли там быть тому, что происходит из сердца и души, – это, как мне все больше кажется, есть вопрос пропорциональности. Конечно, не следует недооцени- 27 вать влияние того, что правдиво и свидетельствует само о себе, но любому подобному действию соответствует особое силовое поле, и, быть может, ничто так не способствует царящей в мире анархии, как почти полная утрата осознания меры и соразмерности действующего. Те силы, которые, будучи оставленными на своем месте, стали бы центром контролируемой ими окружности, оказываются выброшенными в открытое пространство, где сразу лишаются соразмерности. Невозможно представить себе расточительства более злостного и бессмысленного, ибо все ограниченные области становятся беднее, в то время как открытое пространство ничего не приобретает от того, что в нем теряются изъятые оттуда напряжения. То, что определенные воплощения духа – если только речь не идет о простых сообщениях, – можно «опубликовать», есть нелепость, ныне уже наследственная. Любое подобное воплощение является центром некой малой или большой сферы, и насколько невозможно долго удерживать в своей личной собственности то из них, что обладает свойствами и соотношениями созвездий, настолько же невозможно усилить влияние другого путем выставления его напоказ. Самая существенная поправка, которой будет вынужден подчиниться мир, выродившийся в публичность, будет состоять в том, что ему придется вернуть всякую силу в подобающие ей рамки, – иначе все выльется в отчуждение отдельных сил, и тогда, все то, что мы сегодня называем искусством и духом, неизбежно окажется упраздненным вместе со всеми потайными уголками души и сердца. Та дружеская услуга, за которой Вы, любезная графиня, обратились ко мне по совету редактора, считается настолько легкой и мимоходной, что мне даже стыдно вместо ни к чему не обязывающего согласия приводить эти громоздкие рассуждения. Зато теперь Вы видите, что я не хотел отнестись к ней несерьезно. Какой смысл имела бы поверхностная вежливость между нами и, наконец, какая была бы от нее польза? – С другой стороны, я должен все чаще напоминать себе о том, что мое почти десятилетнее молчание накладывает особую ответственность на любые слова, какими бы я его ни нарушил: эти слова – то есть, все, что когда-либо будет мною высказано, – сотканы из материала невыразимых трудностей, испытанных мною за многие годы (особенно после 1914-го), и они будут тяжелыми и громоздкими от природы. Никогда еще я не был менее расположен к тому, чтобы выступать с легковесными, красивыми и случайными словами. Мне кажется, что отныне лишь Одно дает мне право говорить – то последнее, что имеет значение, Единственное, что необходимо. Передайте мой сердечный привет Пурчеру и поскорее уверьте меня в том, что разочарование, которое неизбежно принесут Вам эти страницы, все же ничего не изменит в том великом доверии, каким Вы удостаиваете и приводите в волнение Вашего, дружески преданного Вам Рильке. P.S. Изготовление печатной копии стихов для Ваших друзей, безусловно, встретит мое полное понимание и одобрение. 7. Карлу Зиберу Замок Мюзот-сюр-Сьер (Вале), 10 ноября 1921 года Мой милый Карл, как для тебя поначалу было внове использовать по отношению ко мне то обращение и приветствие, что давно стало привычным и естественным для Рут, так, разумеется, и для меня необходимость отвечать в том же духе связана с определенными трудностями – правда, лишь мгновенными. Ибо радость от вступления в те отношения, к которым нас обязывает Рут, уже перевешивает всю нерешительность и медлительность сердца; поэтому, милый, в том доверии к ней, что отныне простирается и на тебя, приветствую тебя сердечно и от всей души. Раз ты называешь меня так же, как Рут зовет меня с детства, – папочка – это обязывает меня к тому же, к чему обязывало по отношению к ней в самом глубоком смысле: осознавать, что ко мне обращается не просто мое дитя, но человек, связанный со мной великими и таинственными узами, возвышающий меня своим доверием ко мне. Лишь такое понимание может загладить то, что в противном случае следовало бы трактовать как мое упущение: что я не дал ей подлинно родственного элемента, т.е. постоянного общения и общности. Она чувствовала с детства, что это вызвано не равнодушием, не расчетом, не легкомыслием, но исключительно призванием к внутренним осуществлениям моей жизни, заставившим меня отказаться, после непродолжительной попытки, от работы над внешними. Меня можно упрекнуть в том, что моих сил и ума не хватило для того и другого; единственное, что я могу противопоставить подобному упреку, – это молча указать на те области, куда я направил все свои способности, и подождать, обвинят меня в конечном счете или оправдают. Пишу тебе со всей откровенностью, мой милый будущий сын, чтобы впоследствии не показаться тебе равнодушным и разочаровывающим под тем именем, которым ты меня называешь: все решения моей жизни давно приняты – я могу полностью принадлежать лишь одному делу: своей работе, и ради нее вынужден отказываться от многих больших и добрых дел, которые для других, и по праву, стоят на первом месте. 28 Только, пожалуйста, не делай из всего этого вывод, будто я недооцениваю значение того, что основано и закреплено в семье; если бы я видел за собой что-либо осязаемое, освященное традицией, я бы, наверное, несмотря на все внутренние задачи, счел своим долгом содействовать достойному росту на унаследованной почве. Но нашему роду, с тринадцатого века ведущему оседлый образ жизни, временами на обширной территории, не было суждено сохранить в непрерывности подобное плодоносное единство. Последняя попытка такого рода сорвалась при моем прадеде, помещике в Каменице-ан-дер-Линде, – и если для того, чтобы человек полностью обратился вовнутрь, требуется ряд суровых испытаний, то среди тех страданий, которые принудили меня к созданию внутреннего мира, одним из сильнейших было то, что я не видел себя закрепленным и укорененным в мире внешнем. Характер Рут (когда-нибудь я расскажу тебе о нем в доверительной обстановке) с ее самых ранних дней отличался удивительной цельностью; она была всегда как-то очень собрана в удовольствии и радости от данного, осязаемого, реального, – полна простой и непосредственной решимости принимать в нем деятельное участие; как же, милый Карл, могло меня не растрогать до глубины души то обстоятельство, что ты сможешь, в дополнение ко всему остальному, чем ты одаряешь любимую девушку, еще и обеспечить ей такое будущее, в условиях которого будут находить себе применение и развиваться ее спокойные и сильные задатки, залог плодотворной и открытой жизни! Вы будете вести скромное сельское существование, покоящееся на единственных твердых и вечных устоях, какие известны человечеству. Если даже случится так, что твоя профессия впоследствии заставит тебя временно проживать в больших городах, у вас до этого будет время заложить прочную и нерушимую основу вашей общности в той среде, которая наиболее близка и сродственна твоей душе: пусть же доверчивое и счастливое сердце Рут сделает для тебя твою родину неоценимым владеним , и пусть полностью осуществится все, к чему она стремится, – теперь, когда она чувствует под собой твердую и постоянную почву, которую я никогда не мог ей обеспечить и предварением которой был маленький Бреденау, чей запоздалый домашний уют она умела столь радостно и благодарно оценить! Клара черкнула мне на карточке привет от «всех из Либау». Я не знаю, кто именно входит в этот радушный коллектив, но в любом случае прошу тебя: распредели между всеми мой большой и сердечный привет. Для меня особенно важно, чтобы было засвидетельствовано мое искреннее почтение твоей матушке, которой ты, впрочем, и так прочтешь это письмо. Представляю, какой радушный и теплый прием – это чувствуется во всех письмах – оказали вам Клара и Рут в Либау! Я сгораю от нетерпения, можешь мне поверить, получить такой же. – До сих пор все мои силы уходили на то, чтобы устроиться здесь на уединенную (и, надеюсь, обильную трудами) зиму; далеко не просто отвоевать это у старинной башни Мюзот, где уже в течение столетий не было постоянных жильцов. Хлопоты отнимали столько времени, что я не мог ответить вам раньше: а делать это второпях и кое-как мне не хотелось! Всего наилучшего, милый Карл. Твой папочка Райнер Мария. (Прилагаю две карточки для Рут). 8. Регине Ульман Замок Мюзот-сюр-Сьер/Вале (1921) [?] Любезная моя Регина, сразу хочу признаться, что ждал новостей от тебя, уже в течение нескольких недель: я знал, что они придут. Наконец, сегодня они здесь и заполняют все мои мысли. Ибо когда в тот раз Твоя корова отведала меня здесь, меня и моих угодий, я все же не мог извлечь из этой ситуации столько же общего знания с Тобой, сколько она принесла Тебе отсюда. (Я почти не смеялся – лишь ровно в той мере, какую предполагали удивление и радость по поводу такого вида связи). Твои новости – Регина, в этом Ты должна мне поверить, – все же отрадны для меня и относительно точны. Я никогда не думал, что Тебе станет так «уютно» среди людей; для этого Ты живешь в слишком тесной связи с тем, что должно казаться им «Не-Уютным» и в чем Ты неизбежно остаешься одинокой. Но сколь много сторон у этого врожденного одиночества, от которого Ты ведь не захочешь отказаться ни за какую – по крайней мере, ни за какую человеческую – цену! И если этот Твой безграничный внутренний мир зачастую кажется Тебе «хаотичным», то Ты называешь его таким лишь в те моменты, когда Тебе хочется думать, будто Ты способна распоряжаться своей интимнейшей областью с той же легкостью, какую предполагаешь в других. Но даже если бы в Тебе и возникал порядок, постоянно обновляющийся и расширяющийся, Ты все равно никогда бы не смогла «пользоваться» им (что другие делают при любом мельчайшем «прогрессе»): это в такой степени Твой удел, любезная Регина, что одновременно он является и причиной Твоих своеобразных и несравненных приобретений. Лишь в тех, кто не контролирует ее, природа позволяет себе все оттенки своей безграничности, и то, что Ты, хотя она и проявляет себя в Тебе так, будто не подчиняется Тебе, все же отвоевываешь у нее в славнейшей борьбе нечто особо и абсолютно Твое: в этом мы с Тобой уже неоднократно имели случай – не так ли? – согласиться. 29 Как раз сейчас я перечитываю, в минуты досуга, Твою новую книгу – по вечерам в своем «слуховом кресле», – история о трактирной вывеске остается для меня таким же чудом, каким была при первом чтении: это Твой шедевр, Регина, в котором осознанные и неосознанные навыки неожиданно складываются в совершенное мастерство. В мастерство насквозь Твое и одновременно действительное для всех! Об этом когда-нибудь еще будет сказано очень много. Теперь, когда я перечел (вслух) эту повесть, оказалось, что моя радость и мое удивление – и то, и другое – не состарились за год ни на один день: свежая радость, новое удивление по поводу каждого места; это о чем-то говоритал. В данный момент я соблюдаю своего рода поста на письма и потому запрещаю себе писать очень много; мое перо должно экономить силы для работы, – для которой внешние обстоятельства в целом благоприятны; чего не скажешь о внутренних: после тех лет прерванности, последствия которых еще далеко не преодолены, мне по-прежнему необыкновенно трудно концентрироваться. Моя старая башня оправдывает себя; она часто представляется мне, по своему типу и природе, осуществлением тех условий, которые мы некогда пытались создать для меня в Бургхаузене. Ты не объясняешь мне, как следует, почему Ты поселилась именно в Регенсбурге – впрочем, достаточно того, что Ты это сделала. Передай от меня привет Эллен, – и заверь свою матушку в моей старинной привязанности. А теперь, Регина, прощай до следующего раза; будь, живи, терпи – уже в этом есть свой смысл – неважно, постигнем ли мы его когда-нибудь или нет. Райнер. 9. Франциске Штеклин Замок Мюзот-сюр-Сьер/Вале, 16 ноября 1921 года Дорогая Франциска, всегда нужно быть готовым к моим временным уходам в длительное молчание, – кроме того, я знаю, что Вы с давних пор достаточно уверены в моей неубывающей привязанности, чтобы простить мне любое, даже самое долгое. Но на сей раз я все же был неправ, так долго не давая о себе знать: ибо тем самым я заставил Вас переживать за дорогую Вам книгу, которую Вы, вероятно, уже давно считаете утерянной или пропавшей без вести вместе со мной. Сегодня, наконец, она возвращается к Вам, вместе с несколькими вписанными в нее строчками; сейчас я уже не помню, в связи с чем она Вам понадобилась, – тогда как раз начиналось то лето, которое впоследствии заявило о себе как самое неиссякающее и настойчивое после 1911 года. – Ваша посылка застала меня в кантоне Во, так как к тому времени я уже покинул замок Берг: с тяжелым, тяжелейшим сердцем; главным образом, из-за того, что работа, с которой я надеялся справиться в том благосклонном приюте, так и не была сделана – по крайней мере, не доведена до конца... В течение многих месяцев моим основным развлечением и занятием (по милости которого все остальное оказалось настолько заброшенным, что теперь перед мной лежит гора неоконченных писем) были заботы и хлопоты, связанные с поиском как можно более сходной замены бесподобному Бергу и подготовкой к зиме такого же отдаленного и защищенного retraite, где я мог бы продолжить то, что, к сожалению, не успел сделать в прежнем месте. Путь к достижению этой цели был долгим, так как поначалу дело вообще шло к тому, чтобы я уже в июне покинул добрую гостеприимную Швейцарию (коей буду благодарен за преодоление и зарастание глубоких разрывов последних лет – если, конечно, это станет реальностью) – но то непрерывно происходящее чудо, благодаря которому я уже третий год держусь на столь надежной почве, в самый последний момент возобновило свое действие, и именно ему я обязан тем, что в настоящий момент устраиваюсь и обособляюсь в одной старинной башне (в здешних краях именуемой «Замком Мюзот») посреди несравненно широкого, величественного ландшафта. (Непременно скажите об этом Лизбет Линк, всегда твердо верившей в то, что мое «чудо» повторится и оправдает себя). Передайте мой сердечнейший привет Вашей семье, Вашим близким и отнеситесь к моему опозданию со всем снисхождением, на какое Вы способны ради меня. Ваш Р. М. Рильке. 10. Гертруде Оукама-Кнооп Замок Мюзот-сюр-Сьер/Вале (Швейцария), 26 ноября 1921 года Уважаемая подруга, как приятно тронул меня голос Вашего участия и как глубоко я его оценил, в его тихом надежном звучании! Поначалу мне было почти досадно осознавать, что в результате широко распространившегося сообщения о помолвке Рут мое местожительство оказалось разглашенным в тот момент, когда я более, чем когда-либо, нуждался в уединении. Однако и это обернулось своей положительной стороной. Во-первых, потому, что именно при вступлении в подобный период затворни- 30 чества полезно заручиться столь надежными отношениями, – но все же главным образом из-за Рут. Ведь даже старейшие друзья, знавшие ее лишь крошечной девочкой, а позднее почти не видевшие, даже они сохраняют о ней с тех пор относительно точное и ясное представление, – и в ней самой, которая развивалась, так сказать, в прямом направлении, полностью сохранилось все то, что можно было распознать уже в раннем возрасте. Поэтому все, кто знает и знал ее, едины в оценке ее нынешнего решения как правильного и надежного – Вы, как я вижу, тоже так считаете, – что касается меня, то я испытываю к ее выбору и всему, что может из него последовать (сколь бы мало я ни был осведомлен и пригоден для того, чтобы быть осведомленным в дальнейшем), благосклонное, порой радостное доверие. Клара Рильке, вероятно, рассказала Вам, что Рут выходит замуж за одного из наследников своей бабушки Вестхофф, которая выросла там же, в имении по соседству с Либау, и в свое время покинула его со слезами. Я полагаю (ибо должность референдария в данном случае есть лишь упражнение в государственной деятельности, до поры до времени), что Рут станет помещицей, и это надежное и деятельное призвание прекрасно соответствует ее наклонностям и способностям (возможно, это как раз то, чего я всегда желал для нее, пусть даже и не вполне отдавая себе в этом отчет). Если сложится так, что я останусь в Мюзот до будущего лета, то в этом случае я думаю пригласить к себе Рут на несколько недель весны, которая начинается здесь очень рано: в восхитительном окружении здешнего величественного ландшафта и в спокойном повседневном общении с ним и со мной ее девичество, как я себе представляю, достигнет своего полноценного заключительного аккорда. До тех пор мое уединение – по крайней мере, я на это надеюсь – не должно быть нарушенным; я не знаю ничего другого, в чем бы так сильно нуждался, – ибо я далеко не восполнил в себе глубокие пробелы тех роковых лет, – хотя произошло многое, что способствовало этому восполнению, и мне, по большому счету, постоянно оказывается более существенная поддержка, чем та, которую я – если говорить о готовом к предъявлению результате – способен оправдать. (Ах, уважаемая подруга, какое немыслимое количество помощи я употребил в своей жизни без пользы! Допустимы ли подобные траты?) Мюнхен – когда Вы говорите, будто я «все еще избегаю» его, то мне становится ясно, что, собственно, я никогда не хотел туда вернуться, – ведь он... доказал свою полную непригодность для меня. До настоящего времени (сколько уже раз за эти два с половиной года я стоял на границе!) мне подыскивали сельское пристанище по всей Баварии, в Вюртемберге, даже в Каринтии, – но со сколь ничтожной надеждой на что-нибудь подходящее, точное, – и в конце концов я почувствовал невыразимое облегчение, когда чудо швейцарского гостеприимства, которым я продолжаю пользоваться по инерции, продолжилось новой главой – этой, возможно, самой своей необычной. Ибо этот Валлис (кстати, почему его никогда не упоминают при перечислении достопримечательнейших мест земного шара?) представляет собой бесподобный ландшафт; до сих пор я не мог оценить его достоинству, поскольку сравнивал его: с важнейшими из моих воспоминаний, с Испанией, Провансом (с которым он, впрочем, действительно связан кровным родством через Рону), но лишь когда я начинаю созерцать его как таковой, он открывает передо мной свои величественные пределы, и в них я постепенно различаю сладчайшую прелесть и сильнейшую, упорнейшую традицию. Вы помните вечера, когда мы, еще детьми, сидели перед переплетенными журналами с описаниями путешествий – быть может, не очень хорошими, но снабженными заманчивыми картинками, в которых мы видели весь смысл того, чему со временем надлежало стать частью нашего опыта, и это с почти скорбным нетерпением из-за столь многих предстоящих лет ожидания. Возможно, что к этому увлеченному созерцанию было примешано нечто еще более внутреннее – невыразимый страх умереть, прежде чем все это станет осязаемым и возможным: эти, именно эти ландшафты со всем характерным, что было в них вложено художником, эти ландшафты летних полдней и зимних вечеров – они становятся здесь возможными, подумайте только! Вот эти мосты, эти ворота, эти изящные, легкие и в то же время туго натянутые дороги, опоясывающие холмы подобно шелковым лентам, и в отдельных местах, то справа, то слева, крестьянские наделы, которые художник столько живописно уменьшил в размерах и которые, равно как и колодцы, остались незабываемыми. Холмы увенчаны замками, и даже города воспринимаются с определенного расстояния как нечто горделивое и статное: не как романтическое понятие, но как немыслимая реальность. Часовни, кресты миссий на всех перепутьях, склоны с полосами виноградников, покрывающих их своей обильной листвой, плодовые деревья, каждое со своей нежной тенью, и (верно, ах, как верно!) стоящие поодиночке взрослые тополя, позывные пространства, которые говорят: сюда! – и ни одной формы, ни одной – разумеется, одетой по-местному – крестьянки, которая бы не выделялась на фоне целого, как акцент или мерило, ни одной телеги, мула, кошки, присутствие которых не делало бы целое еще более широким, открытым, воздушным; – и этот осязаемый воздух между предметами, эта всезаполненность мира, когда кажется, будто только что прозвучал колокольный звон, благословенный, который опять же в некотором смысле (ягода за ягодой вслух!) напоминает о винограде! – Гете проезжал через Валлис, – и я воображаю себе, что у него есть рисунки, сделанные внимательной и чувствующей рукой, в которых он сделал своим 31 достоянием это полноценное присутствие отдельного и то, как оно в то же время ведет к ближайшему, остальному и отдаленнейшему в глубину перспективы. Быть может – и даже непременно – на один из этих рисунков попал бы и мой Мюзот, не как мотив, но как станция на пути в (ступенями уходящую в глубину) даль, как отметка расстояния до заднего плана – столь красивая, нежная и воздушная, почти бесплотная, почти невесомая – хотя и гора! – Получилось так много про Валлис. Но я все это время не забывал, что, собственно, хотел рассказать о том, почему Мюнхен был бы менее приемлемым для меня. Ибо если бы здесь рядом со мной был хотя бы один-единственный человек, пусть даже весьма деликатный и замкнутый в себе, то я бы не смог описать Вам все это так. Я показал и объяснил бы это ему, этому близкому, достойному доверия человеку – за скобками осталось бы лишь то немногое, что с трудом поддается выражению и передаче. – Это (называйте это слабостью, если так нужно) делает для меня с каждым разом все более невозможными все места проживания, где люди могут стать для меня столь дороги, что я начну относиться к ним слишком приветливо и открыто. Соперничество между общением и работой приобрело во мне в годы войны почти непримиримый характер – до этого местом моего жительства был Париж, где я в разные годы общался примерно с восемью людьми (причем, скорее дающими, нежели берущими), естественная изоляция (ах, и одновременно какая защита!) моего внутреннего мира. Но теперь уже дело и вправду обстоит таким образом, что я должен как можно меньше давать другим, ибо жизнь идет, и многие согласятся, что те годы, которые оказались для меня более или менее потерянными из-за войны и послевоенного неустройства, были бы, исходя из моего возраста и положения, наиболее ответственными для моей работы. (И остались пустыми! Ах, если бы пустыми: переполненными ужасом и скорбью). Вообще-то, речь здесь не идет о сожалениях, время и возраст становятся для меня все менее существенными; Господи, когда я думаю о том, какой поток переливается через края детства – могу ли я утверждать, что моя юность когда-либо имела конец?! И даже жизнь и смерть! Как открыты для нас пути от одной к другой, как близко почти-уже-знание, как почти уже стало словом то, в чем они сливаются в (пока безымянное) единство! Таким образом, это меня не пугает, и даже не имеет значения то, как отдавать (лишь бы только сохранить способность отдавать!) – ближним ли, берущим наряду со мной, или в творчестве: в конце концов, разница не так уж существенна. Тем не менее, общение с работой все же как-то старше во мне, с ней связаны невыразимые воспоминания всего моего существа, – она настаивает на своем праве, и мне в конечном счете ничего не остается делать, как признать его за ней. Осуществляется ли при этом действительно «творчество» или только настрой души, внутренне соответствующий ему по силе и чистоте, – одно стоило бы другого, и пребывать в одиночестве в моей старинной башне было бы уже немало. Ибо сколь бы сильно художник ни был уверен в том, что творчество – это лишь то, что осуществляется, живет и остается после нас, целиком правильная точка зрения состоит в понимании того, что даже эта необходимейшая реализация высшей видимости предстает при рассмотрении с предельного расстояния лишь средством приобретения опять же невидимого, целиком и полностью внутреннего и, быть может, неприметного – некоего более цельного состояния в центре собственного существа. (Подобные размышления – как, должно быть, глубоко они волновали, в определенные моменты, Герхарда Оукама Кноопа!) Еще один почтовый лист! Четвертый! – Не слишком ли это много, что я позволяю себе провести целый вечер за написанием письма к Вам? Но каким другим способом я могу загладить то упущение, что прошли годы, в течение которых я ни разу не сидел за высоким столом в том самом кресле в Вашем доме, которое я, несмотря на слишком редкое употребление, все же могу назвать в какой-то степени своим: столь радушно и заботливо принимало оно меня каждый раз. – Вообще, когда я, ища точек опоры, думаю о Мюнхене, мне вспоминаются не мои жилища (которые, пусть это не прозвучит неблагодарно, были поистине мнимыми жилищами), но несколько таких кресел, и прежде всего прославленное мною выше. Если бы мне посчастливилось занять его сегодня, я бы вел с Вами примерно такой же разговор, – затем мы, вероятно, добрались бы до книги Регины (в которой она, в повести о старой трактирной вывеске, превзошла самое себя и даже достигла совершенства), до книг вообще, насчет которых которых Вы бы многое высказали и предложили, – и в самом-самом конце, уже в прихожей (как это бывало в большинстве случаев), мне бы еще пришел на ум Поль Валери, важнейшее из того, чего Вам нельзя упустить. Возможно, это имя знакомо Вам уже давно; я знаю его, по его творчеству, лишь с этой весны, зато с тех пор он стоит для меня в ряду первых и величайших – да, великих. Это человек из, так сказать, окружения и, как можно выразиться с полным правом, школы Малларме; он рано заявил о себе замечательными размышлениями, навеянными образом Леонардо, и отдельными стихотворениями, и в то время не остался незамеченным, – затем, однако, на два десятилетия или чуть больше, отказавшись от всякой творческой деятельности, посвятил себя математическим штудиям и лишь в 1919 году снова предстал перед публикой. Во всем совершенстве. Поэт, который, казалось, пытался извлечь из тех занятий лишь новые соразмерности и точности для того, чтобы властно выразить величие пространства своих чувств и положение переживаемых в нем вещей. Возможно, что в ближайшее время я смогу выслать Вам фрагмент диалога «Eupalinos ou l`Architecte», напечатанный 32 в одном из последних номеров Nouvelle Revue Francaise. Насколько я могу судить, в последние годы не появилось ничего, с чем бы я познакомил Вас с большей охотой... И сколь же сильно – как это было всегда, когда я разговаривал с Вами, – ощущается присутствие Веры, не в связи со словами, как некогда, но также и внутри слов и за ними. Не правда ли – придет время, когда Вы спокойно расскажете мне о ней; – ведь тот поздний отчаянный вопрос о моем прибытии сделал меня наследником права принимать участие до конца и – наверстывать упущенное. И вот одна давно подготовленная, ныне же получившая окончательное поощрение просьба: с годами у меня наверняка снова скопится небольшое состояние, которое уже дает о себе знать, и когда-нибудь у меня снова появится крыша над головой, – так что предмету моей просьбы, вероятно, никогда не будет у меня столь уж плохо: отложите для меня (с тем чтобы когда-нибудь я получил ее в свои руки) какую-нибудь вещицу, которая была дорога Вере, по возможности, чтонибудь такое, что действительно было тесно связано с ней. – Благодарю. А теперь прощайте до следующего раза. Всем сердцем дружески преданный Вам Рильке. 11. Графине М. Замок Мюзот-сюр-Сьер, Вале, 2 декабря 1921 года Любезная милостивая графиня, Итак, на этот раз я не смог написать! ...Но: мы все в одинаковом положении: разрушительные влияния последних лет настигают нас то в одном, то в другом месте именно тогда, когда мы полагаем, что наконец-то убежали от них, причем с большим опережением: а они тут как тут. И, подобно тому, как в платяном шкафу накануне зимы всегда найдется вещь, истраченная молью, так и мы постоянно сталкиваемся с новым, внешним или внутренним ущербом, – с чем-нибудь испорченным по вине роковых обстоятельств вчерашнего и позавчерашнего дня. И надо иметь поистине непоколебимую убежденность, чтобы верить в улучшение или спасение столь многого поврежденного и тем более развить в себе уверенность в том, что большую часть разрушенного и истраченного можно заменить новым и лучшим. – Достаточно вспомнить все те конфликты, которые сохранили бы совсем иные, подвластные сдерживанию размеры, когда бы потрясения эпохи не вмешались со столь чудовищным одобрением во все, что несло в себе малейшую склонность к распаду. Произошло бы чудо, если бы вслед за этим (с позволения сказать) поводом к гибели, который все расшатал и подверг испытанию, – наступил покой, как вслед за тем пресловутым всемирным потопом! Un apaisement, une calme nouveau plus grand que jamais, l`heureux moment du renouveau, l`aurore d`un commencement pur et universel. Но после стольких сотрясений по-прежнему быть сотрясаемым и видеть, как почти повсюду злая воля и растерянность делают свое дело, отнюдь не очищенное и не обновленное, но точно такое же, из какого вышли неисчислимые беды, – вот худшее испытание после столь многого дурного. Если бы тогда, во время оно, когда потоп собирался отступить, существовали газеты, как сегодня, то я уверен, что воды не ушли бы или в лучшем случае под искусственным воздействием, благодаря изобретению какой-нибудь гигантской помпы, которая, как и положено машине, впоследствии отомстила бы людям за оказанную им помощь каким-либо иным ощутимым образом. Но это, любезная уважаемая графиня, в моем конкретном, относительно мелком случае означает лишь то, что к тому времени, когда пришло Ваше письмо, все стало для меня неопределенным, Мюзот, да и вообще сама возможность оставаться в Швейцарии и, кроме того, куда и все остальное. Практически все. И остаток этого настырного равномерного щедрого лета, заслужившего тем изобилием, которое оно предлагало изо дня в день, быть переносимым с совершенной беззаботностью, был израсходован мною на утомительные хлопоты и заботы о предстоящих месяцах, о зиме, в преддверии которой я считал своим долгом создать себе условия столь же охранительные и благоприятные для работы и уединения, какие были прошлой зимой. Наконец, по благоприятному стечению обстоятельств, все удалось спасти в самый последний момент, когда один мой швейцарский приятель снял для меня Мюзот и можно было с энергией приступить к обузданию и урезониванию этого по-прежнему несколько строптивого дома, отвыкшего за столетия от постоянных жильцов. Еще не прошло десяти дней с тех пор, как достижимое в этом отношении можно считать более или менее завершенным, так что теперь я уже не бьюсь и не работаю над своим домом, но (по крайней мере, я так надеюсь) могу начать работать в нем в своей – как всегда, весьма прерывистой – манере. В течение лета я время от времени встречался с людьми; более того, одна моя близкая знакомая самотверженно вызвалась помочь мне с благоустройством моего убежища и ведением хозяйства, – она совершила чудо и здорово потрудилась: ибо вдобавок ко всему случилась такая напасть, как невозможность нанять прислугу, ни за какую цену, – а когда, наконец, был заключен ангажемент и из кантона Золотурн была с большими трудностями импортирована «девица», как их 33 называют в Швейцарии, то вышеназванная девица оказалась столь неопытной и несамостоятельной, что потребовалась длительная выучка и тренировка, прежде чем удалось акклиматизировать ее в здешнем (не спорю, непривычном и во многих отношениях обременительном). Этот второй человек, без которого не обойтись: вот где проблема! В прошлом году, в Берге, где как раз все сложилось на редкость удачно, она была решена благодаря простой, естественной девушке, исполненной такта, приличия и покладистости, – но я сразу понял, что это исключение. Если бы у меня были силы изолировать себя лучше, то я всегда бы предпочел помощь равноправного сочувственного человека любым служебным отношениям (которые всегда являются чем-то двусмысленным и в некотором роде притворством: и это с тех пор, как в людях, вследствие социального просвещения, были подавлены инстинктивное и невинное осознание того, что «служение» есть столь же цветущая и плодоносящая форма жизни, как любое другое призвание, если только оно исходит от чистого сердца). Но любая равноправная, построенная на помощи, человеческая или дружеская связь потребовала бы от меня, такого, какой я есть, определенной степени общения, которое бы тут же подбило меня на неограниченные душевные расходы и заставило пренебрегать работой, почти неизбежно. Возможно, лишь в эти годы, когда мне надо наверстать так много работы и мыслей, это стало для меня столь рискованным, и все же я осознаю все отчетливее, что мне действительно следует сделать выбор между работой и общением, как если бы я на самом деле мог дать лишь Одно – либо то, что непосредственно сообщается ближним, либо же то, что сохраняется в сейфе художественной формы в течение более длительного времени и, так сказать, для более всеобщего пользования. Другие художественно работающие люди имеют (так, по крайней мере, кажется) уйму запасов для близкого и ближайшего общения, которое не только не истощает их, но, напротив, с его помощью они умножают свое наличное состояние и внутреннюю напряженность, каковые идут на пользу их художественному творчеству. В моем случае такого не было никогда – теперь же расхождение все больше превращается в перепутье, как если бы во мне было лишь Единственное, что оставалось бы сообщить либо так, либо этак, в зависимости от принятого решения, но что не может быть передано двумя способами одновременно. И хотя, с высшей точки зрения, как будто бы не имеет значения, каким способом, тем или иным, ты отдаешь свое последнее и главное: в незаметно продолжающих действовать словах к другу, или, более явно и обозримо, в долговечной форме творения, которое останется жить после тебя: тем не менее, все мои задатки и весь ход моей жизни все больше подталкивают меня к этой последней форме выражения и передачи (разумеется, не из тщеславия!) и в некотором роде обязывают меня к ней. Ну вот, опять эта вечная дилемма, возникающая из подобной предопределенности, и это многословие об одиночестве, которое хотелось бы обеспечить себе и защитить! В Париже оно было само собой разумеющимся и неподчеркнутым: там оно есть у всякого, кто нуждается в нем, и даже известность имени (которая мне там, разумеется, не грозила!) не обязательно является препятствием тому, чтобы быть одиноким. (Разве не был Бодлер: одиноким! Разве не был Верлен...?) – Насколько же, впрочем, хватает человеку на всю жизнь нескольких, пяти, шести, быть может, девяти настоящих впечатлений, которые, пусть в измененном виде, снова и снова возвращаются в сердцевину души. Так, я вспоминаю, как в молодости испытал колоссальнейшее разочарование, когда обеспечил себе один час одиночества в своей комнате за счет того, что под натиском любопытства, вполне обычного в семьях, объяснил, зачем мне нужен этот час, чему я собираюсь его посвятить: одного этого хватило, чтобы сразу обесценить завоеванное ограниченное уединение, как бы заранее лишить себя его. Тон, который был задан этому часу, погубил его невинность, завладел им, сделал его бесплодным, пустым, и еще до того, как я вступил в свою комнату, моя измена была уже там и наполняла ее всю до последнего уголка растраченностью, отсутствием тайны и тоской. (И насколько похоже то, что происходит сегодня! Неважно, действительно ли это так, или же все дело в том, что осадок от того раннего впечатления столь сильно влияет на все последующее и до сих пор довлеет над ним!) С точки зрения подобных впечатлений и нужно рассматривать существование детей, их разочарования и нередко столь безразмерные лишения, в которых они к тому же, когда те выпадают на их долю, еще даже не могут отдать себе отчет; ведь то, что сегодня, задним числом, кажется нам понятным, тогда, в момент претерпевания, воспринималось нами лишь как неохота, неблагополучие, как какое-то не-не-не... Ну, я все же надеюсь, что мы облегчили нашим детям или избавили их от многого в таком роде, и в этом отчасти нет ни капли нашей заслуги; просто определенные положения, вытекающие из психологических открытий, неважно, известны ли они нам или нет, непроизвольно стали в нас реальностью, и теперь мы действуем, руководствуясь скорее последней, нежели принципами и моральными прописями, которые, правда, еще остаются для нас в силе и которые мы считали своим долгом усвоить как родители, так сказать, «в силу профессии»... Всегда остающийся преданным Вам самым участливым и почтительным образом, Ваш Рильке. 34 12. Ксаверу фон Моосу Замок Мюзот-сюр-Сьер/Вале, 12 декабря 1921 года Дорогой господин фон Моос, Ваше письмо, до которого, казалось, было рукой подать, добралось до меня только сейчас долгими окольными путями, – и хотя я совершенно неповинен в его опоздании, я все же посчитал бы себя виноватым, если бы хоть чуть-чуть замешкался с подтверждением и ответом. По большому счету, я настроен говорить только о Ваших стихах: они вызывают у меня, скажу сразу, удивление и радость. Нет никаких серьезных оснований особо выделять какое-либо одно из четырех, которые Вы здесь даете мне прочесть; они как бы уравновешивают одно другое, они все хороши, точны и чисты в своих средствах, без фальши. Если мне будет позволено сохранить копию, лежащую передо мной, я время от времени буду браться за нее; но уже сейчас я уверен, что благоприятное первое впечатление сохранится в силе. Поверьте, нечасто случается, чтобы я находил возможным с одобрением отозваться на подобное послание младшего по возрасту: тем отраднее исключение, как в данном случае. Тем счастливее: написал бы Верхарн! Ибо всякий раз, когда он сталкивался с чем-либо удавшимся, он чувствовал себя счастливым; этого не забудет ни один, кому довелось испытать его одобрение и растроганность; когда дух и сила юного художника убедительно заявляли ему о себе, он мог ликовать над каждой строчкой, прочно стоявшей на ногах, и тогда его поощрение было безусловным, непоколебимым, он отстаивал его своей телесной силой, всем сознанием, всем своим существом. Сами сделайте вывод, что значили для человека его вера, его одобрение! Я имел счастье, в годы нашей связи, сполна испытать на себе и то, и другое; и хотя мой язык был для него недоступен, и он не мог получить верное представление о моих работах, он верил в мое творчество и поддерживал его во мне своей мощной натурой. И – я не знаю, но, возможно, ценнее всего для меня было то, что без какого-либо ощутимого для него доказательства, на основании того, что оставалось между нами невыразимым, он считал мою работу настоящей, необходимой и с первого момента относился ко мне соответствующим образом. – Я благодарен этому великому другу за неописуемую поддержку, которая плодоносила во мне тем более, что мужскую дружбу мне довелось изведать относительно поздно. Поэтому дружеские отношения с ним и Роденом были для меня бесконечно потрясающими и волнующими, и я сам еще далеко не в полной мере осознаю, что произвели и оросили во мне эти два влияния. Мое восхищение Верхарном возникло гораздо раньше нашей связи; – его ранние книги, особенно «Villes tentaculaires», непрестанно занимали меня в первые годы моего (почти двенадцатилетнего) проживания в Париже. Первой из его книг, врученной мне им лично, был томик «Multiple Splendeur», который я был заранее готов понять и принять всей душой. С тех пор мы виделись часто и все же (при неизбежном ныне сравнении с размерами утраты) далеко не достаточно. Он жил за пределами Парижа, в Сен-Клу, и то лишь по два-три зимних месяца в году: время от времени он, когда путь в город приводил его в мой края, неожиданно (для меня всякий раз вовремя!) появлялся у меня (и властное движение его сердца устремлялось навстречу мне); время от времени я (чья жизнь в Париже всегда была уединеннейшей), повинуясь внезапному порыву, выбирался из города и тянул за старомодный шнур звонка на двери его тесного и все же столь радушного жилища. И каким же гостем ты становился, едва переступив его порог; как просыпалась у тебя в душе вся традиция пребывания-в-гостях: прием, который он тебе оказывал, был настолько размашистым, настолько искренним, настолько совершенным, что ты становился большим гостем, гостем издалека, гостем до мозга костей, гостем из гостей, хотя бы уже ради равновесия. Довольно. Поскольку Вы основательно и любовно занялись творчеством Эмиля Верхарна, для Вас не должна остаться чуждой книга, в которой его ревностный немецкий переводчик, Стефан Цвейг, попытался описать образ поэта и историю своего тесного общения с ним. В данный момент эта публикация, к сожалению, для меня недоступна, – но, возможно, Вы еще не знакомы с книжечкой г. де Поншевиля, которую я прилагаю к письму (с просьбой вернуть мне ее при случае). В эту последнюю, конечно, уже вторгается вся разорванность войны, и когда она писалась, страшное уже произошло: Верхарна больше не было в живых... Я был бы рад, если бы страницы этого письма помогли тому, чтобы предмет Вашей лекции и, прежде всего, образ того великого поэта, которым мы оба восхищаемся, стал еще более дорогим и понятным для Вас. И продолжайте давать мне читать Вас: Искренне преданный Вам Райнер Мария Рильке. PS. Да, забыл сказать, что из статьи о Ходлере (которую возвращаю с письмом) я тоже с благодарностью извлек много полезного и ясно осознанного. 35 13. Профессору д-ру Вильгельму Флису Замок Мюзот-сюр-Сьер, Вале, 15 декабря 1921 года Не могу отложить в сторону Ваше письмо, уважаемый господин д-р Флис, не сказав Вам, с какой полнотой оно сумело возродить во мне осознание того, что Вы относитесь ко мне с участием и не забываете обо мне. Сердечное Вам за него спасибо! Не говоря уже о том, насколько для меня важно, чтобы постоянство такого рода исходило именно от Вас; мне кажется, что в моем случае дело обстоит следующим образом: то, что для того или иного является «родным», для меня (пребывающего в самом что ни на есть открытом и по сути беспочвенном мире) лежит именно в этом чувственном опыте: в ощущении поддержки участливым отношением со стороны верных друзей, – и я чувствую себя неописуемо счастливым и поддержанным всякий раз, когда несущая сила и гибкость отношений, прерванных на длительное время, подтверждаются невольным душевным порывом. При такой надежности я уверенно отдаюсь предвкушению радости того часа, когда мне, сидящему возле Вашего письменного стола, будет поведано все самое прекрасное и поддающееся непосредственному изложению из Ваших последних результатов. Кто знает, быть может, до этого осталось уже недолго. То, что Ваша работа медленно, но верно продвигается, это, безусловно, лучшее, что можно услышать о работе нашего брата. Моя по-прежнему сильно страдает от разрывов последних лет; с одной стороны, их последствия еще практически ни в чем не преодолены и не ушли на покой, с другой стороны, уже один опыт того, что с подобным разрывом человек духовный может столкнуться в любой момент, оставил в моем характере боязнь, которая невероятно затрудняет концентрацию, каковая прежде давалась мне без труда. Именно поэтому у меня нет, и пока не предвидится, ничего нового. И все же я посылаю Вам (возможно, Вы просматриваете их нерегулярно) три номера «Инзель-Шифф» с различными свежими публикациями; проза представлена описанием восходящего к детству, впоследствии продолжившегося впечатления, которое в конце концов все же напросилось на бумагу. Стихи представлены переводами. – Отправляя эту небольшую посылку, я думаю и о Ваших сыновьях, в чьем дружеском расположении Вы меня заверили столь убедительно. Передайте им мой привет... С благодарностью возвращая Вам рукопожатие, уважаемый господин доктор, остаюсь преданным Вам Р. М. Рильке. 14. Доктору Хейгродту Замок Мюзот, 24 декабря 1921 года Дорогой господин д-р Хейгродт, Вы передали мне (я получил ее вчера) через нашего общего друга, господина д-ра Ф. Хюниха, работу, в которой тщательнейшим и добросовестнейшим образом рассматривается моя литературная продукция. Слова, посвященные мне в этой книге, Вы, так сказать, подкрепили обстоятельнейшим делом: поэтому я сразу хочу заверить Вас, что ничуть не сомневаюсь в Вашем доброжелательном ко мне расположении, и с величайшей готовностью выражаю Вам свою благодарность. Господин д-р Хюних наверняка не скрыл от Вас, что у меня недостает решимости читать книги и статьи, посвященные моему творчеству; то, что я не могу принудить себя к этому, я долгое время считал слабостью, и, возможно, что отчасти был прав. Между тем где-то после 1907 года, под влиянием выдающегося примера (я Вам здесь же его назову), во мне вызрело убеждение, которое все же некоторым образом оправдывает эту позицию упорного отказа. Так вот, я считаю, что, коль скоро художник нащупал живую сердцевину своей деятельности, для него нет ничего более важного, чем придерживаться ее и никогда не уходить от нее (которая также является сердцевиной его натуры, его мира) дальше, чем до внутренней стены своего спокойно и равномерно осуществляемого творчества; его место никогда, даже на мгновение, не должно оказываться рядом со зрителем и оценщиком. (Во всяком случае, не в том окружении, где очевидное опускается до уровня двусмысленного и преходящего, до уровня вспомогательной конструкции, строительных лесов для чего-то другого). И требуется уже почти акробатическая ловкость, чтобы нацеленно спрыгнуть с того наблюдательного поста обратно во внутреннюю сердцевину и остаться невредимым (расстояния слишком велики, все опоры слишком неустойчивы для такой в высшей степени рискованной затеи). Большинство художников сегодня расходуют свои силы на это метание туда и обратно, и не только растрачивают себя, но и безнадежно теряются и теряют часть своей душевной чистоты в грехе восприятия своего творчества извне, его вкушения, его со-дегустации! Бесконечно величественным и потрясающим в личности Сезанна (и здесь я подхожу к вышеупомянутому «примеру») является то, что, в течение почти сорока лет, он постоянно пребывал внутри, во внутреннейшей сердцевине своего творчества, – и я надеюсь когда-нибудь показать, в какой степени неслыханная свежесть и девственность его полотен объясняется этим постоянством: их поверхность подобна мякоти только что сорванного плода, – в то время как большинство живописцев изна- 36 чально занимают по отношению к своим картинам позицию потребителей и дегустаторов и даже в самом в процессе работы обращаются с ними как зрители и получатели... (Я надеюсь, как уже было сказано, что когда-нибудь убедительно растолкую эту решающую, на мой взгляд, установку Сезанна; пусть она станет советом и предостережением для любого серьезного художественного намерения). Довольно о первом. Но господин д-р Хюних, вероятно, не скрыл от Вас и другое: сколь сильны мои сопротивление и протест против любого извлечения на свет и истолкования моего так называемого «раннего периода». В той степени, в какой Вы исходили из этого периода, я вынужден признать несправедливость и Вашего описания. Те, к сожалению, сохранившиеся пробы пера на самом деле не говорят ни о чем, они никоим, никоим образом не являются началом моей работы, более того, они представляют собой в высшей степени интимный заключительный этап моей детской и юношеской беспомощности. Если мне посчастливится когда-нибудь встретиться с Вами или более подробно изъясниться в письме, я, возможно, попробую представить Вам специфически австрийские и вдобавок весьма точно датированные по времени причины этой ситуации: не сомневаюсь, что тогда Вы склонитесь к тому, чтобы признать мою правоту. Не далее как вчера вечером я немного полистал именно эти, относящиеся к «юному Рильке» страницы. Досадно. Мне вспомнился упрек, который счел нужным столь недвусмысленно высказать мне Стефан Георге (около 1899 года, во время нашей единственной встрече, во Флоренции): что я слишком рано опубликовался. Как прав, как прав он был в этом! Вечно с этим публикованием... Ну да ладно, оставим это на следующий раз. – Итак, примерно на тридцати страницах Вашей книги утверждается много фактически неверного. Насколько было бы несправедливо разрабатывать Мальте Лауридса Бригге (о чем я предупредил господина д-ра Хюниха) как некую копь биографического материала, настолько же было бы несправедливо переводить те жалкие историйки, на которые Вы при случае ссылаетесь, в личностную плоскость. Нет, те интерьеры не передают окружающую milieu мальчика Рене! – Отсюда гора ошибок и ошибочных выводов, ударения сплошь и рядом расставлены не над теми гласными. Военная школа: ее колоссальное значение, ибо она стала ранним и абсолютным поводом к «обращению», к пути вовнутрь, вплоть до внутреннейшей сердцевины! Короче говоря, здесь все акценты следовало бы расставить иначе. Но как, спрашивается, чем можно было бы при этом руководиться, если даже те мелкие беспомощные произведения были не более чем симуляциями, мелкими вынужденными неправдами ради себяутверждения и себя-поддержания перед теми, кто был бессилен помочь твоему утверждению в собственных глазах. Поймите, дорогой господин Хейгродт: все это сказано не в упрек. Если бы я читал сочинения, посвященные моему месту в жизненном пространстве, сколько исправлений было бы в них внесено! Но если говорить о Вашей книге, то я нисколько не сомневаюсь, что, наряду с этим второстепенным ошибочным, она содержит бездну проницательности, бездну понимания и, прежде всего, бездну радости участия. И уже только эта последняя в любом случае служит оправданием! Примите мою благодарность! Хотя именно сейчас мне следует быть скупым на письма (растерянность последних лет попрежнему довлеет надо мной!), я все же был бы весьма обязан Вам, если бы Вы пожелали продолжать и сохранять наши отношения – весьма, кстати, осязаемые! – и в дальнейшем. Преданный Вам Райнер Мария Рильке. 16. Ильзе Блументаль-Вайс 29 декабря 1921 года Позволю себе ограничиться кратким дополнением, поскольку желание, высказанное Вами в письме от 26-го, к моменту его прихода было уже исполнено (см. прилагаемое письмо и сопровождение к нему – оба должны были уйти сегодня!) Да, голос Марианны Алькофорадо, монахини из Бежи, остается одним из чудеснейших, значимейших для всех времен – как для настоящего, так и для прошлого. Что бы ни менялось: крик всегда останется криком. (Разве что не всякая душа обладает столь сильным голосом в своем горе!) – Женщины не имеют ничего, кроме этого бесконечного занятия своей души, в этом все их искусство, в котором мужчины, – в целом занятые другим – принимают участие, то помогая, то мешая, лишь временно, как халтурщики и дилетанты, или, что еще хуже, как usuriers чувства. Одни, мужчины, обязаны быть деятельными, и то приятное, что они получают от женщин, заставляет их с еще большей силой и упорством погружаться в деятельность, куда они считают своим долгом вкладывать интенсивность, приобретенную в любви; – они уходят, их силы по сути всегда сосредоточены там, в их работе, там они учатся, там они связывают себя обязательствами, туда уходят с головой; время от времени возвращаются, наполовину безразличные, наполовину жаждущие, и почти уже не могут отличить, за исключением определенных моментов ухаживания, ловкость от неловкости, когда им приходится возделывать всегда ждущий, столь часто покидаемый, столь часто приходящий в запустение сад любви. – Таковы одни. Другие, женщины, не имеют ничего, кро- 37 ме этого сада, сами суть этот сад и вдобавок небо, и ветер, и безветрие этого сада, могут перемещаться только в своих собственных пределах, могут лишь покорно сносить бытие и смену времен года в ритме ожидания, осуществления и расставания. – Эту неодолимую участь голос португальской монахини выкрикивает сильнее, чище, чем любой другой голос, за исключением разве что голоса Сапфо – он имеет право на этот крик, вечное право (пусть даже в устах графа де Шамильи признание за ним этого права прозвучало несколько легкомысленно). К сожалению, я перевел те пять писем слишком поздно: тогда они уже были мне не так близки, как в то время, когда я впервые открыл их для себя (почти двадцать лет назад), – поэтому я и отказался снабдить томик своим предисловием или комментарием. – С умилением читаю маленькую вариацию, словно сыгранную одним пальцем на инструменте моих слов, в удивительно нежной тишине. Спасибо. Спасибо и за Ваши пожелания на будущий год. Пусть он принесет Вам и тем, кто Вам дорог, много добра. Нет, в этом средневековом manoir, который для меня снял один приятель, я живу в полном одиночестве. После ужасных разрывов во внутренней и внешней жизни, которые выпали на мою долю в последние злополучные годы, я нуждаюсь лишь в одном: в долгом, долгом одиночестве, по возможности нескончаемом. Только так я надеюсь хотя бы частично восстановить непрерывность моей внутренней работы и мысли. Ваш Р. М. Р. 17. Госпоже Аманн-Фолькарт Замок Мюзот-сюр-Сьер (Вале) Уважаемая милостивая государыня, как мило было с Вашей стороны столь ясно и наглядно представить мне в Вашей посылке и дополняющем письме основы «науки о сережках»; нет, после этого уже нет необходимости в добавочных или более точных сведениях: я убежден! Стало быть, никаких «висячих» вербных сережек (как это ни странно) не существует, и если бы даже было какое-то редкое тропическое исключение, я все равно не смог бы им воспользоваться. То место в стихотворении, которое я хотел проверить на вещественную достоверность, держится единственно на том, что читатель, первым чувством, схватывает и воспринимает именно это падающее сережек, в противном случае использованный там образ теряет всякий смысл. Значит, следует обратиться к наиболее типичной форме этого соцветия, – и мне, при взгляде на весьма познавательные иллюстрации в Вашей книжечке, сразу стало ясно, что тот кустарник, который, годы тому назад, вызвал у меня впечатление, использованное в моей работе, был, скорее всего, лещиной; чьи ветви, до появления на них листьев, густо-прегусто усеяны длинными, вертикально свисающими сережками. Итак, я узнал, что хотел, и заменяю в тексте «вербу» на «лещину». А Вас, любезная милостивая государыня, я благодарю за это уточнение и приятный сюрприз, в составе которого оно было столь неожиданно сообщено мне. Я еще извлеку из томика одно-другое полезное сведение, после чего – через несколько дней – он вернется к Вам. Всегда сердечнейше преданный и расположенный, Ваш Рильке. 18. Лу Андреас-Саломе Замок Мюзот-сюр-Сьер (Вале), Швейцария, 29 декабря 1921 года Милая Лу, из моего «до-послания» в тот раз ничего не вышло, отвлечение из-за всех неопределенностей и колебаний моего существования было столь сильным и продолжительным, вплоть до декабря, что мне недоставало досуга; в тот момент, когда, благодаря дружеской поддержке, все было подготовлено для моего пребывания в этом старом Мюзот, падение Бранденбурга и его униженное положение, казалось, в очередной раз поставили все под угрозу. Лишь только-только все устроилось так, что до поры до времени я сижу в своей старой башне; собственно, лишь теперь я начинаю пользоваться ее защитой, ее тишиной и не желаю себе ничего иного, кроме надежного затворничества и чтобы оно было долгим и непрерывным. Несмотря на некоторую оцепенелость, здесь все же очень сильно ощущается благополучие нейтральной территории и к тому же этот великолепный (напоминающий мне Испанию и Прованс) ландшафт. Я сделал все для того, чтобы удержаться в нем; и старые стены, за которыми я сижу, немало способствовали этим усилиям. Мне кажется – я как-то сразу почувствовал это, – что мой рабочий кабинет и расположенная по соседству маленькая спальня иногда, особенно ближе к вечеру, напоминают своим расположением, своими пропорциями, чем-то таким, что не поддается четкому определению, верхние комнаты в Шмаргендорфском «Лесном покое», принадлежащем госпоже Кье. Кроме них, на этом этаже находится еще лишь одна небольшая (пустая) комната, так называемая «капелла», с вполне еще средневековой дверью с каменным обрамлением, над которой, в виде сильно выступающего рельефа, изображен, как ни странно, не крест, но обращенная впра- 38 во «свастика». О доме, в котором я теперь живу один вместе с неслышной экономкой, можно было бы рассказывать долго, о ландшафте тоже, – и тогда мы, в конце концов, добрались бы до меня, и пришлось бы пуститься в бесконечные подробности. Но я полагаю, что лучше это будет сделать при встрече. Когда я снова выберусь в Германию (а благодаря помолвке Рут для этого уже в следующем году представится безотлагательный повод), я первым делом заеду к Тебе, если это придется на те дни, когда у Тебя будет время воспользоваться мною. Прежде всего, однако, должна состояться спокойная зима. Если она будет долгой и непрерывной, то я все же надеюсь продвинуться чуть дальше, чем в прошлом году в Берге, и если не нагнать себя, то, во всяком случае, продвинуться настолько, чтобы приблизиться к себе на расстояние одной большой передышки. Прерывистость военных лет оставила во мне невероятную трудность сосредоточения, поэтому я не могу обойтись без одиночества в самом буквальном смысле этого слова. Более, чем когда-либо прежде, любое общение соперничает во мне с творчеством, что, безусловно, бывает с каждым, кто все больше и больше подразумевает лишь Одно и, отдавая, будь то вовнутрь или вовне, отдает именно это, всегда то же самое, Одно. Несколько дней назад мне предложили собаку. Представляешь, каким искушением это было, особенно с учетом того, что уединенное положение дома делает наличие сторожа почти желательным. Но я сразу понял, что даже это будет предполагать слишком много общения, в случае моего согласия на подобного домочадца; все живое, что требует к себе внимания, наталкивается во мне на бесконечное признание-за-ним-этого-права, из последствий которого я затем вынужден с болью выпутываться, понимая, что иначе они полностью израсходуют меня. Ты еще в Вене, милая Лу? тогда передай от меня привет Фрейду; – я с радостью наблюдаю за тем, как он приобретает все больший вес во Франции, которая так долго притворялась глухой. Оттуда до меня доходит немногое, разве что слово-другое Жида; по-настоящему задевают меня лишь сочинения Поля Валери, одно из стихотворений которого, «Le Cimetière marin», мне удалось перевести с такой эквивалентностью, какую я ранее считал практически недостижимой в случае наших двух языков. Как только я снова обеспечу себя некоторым запасом собственных сочинений, я, видимо, попробую свои силы и в его прозе; у него есть чудесный диалог, «Эвпалин», – подобно всем немногочисленным работам Валери, исполненный такой выдержанности, спокойствия и хладнокровности слова, какую и Ты, я уверен, ощутила бы в полной мере. Поль Валери вырос из Малларме, лет двадцать пять тому назад у него вышел чудесный очерк («L`Introduction à la Méthode de Leonard de Vinci», который он теперь – в 1919 году – издал с необыкновенно замечательным предисловием; но начать у Малларме предполагало, что следующие полшага приведут тебя в безмолвие, dans un silence d`Art très pur, что, собственно, и произошло: Валери замолчал и занялся математикой. Только недавно, во время войны, в 1915 или 1916 году, у пятидесятилетнего снова возникла – еще более настоятельная, чем прежде – потребность в художественном выражении: и то, что с тех пор вышло из-под его пера, отличается величайшим своеобразием и значительностью. Но довольно, милая, милая Лу: пожалуйста, дай мне знать, как Тебе, Вам живется! Как и где? – Что получилось из маленьких чудовищ Хады?! Я часто вспоминаю о Тебе, о том времени между «двумя» рождествами – первым и русским... Надо же, Тебе удалось получить известие оттуда: трудно поверить, что там еще есть жизнь и что она может сообщать нам о себе. Видела ли Ты что-нибудь из публикаций издательства «Скифы», которое ко всему прочему издает журнал (на русском и на немецком)? когда предприятие делало первые шаги, мне об этом писал юный Рейнхольд фон Вальтер. И Пикар: видела ли Ты его книгу «Последний человек» – и – «Проселочную дорогу» Регины (с удивительной повестью «О старой трактирной вывеске»)? Хотелось бы узнать Твое мнение об этих двух книгах, если Ты не слишком занята другими вещами. Посылаю Тебе свое маленькое «préface» к рассказам маленького Клоссовски, целиком выполненным в картинках; мне было приятно вернуться на свой путь посредством французских фантазий ( ибо там ничто не передано языком конкретных идей). А теперь прощай и хорошего 1922 года. Райнер. PS. У меня зимует небольшой выводок божьих коровок (нечто подобное вполне могло случиться и в Шмаргендорфе); одна, особенно удачная – они не все одинаково хороши в условиях комнатной зимовки – только что пробежала по бумаге: прими это как добрый знак! 39 19. Ксаверу фон Моосу Замок Мюзот-сюр-Сьер/Вале, 30 декабря 1921 года Дорогой господин фон Моос, из-за неотложных дел я лишь сегодня собрался поблагодарить Вас за добрые слова, которыми Вы ответили на мое письмо. Нет, меня ни в коем случае не разочаровывает то, что Вы «крайне редко» пишете что-либо поэтическое и не предаетесь надеждам достичь в этой области чего-то совершенного и законченного. Напротив, меня скорее радует видеть в Вас эту сдержанность в эпоху, когда границы царства художественного творчества почти все опрокинуты и повержены теми, кто хочет, чтобы все было посредственным. Выбор какого-либо другого определенного, конкретного ремесла (какому бы Вы хотели себя посвятить?) именно в Вашем случае (когда строительный материал языка, повидимому, уже заготовлен) не станет препятствием к тому, чтобы уверенно создавать, когда для этого настанет время, нечто ответственное и необходимое. Мне хотелось бы подчеркнуть, что моя вера в Вас, в этом смысле, исключительно тверда. К тому же, если уж на то пошло, перед Вами есть множество примеров тому, что высочайшую должность души можно исправлять по совместительству безо всякого для нее ущерба: вспомните Малларме, – или, что намного ближе, Вашего великого Шпиттелера, чьи наиболее непреходящие, как я считаю, творения возникли в то время, когда он был далек от того, чтобы вкладывать все свои силы в это величественное служение. А Поль Валери, который вообще молчал на протяжении двадцати лет и, насколько я знаю, занимался математикой, да еще и наряду с исправлением должности чиновника, – кто знает, не обязан ли он выдержанностью и законченностью своего поэтического слова именно этому долговременному воздержанию? Когда мой отец в свое время потребовал от меня, чтобы я занимался искусством – в коем я видел свое предназначение – между делом (наряду со службой офицера или юриста), я, естественно, ударился в самый энергичный и упорный протест: однако это целиком объяснялось нашими австрийскими условиями и той тесной средой, в которой я рос; создавать в ней что-либо настоящее и стоящее, да притом еще следом за художественной разреженностью восьмидесятых годов минувшего столетия, было бы, при распылении сил, абсолютно немыслимо, – мне, чтобы только начать, пришлось полностью освободиться от условий семьи и родной страны; стать одним из тех, кто лишь позднее, на второй родине, смог испытать силу и выносливость своей породы. С тех пор многое стало другим. Проделано много первопроходческой работы, искусство вызволено из неволи, воздух и пространство были (по крайней мере, до войны) у всех, кто внутренне в них нуждался... И поскольку я сам не раз пожалел о том, что не состою на повседневной службе, которую, независимо от перемен фортуны, можно было бы всегда, ежедневно исполнять с чистой совестью, то я посоветовал бы любому молодому человеку хотя бы на время посвятить себя такого рода деятельности, прежде чем полностью отождествить свое существование с неумолимыми требованиями художничества. Передаю Вам наисердечнейший привет и желаю больших успехов и свершений в новом году. Ваш Р. М. Рильке. Копию стихотворения Верхарна, перевода, прошу оставить себе; все три копии были предназначены Вам. 20. Э. Д. Замок Мюзот-сюр-Сьер/Вале, 4 января 1922 года (вечером) Ты только представь себе: Твое письмо добралось до меня в первый день нового года (правда, в составе столь обширной и столь немаловажной почты, что для одного раза это было едва ли не слишком много: тем не менее, оно заняло свое место и вызвало здесь свою особую радость, и пока я не остыл от нее, выражаю Тебе свою благодарность). Благодарность за то, что Ты исполнила мою, как Ты пишешь, «большую просьбу»... да, но действительно ли Ты сделала это? – Ты постоянно напускала в те будни, которые взялась описывать, так много пространства, пространства и межпространства, небесного пространства, космического пространства и всех пространств самой широкой перспективы, что Твой образ уменьшился в них до размеров мельчайшей фигурки: я надеялся на интерьер, но, едва добравшись до него, Ты уже упомянула орган... и скрипку,... и снова разбудила безграничное, чтобы тут же исчезнуть в нем. Лишь в саду я вроде бы различил Тебя на мгновение, но вот уже снова Тебя окружили, заслонили от меня двадцать юных созданий и их «беспомощные» грабли. Ну, ладно, ладно. Ведь и я – если бы я только мог показать Тебе, какой же я крошечный, уже многие годы, рядом с тем, что я наметил для себя или что на меня возложено: Я сразу оказываюсь заслоненным всем этим; к тому же то, что просится быть сделанным, следовало сделать еще около 1914 года, – и хотя теперь задача не стала больше, ибо уже тогда была огромной и по сути 40 безразмерной, – но злополучные годы катали меня в своих волнах, словно гальку во время прибоя, и почти сточили мне душу, так что теперь она выглядит непропорционально маленькой на фоне величайшей из когда-либо бывших у нее задач. Перевести великолепные сонеты Микеланджело, адекватно переложить их на немецкий – эту задачу я наметил себе уже много лет назад, из протеста по отношению к существующим переводам, полным неточностей, этаким детским играм в рифмы, за исключением тех немногих, в которых продемонстрировал свое негромкое мастерство Герман Гримм. Нет, разумеется, я не высказываю в них Мое, когда берусь выражать их на своем языке; (кто я такой, чтобы сметь это). Да и они не являются свидетельствами о всей жизни Микеланджело; подумай, насколько второстепенным занятием они были, и какое исполинское творение возвышалось рядом с ними (: иногда они производят впечатление очерка его злоключений, – и, быть может, злоключений всякого художественного творчества!) Воспринимай их именно так, не соотноси их со мной: не о моих злоключениях в них речь. И если бы я даже попытался систематизировать свои в сонетах, вышло бы несправедливо: ибо рядом со мной не было бы никакого другого творения, которое бы превосходило подобную попытку.. Действительно, в те дни я очень чувствовал Тебя: причем более всего не десятого, когда я писал: скорее, несколькими днями ранее или вскоре после – (двенадцатого? Уже не помню). Но там, где Ты хотела бы со мной встретиться, я не был намеренно; я ни разу не слышал (если быть точным, за одним исключением: по просьбе Гофмансталя Лия Розен, много лет тому назад, прочла стихотворение «Слепая») и не хочу слышать даже одной своей строки из чужих уст: покуда я еще жив, я знаю лучше и не хочу, чтобы мне мешали. Разумеется, начинать с более старых вещей (ради системности) было в корне неверно, особенно в моем случае, когда почти все старое, за исключением Часослова, никуда не годится. Нет, никто не вправе преждевременно лепить что-то цельное, законченное из того, кто, подобно мне, только-только отправился в путь, у кого еще так мало сделано... А у Тебя, стало быть, теперь зима, моя садовница, и Ты в плену. И, как я вижу, переселилась в новую темницу. Устройся там с размахом. Затей что-нибудь грандиозное. Р. 21. Госпоже Гертруде Оукама Кнооп Уважаемая подруга, что я могу сказать? – Насколько Вы недавно были не в состоянии, после переписывания тех заметок, добавить к ним пару слов от себя, настолько же и я сам не в состоянии писать Вам о себе, пока я еще читаю те страницы, склонясь над ними, безотрывно, не обращая внимание на все окружающее. Я не подозревал обо всем этом, даже об истоках той болезни я не знал ничего сколько-нибудь точного, – и вот внезапно оказался посвященным в то, что столь многообразно задевает, трогает, потрясает меня. Если бы эти строки касались какой-нибудь незнакомой молодой девушки, то и тогда они почти растрогали бы меня. А здесь речь идет о Вере, чье скромное, своеобразно сконцентрированное обаяние столь несказанно незабываемо и столь неслыханно живо для меня, что теперь, когда я пишу эти строки, я боюсь закрыть глаза, чтобы не почувствовать, как оно покоряет меня, в моем здесь-и теперь-пребывании. Насколько, насколько, насколько же она была всем этим – тем, о чем столь глубоко и неопровержимо свидетельствуют эти воспоминания о ее боли, – и, не правда ли?, насколько удивителен, насколько неповторим, насколько несравним человек! Именно тогда, когда внезапно все стало иссякать, все то, чего могло бы хватить для долгого здесь(где?)-существования, возник этот избыток света в душе девушки, и в нем предстают, столь бесконечно озаренными, два крайних рубежа ее ясного понимания: то, что боль есть иллюзия, некое чудовищное недоразумение, берущее свое начало в телесном, которое вгоняет свой клин, свой каменный клин, в единство Земли и Неба, – и, с другой стороны, это единственное в своем роде единение ее для всего открытого сердца с этим единством существующего и длящегося мира, это присяга жизни, эта радостная, эта проникновенная, эта сохраняющаяся до последнего принадлежность к Здешнему – ах, только ли к Здешнему?! Нет (чего она не могла знать при этих первых предвестиях разлуки и ухода!) – к Целому, к намного большему, чем Здешнее. О, как же она любила, как простирала антенны своего сердца надо всем, что здесь можно охватить и объять, – во время тех сладких неверных пауз между страданиями, проникнутых мечтой о выздоровлении, какие были ей еще дарованы... Создается впечатление, милая подруга, что такова Ваша доля: выходя за обычную грань, достигать самого края утеса жизни, нависающего над пропастью смерти, каждый раз с еще более обнаженным сердцем. Теперь Вы и живете и глядите на мир и чувствуете, исходя из бесконечного опыта. – На меня же, глубокоуважаемая, на меня вступление во владение этими страницами в первый вечер нового года как бы наложило великую обязанность осуществить самое сокровенное, серьезное и (пусть даже я достигну этого лишь в самой отдаленной степени) благословенное, что во мне есть. Ваш Рильке. 41 22. Норе Пурчер-Виденбрук Замок Мюзот-сюр-Сьер/Вале, 12 января 1922 Любезная милостивая государыня, я опоздал: и, честно говоря, мне нечего привести в свое оправдание, – разве что позволить себе, пользуясь Вашей благосклонностью, представить в качестве такового то, что, следуя Вашему пожеланию, я пришел не с пустыми руками. Я просто был обязан сделать это после того, как получил Ваше милое доброе послание, в сопровождении столь приятных дополнений. Как сердечно Вы меня порадовали ими! И прежде всего остального портретиком под названием «Нора и Нина Пурчер», где представлено столь очаровательное счастливое единение. Насколько прелестно плутовато-скрытное выражение маленького и, говоря Вашими словами, «солнечного» созданьица, которое пользуется покровительством природы и, вероятно, радует Вас обоих всегда новой и подлинной правдивостью и душевностью жизни. – Собираясь выразить Вам задним числом свои пожелания, я начал с нее, с Вашей дочурки: пусть же и 1922 год начнется с того, что будет радостным и обнадеживающим для маленькой Нины, и, как следствие, станет добрым и плодородным во всех своих проявлениях для Вас и моего друга Пурчера. Сразу вслед за портретом я занялся, насколько в этом могли помочь рисунки, Вашими чудесными окрестностями: если бы начавшийся год предоставил мне возможность увидеть все это не только Вашими, но и своими глазами! Вы оба многое рассказали и восхвалили в своих рисунках, – и в конце концов, представьте себе, мне стал интересен не только предмет, но и сам язык, «выпевание» этой хвалы, предстающее в величественном «Виде на Вёртерзе» Пурчера и в Вашей легкой милой «Вилле на берегу озера», столь разным и в то же время столь единым, согласным. А то, что Вы, ко всему прочему, имеете в своей собственности мою гербовую собаку, да еще столь замечательно красивый экземпляр, – не могло быть воспринято мною именно теперь иначе, как призыв! В маленькой книжке, которую я высылаю Вам с этой же почтой, не забыта (на этом месте моего «préface» Пурчер испытает свою неизменную милую радость!) тема собак, – пусть даже под предлогом кошки «Мицу». Речь идет о небольшом préface на французском языке, написанном мною, чтобы сделать приятное мальчику, который, как Вы увидите, запечатлел в виде сорока спонтанных рисунков первое aventure своей жизни, ставшее для него знаменательным вследствие того, что завершилось настоящим горем, первым горем – grandeur nature ou meme plus que... все это было нарисовано тайком, спустя год после утраты Мицу, как своего рода дневник; – мы обнаружили его лишь позднее, первоначально мой маленький друг был бесконечно далек от мысли о публикации. – Поскольку Вы оба, в силу своей профессии, являетесь не просто созерцателями этих картинок, – то для Балтуша и меня будет очень важно когда-нибудь услышать, как Вы оцениваете его первый опыт. К сожалению, в результате слияния типографской краски при репродуцировании несколько картинок получились грязноватыми, нечеткими, почти неузнаваемыми; это не должно быть поставлено в счет художнику. – А теперь разглядывайте; и – по возможности – радуйтесь вместе со мной этому правдивому рассказу, который делает слова излишними и заменяет их столь спонтанно, пользуясь запасом непроизвольных, детских (и, тем не менее, уже настолько освоенных!) форм. На сегодня заканчиваю, уважаемая любезная графиня. Мой тихий Мюзот оправдывает себя, – лучше, чем я оправдываю себя в нем. Плохо, что необходимость прилагать огромные усилия для концентрации, преследующая меня со времен войны, до сих пор еще дает о себе знать. Где тот легкий счастливый уход-в-себя, каким я знал его раньше! Ныне он превратился в борьбу с реальными, воображаемыми и всплывающими в памяти препятствиями, – но я все же надеюсь, что покой и уединение со временем помогут мне одержать маленькую или среднюю победу. Помогите мне в этом дружеской поддержкой в виде Вашего любезного соучастия и памяти. Всегда сердечно преданный Вам Рильке. 23. Доктору Хейгродту Замок Мюзот, 12 января [1922] Дорогой господин д-р Хейгродт, я рад, что Вы смогли оказать моему письму, попавшему к Вам через господина д-ра Хюниха, этот радушный, даже радостный и всесторонне сочувственный прием. Жаль, что на ближайшие месяцы я вынужден строго ограничить свою все более разрастающуюся переписку, а то бы я не смог устоять перед желанием и соблазном более подробно остановиться на тех или иных местах Вашего письма, а также дополнить то послание, поводом к которому послужило существование и присылка Вашей книги, еще не одной страницей. В данный момент я должен себе в этом отказать; но, поскольку на высказанное мною пожелание не терять друг друга впредь Вы ответили таким же пожеланием, то я позволю себе радостно уповать на то, что в свое время многое, что нас связывает, вступит в свои права. Пока лишь столько: я прекрасно понимаю, что даже тот, кто является предметом интерпретационно-биографического описания, обладает лишь одним голосом в совете подлежащих вы- 42 явлению связей; голосом, к которому, безусловно, следует внимательно прислушиваться, но не более того. И хотя я, склонный игнорировать все, что выявляют подобные интерпретации, не считаю важным пользоваться этим голосом, мне, тем не менее, всегда казалось, что наш брат вправе считать своим наиличнейшим делом окончательную замену любого имеющего или имевшего место факта путем его преображения в нечто более возвышенное и чистое. Мой инстинкт заходил в этом смысле настолько далеко, что ни военная школа, ни время, проведенное в России – две самые решающие эпохи моей внешней жизни, – не смогли побудить меня взяться за описательные или повествовательные изложения. Все было изначально рассчитано (и примеров тому гораздо больше) на упомянутое преображение (и я осуждаю и отвергаю как вводящие в заблуждение любые ссылки на ту псевдо-продукцию своей юности именно потому, что они не способны ничего преобразить и, соответственно, не способны ничего дать). Поверьте, я бы с готовностью согласился, и это устроило бы меня больше всего, выполнять каждую новую задачу на своем пути под новым именем, – подобно старику Хокусаю, на которого это оказывало столь окрыляющее и омолаживающее воздействие. Роден, когда я, в период моих первых попыток высказаться о его творчестве, задал ему вопрос о его детстве и юности, указал на это самое свое творчество и сказал без обиняков: «moi – ? j'étais quelqu`un; ce n`est que plus tard que l`on commence à comprendre». Эта отговорка разочаровала меня ввиду лежавшей на мне задачи, зато насколько глубоко, с другой стороны, я понял ее. Хоть бы когда-нибудь (это мое единственное желание) я смог указать на нечто вполне законченное, чтобы оно ответило за меня. – Да и кому, наконец, польза от того, что начерчены эти связующие вспомогательные линии? Ведь творчество является самим собой лишь настолько, насколько оно стало самостоятельным, и те потрясающие произведения неизвестных мастеров, которые сохранились, нимало не проигрывают по силе воздействия и жизненности из-за того, что мы не может ассоциировать их с судьбами и характерами их творцов. Что же касается тех, кто стоит перед произведением искусства, создатель которого еще жив или, по крайней мере, еще может быть установлен, то просвещать их относительно него – это значит оказывать им сомнительную услугу. В распоряжении нескромной публичности нашего времени находятся всевозможные приспособления, позволяющие ловить и оценивать автора за его ширмой, и сами художники любыми способами идут навстречу и даже опережают это откровеннейшее любопытство. По-моему, люди не распознали опасность, которая, при таком непрерывном обнажении творящего, нависает над всеми теми, кто еще находится в процессе становления, – или же, быть может (если сказать злее), люди желают этой опасности, чтобы раз и навсегда разделаться с этой ненужной métier. Из-за подобных разоблачений судьба произведения искусства становится все более проблематичной. Публика давно забыла о том, что произведение искусства является не предлагаемым ей предметом, но целиком воздвигнуто в воображаемом бытии и длительности, и что его пространство, именно это пространство его длительности, лишь мнимо идентично пространству публичных перемещений и перетасовок. Тщеславие творящего, с одной стороны, с другой – его размягчение и расслабление, ибо он всегда считал своим долгом непосредственно делиться помощью и целительной силой с нуждающимися, заставляют его непрерывно поддерживать и усложнять заблуждение получателя искусства. Мне кажется, что величайшая и настоятельнейшая задача искусствоведения в противовес этому роковому положению вещей заключается в том, чтобы создавать для произведения искусства особые неописуемые условия, которые в прежние времена обеспечивались для него естественным наличием вневременных, высвобожденных, предоставленных Божественному мест. В храме, в соборе, даже в центре домашнего хозяйства, очаг которого, помимо насущной полезности, инстинктивно воспринимался как нечто значимое еще и в силу своего неугасающего огня: художественный предмет жил своей обособленной и, тем не менее, на все (более бренное) воздействующей жизнью. Где его место посреди нынешней толкотни? – Сегодня, когда зримость Божественного (наряду со всеми значительными ценностями, например, ценностью денег, которые давно уже не равны золоту) все больше и больше убывает, – и даже сама судьба, со своими решающими движениями и событиями, все больше и больше отступает в незримое, и становится все труднее предложить видимый эквивалент Сущностному, произведение искусства возникает как нечто уже изначально вытесненное из мира, который до мозга костей проникнут мнимостью. – Несмотря на это, мы его создаем, – поскольку не можем иначе, – несказанно теснимые и подавляемые теми недоразумениями, на откуп которым оно, будучи глубоко неумышленным по своей природе, отдано, и невредимые и правые в своем творчестве лишь в течение того времени, пока мы как можно меньше знаем о том восхищении или осуждении, которое оно вызывает и возбуждает снаружи. (Здесь снова можно было бы привести великий пример Сезанна, его своенравный выход из положения). В такое время, как наше, гораздо важнее (подведем итог) обеспечить надежное положение произведения искусства по отношению к получателю, нежели исследовать его связь с творцом; на будущее нет более неотложной задачи, чем отвлечь от него все внимание и – предоставить ему свободу действий. Теперь Вы видите, любезный господин д-р Хейгродт, сколько просится на язык, а ведь я хотел быть кратким, – что было бы, если бы я позволил себе быть подробным! С добрыми пожеланиями Вашей работе, преданный Вам Р. М. Рильке. 43 24. Ильзе Блументаль-Вайс Замок Мюзот-сюр-Сьер, 25 января 1922 года Милостивая государыня, два Ваших добрых и, как всегда, прекрасных письма ждут ответа; но я изначально ограничиваюсь этим листом, поскольку отныне для меня действительно начался, во всей строгости, период эпистолярного поста, во время которого я – возможно, в течение нескольких месяцев – буду позволять себе лишь неотложнейшие исключения, изложенные в кратчайшем виде. На этот раз начну с выражения своей надежды на то, что Вы справились со своим недомоганием и всеми сопряженными с ним неудобствами; впрочем, Вы извлекли из него также и изрядную долю покоя и внутренней занятости, поводом для каковой Вам послужили «Записки Мальте Лауридса Бригге». Благодарю Вас за глубокое участие, с которым Вы отнеслись к этим страницам, чье возникновение восходит к ныне уже далекому прошлому (что, впрочем, относится ко всем моим публикациям). Все личное и сокровенное, что в них вошло, претерпело бесконечные превращения и переиначивания; для того и доверены нам, тем, кто занимается художественным творчеством, жизнь и судьба, чтобы мы возводили их в доступнейшую степень определенной значимости; когда это возведение удается, то происходившее в действительности оказывается замененным на другое и более не стоит слов. Да и в самый момент переживания – где проходит граница личного? Тот, кто настраивает свои чувства на честнейшее и искреннейшее участие в мире, не побывает ли он в конце концов всем? Разве не лучше и не выгоднее всего рассуждать именно таким образом? Подчиняясь диктату листа, заканчиваю и использую оставшееся крошечное пространство, чтобы пожелать Вам всего наилучшего. Ваш Р. М. Рильке. 25. Альвине фон Келлер Замок Мюзот-сюр-Сьер (Вале), Швейцария 26 января 1922 года Уважаемая милостивая государыня, Э. К., наша общая добрая знакомая, поручает мне ответить на письмо, которое я только что получил от нее, письмом к Вам, и я делаю это тем охотнее, что – после тех добрых строк, которые Вы написали мне год назад – Ваше имя стоит в моем списке; однако, вопреки тогдашним перспективам и надеждам, я так и не собрался лично выразить благодарность за столь приятный знак внимания. Письмо Э. К., Вы знаете его содержание, занимает меня в высшей степени, – я бы охотно поразмыслил над ним, но вынужден, ничего не поделаешь, сразу сказать «Нет», которое так или иначе увенчало бы все мои соображения. Той попытке, которую она спонтанно предлагает, противостоят практические трудности, почти непреодолимые; – но дело не только в этом. Именно в данном случае было бы недопустимо приблизить к себе удрученного молодого человека и в то же время не уделять внимание и сочувствие его конфликтам, не находиться рядом именно с этой целью. Моя натура, даже вопреки моей воле, заняла бы именно эту позицию; я, однако, не вправе подвергать ее риску, располагая собой таким образом в тот момент, когда я наметил себе внутренние задачи, малейшее отвлечение от которых вовне чревато такими помехами, что мне пришлось наложить на себя строжайшее уединение; я живу в отрыве от людей, отсутствие которых переношу с тяжелым сердцем, – надеюсь, это может служить оправданием тому, что я запрещаю себе теперь оказывать какое бы то ни было влияние личного характера, даже самое непроизвольное, – и мне было бы трудно не перейти эти границы ради симпатичного, внутренне страдающего молодого человека. Этим, конечно, не сказано, что интерес к судьбе молодого Ф. Х. не сохранится у меня в дальнейшем. Разочарование в жизни, в его годы, является лишь негативом высокой ее оценки, каковая с таким постоянством оказывалась обманутой, что, в конце концов, внимание осталось прикованным к пустой форме, тогда как те силы, которые должны были изведать «наполнение» этого негатива, оказались парализованными. К тому же мы никогда не стоим ближе к «повороту», нежели в те моменты, когда существование, вплоть до своих мельчайших и прозаичнейших составляющих, представляется нам «невыносимым», – именно тогда наша задача состоит в том, чтобы еще какое-то время обождать, – хотя бы из любопытства. – Ведь как много прекрасного, должно быть, уже выпало на долю этого молодого человека, коль скоро в нем вызрело столь страстное убеждение, будто он оказался несостоятельным, т.е. «загубил» то, что было ему даровано. Прошу Вас, милостивая государыня, помогите ему осознать, сколь велика невинность сердца и что нам не под силу исказить его настолько, чтобы из него не продолжала исходить новая чистота! Сегодня ограничиваюсь этим, ради экономии времени; желаю Вам найти счастливый выход – и в один прекрасный день сообщить мне обнадеживающее. Всецело преданный Вам Р. М. Рильке. 44 26. Барону фон Унгерн-Штернбергу Замок Мюзот-сюр-Сьер, Вале, 28 января 1922 года Любезный барон Унгерн, как приятно было извлечь из большого конверта так много Ваших листов, до краев наполненных новостями; следуя сердечному порыву, незамедлительно подтверждаю получение. На сколь многих страницах Вашего послания я хотел бы остановиться подробнее, сколь многие продолжить. Однако в последние месяцы моему перу для писем пришлось немало потрудиться, и я решил отказать себе в нем хотя бы на время; сегодня я пообещал себе, что в феврале не напишу ни одного письма, – – тем чудеснее, что накануне этого воздержания я могу еще раз напомнить Вам о себе и выразить Вам свою благодарность! Вы правы, уже одни только планы вызывают в нас избыток подвижности, и кто знает, насколько сильно мы меняемся при их вынашивании, продолжая при этом оставаться на месте. Такая подвижность отражается и в Ваших стихах, а также в столь одухотворенных «Посвящениях», отдельные из которых доставили мне истинное удовольствие. Как хорош (назову хотя бы одно) «Плач». Очень хорош! (а я и не знал, что д-р Рудольф Ольденбург умер!), в последующих строфах обилие мыслей сочетается с величайшей осмысленностью; – заранее надеюсь, что Вы любезно простите меня за то, что я даже переписал для себя «Музыку» и великолепного «Протея» (содержание которого всецело одобряю). В обоих присутствует, с точки зрения формы, добротность языка, исполненная своеобразного внутреннего удовлетворения, – и потому не виртуозная, хотя и столь изумительно освоенная и смелая; при этом совершенно не-суетная. Как прекрасна, к примеру, третья строфа, это Сквозь глумленье, и стон Слышен флейты немолкнущий тон... Ваша маленькая гербовая печать, усеянная лилиями и звездами, меж которыми, тем не менее, еще остается так много свободного гербового пространства, – я восхищался ею еще до того, как познакомился с ее древней историей... Гербы рассказывают мне необыкновенно много, из них можно вывести и вы-гадать гораздо больше, чем когда-либо пробовалось. Я пользуюсь печатью с нашей борзой; к сожалению, все старые печати пропали вместе с моей парижской собственностью, в том числе большая массивная гербовая печать моего прадеда (хозяина Камница ан дер Линде, в Богемии), который был первым, кто, после почти столетнего перерыва, снова стал пользоваться гербом. В период саксонского местожительства семьи (чей высший расцвет в дни «Корнета» был уже позади) использовалась печать с собакой, стоящей на задних лапах, тогда как в нашей собственной родовой земле Каринтии, покуда там еще жили «Рильке», наряду с собакой, стоящей на задних лапах, встречалась также бегущая борзая, причем даже как старейшая форма. В литературе о каринтийском родовом дворянстве я в большинстве случаев встречал упоминания именно об этом гербе, и его до сих пор можно видеть среди настенных росписей в старинном здании сословного представительства в Клагенфурте, постоянно подновляемый, с указанием даты 1276 год (если я правильно осведомлен. Я не знаком ни с одним из мест, где столетиями жила моя семья). Печать, которой я пользуюсь, была выгравирована (очень скверно) в Париже с «гербового рисунка» XVIII века, – изображенная на нем утрированно высокая собака в шлеме с украшениями весьма позабавила меня: на рисунке она была очень милой, на печати же воспроизведена неудачно, и теперь ей приходится мириться с тем, что ее принимают то за козла, то за лошадь. Но с геральдической точки зрения, к счастью, одно считается даже более почетным, чем другое. – За все эти месяцы я выдал немного, утомительность концентрации по-прежнему сидит у меня в нервах, – порой мне кажется, что я все еще продолжаю, камень за камнем, разбирать ту круговую стену, которая отгораживала меня (в военные и послевоенные годы) от былого, равно как и от того, что могло бы еще... все же... состояться. О том, что и Вы телесно располагаете не слишком надежными ресурсами, я читаю с беспокойством; не имеет ли смысл заблаговременно похлопотать о нескольких месяцах сельского затворничества, чтобы при случае втиснуть их между двумя большими городами?.. Из опасения, что мне могут оказаться не по силам те внутренние полномочия, которые непрерывно выдает мне здешнее уединение, последнее часто становится мне в тягость, – к тому же время стремительно, словно спеша, поглощает то, что предлагается мне в мнимом изобилии – дни, ночи, дни, ночи: я и не знал, что можно так быстро перелистывать такие крупные страницы, какими они мне ныне предлагаются. Редко когда выпадает вечер для спокойного отдыха; Поль Валери по-прежнему занимает меня более всего остального. Высылаю Вам, чтобы все же ответить чем-то большим, нежели набросанным в спешке письмом, номер N. R. F., в котором напечатан его (как он сообщает мне, на данном этапе незаконченный) «Эвпалин». Надеюсь, что Вы поймете и разделите то восхищение, с которым я отношусь к этому диалогу... Если когда-нибудь я продвинусь в собственном настолько, что снова буду считать себя твердо стоящим на ногах, то я очень 45 надеюсь, что смогу посвятить себя переводу большинства сочинений Валери; мой первый опыт с его «Cimetière marin» оказался, как я уже Вам об этом писал, настолько удачным, что теперь я верю в свою способность заменить его великое искусство, насколько оно подпадает под общие мерки наших языков, на полные эквиваленты. – С каким безошибочным чутьем, мой любезный барон Унгерн, Вы оценили мой здешний ландшафт, назвав его «вневременным»; я имею в виду то же самое, когда порой утверждаю, что он библейский. Теперь он весь лежит под снегом, что несколько озадачивает меня, – я не знаю, какой мне прок от снега, разве только тот, что он, с материнской заботливостью и дедовским великодушием, удерживает меня внутри помещения. Чего мне не хватает в моих старых стенах (где, впрочем, это было бы не по-местному), так это каминного огня; сколь много вечеров, в прошлом году в Берге, он был моим окольным путем и моим окном внутрь и на волю. Прощайте, – темнеет, мне становится все труднее разбирать строчки, а зажигать свечи пока бы еще не хотелось. Поэтому я заканчиваю, не заканчивая, – с тихим искренним приветом, сердечно Ваш Р. М. Рильке. И радуюсь стансам – 27. Лотти фон Ведель Замок Мюзот-сюр-Сьер/Вале, 28 января 1922 года Уважаемая милостивая государыня, да, теперь, как Вы говорите, многие письма приходится откладывать в сторону, дабы благотворное уединение Мюзот все больше и больше оправдывало себя также и в сочинительстве, – но Ваше письмо принесло мне слишком приятные, слишком чувствительно задевающие меня новости, чтобы я мог позволить себе замешкаться с написанием Вам, по крайней мере, предварительного благодарственного слова. Прежде всего я рад тому, что Вы столь прочно утвердились в радостном и деятельном состоянии, и ожидаю много хорошего от всего, что со временем из этого последует. Нет большего счастья, чем заново обрести способность пользоваться собой надлежащим образом, будь то во имя замыслов или воспоминаний; прекраснее всего, когда те и другие действуют сообща, и появляются желание и возможность продолжать одни в других. – Я по-прежнему далек от столь отрадного поворота; «сносить» препятствия военных лет, разбирать камень за камнем ту круговую стену, которая как бы отделяла меня от прошлого, равно как и от всего, что могло бы еще свершиться, – это по-прежнему является моим неприметным занятием, и я не могу сказать, на какой срок; но, поскольку для нашего брата, в конечном счете, нет ничего более насущного, чем терпение, то, наверное, я должен только приветствовать это как удобный повод к тому, чтобы лучше им овладеть. Довольно: Вы рассказываете о Torre de las Danas – я сразу навострил уши, – и хотя я тут же пообещал себе даже не думать ни о каких поездках вплоть до завершения некоторых работ, – я, тем не менее, с восторгом перенесся в то великодушное послезавтра, когда можно будет осуществить подобное намерение. «Весной 1923 года», записал я себе дату моей будущей Гранады, – а иначе у меня вряд ли хватило бы духа прочесть Ваши описания. Вот тогда я охотно воспользуюсь Вашим советом и Вашей протекцией, чтобы пробиться к «самому недоступному» из того, что там есть. Как, должно быть, Вы все это пережили и восприняли! Переводы Шака оставили у меня не самые лучшие воспоминания; (правда, со времени своей учебы я их больше ни разу не открывал). Если не считать Западно-восточного дивана (вместе с которым в немецкий язык пришло счастье восточных открытий), то мое первое представление об арабской поэзии основывается на тех стихах, которыми Мардрюс обильно усеял свой перевод «Тысячи и одной ночи». Иногда Роден заявлялся ко мне с открытой книгой ради четырех или шести таких строк, чтобы немедленно сделать меня причастным к их, для него только что свершившемуся, расцветанию; какой блеск, цветок или глаз или рот... каждое отдельное стихотворение не длиннее врачебного рецепта! Когда позднее в Тунисе и Египте я сделал столь стремительные успехи в чтении арабского, точнее, якобы сделал... тогда у меня появилась надежда, что, возможно, когда-нибудь я и сам внесу свой вклад в понимание и переложение таких стихов... Кстати, именно тогда я испытал то же самое, о чем Вы обмолвились; на обратном пути из Египта, когда я зашел в столь любимый мною «Museo» в Неаполе – все померкло перед картинами, которые не только заполнили мою память, но и расширили ее во всех направлениях. Эта великолепная королева. У меня рука не поднимается вложить репродукции вместе с остальным уже сегодня; уверен, что Вы позволите мне подержать их у себя несколько недель. В противном случае, не так ли? потребуйте их обратно! Что за момент безветрия настал в великую египетскую эпоху? Какой бог затаил дыхание, чтобы эти люди при четвертом Аменхотепе настолько пришли в себя? Откуда, столь внезапно, они взялись? И почему сразу вслед за ними снова захлопнулось время, которое до этого уступило место «Сущему» – «высвободило» его?! Довольно! Это приказ листа. Душевно и благодарно помнящий о Вас, всегда преданный Вам Р. М. Рильке. 46 28. Гертруде Оукама Кнооп Замок Мюзот с/Сьер (Вале), Швейцария, 7 февраля 1922 года Уважаемая, милая подруга, в течение нескольких произвольно выбранных дней, когда я, собственно, думал приняться за другое, мне были подарены эти сонеты. Вам с первого взгляда станет ясно, почему именно Вы должны были получить их первой. Ибо, сколь бы слабой ни была связь (лишь один-единственный сонет, предпоследний, XXIV, призывает образ самой Веры разделить это посвященное ей волнение), она управляет и движет ходом целого и в процессе работы все больше пронизывала – правда, настолько скрыто, что я распознал ее не сразу – это безостановочное, потрясавшее меня рождение. Примите это с благосклонностью как посвящение ее памяти. Если «Сонеты к Орфею» понадобится представить на суд общественности, то, возможно, два или три из них, которые, как я уже сейчас вижу, по всей вероятности, служили лишь в качестве провода для тока (как, например, XXI) и после его прохождения остались порожними, придется заменить другими. Тогда же необходимо будет решить, в каком виде Вы хотели бы оставить имя (в подзаголовке). В моей здешней, первой рукописи стоит, впредь до Ваших уточнений, лишь: В. О. К. Ваш Рильке. 29. Гертруде Оукама Кнооп Замок Мюзот с/Сьер, Вале (Швейцария), 9 февраля, поздно [1922] Это идет как дополнение к письму от 7-го, уважаемая подруга, дело в том, что мне крайне досадно думать о том XXI стихотворении, «порожнем», в котором встречаются «трансмиссии» («О, это новое, друзья, совсем не то»), прошу Вас, немедленно наклейте поверх него написанную сегодня Весеннюю детскую песню, которая явно обогащает общее звучание и, в качестве pendant, неплохо смотрится рядом с посвящением образа коня... Эта песенка, которая пришла мне в голову сегодня, во время пробуждения, в готовом виде вплоть до восьмой строки, и сразу вслед за этим остальное, представляется мне как своего рода комментарий к «мессе» – да, настоящей мессе в радостном сопровождении парящих гирлянд звука: ее исполняли монастырские дети, я не знаю, на какой текст, но именно в этом танцевальном ритме, в женском монастыре Ронды (в Южной Испании –); они пели, подумать только, под тамбурин и треугольник! – Не правда ли, она ведь вписывается в общий контекст сонетов к Орфею: как светлейший весенний тон? (Мне кажется, да). (Бумага более или менее совпадает? Надеюсь, она та же самая). Только это – и то лишь потому, что тот XXI лежит камнем на моей совести. От всего сердца Ваш Рильке. 30. Княгине Марии фон Турн-унд-Таксис Гогенлоэ Замок Мюзот-сюр-Сьер (Вале), Швейцария, 11 февраля, вечером [1922] Наконец-то, княгиня, наконец-то благословенный, какой благословенный день, когда я могу сообщить Вам о – насколько я вижу – завершении Элегий: десять! От последней, большой (начало которой было положено еще в Дуино: «Если б когда-нибудь мне, на исходе печальных прозрений / Славу и радость воспеть ангелов, вторящих хором»), от этой последней, которая, кстати, уже тогда задумывалась как последняя, – от нее – у меня до сих пор дрожит рука! Она родилась только что, в субботу, одиннадцатого, в шесть вечера! – Все за несколько дней, это была какая-то неслыханная буря, ураган в душе (как тогда в Дуино), все мои жилы и ткани трещали, – о еде не было даже мысли, Бог ведает, кто меня кормил. Но теперь это есть. Есть, есть, Аминь. Итак, я продержался до этого момента, преодолев все. Все. Вот что было нужно. Только это. Одну я посвятил Касснеру. Целое – Ваше, княгиня, как же иначе! Будет называться: Дуинские элегии В книге, я полагаю (: ибо я не могу дать Вам то, что принадлежало Вам с самого начала), не будет посвящения, но: Из собрания... А теперь благодарю Вас за письмо и все содержащиеся в нем известия; я ждал их с нетерпением. От меня, Вы не против? сегодня только это... наконец-то, действительно «что-то»! Прощайте, дорогая княгиня. Ваш D. S. 47 Только что получил благосклоннное письмо от княгини Эттинген. Пожалуйста, засвидетельствуйте ей мое почтение. Скоро напишу. – Сердечнейшие пожелания князю, Касснеру – и т. д. P.S. Прошу Вас, любезная княгиня, не сочтите это за ширму для моей лени, если я скажу, почему я сейчас же не переписываю и не посылаю Вам новые элегии: Ваше чтение возбудило бы во мне ревность. Мне хотелось бы, чтобы сперва я прочел их Вам. Когда? Что ж, будем надеяться, скоро. D. S. 31. Лу Андреас-Саломе Замок Мюзот-сюр-Сьер (Вале), Швейцария, 11 февраля (вечером) [1922] Лу, милая Лу, итак: в этот момент, сейчас, в субботу, одиннадцатого февраля, около шести, я откладываю перо в сторону, закончив последнюю элегию, десятую. Ту, (уже тогда она была предназначена стать последней), начало которой было написано еще в Дуино: «Если б когда-нибудь мне на исходе печальных прозрений / Славу и радость воспеть ангелов, вторящих хором...) Ту ее часть, которая была готова тогда, я Тебе читал, но теперь от нее остались лишь первые двенадцать строк, все остальное – новое и: просто очень, очень, очень замечательное! – Подумай только! Мне удалось продержаться до этого момента. Преодолеть все. Чудо. Милость. – Все за несколько дней. Это был ураган, как тогда в Дуино: все мои жилы, ткани, каркас, все трещало и гнулось. О еде нечего было и думать. И, представь себе, еще одно, непосредственно перед этим, в другой связи (в составе «Сонетов к Орфею», двадцати пяти сонетов, написанных, внезапно, в преддверии к буре, в качестве надгробия Вере Кнооп) я написал, сделал – белого коня, Ты слышишь? того свободного счастливого коня с колышком, привязанным к ноге, который однажды, под вечер, галопом бросился навстречу нам на одном из волжских лугов –: сделал его «Ex-voto» Орфею! – Что есть время? – Когда происходит настоящее? Через столько много лет он, полный счастья, влетел в мое широко раскрытое чувство. Вот так возникало одно за другим. Теперь я снова знаю себя. Ведь без элегий моя душа была все равно что ущербной. Теперь она с ними. Я вышел наружу и принялся гладить маленький Мюзот – который покровительствовал мне в этом, который, наконец-то, позволил мне сделать это – как большого старого зверя. Я не ответил на Твое письмо потому, что уже в эти недели, сам не зная, о чем, молчал об этом, и душа моя все больше уходила в себя. Ну вот, милая Лу, на сегодня все. Ты должна была узнать об этом сразу. И Твой муж тоже. И Баба – и весь дом, вплоть до старых добрых сандалий! Твой старый Райнер. PS. Милая Лу, эти два моих листка, исписанных накануне вечером на одном дыхании, не удалось отправить сегодня, в воскресенье, заказным письмом, и я воспользовался случаем, чтобы переписать для Тебя три законченных элегии (шестую, восьмую и десятую). Остальные три я потихоньку перепишу в течение ближайших дней и скоро вышлю. Мне будет очень приятно сознавать, что они у Тебя. И, кроме того, меня будет успокаивать мысль, что они существуют еще гдето, снаружи, в виде точных копий, бережно хранимые. А теперь я должен немного подышать воздухом, пока в нем еще осталось воскресное солнце. Прощай. 32. Лу Андреас-Саломе Замок Мюзот-сюр-Сьер (Вале), Швейцария, воскресенье [20.II.1922] Если бы Ты, милая, милая Лу, была здесь! с радостным подтверждением, которое бы я принял в сердцевину своей души! – О чтении Твоего доброго сочувственного письма: как овладела она мною вновь, эта всесторонняя уверенность в том, что теперь это есть, здесь, – то, что рождалось так долго, с давних пор! Сегодня я намеревался переписать для Тебя еще три элегии, так как настало очередное воскресенье! Но вдруг, подумай только, в ходе лучезарного затишья после бури возникла еще одна элегия, «Saltimbanques». Она удивительно дополняет целое; только сейчас, как мне кажется, круг элегий окончательно замкнулся. Она не добавлена к циклу как Одиннадцатая, но вставлена (как Пятая) перед «Элегией о героях». Пьеса, стоявшая там до нее, все равно, на мой взгляд, не годилась на это место, так как отличается от других своей композицией, хотя сама по себе недурна. Новая элегия заменит ее (и как заменит!), а вытесненное стихотворение войдет в раздел «Неоконченное», который, в качестве второй части книги элегий, будет содержать все то, что создавалось одновременно с ними, но было разрушено временем, так сказать, еще до рождения, либо подвергнуто в процессе своего возникновения усечениям, оставившим слишком заметные следы. – Ну вот, те- 48 перь, наконец, готовы и «Saltimbanques», которые подступили ко мне вплотную еще в самом начале парижского периода и с тех пор постоянно задавались мне. Но мало того: едва эта элегия оказалась на бумаге, как продолжились и «Сонеты к Орфею»; сегодня я систематизирую эту новую группу (в качестве их второй части) – и уже успел переписать несколько, показавшихся мне лучшими, для Тебя (хранить!) Все появились в эти дни и еще совсем теплые. Только наш русский белый конь (как горячо он приветствует тебя, Лу!) относится к более ранней, первой части, появившейся в начале этого месяца. И это все на сегодня. Я должен торопиться с ответами на письма, которых скопилось уже довольно много. Я прекрасно понимаю, что может последовать «реакция», – после такого полета обязательно куда-нибудь упадешь; но лично я упаду в весну, которая здесь уже не за горами, а потом: коли мне достало терпения, долгого, на ныне достигнутое, – то неужели я не найду в себе немного дополнительного терпения пережить менее удачные дни; в конце концов, благодарность (каковой я еще никогда не получал в таком количестве) даже и в такие дни перевесит все неприятности и недоразумения! Спасибо за то, что написала мне сразу, несмотря на большую занятость! Твой старый Райнер. Элегии 5, 7, 9, – скоро! 33. Лу Андреас-Саломе 27 февраля 1922 года Вчера, Лу, было воскресенье, которое оправдывало свое название «дня солнца» с утра до вечера (и здесь, над этим столь хорошо ему знакомым, вплоть до недр земных, ландшафтом, солнце было уже как летнее). И когда я зашел в рабочий кабинет, рано утром, там стояли розы, – а внизу, на сервировочном столике, – без видимой причины, петуший гребешок и чашка с первыми примулами с наших лугов, еще совсем мягкими и очень короткими в стебле, но уже очень красивыми. Все это совпало само собой, а когда, ближе к обеду, пришло Твое письмо, это было словно по уговору с вышеупомянутым, настолько оно было насыщенным, исполненным понимания и радости! Оно послужило толчком, под действием которого я переписал для Тебя после обеда оставшиеся три новых элегии, сперва «Saltimbanques», а затем еще одну и еще одну; когда я закончил, в 3/4 7-го, как раз стемнело! – Итак, теперь они у Тебя. – После заголовка я помещаю для Тебя указатель; как насчет Третьей и Четвертой – ведь Ты должна их иметь? – Позднее, при случае, я перепишу для Тебя еще и эти; но главное, милая Лу, что сейчас у Тебя есть, живут с Тобой, все эти новые, эти возобновляющие: Прощай. Райнер. 34. Ксаверу фон Моосу Замок Мюзот-сюр-Сьер/Вале, второго марта 1922 года Дорогой господин фон Моос, небольшой томик, который Вы любезно возвращаете мне, был мне не к спеху, и я рад, что Вы держали его у себя в течение того времени, пока он был нужен Вам для извлечения необходимых сведений и осуществления Вашего замысла. Вы очень порадовали меня, снова прислав мне кое-что из своего; я кладу это вместе с присланным ранее и с удовлетворением отмечаю, что постепенно у меня здесь накапливается небольшое собрание Ваших работ. Эти новейшие пьесы приятно радуют меня теми же качествами, какими своеобразно отрекомендовались мне те, с которыми я имел возможность ознакомиться в первую очередь: спокойствием и прямотой взгляда, а также некой непринужденной равномерностью созерцания, откуда может развиться то, что впоследствии назовут Свое-Образием; то непроизвольное Так-и-не-иначе восприятия, на след которого, казалось бы, нередко нападает художник в процессе своего роста, – но которое затем снова ускользает от него, как только тот любезно предоставляет в его распоряжение свою намеренность: таким образом, оно поступает великодушнее, чем он сам! Прекрасно, что Вам удалось запастись столь большим количеством материала для Вашей статьи или доклада о Верхарне. Так когда же состоится Ваша conférence? Было бы весьма желательно, если бы ссылкой на мои произведения Вы воспользовались когда-нибудь позже; большая часть того, что можно было бы сказать в связи с ними, теперь бы уже не вполне соответствовала истине, так как толкователю моих работ (за исключением нескольких переводов) пришлось бы делать выводы исключительно на основании тех произведений, новейшим из которых уже более десяти лет от роду. – Отрадное уединение в Мюзот приведет меня, надеюсь, в такое состояние, когда я, наконец, смогу дополнить то намного более раннее более точным и окончательным. 49 Что касается гор, то, конечно, Вы справедливо удивляетесь тому, что я поселился среди них, а не в какой-нибудь из равнинных местностей, изначально гораздо более близких мне по духу; любовь к горам не заложена в моей природе, истинное представление о них я составил для себя достаточно поздно, по сути лишь при виде Телль-Атласа, на краю пустыни –: для меня это были первые горы, которые я «постиг» в их стройности и величии. Правда, предварительным этапом этого постижения были уже Пиренеи, – и именно с ними, с Провансом и Испанией (странами, оказавшими сильное влияние на те работы, которые в данный момент занимают меня), я словно заново встретился в этом чудном Валлисе. Такое ощущение создается не столько благодаря внешнему виду этих гор, сколько благодаря тому удивительному обстоятельству, что они (своей ли формой или своим особенным расположением) обладают свойством творить пространство: подобно тому, как роденовская скульптура несет в себе и распространяет вокруг себя своеобразную пространственность: так же поступают – на мой взгляд – и горы с холмами в этой части Вале; пространство исходит от них и промежутков между ними неиссякающим потоком, в результате чего эту долину Роны можно назвать какой угодно, только не узкой, – что разительно отличает ее, к примеру, от тех (зачастую столь живописных, но стесняющих чувство) долин в Граубюндене. – Один из моих приятелей, с которым прошлой осенью, в один особенно просторный сияющий день я прогулялся до Лоэш-Вилля, имел в виду именно это, эту продуктивность по части пространства, когда, обернувшись, воскликнул: «Ça sort de la création»; как бы то ни было: – такой, каким я его воспринимаю, Валлис не только представляется мне одним из великолепнейших ландшафтов, которые я когда-либо видел, – но также щедро предлагает многообразные эквиваленты и соответствия выражению нашего внутреннего мира; странно, что при этом он не послужил ни одному крупному живописцу в качестве предмета для его творческого раскрытия, – и не подвиг практически ни одного поэта – в нашем смысле – на более глубокое восприятие: в лучшем случае на ум приходит юный Луи де Куртан, однако он принадлежит к тем, кто был рано остановлен насильственной смертью, но чья творческая способность не была существенно усилена и уплотнена предчувствием подобной участи... Довольно. Я должен заканчивать. Но, чтобы не дать этому письму уйти без основательного дополнения, прилагаю для Вас большое стихотворение Поля Валери (чье имя, если я не ошибаюсь, уже встречалось в одном из моих писем). Прочтите внимательно это его бесподобное «Морское кладбище»! (Перевод, который Вы найдете рядом, был сделан мною в прошлом году). С возвращением рукописи можете не торопиться. С приветом и пожеланиями Вашей работе, Ваш Р. М. Рильке. 35. Дори фон дер Мюлль Замок Мюзот, 10 марта 1922 года Любезная подруга, хотя Ваш визит в Мюзот обладал всеми свойствами (чего именно – см. далее), мне было бы все же очень обидно за прекрасную действительность, если бы один из нас со временем стал склонным принимать ее за красивый сон. Я сам уже, признаться, стоял на краю такой опасности, введенный в заблуждение, с одной стороны, воистину фантастической кратковременностью Вашего здесь-тогда-пребывания, с другой стороны, удивительной внутренней широтой, просторностью и полносоставностью, которая опять же сочеталась, словно по воле неких чар, с предельной узостью и ограниченностью. Встреча была столь короткой и в то же время неспешной, насыщенной, полной, более того, даже несколько расточительной! Можно ли было не перенести ее, непроизвольно, в область сна? (Меня же еще, помимо прочего, сбивает с толку то обстоятельство, что, как только Ваш поезд скрылся из поля зрения, погода энергично пустилась в обратный путь к зиме, да еще с такой решимостью, что сегодня Мюзот в окружении заснеженного ландшафта имеет совершенно зимний вид. А теперь вспомните наше солнце на террасе Бельвю и ящерицу на краю стены: и это был не сон!?) Одним словом, дабы избежать подобных истолкований в дальнейшем, вчера я решил предъявить Вам непреходящее доказательство реальности визита; Вы найдете его в тетради с золочеными прожилками, – поместите ее, уважаемая подруга, в угол библиотеки рядом с остальным – доказуемым. Остальное в этом пакете – сплошной Валери – четыре разные работы, все в прозе, – с его стихами (есть у меня такая ambition) Вы должны познакомиться прежде всего через Морское кладбище, которое я предоставлю Вам вместе со своим переводом (как только мне его вернет юный Ксавер фон Моос). (Выпуск «Le Ballet au XIXième siècle» заинтересует Вас не только блестящим диалогом Валери, но и, в частности, статьей о Сальваторе Вигано и т.п.) Задним числом мне стало стыдно, что Вам не было предложено в Мюзот ровным счетом ничего плотски-хлебосольного! Пирог не был готов; но кое-что все же имелось, словно нарочно предназначенное для такого момента, и я вспомнил об этом лишь задним числом! – Маленький кувшин, который Гвидо Салис запечатал своим собственным гербом, кувшинчик, который я получил к Рождеству и по поводу которого Г. С. задним числом, в качестве пояснения, написал: «`Маланские 50 выжимки`», по-итальянски «Grappa»; рекомендуется к супу, сырным блюдам, устрицам, овощам и кофе ..» ну вот! как мы могли упустить такой подходящий момент для него, для кувшинчика!? – Пока я один, я не осмеливаюсь сломать печать, тем более что, как в любой рабочий период, я и в этот привык полностью обходиться без алкоголя. Как видите, тогда был самый подходящий момент для подобной дегустации. – Упущен! Надеюсь, переменчивость погоды была не слишком явной и не слишком докучала Вам в Вевее; у себя дома – куда, как я полагаю, Вы уже вернулись, – человек как-то превозмогает ее и радуется тому, что в очаге есть огонь. – Надеюсь, теперь-то Вам, по крайней мере, удается убедить Яна, что «вечный незнакомец» все же существует и передает ему большой привет? Тот самый: Инка. 37. Гертруде Оукама Кнооп Замок Мюзот-сюр-Сьер (Вале), Швейцария, 18 марта 1922 года Уважаемая, милая подруга, ввиду скорбных и утомительных отвлечений, которые задержали Вас, после Вашего последнего письма ко мне (от 20 февраля), в Веймаре, я намеренно не присылал никаких новых сообщений, – но ради этого воздержания мне приходилось делать над собой насилие. Ибо, вопервых, мне не терпелось поблагодарить Вас за добрый, сочувственный прием, оказанный Вами Сонетам к Орфею, и, кроме того, именно тогда уже следовало признаться, что за истекшее время число этих стихотворений удвоилось! Как только мое ныне несколько уставшее перо соберется с силами для переписывания, эта новая Вторая часть Сонетов к Орфею найдет место в (по возможности, такой же, как предыдущая) тетради для Вас. Сегодня я высылаю Вам только один из этих сонетов, поскольку он во всех отношениях наиболее близок мне, да и, вообще, в конечном счете, наиболее показателен из всех. Помимо этого, только просьба: заменить еще один сонет, VII (от которого осталась, выдержав испытание, только первая строфа, – первая редакция всегда смущала меня своей патетикой и у меня давно уже вычеркнута), прилагаемым вариантом. Третий сонет, который Вы найдете здесь же, я – по крайней мере, на время – вставил как XXIII, так что эта, отныне первая часть «Сонетов», насчитывает двадцать шесть стихотворений. (Вторая содержит двадцать восемь!) Сегодня только это, с самым преданным приветом, Ваш Рильке. 38. Э. де В. Замок Мюзот-сюр-Сьер (Вале), Швейцария, 20 марта 1922 года Милая и дорогая подруга, Ваше письмо с его богатством содержания доставило мне ощутимейшую радость, начиная с самых первых строк; все-таки я боялся, что из-за той длинной паузы, которую я был вынужден выдерживать в течение всей зимы, Вы можете отвыкнуть от непринужденного общения со мной. Этого не случилось – и я благодарю Вас за это в той же мере, в какой приписываю это сущности нашей связи: в последнее время и мне и, разумеется, Вам тоже было естественно рассматривать эту паузу как ритмическую составляющую нашего скорее упорядоченного и урегулированного, нежели прерванного ею общения. Характер Вашей реакции дает мне приятное подтверждение долговечности и надежности наших отношений. Разрешите мне отдаваться этому ощущению с радостью. Безусловно, Вам было несложно, на основании своего собственного опыта работы, прочувствовать то состояние, которое наступает по завершении продолжительного периода художественного напряжения и стремления (и поначалу воспринимается как пустопорожняя свобода); меня нисколько не удивляет, что Вам удалось проникнуться столь глубоким соучастием. Обретение легкости в тот момент, когда крылья уже устали; обретение чрезмерной легкости есть весьма опасное состояние (одно из многих опасных для работающих в искусстве). Душа стремится к какой-нибудь опоре. В прежние годы подобные вещи несказанно сбивали меня с толку, ибо каникулярная составляющая этого облегчения есть лишь одна его сторона; как только ты ее ощутил, она превращается в осознание твоей отныне-излишности. В стремлении хоть как-то оградить себя от подобной качки в слишком легком челноке я делал все возможное, чтобы запастись надежным, постоянно находящимся под рукой балластом на случай таких моментов внезапной свободы, – но то ли сила моя была не настолько велика, чтобы ее можно было дробить, то ли я добился возможности заниматься своим главным делом слишком поздно и вопреки слишком многим препятствиям в детстве и юности, то ли, наконец, само время, когда я приступил к этому делу, поощряло подобную односторонность и сосредоточенность на Одном: несмотря на многочисленные попытки научиться чему-нибудь еще, мне так и не удалось сформировать достаточно стабильный противовес. Позднее я утешал себя, tant bien que mal, тем, что от такого дробления пострадало бы искусство – и без того слишком долгая задача даже для самой долгой жизни; и мощный пример преданности metier в лице Родена встал у меня перед глазами как раз вовремя, чтобы внедрить волю цели- 51 ком быть в Одном в самое нутро души и там отдавать ей должное до конца. Но у меня не было столь благодарного в этом смысле metier, как у Родена; такого, какое могло бы помогать мне каждодневной осязаемостью и доступностью зримого как постоянно наличного, – не хватало мне и той жизненной силы великого мастера, которая с годами развила в нем способность безостановочно идти навстречу своему вдохновению со столь многими рабочими предложениями, что тому волей-неволей приходилось соглашаться на что-то одно из предлагаемого, и при этом почти не возникало пауз. Это «accord», достигнутое силой и не без хитрости, сделало великого художника настолько уверенным в своем вдохновении, что он мог позволить себе отрицать его наличие и участие: всегда подвластный ему порыв вдохновения уже ничем не отличался от его собственной силы, он распоряжался им, как самим собой; лишь в последние годы его жизни, когда все же наступившая, наконец, возрастная усталость заставила Родена стать без разбору и своеобразно ненасытным и жадным в творчестве, такое соотношение отомстило за себя, как рано или поздно мстит любая недооценка Слишком-Великого, того, что превосходит нас, свободного и не связанного никакими обязательствами Божественного: в этот период он иногда творил с помощью вдохновения, но без или даже вопреки ему... Угроза художнику воистину огромна, и чем более велик художник, тем она более многообразна. Как бы то ни было, любезная подруга, нынешнее положение вещей не внушает мне опасений за Ваши художественные усилия, которым я придаю столь безусловное значение, хотя Вы и сообщаете мне, что изучение предметов из совершенно несовместимой области уже в течение длительного времени отдаляет Вас от этого столь естественного для Вас стремления. Пока что я не совсем понимаю, какую стезю Вы собираетесь осваивать после получения степени доктора юридических наук, но именно эта полная несхожесть обоих видов Вашей деятельности представляется мне как раз тем, что нужно; ибо чем отличнее по своей природе и применению рассудочное, намеренное, умышленное, тем скорее оно будет покровительствовать вдохновенному, возникающему непреднамеренно, вырывающемуся из глубины души. (Там же, где, напротив, две подобных деятельности, художественная и какая-либо другая, принадлежат к двум относительно близким областям – например, журналистика и литература, а также множество других примеров, – там возникают гибельнейшие влияния, искажающие и насилующие более утонченную из двух). – Впрочем, был бы я молод, я бы непременно огляделся по сторонам в поисках какой-нибудь ежедневной, как можно более разносторонней деятельности и попытался посильно закрепиться в какой-нибудь осязаемой области. Быть может, сегодня лучше и деликатнее служат искусству те, кто занимается им втайне в определенные дни или годы (что, конечно, не означает творить между делом и подилетантски; ведь, если привести высший пример, тот же Малларме всю жизнь проработал учителем английского языка...), однако само «ремесло» изобилует непрошеными гостями, случайными людьми, теми, кто наживается на metier, превратившемся в какой-то гибрид, – и обновить ремесло, наполнить его новым смыслом, без чего это лезущее в глаза разоблачение в скором времени само станет бессмысленным, могут лишь те неприметные одиночки, кто не причисляет себя к ремеслу и не приемлет обычаи, узаконенные и введенные в оборот пишущей братией. Будь это любитель или тот, кто по большей части держится в тени освоенной профессии, его вклад в исправление давно уже ставшей невыносимой ситуации будет гораздо ощутимее, если его творческое молчание, сопровождающееся внутренним обретением красноречия, будет иметь какой-то смысл. – Например, для поэта, который из всех французов моего поколения вызывает у меня наибольшее, граничащее с изумлением восхищение – для Поля Валери, – не пройдет бесследно то обстоятельство, что в период между своими первыми публикациями и теми божественными стихами и статьями, с которыми он снова предстал перед публикой в 1919 году, он нашел в себе силы хранить почти двадцатипятилетнее молчание. Если я не ошибаюсь, он занимался математикой, и настолько широко и свободно ориентировался в этой области, что первым среди французских ученых смог распознать и по достоинству оценить значение Эйнштейна. То, о чем я говорил, в период Мальте Лауридса Бригге, в отношении театра, а именно – что ему следовало бы на несколько лет обрезать побеги и ростки, с тем чтобы он, заново начав расти из своего глубиннейшего корня, стал мощнее и нужнее – ныне стало моим мнением и предупреждением в отношении всех искусств: они ушли в ботву, и теперь им нужен не ободряющий садовник, не ухаживающий, но садовник с ножницами и лопатой: наказывающий! Достаточно; чтобы уже теперь, загодя познакомить Вас хотя бы с малой толикой зимних итогов, я вкладываю в письмо один (дорогой мне) сонет, не из состава главного труда (Дуинских элегий), но из так называемых «Сонетов к Орфею»: небольшого цикла стихотворений, написанного в качестве надгробного памятника молодой девушке. Всегда помнящий Вас, милая подруга, Ваш Рильке. 52 39. Рудольфу Бодлендеру Замок Мюзот-сюр-Сьер, Вале, Швейцария, 23 марта 1922 года Как хотел бы я, мой юный друг, дать удовлетворительный ответ и на Ваши новые страницы, – но в данном случае трудно подобрать нужные слова. В целом, насколько я вижу, Вы дали себе правильную установку, желая осмыслить и пережить ту борьбу как лично Вашу, стараясь узнать, какие физические и духовные предпосылки способствуют возобновлению конфликта и из каких точек их пересечений он вырастает. Вне всякого сомнения, это ответственнейшая установка, только Вы должны полностью освободить ее от любых признаков порицающего и достойного порицания занятия. Это очень важно, мой милый. Боритесь беззлобно. В наших странах сегодня все находятся (как гласит известное выражение) «не на высоте положения», – для каждого нынешняя странная сутолока становится поводом к каким-нибудь конфликтам, – менее всего «выстоял» самоуверенный бюргер, допускающий множество двусмысленных выходов, в сравнении с которыми такая полная и тихая растерянность выглядит бесконечно невинной. – Вообще, здесь мы целиком находимся – не забывайте об этом – в области невинности. – Ужасно то, что у нас нет такой религии, в рамках которой этот опыт, во всей его конкретности и осязаемости (и одновременно невыразимости и неуловимости), можно было бы возвысить до бога, вверить покровительству фаллического божества, коему, возможно, будет суждено стать первым, с кого начнется возвращение богов к людям, после столь долгого отсутствия. Ибо что еще может нам помочь, когда религиозные средства бессильны, – когда они затеняют эти переживания, вместо того, чтобы прояснять их, и хотят лишить нас их, вместо того, чтобы вложить их в нас еще более величественными, нежели мы смели себе представить. Здесь мы неописуемо покинуты и преданы: отсюда наше злополучие. По мере того как религии угасали, начиная с поверхности, и вырождались в моральные прописи, они перемещали и это явление, внутреннейшее явление своего и нашего бытия, на остывшую почву морального и тем самым неизбежно оттесняли его на периферию. Со временем мы поймем, что наше великое современное злополучие заключается именно в этом, а не в социальном или экономическом, – в этом вытеснении акта любви на периферию; силы прозорливого одиночки расходуются сегодня на то, чтобы вернуть его, по меньшей мере, в свой собственный центр (покуда он не находится во всеобщем центре мира, что имело бы своим немедленным следствием пронизанность кровеносной системы мира богами), – живущий вслепую, напротив, в некотором смысле радуется периферийности и доступности «наслаждения» и в то же время мстит ему (с невольной прозорливостью) за его обесцененность там – мстит тем, что одновременно и ищет, и презирает это наслаждение. – Отречение в поверхностном не есть прогресс, и не имеет смысла напрягать ради него «волю» (которая к тому же является слишком молодой и новой силой в сравнении с первобытным правом инстинкта). Отречение от любви или осуществление любви – и то, и другое великолепно и несравненно лишь там, где весь опыт любви со всеми его почти неотличимыми друг от друга восторгами (которые чередуются таким образом, что именно там духовное и плотское уже неразделимы) занимает центральное положение: и там же (в страстной самоотдаче отдельных влюбленных или святых всех времен и всех религий) отречение и осуществление становятся тождественными. Там, где бесконечное явлено целиком (будь то со знаком минус или плюс), знак – ах! такой человеческий – отбрасывается как путь, который уже пройден, – и то, что остается, есть прибытие, Бытие! – Вот, мой милый, примерно то, что (предварительно) раскрывает нам о себе наша величайшая сокровеннейшая тайна. – Полагаю, что сказанного достаточно (если Вы внимательно читали), чтобы перевести всю Вашу борьбу в новую, нетронутую плоскость. (И если Вы однажды полюбите кого-нибудь, прочтите это письмо вместе с ним, если к тому времени Вы не будете знать его уже настолько хорошо, чтобы пересказать его содержание по-своему!) Если, в соответствии с вышесказанным, Вы будете исходить из центра и стремления к «бытию» (то есть к опыту как можно более полносоставной внутренней интенсивности), то и Ваша установка прояснится в некий внезапный поэтический порыв. Вовсе не обязательно заглушать все; тому, что перед лицом Вашей постепенно мужающей совести докажет свое право обрести форму, спокойно дайте требуемую форму. Пусть таким образом будет заполнена страница дневника или написано письмо (неважно, будет оно отправлено или нет) – или даже какое-то произведение, заслуживающее быть отнесенным к области художественного. То, что оно относится к этой области, доказывается не желанием или стремлением сделать его общедоступным или общепризнанным (ибо и здесь нездоровый дух периферийности ведет свою запутывающую игру –); предмет становится искусством за счет своей изначально более высокой степени колебаний в сравнении с предметами потребления и обиходными выражениями, и лишь в качестве ее вторичного следствия выступает намерение создать для подобного явления, превосходящего бренное и – выражаясь банально – частное, такую ситуацию, в которой оно будет существовать дольше и в некотором роде общедоступнее. Здесь вообще не идет речь ни о «влиянии», ни даже о выходе вовне, который в случае подобного явления, от рождения принадлежащего к более широкому контексту, есть нечто побочное. – Что бы Вы ни создали, при подобном настрое, в рамках какого бы то ни было ремесла, наряду с ним или вопреки ему, всегда будет нужным и своевременным, и неважно, станет ли 53 оно кому-нибудь известно или нет, – любое слово, возникшее таким образом, поможет Вам и, более того, в один прекрасный день даст понять, к какой области оно относится. И еще: если в Вас суждено назреть искусству, под тем двойным полом, который будет настелен и закреплен в Вашей жизни Вашим ремеслом, – помните о том, что самый утонченный, самый «концентрированный» поэт нашей эпохи, Стефан Малларме, в своей гражданской жизни был учителем английского языка... А теперь: желаю, мой милый, уверенности и радости. Р. М. Р. 40. Ильзе Блументаль-Вайс Замок Мюзот-сюр-Сьер, 25 апреля 1922 года Любезная милостивая государыня, мне давно бы уже следовало поблагодарить Вас за дружеское свидетельство того, что Вы помните обо мне. Выражаю Вам эту благодарность с некоторым опозданием, но зато уже по двойному поводу (сейчас Пасха): прошу Вас поверить в ее искренность, даже если мне приходится быть более кратким в ее выражении, чем хотелось бы. Мое перо покрыло такие большие расстояния на бумаге для работы, что уже в течение многих недель лишь с неохотой посещает эпистолярные променады, даже в тех случаях, когда его приглашают на прогулку столь приятные спутники, как Ваше расположение и участие. ---------------------------------------------------------«Fioretti святого Франциска» остаются старыми друзьями моей души, во всяком случае, когда я читаю их в подлиннике. Годы тому назад, в течение всей южноитальянской зимы, я каждое утро собирал домочадцев, чтобы почитать им вслух эти небольшие изящные легенды; они прослушивали одну главу, и этого хватало, чтобы задать совершенно особый настрой дню, который затем каждый использовал или тратил по-своему. Что касается «Колыбельной для Мирьям» Беер-Хофмана, то и она вызывает у меня сегодня, следуя Вашему выражению, особые воспоминания; я познакомился с ней почти сразу после ее создания. Тогда (где-то около 1902 года) она была единственным стихотворением, когда-либо написанным Беер-Хофманом; позднее, среди его на удивление малочисленной и отборной продукции, появилось еще одно стихотворение, второе, столь же совершенное, как первое, – не знаю, увеличилось ли за минувшее время количество этих изысканных творений. Если «Колыбельная» привела меня в полный восторг при первом же знакомстве (когда она появилась во всей красе на страницах тогдашнего «Пана»), то в последующие года мне посчастливилось завоевать для нее (я знал ее наизусть) столь же безусловных поклонников. В те полгода, которые я провел в Швеции, дело доходило до того, что за мной высылали экипаж из других имений, как посылают за врачом, единственно для того, чтобы я читал это стихотворение вслух совершенно незнакомым людям, наслышанным о его исключительной красоте – требование, которому я всякий раз подчинялся с волнением и всей полнотой моего собственного восторга! Здесь мне бы хотелось продолжить еще одну тему, затронутую в Вашем предпоследнем письме: тему судьбы евреев. Беер-Хофман (в то время как столь многие евреи воплощают эту судьбу словно бы лишь в ее разломах и вынужденных изгибах) всегда являлся для меня образцом ее величия и достоинства, которые не понесли существенных потерь даже в тяжелых условиях продолжительного изгнания. – Я писал Вам в одном из своих прежних писем (о «вере»), что еврей – наряду с арабом и православным русским, чтобы не идти дальше на восток – имеет в моих глазах значительное преимущество перед другими народами за счет заложенного в него природой единства национальности и религии. То, что он потерял почву под собой и вынужден цепляться за клочок заемной земли, имеет свою хорошую и плохую стороны; чтобы выстоять в оспариваемом и беспочвенном, он вынужден, за некоторыми важными исключениями, злоупотреблять своими avantages – и в большинстве случаев злоупотребляет собой и другими. С помощью хитрости, которую воспитала в нем необходимость самосохранения, он превратил свою неукорененность из несчастья в источник превосходства, и когда он мелочно, жадно и неприязненно злоупотребляет этим дорого приобретенным превосходством, когда он – невольно – мстит за себя, тогда он становится вредителем, захватчиком, разрушителем. Тогда же, когда сходный процесс, когда отвоеванное у судьбы преодоление совершается в душе, исполненной крупных замыслов, тогда столь же неумолимые обстоятельства порождают то величие, прославленным примером коего был Спиноза. – Мобильность и смещаемость внутреннего центра, его независимость (но одновременно и неукорененность, когда сознание не достигает своих корней в Боге) – через судьбу евреев миру явлен подлинно транспортабельный дух: неслыханная опасность и неслыханная свобода движений. И в зависимости от того, какая из двух сторон этого еврейского выхода доминирует, его следует бояться или славить; при этом несомненным остается то, что вызванное им к жизни, в конечном счете, необходимо нам всем, и мы не должны ни игнорировать это необходимое, ни желать его устранения. Когда этот фермент поработает достаточно долго, его, вероятно, придется вернуть в его исходный сосуд. Происходящее из чисто еврейского импульса сионистское сознание могло бы по- 54 ложить начало этому, быть может, заповеданному отделению. И тогда это заново-обретение старой, прежней почвы, эту новую оседлость можно будет понимать и истолковывать как в буквальном, так и в символическом смысле. Если бы мы – как, вероятно, и обстоит дело – знали еврейский народ только в его искажениях, в его растерянности, в его искривленном и временами перекошенном своенравии, и если бы мы взяли пробу его стойкости, то одно лишь представление о той силе, которую бы она выказала, повергло бы нас в трепет как нечто твердо установленное, гарантированное, поощряемое! – Рост этих людей, плодовитых даже в своей беспочвенности, привел бы затем к неудержимой плодовитости в Боге, – продолжению той истории страстных и знаменательных жатв, в живую атмосферу которых мы окунаемся всякий раз, когда открываем Ветхий Завет. Довольно. Посылаю Вам, любезная милостивая государыня, свой всегда преданный и благодарный привет. Ваши письма неизменно радуют меня. Единственное, чего остается пожелать всем нам, это чтобы злостно запаздывающая весна наконец-то вспомнила о своем предназначении и более или менее нагнала свои сроки. Зима и без того была достаточно длинной. Ваш Р. М. Рильке. 41. Кларе Рильке Мюзот-сюр-Сьер (Вале), Швейцария, 12 мая 1922 года Моя милая Клара, сердечно благодарю за Твои торопливые строки от 9 мая, они пришли вчера: знай, что мысленно я все время возле вас и с вами и что мне постоянно икается. Да и могло ли быть иначе в этот поворотный и решающий момент. И это пребывание-с-Вами отныне будет усиливаться с каждым днем вплоть до 18-го. – Как я рад, что Бреденау становится таким красивым; он останется праздничным и после окончания праздника, и в тепле торжеств 17-го и 18-го маленький дом окончательно созреет! Прилагаю два письма, для Рут и Карла; вручи их нашим детям, смотря по Твоему настроению, 17-го или 18-го. У меня не было возможности написать много – Рут придется почерпнуть уверенность в моем участии в гораздо большей степени из себя самой, нежели из подобного внешнего свидетельства, а Карл должен просто поверить ей, что я всей душой принимаю участие в этом торжественном повороте судьбы. Ты сама, милая Клара, прекрасно знаешь это, – мне не нужно тебя убеждать. Одним словом: я с Вами сердцем и душой! Что касается моего подарка к свадьбе, то окончательное решение я приму, когда буду гостить у молодой пары в Альт-Йокете и мои собственные глаза подскажут мне, что может вызвать там наибольшую радость. Мне бы не хотелось действовать наобум. Мне очень приятно сознавать, что этот знаменательный благодаря свадьбе и повороту в судьбе Рут «1922-ой» навсегда останется особым и значимым для меня еще и благодаря завершению моего большого труда – элегий. Кроме того, в эти дни решается вопрос о покупке Мюзот тем же самым моим винтертурским приятелем, который до этого арендовал замчик; возможно, все решится в тех же числах. Это тоже имело бы для меня определенное радостное значение. Вернер Райнхарт еще долго не будет иметь возможности жить в Мюзот, – и поэтому я – наряду с другими его друзьями – сохраняю за собой некоторое право время от времени укрываться за этими старыми стенами, давшими мне столь плодотворную защиту... Всегда помнящий о Вас Райнер-Мария. 42. Рудольфу Касснеру Замок Мюзот-сюр-Сьер (Вале), Швейцария, 13 мая 1922 года Мой милый Касснер, в самый разгар зачастую утомительных перипетий этих дней пришла Ваша книга, – и хотя я сразу прочел ее вслух своим друзьям в течение двух тихих послеполудней, – я все же не имел возможности, милый Касснер, выразить Вам свою благодарность. Впрочем, чтобы быть до конца точным, – она уже у меня была; хотя нетерпение и не входит в число моих привычек – на этот раз я проявил его. Инзель пообещал мне предоставить Вашу последнюю работу сразу по ее выходу из печати, – первого апреля книга была у меня, второго (в воскресенье, если я не ошибаюсь) я читал ее до глубокой ночи и не мог оторваться, пока не дочитал до конца. Уверен, что я буду не единственным, кого это сочинение (благодаря вступительному слову еще более убедительное) снова отошлет к «Числу и лицу», и кто лишь сейчас сможет понастоящему вникнуть в ту великую книгу. Такую же функцию выполняют и «Основы»; иногда они являются прямым, иногда обратным или кружным путем к тому главному сочинению, а иногда 55 указывают новый путь на волю, еще нехоженый, – и мне было приятно догадываться, какие усилия Вы прилагали к тому, чтобы заодно не высказать уже завтрашнее и послезавтрашнее, почти уже освоенное Вами. – Ибо «целое» – то, что практически с самого начала стоит за всеми Вашими книгами – в каждой очередной из них приобретает все более отчетливые очертания, и скоро уже станет невозможно скрывать, что речь всегда идет лишь о нем, об Одном и том же, решающем. ........................................................................ От всего сердца, милый Касснер, Ваш Рильке. 43. Лотти фон Ведель Замок Мюзот-сюр-Сьер (Вале), Швейцария, 26 мая 1922 года Милостивая государыня, могло ли Ваше письмо и оба приложения к нему не настроить меня на скорейшее и радостнейшее выражение благодарности! – Я знал, в какие хорошие руки передаю свою просьбу, и потому не так сильно удивлен, что Ваш отец исполнил ее столь охотно; только теперь мне стало понятно, насколько нескромным могло показаться мое желание. Что касается великолепной королевы, то я испытываю особое волнение оттого, что ее портрет вернулся ко мне, чтобы мне принадлежать. Она действительно относится – как Вы справедливо утверждаете – к тем самостоятельнейшим предметам повседневного окружения, которых ты вовсе не замечаешь, пока в один прекрасный момент, при неожиданной «вспышке», тебя не застигает врасплох и не покоряет неоскудевающая и, более того, всегда свежая сила их присутствия! – Таким образом, двойной портрет снова занимает свое прежнее место на красивом старинном сундуке у стены... Да, с учетом поздно наступившей весны можно было бы не столь сильно сожалеть о том, что Ваша весенняя поездка в Санта-Маргариту не состоялась, но то, что теперь телесная хворь мешает Вам принять наступившую, наверстывающую саму себя с таким усердием весну, как она того заслуживает: это кажется мне совершенно несправедливым. Тем более что речь идет о гейдельбергской весне. – Много лет назад, во время одного dîner, я слышал, как две подруги, одна шведка, другая русская, обе учившиеся в Гейдельберге и снова встретившиеся спустя примерно десять лет, уже замужние, обменивались своими воспоминаниями об учебе, более того, надо заметить, подталкивали и подстрекали одна другую на эти воспоминания... Я, слушатель, не знающий Гейдельберга, снова и снова был вынужден задаваться вопросом, мыслимо ли такое, чтобы речь действительно шла о немецком городе с его садами, его цепями холмов, наконец, с его небом: то, что в данном случае представлялось воображению, было проникнуто таким пейзажным изобилием, такой насыщенностью и южностью, таким безграничным атмосферным подтверждением, что можно было подумать, будто речь идет по меньшей мере о южной Франции. И вот теперь Вы сами употребляете слово «упоительно»! Мыслящая, сочувственная нам судьба... да, как часто хочется, чтобы таковая укрепляла и поддерживала нас; но не была ли бы она одновременно и взирающей на нас со стороны, следящей за нами судьбой, с которой мы бы уже никогда не были самостоятельны? То, что мы предоставлены «слепой судьбе», принадлежим ей, все же отчасти служит предпосылкой того, что мы имеем свой собственный взгляд, свою собственную зрячую невинность. – Лишь в силу «слепоты» своей судьбы мы состоим в тесном родстве со странно Неопределенным мира, то есть с целым, необозримым, превосходящим нас... Вчера я читал книгу, историю одного детства, которая показалась мне необычайно прекрасной. Не присутствует ли на ее страницах то, что делает столь захватывающим детство ЮнгШтиллинга и было снова воспринято спустя сто с лишним лет, со всеми добавившимися за это время взаимосвязями и одновременно с более многообразным и повсюду ставшим еще более обязательным врастанием в «Неопределенное»? Когда вернулась «королева», я огляделся по сторонам в поисках подходящего ответного подарка; позвольте мне, уважаемая госпожа, использовать в качестве такового эту маленькую книжку, написанную давно ценимым мною человеком, и вручить ее Вам как наиболее своевременную в эти дни Вашего словно сговорившегося с весной выздоровления. И желаю Вам поправиться достаточно быстро, чтобы еще успеть принять радостное участие в цветении и прибавлении Вашего осязаемого окружения. Всегда сердечно преданный Вам Рильке. 44. Дори фон дер Мюлль Замок Мюзот, 23 июня 1922 года Уважаемая подруга, Ваше пожелание, чтобы «Chanson de Roland» пригодилась мне уже к майским дням, до сих пор не исполнилось: роскошный том, за который я благодарю Вас с нетерпеливым ожиданием и предвкушением радости, еще даже не был раскрыт, если не считать страницы с Вашей милой надписью. Это объясняется множеством неотложных дел, и прежде всего тем, что в мае Мюзот пере- 56 шел путем продажи в собственность Вернера Райнхарта; сам он не мог осуществить эту сделку (так как собирался отправиться в Испанию), и поэтому в брак с Мюзот пришлось вступить мне, par procuration, и теперь мы законные супруги. Ближайшим следствием этой перемены явилось прибытие рабочих, так как некоторые работы в связи с домом уже не терпели отлагательства, – но едва они вышли за порог, как нагрянули мои (в общем-то ожидавшиеся еще раньше) гости и, как это всегда бывает, все разом. – Именно в те дни, когда я принадлежал присутствующим друзьям, Вы вернули мне книгу и прислали карточку, на которой столь прелестно и убедительно представлены Ваш дом, Вы сами и, конечно же, Ян. Поэтому мне не удалось поблагодарить Вас сразу, хотя княгиня Таксис, гостившая у меня два дня, как раз поручила мне передать Вам привет, весьма сердечный. Княгиня прибыла из Венеции, но так и не нашла в Италии (около шести недель она провела также в Риме) следов своего брата; быть может, он все еще проживает в своем палаццо над Пезаро? – Прием, оказанный моим элегиям княгиней Т., привел меня в глубокое волнение! Сперва я прочел ей все десять, на другой день – пятнадцать Сонетов к Орфею, чью внутреннюю цельность и чью связь с элегиями, которым они служат превосходной параллелью, я впервые почувствовал лишь во время этого чтения. Я воспринимаю обе эти работы так, словно они не мои (тем более что они и так, по самой своей природе, суть нечто большее, нежели «мои»), словно они подарены мне, – княгиня пребывала в изумлении, и я, позволю себе быть откровенным до конца, изумлялся вместе с ней, tout simplement, своим чистейшим искреннейшим изумлением. – Таким образом, все было в полном порядке. – Здесь уже самое настоящее лето, порой даже хочется сказать: больше чем лето, либо предварить это слово буквой «М» и вывести его происхождение от «млеть». Но дождит при этом чаще, чем в прошлом году. – Какой была погода в Нанси, какой в Кольмаре, – какая она сейчас в Шёненберге?! – Одна просьба: помните ли Вы ту чудесную изумрудно-зеленую essence de menthe, которую (pour apéritif) Ваша матушка достала в Базеле (где именно?), когда я, по возвращении из Венеции, под воздействием этого напитка резюмировал (о ужас!) все тамошние впечатления. Иметь здесь подобный напиток в самые жаркие часы было бы восхитительно. Не могли бы Вы – если Вам случится заехать в Базель – раздобыть для меня и отправить сюда одну бутылку? Но только при случае! Тысяча приветов, Ваш Инка. 45. Норе Пурчер-Виденбрук Замок Мюзот-сюр-Сьер (Вале), Швейцария, 14 июля 1922 года Любезная милостивая государыня, Ваше прекрасное (по-прежнему новейшее) письмо прибыло сюда 25-го января и – осталось без ответа! Если бы я не был столь абсолютно спокоен в отношении незыблемости нашей дружеской связи, эта пауза и моя нерадивость лежали бы камнем у меня на душе. Но в то время я подошел вплотную к тому, чтобы, наконец-то, с головой уйти в главнейшую и решительнейшую работу своей жизни, которая в течение длительного времени была для меня неприступной, – мне это удалось, после чего я долго не поднимал глаз от работы и никуда не выглядывал. Но и даже после того, как священный водоворот в душе постепенно улегся и успокоился, я по-прежнему оставался неспособным к общению, ибо обратный путь оттуда к людям всегда долог... Вам не нужно долгих объяснений на этот счет; в Вашем собственном сердце хватает воспоминаний и доказательств такой предельной отдачи; чтобы Вы представили себе испытанное мною тягостное и благостное, мне достаточно сослаться на Ваш собственный опыт. – Таким образом, на этот раз была одержана победа, и добрый старый Мюзот, за который я крепко держусь, защитил и обеспечил ее для меня. – Наконец, в июне началось возвращение к внешнему, в коем мне содействовали приятные посещения, в том числе княгини Марии Таксис. Представьте себе мою радость! Наконец-то я смог предъявить ей в законченном виде работы, начатые еще в 1912 году в Дуино и ныне остающиеся неразрывно связанными с этим местом. Это неописуемо растрогало (ведь прошло десять лет!) нас обоих! Сегодня, уважаемая графиня, будет вопрос о самочувствии, Вашем и Ваших близких. Надеюсь, что обо всех домочадцах можно услышать только хорошее, начиная с Нины и далее вниз вплоть до молодого, на момент Вашего тогдашнего письма уже подросшего фокстерьера. И к этому вопросу еще один: будет ли для Вас этим летом (или ранней осенью) мой приезд в Каринтию столь же своевременным, впишется ли он в Ваши планы с той же легкостью, как это было бы год назад? – Мне бы не хотелось преждевременно обещать, что он гарантирован, – но теперь, когда благодаря завершению на долгое время прерванных и поставленных под угрозу работ я пребываю (по крайней мере, время от времени) в своего рода каникулярном настроении, вероятность намного выше. Кроме того, необходимость отправиться в Вену и, вероятно, в Богемию по семейным делам станет настоятельной, возможно, уже в августе, – короче говоря: Предусмотри- 57 тельность советует мне справиться у Вас насчет подходящего времени, чтобы не вышло так, что я не застану Вас или нагряну слишком внезапно. Черкните мне пару-другую строк. О маленьком Балтуше я расскажу Вам при встрече, я был искренне рад, что Вы приняли «Мицу» с такой теплотой и столь глубоко участливым пониманием. – На следующей недели я ожидаю приезда матери моего маленького друга (которая умеет столь удачно изобразить себя даже на собственных картинах); она собирается провести часть лета в Мюзот, к которому очень привязана: ибо в прошлом году мы вместе открыли этот старый manoir, и то, что затем он действительно был удержан и «обуздан», преимущественно является заслугой моей решительной подруги. Ах, если бы это лето, лето 1922 года, было ознаменовано тем, что я бы нашел и открыл для себя Каринтию, прародину моей крови, которая благодаря такому свиданию (кто знает?) все же должна была бы что-то почувствовать и более глубоко осмыслить свое течение. И, ко всему прочему, я бы наконец-то смог пожать вам руки. В надежде на это, Ваш Рильке. 46. Элизабет ф. д. Хейдт Замок Мюзот-сюр-Сьер/Вале, Швейцария, 17 августа 1922 года Уважаемая и любезная госпожа фон дер Хейдт, с великим волнением подаю Вам руку: позвольте мне повторить своим собственным почерком то, в чем уже вчера поспешила уверить Вас моя телеграмма: со времени получения этого сокрушительного известия все мои часы проходят под его знаком. Хочу, чтобы Вы знали, что я принадлежу к числу тех, кто был искренне привязан и предан Карлу фон дер Хейдту, ценя в нем достоинство и глубину его личности: достаточно было осознать нашу связь такой, какой она была, чтобы сразу понять, что в память о нем она станет долговечнейшей и еще более прочной за счет несказанной меры скорби и благоговения. Уже один короткий текст извещения о смерти заставил меня почувствовать и осознать, какой сильный пример терпения и выносливости Вы имели перед глазами и сердцем в последние годы, какое доказательство праведного и чистого смирения, какое мужество во все эти дни и в конце. Мне мнится, будто я не столь далек от всего этого, как можно было бы предположить, если судить по обстоятельствам; и все же, несмотря на эту ощутимую внутреннюю близость, меня одолевают угрызения совести за то, что в течение столь многих лет в последнее и предпоследнее время я не был более сообщительным с этим верным и понимающим другом. Мое молчание отчасти объяснялось тяготами и заботами, которые сдерживали мое перо, ибо я понимал, что теперь ему можно писать только о радостном. В то же время я был счастлив при мысли о том, что готовлю для него на ближайшее время поистине хорошее известие: еще немного – и я рассказал бы ему о завершении большой работы, десять лет находившейся в подвешенном состоянии, – я медлил с сообщением лишь потому, чтобы, по возможности одновременно с письмом, представить ему также и несколько образцов. Как часто представлял я себе, что именно это новая, медленно вызревавшая работа будет столь же приятной и близкой ему, каким некогда, в свое время, был Часослов, явившийся по сути основой того сердечного, зачастую полезного для меня расположения с его стороны, которым я могу гордиться! Внезапное лишение – не относить больше Карла фон дер Хейдта к числу тех, к кому однажды отправится эта книга – это одна из чувствительнейших сторон моей питаемой столь многими воспоминаниями скорби... Хочу попросить Вас уверить баронессу Пальм и всех Ваших, а также отдельно ГердуДоротею в том, что через осознание своей собственной потери я чувствую себя причастным к их великому несчастью. Надеюсь, что они признают за мной это скорбное право, из которого я также извлеку то преимущество, что позволю себе оставаться Вашим старым преданным другом, любезная госпожа фон дер Хейдт, во все последующие годы. Ваш Рильке. 47. Э. М. Замок Мюзот-сюр-Сьер, Вале (Швейцария), 13 сентября 1922 года Уже один вид Вашего послания, мой дорогой и уважаемый, еще до того, как я его прочел, вселил в меня предчувствие, будто Вас что-то тяготит, – и вот теперь оказывается, что тягостнейшее порождено прекраснейшим: Но разве может столь тягостное происходить из столь абсолютно благостного? Ведь Вы до сих пор еще помните, как это благостное развязало, освободило и окрылило Вас. До какого времени? И почему не еще больше? – Есть два способа чтения Вашего письма: Вчера я предположил, что Вы (быть может, взаимно) слишком долго подвергали друг друга сильнейшему облучению большим чувством, настолько 58 долго, что тот же самый луч, который еще недавно способствовал росту и изобилию, начал оказывать разрушительное действие: и за это Вы теперь невольно вынуждены мстить. Сегодня я понимаю это по-другому: Как если бы Вы, в соответствии с тем опытом, в поле действия которого по-прежнему пребываете и боретесь, считали себя тем, кто, будучи любящим, кажется самому себе (как только период ухаживания остался позади) обреченным, вследствие внутренней роковой неизбежности, пользоваться средствами и орудиями ненависти столь же непроизвольно, как и средствами более глубоко залегающего, более загадочного наслаждения... Это открытие вполне могло стать для Вас бесконечно болезненным и привести Вас в бесконечное замешательство, – однако отчаиваться из-за этого не следует: необходимо лишь повести борьбу с нерешенностями и заблуждениями Вашей глубиннейшей сущности, – и кто знает: быть может, как раз те изменения и приобретения, которые принесла Вам привязанность и преданность того человека в определенный период Ваших отношений, придадут Вам сил для такой борьбы. Если теперь Вы внушаете ужас самому себе, понимая, насколько несдержанно и жестоко ведет себя Ваша натура по отношению к человеку, чье сердце Вы некогда завоевали, чтобы ныне терзать его, – попытайтесь в качестве противомеры усвоить себе, что завоевать и сделать своей собственностью человека, чтобы затем использовать его для собственного (нередко являющегося роковой неизбежностью) наслаждения, и вообще: что использовать человека недопустимо и невозможно, – и Вы снова увидите, как восстанавливаются те дистанция и уважение, что заставят Вас заново приложить к своему чувству те мерки, которыми Вы пользовались во время ухаживания. Нередко случается так, что то счастье, которые Вы испытали, любя и будучи любимым, не только высвобождает в молодом человеке новые силы, но и пробуждает другие, более глубинные слои его натуры, из которых затем на свет являются чудовищные вещи: однако наш хаос изначально составляет часть наших богатств, и когда мы приходим в ужас от его мощи, мы на самом деле боимся лишь непредвиденных возможностей и напряженностей нашей силы; и хаос, как только мы хотя бы чуть-чуть дистанцируемся от него, немедленно рождает в нас предчувствие новой упорядоченности, а также, если подобные предчувствия сопряжены хотя бы с малейшей толикой мужества, любопытство и желание достичь этого пока еще невидимого будущего порядка! Я употребил слово «дистанцироваться»; если бы я считал себя вправе предложить Вам совет, то он заключался бы в призыве сделать именно это: дистанцироваться: как от нынешнего смятения, так и от тех новых состояний и расширений Вашей души, которыми Вы пользовались, когда сталкивались с ними, но которые еще не стали целиком и полностью Вашими. Кратковременная разлука, расставание на несколько недель, возможность прийти в себя, привести в чувство вашу разгоряченную и словно сорвавшуюся с цепи природу сулило бы наибольшую вероятность спасения всего того, что, по всей видимости, разрушает само себя и в себе. Неважно, прав ли я в выборе первого способа чтения, или же другой способ более верно отражает те страдания, которые Вы испытываете и причиняете, или же, наконец, Ваши скупые строки следовало бы истолковывать совершенно по-иному: тот единственный совет будет правильным в каждом из этих случаев. Ничто так сильно не укрепляет людей в заблуждении, как ежедневное повторение этого заблуждения, и сколь многие люди, связанные друг с другом схватившейся и затвердевшей общей судьбой, могли бы с помощью кратковременных разлук войти в тот ритм, при котором таинственная подвижность их сердец в тесной близости с внутренним космосом оставалась бы неисчерпаемой. Вот все то немногое, чем я попытался ответить на Ваше доверие. Надеюсь, что скоро Вы почувствуете себя увереннее. Р. М. Р. P. S.: Хотя Ваша только что полученная мною открытка до некоторой степени опровергает и отменяет предшествовавшее ей письмо, я все же не стану брать свои слова обратно. Прекрасно, если Вы сами уже пришли к тому, что я попытался Вам сказать в своем письме: бодрый светлый тон Вашей открытки позволяет мне это предположить. 48. Герману Бюнеману Замок Мюзот-сюр-Сьер (Вале), Швейцария, 15 сентября 1922 года Уважаемый господин, Ваше столь тщательно продуманное и взвешенное письмо находится в моих руках уже несколько дней; сразу хочу сказать, что ответить на него незамедлительно мне помешали исключительно внешние обстоятельства, связанные с неотложными делами. Теперь я приступаю к ответу с усердием и радостью, ибо то предложение, который Вы сделали мне столь учтивым образом, не нуждается в терпеливом обдумывании. Более того, уже сразу по прочтении Вашего послания я решил по меньшей мере попытаться взять на себя в высшей степени приятную задачу – далее уже будет зависеть от Вас, сочтете ли Вы мою попытку удачной и «заказ», как следствие, выполненным. Несмотря на то, что в последние и предпоследние годы я довольно редко входил в контакт с японским искусством, все мои прежние связи и точки соприкосновения с ним сохранились, и я не сомневаюсь, что женские портреты Харунобу (из которых один-другой уже наверняка попадался мне на глаза) при более близком ознакомлении могли бы привести меня в такое состояние, ка- 59 ковое можно было бы использовать в отношении вышеупомянутых картин соответствующим образом, для размышлений или для соучастия. Одним словом, я готов попробовать и уже сегодня благодарен Вам за то, что Вы предложили мне сделать эту попытку: и хотя пока еще неясно, выльется ли мое участие в приятный для Вас результат, в тот успех, на который Вы, вероятно, рассчитываете, с другой стороны, уже сейчас очевидно, что работа с серией ксилографий из Вашей коллекции будет для меня – к чему бы она в итоге ни привела – полезной и значимой! Форма, в какой Вы выразили свое желание относительно «заказа», нисколько – и не только благодаря Вашей предупредительности и деликатности – не испугала меня. Признаюсь, что порой я втайне задаюсь вопросом, почему нашему брату, как только он обретает уверенность в своем metier, не выпадает ничего подобного..; почему никому не приходит в голову увидеть своего любимого коня или преданного пса или ежедневно радующий глаз предмет, или занимающий особое место в душе уголок парка украшенным и духовно прославленным написанными на заказ стихами. Ведь если поэт постоянно заставляет себя принимать живейшее участие в вымышленных персонажах или местах, то как может для него быть менее естественным вникнуть в искреннее переживание реального человека и позволить настолько убедить себя в значимости какого-либо реального и по-особому ощущаемого этим человеком предмета, чтобы в ближайший момент вдохновения быть в состоянии намеренно приложить к нему свои способности. В моих глазах Ваш заказ выглядит особенно уместным и привлекательным благодаря тому обстоятельству, что его результат не будет предъявлен публике; что тому сопровождению к гравюрам, вместе с самим альбомом и в сочетании с его негромкой ценностью, суждено будет остаться предметом Вашей личной собственности, так сказать, частью Вашей души и дома: пожалуй, именно эта сторона предложения в начальном и конечном счете побудила меня дать свое полное согласие, которое, надеюсь, Вы прочли в этих строках. Искренне и тепло преданный Вам Райнер Мария Рильке. 95. Элле Асмуссен Замок Мюзот-сюр-Сьер (Вале), Швейцария, 3 сентября 1924 года Милостивая сударыня, издательство «Инзель» переправило мне Вашу посылку. Возвращая Вам эти девять листов, я хотел бы, прежде всего, поблагодарить Вас за то, что Вы решились представить мне свои необыкновенно прочувствованные работы. Я постоянно обращался к этим рисункам; ритм их выражения пленил меня, словно он вобрал в себя самую суть того впечатления, через которое Вы почувствовали себя приобщенной к «Часослову». Насколько я понял из Вашего письма в издательство «Инзель», приложенного к посылке, Вы считаете возможным использовать подобные рисунки при переиздании этой книги. Раз уж Вы заговорили о такой возможности, я вынужден прямо сказать, что совершенно не признаю каких бы то ни было иллюстраций и всегда отвергал предложения такого рода, к какой бы книге они ни относились. При всем сочувствии к Вашим рисункам я не могу решить иначе и в Вашем случае, ибо твердо считаю, что поэтический образ неизбежно несет потери от подобного закрепления и привязывания к конкретным представлениям о предложенном в нем содержании; такой образ не терпит окончательного истолкования, он живет своей неопределенностью и обновляется за счет нее. Это вовсе не означает, что он неточен и хотел бы оставаться таковым, однако тайна его природы состоит в том, что каждому воспринимающему он предстает разными гранями своей безупречной точности. – Применяя это пристрастное суждение к Вашим работам, я нахожу, что на самом деле все «образы», для которых Вы порой изобретаете весьма удачное зримое воплощение, своеволием фиксирующего их карандаша сведены к чему-то отдельному, частному. Возможно, что первый рисунок, исполненный большого размаха в этих пределах, составляет исключение. Но даже такой рисунок, дарующий созерцателю полную свободу истолкования, я не могу представить себе включенным в ту серию стихотворений… Даже если моя точка зрения несправедлива, она для меня столь естественна, что я еще ни разу, о каких бы иллюстративных воплощениях ни шла речь, не мог отделаться от ее влияния. Впрочем, я четко отделяю данный вопрос от другого – о художественном значении Ваших работ, которые, несмотря ни на что, задели меня за душу (более всего из них: 1, 2, 4, и, возможно, еще 6). Примите мою благодарность за силу Вашей привязанности и выражение той радости, которую я от нее испытываю! Райнер Мария Рильке. 60 ДЕРЕВО (рассказ, перевод с английского ДЕНИСА ЕРМАКА) На зеленеющем склоне горы Меналус в Аркадии, среди оливковой рощи, можно найти развалины старинного дома. Рядом с ними стоит гробница. Некогда прекрасная и окруженная величественными изваяниями, теперь она пришла в такой же упадок, как и дом. У одной из стен этой гробницы, сдвинув своими узловатыми корнями потемневшие от времени плиты греческого мрамора, растет неестественно огромное оливковое дерево. Его зловещая форма настолько похожа то ли на уродливого человека, то ли на обезображенного смертью мертвеца, что жители окрестных деревень боятся проходить мимо него, особенно в лунные ночи, когда призрачный свет пробивается через скорченные сучья. Гора Меналус – любимое пристанище омерзительного Пана с его многочисленной свитой. Жители окрестных деревень считают, что это дерево – родич сих существ, но старый пасечник, дом которого стоит неподалеку, рассказал мне иную историю. В давние времена, когда каменный дом на склоне горы был новым, в нем жили два скульптора, Калос и Музидес. От Лидии до Неаполя, люди восхищались красотой их творений, и никто не осмеливался сказать, что один из них превосходил в своем мастерстве другого. Изваянный Калосом Гермес стоял в мраморном святилище в Коринфе, а Паллада Музидеса венчала собой колонну рядом с Парфеноном в Афинах. Все уважали Калоса и Музидеса и восхищались тем, что даже тень зависти не охлаждала тепло их братской дружбы. Но несмотря на то, что Калос и Музидес жили в мире и согласии, они не были похожи друг на друга. Пока Музидес наслаждался по вечерам шумным городским весельем в Тегее, Калос предпочитал оставаться дома. Он тихо удалялся от глаз своих рабов в прохладу оливковой рощи. Там он любил предаваться размышлениям о видениях, наполнявших его сознание и придумывать новые создания красоты, затем становившиеся бессмертными в живом мраморе. Праздный народ болтал, что Калос беседовал с духами оливковой рощи, и его статуи изображали встреченных им дриад и фавнов, – ведь мастер всегда творил, обходясь без живой натуры. Калос и Музидес были настолько знамениты, что никто не удивился, когда к ним пришли посланники Сиракузского Тирана и сказали им, что Тиран намерен поставить в городе статую богини Тихе. Статуе надлежало быть огромных размеров и от мастеров требовалось безукоризненное мастерство, поскольку ей предстояло восхитить все народы и привлечь путешественников. Выше всех мечтаний вознеслась бы слава победителя в состязании скульпторов. Калосу и Музидесу предложили такое состязание. Все знали об их братской любви. Хитрый Тиран подумал, что 61 они не станут прятать свои творения друг от друга, а предложат друг другу помощь и совет, и появятся два воплощения неслыханной красоты, затмевающие даже грёзы поэтов. С ликованием приняли скульпторы предложение Тирана. Во все последовавшие за ним дни их рабы слышали неустанный стук резцов. Не скрывали друг от друга свою работу Калос и Музидес, но видеть её не разрешали больше никому. Никакие глаза кроме их собственных не смогли бы увидеть две божественные фигуры, которые они освобождали искусными ударами из плена грубых камней, с начала мира затворивших эти образы внутри себя. По ночам, как и ранее, Музидес окунался в шумное веселье Тегеи, а Калос в одиночестве бродил по оливковой роще. Но время шло. Люди стали замечать печаль в некогда искрометножизнерадостном Музидесе. – Странно, – замечали они, – грусть овладела тем, у кого так много шансов получить награду, какой ещё не видели люди искусства. Проходили месяцы, но на угрюмом лице Музидеса не появлялось и намека на захватывающее ожидание грядущей славы. Однажды Музидес обмолвился, что Калос болен. Теперь никого не удивляла его печаль, – все знали глубину и искренность дружбы двоих скульпторов. Многие приходили навестить Калоса и замечали бледность его лица. Но появилась в нём и счастливая безмятежность, делавшая его взгляд более завораживающим, чем взгляд обезумевшего от тревоги Музидеса. Желая собственноручно кормить друга и ухаживать за ним, тот вывел из дома всех рабов. Спрятанные за тяжелыми занавесями, стояли две незаконченные фигуры Тихе. Уже давно к ним не прикасалась рука ни больного, ни его преданного спутника. Несмотря на все священнодействия озадаченных врачей и неутомимого друга, Калос становился всё слабее и слабее. Теперь он часто желал, чтобы его отнесли в любимую им оливковую рощу. Там он каждый раз просил оставить его одного, как будто хотел говорить с какими-то невидимыми существами. Музидес всегда выполнял его просьбу, хотя его глаза наполнялись слезами, когда он понимал, что его друг предпочитает ему дриад и фавнов. Когда конец уже стал близок, Калос заговорил о том, что хотел бы получить от тех, кто останется жить, когда его жизнь закончится. Рыдающий Музидес пообещал ему гробницу прекраснее чем построенная для сатрапа Мавзола, но Калос попросил более не говорить ему о мраморных почестях. Только одно желание не давало покоя разуму умирающего. Он попросил, чтобы ветви оливковых деревьев из рощи были зарыты около места его упокоения как можно ближе к его изголовью. В одну из ночей Калос умер, сидя в полумраке оливковой рощи. Неописуемо красивую гробницу вытесал Музидес для дорогого друга. Никто кроме самого Калоса не смог бы сотворить барельефы внеземной красоты, в которых скульптор изобразил великолепие рая. Музидес не забыл желание друга и вкопал оливковые ветви из рощи рядом с головой Калоса. Когда отчаяние Музидеса сменилось смирением, он с новым усердием принялся за изваяние Тихе. Все грядущие почести теперь несомненно предназначались ему, – Тиран Сиракуз не мог доверить эту работу никому кроме него или Калоса. Эта задача стала отдушиной для Музидеса. Он работал, не отвлекаясь ни на что, сторонясь прежних наслаждений. Тем не менее, вечера он проводил у могилы друга, где молодое оливковое дерево раскинуло зеленые ветви над головой усопшего. Оно росло быстро и форма его стала настолько странной, что видевшие его удивленно восклицали. Музидеса же это дерево и очаровывало и пугало. Прошло три года. Музидес отправил к Тирану посланника. По Тегее из уст в уста распространилась весть, что величественная статуя Тихе завершена. Дерево около гробницы достигло необычайных размеров, став выше всех остальных деревьев в роще. Его одинокая ветвь простерлась над домом, в котором трудился Музидес. Многие приходили, чтобы посмотреть на диковинное дерево и восхититься мастерством скульптора. Редко оставался Музидес в одиночестве. Его нисколько не тяготило обилие гостей. Казалось, он стал бояться одиночества теперь, когда захватывавшая его работа закончилась. Холодный ветер с гор, как будто вздыхая, шумел в ветвях оливковых деревьев и могильного дерева среди них, как будто зловеще шепча едва угадываемые слова. Вечер уже сделал небо тёмным, когда люди, посланные Тираном, добрались до Тегеи. Все прекрасно знали, что они пришли для того, чтобы забрать с собой огромную статую Тихе и увенчать Музидеса вечной славой. Поэтому знатные горожане очень радушно приняли их. Поздно ночью свирепый ураган пронёсся над горой Меналус, и люди из далёких Сиракуз радовались тому что находились в уюте и безопасности города. Они говорили о прославленном Тиране и о великолепии его столицы и славили величие статуи, сотворённой для него Музидесом. Жители Тегеи говорили и о благородстве Музидеса, про его глубокую скорбь о друге, которую даже предстоящие лавры победителя не могли утешить, ибо рядом не было Калоса, который мог бы получить эти 62 лавры вместо него. Говорили они и о дереве, выросшем около могилы возле головы Калоса. Вой ветра стал ещё ужасней. Как сиракузцы, так и жители Аркадии молились Эолу. Утром, когда Солнце поднялось над горизонтом, знатные жители повели посланцев Тирана по склону горы к жилищу скульптора. Однако, странные вещи сделал ночной ветер. Удивлённые крики рабов раздались над опустевшим местом среди оливковой рощи. Теперь там не возвышались сверкающие колонны огромного дома, в котором мечтал и трудился Музидес. Одинокими и одряхлевшими казались двор и остатки стен, потому что на некогда великолепную колоннаду теперь легла тяжелая тень от нависавшей ветви странного дерева. Она превратила величественную поэзию мрамора в замшелую гору руин. Испуганно смотрели тегейцы и посланцы Тирана то на развалины, то на огромное дерево такого зловеще-человекоподобного облика, корни которого так странно проникли в великолепную гробницу Калоса. Но к их ещё большему ужасу, в развалившемся доме они не нашли и следа благородного Музидеса и высеченного в камне прекрасного образа Тихе. Лишь хаос и запустение обитали здесь. Посланцы двух городов вернулись разочарованными. Сиракузцев опечалило то, что пришлось возвращаться домой без желанной статуи, а тегейцев – что они не могли гордиться прославленным скульптором. Однако время шло, и сиракузцы привезли великолепной работы статую из Афин. Тегейцы утешились, возведя в своем городе мраморный храм в память о гениальности, добродетелях и братской преданности Музидеса. Но оливковая роща стоит и сейчас, как и растущее из гробницы Калоса дерево. Старый пасечник рассказал мне, что иногда его ветви перешёптываются на ночном ветру, снова и снова повторяя: «Слушай! Слушай! Помню! Помню!» Рис. Евдокии Слепухиной 63 МУХИ Симфонические вариации для струнников, трубачей, ударников и орудий массового уничтожения. (Рассказ, перевод с датского ОЛЬГИ МАРКЕЛОВОЙ) Понт-о-Ан, 11.9.1966. Сегодня утром прибыл в эту богом забытую деревушку за долами, за горами. Первое впечатление: вот оно! Тут и там по бокам – синее одиночество, о котором так мечталось: лазурное небо, дымно-голубые хребты гор, а далеко на западе – иссиня-черное море – не старое смиренное внутреннее море – Средиземное, а широко раскинувшийся язычник Атлант. Дом – огромного размера. Из тех деревенских домов Южной Франции, что всем знакомы по картинам Сезанна и Ван Гога. «Дом повешенных». Кривой, в трещинах, с нагретой солнцем черепичной крышей и на редкость непоследовательным расположением окон и дверей. Принадлежит небольшому объединению художников, теперь пустует. Темные ступени каменной лестницы, истертые до дыр ногами многих поколений. Глубокий подвал без окон и, видимо, без пола тоже. Наверху две комнаты пустые и две – со скромной обстановкой. Кухонька с раковиной и шкафами, складным столиком, скамьей и двумя табуретками. Каморка с диваном, столом и стулом. Примитивно. Уютно. Вид из окна заслоняют низкие пышные кроны деревьев. Я выбрал себе эту комнатушку. В больших комнатах светлее, но мне там нравится меньше: в них всё дышит запустением, пятнистые стены исчерчены трещинами. Комната с загороженным окном – укромное гнездо в глубине неведомого леса, именно то, чего так жаждал. Подложил под шатающийся стол кусочек картона. Принес пишущую машинку и пачку бумаги. 2000 листов мягкой дешевой бумаги, которую можно не жалеть. Набил трубку и на мгновение предался одиночеству – наслаждению абсолютной изоляцией. Иногда неожиданно находит состояние восторга. Вневременная пауза краденного счастья и забвение на границе варварства… Процесс не обходится без известной доли мучений. Прямо родильные муки! В ушах жалобное пение, словно в идущем на посадку самолете. Глядишь с болью на контрабандные сокровища своей абсолютной свободы тут, на столе у таможенника, и на зловещий знак двойственности в своем паспорте. Холодно киваешь, узнав свое alter ego, вечного антагониста в своем сердце, который пришел встретить тебя, набожный и молчаливый, но с таким торжествующим зловещим взглядом, идущим из ночной стороны твоего существа… Да. Но, по крайней мере, ты вновь здесь и сейчас, в этом мире, в этой жизни, чьи беспощадные прожектора режут тебе глаза, чей докучливый, но неизбежный рой проблем овевает твои уши. Ура. Я дрожу – следовательно, существую! 64 Единственное, что я знаю наверняка, – это то, что собираюсь сосредоточиться на работе, о которой – среди парижского гомона и суеты – постоянно строил немыслимые планы. «Священный пес» – comedie de mæurs. Нечто вроде серьезного фарса. Комедия в высоком штиле. Действие происходит в абстрактном мире – наполовину средневековом, наполовину современном. Речь идет о счастливой супружеской паре – мозаичных дел мастере Бенедикте, его молодой жене Глории и их двухлетней дочке Росвите (их сокровище, надежде, смысле жизни!) и о псе по кличке Проспер, который спас ребенка от волчьих зубов (или еще от чего-нибудь), но при этом сам погиб смертью храбрых, а после люди стали почитать его как святого мученика. Это основная сюжетная линия, средневековая легенда. Но есть и побочная линия, связанная с сегодняшним днем: в ход пьесы вмешиваются зрители, они проявляют где-то жажду сенсации, где-то жесткую (местами толковую и остроумную) критику, но где-то и смехотворную узколобость – политическую и религиозную нетерпимость своего времени. Следящие за порядком полицейские и пожарные не могут сдержать этих представителей современной общественности, они проникают на сцену, средневековые персонажи обвиняются в святотатстве, коммунизме и тайном пособничестве враждебным силам; стадный инстинкт (вполне в духе времени!) вырывается на волю, звучат требования арестовать Бенедикта, малютку Росвиту поместить в детский дом, а пса Проспера линчевать. Дело идет к катастрофе, противостояние двух несоизмеримых миров сильно, столкновение грозит взрывом… И тут происходит нечто совсем неожиданное. Что происходит, я еще сам толком не знаю, но со временем это придет. А пока я работаю над первым актом. Собор, на сооружения которого ушла целая жизнь, вот-вот будет готов. Бенедикт в последний раз прикасается к мозаике на большом окне-розе над главным входом. Солнечные лучи играют в разноцветном стекле. Громадный орган ревет под руками органиста. Жизнь такая новая и огромная, полная надежды, брызжущая творческой фантазией, в картине мира – монументальная и глубоко гармоничная простота… Уютно замкнутый и исполненный смысла мир под божественной системой небесных сфер. О, как мне нужна сейчас эта simplicitas, по ней я томлюсь. Как изголодавшийся бродяга по куску простого хлеба. Как путник в пустыне по чистой воде! Просто я сильно устал от нынешнего века – с его расколотой картиной мироздания, с его изолгавшимися идеологиями и слепым менталитетом развлечений и разрушений – и как за жизнь, борюсь за то, чтобы дойти до более глубокого осмысления. Отыскать универсальную ценностную основу (знаю, знаю, звучит занудно). Не метафизическую архимедову точку за пределами мира, упаси бог, речь не об этом. Элементарную человеческую позицию! Или, если уж на то пошло, хотя бы свободное местечко на некоторое время (если вы ничего не имеете против такой дерзости), убежище среди технической и коммерческой горячки времени, безмозглой и гибельной, которая, укрепившись на земном шаре и обеспечив ему конец, теперь на верном пути к тому, чтобы завоевать и отравить небеса. Насладиться одиночеством и отдохнуть так и не довелось. Также не верю, что настанет момент, когда можно будет беспрепятственно уйти с головой в работу. (Не смею на это надеяться – но все же, разумеется, надеюсь!) Полностью отдаю себе отчет, что я во власти изменчивых амбивалентных сил – сил, которые осознаются как враждебные, но неизбежные. Возможно, это и не абсолютное зло. Я втайне лелею эту надежду. Здесь водятся кое-какие насекомые. Муравьи, уховертки, немного гадких клопов. Полчища мух. На улице в листве – оглушительный оркестр цикад. Убил трех ос или шершней и еще одного непонятной длины проворного гада со множеством ног, крючков и антенн. Жужелицу не тронул – пусть себе бежит. С пауками я тоже живу в мире. Хотелось бы жить в мире со всем живым. Нереально? Конечно. Старая мечта отшельника... Не рассчитывал на такое нашествие насекомых. Под вечер – комары на своих крыльях. Их я решил безжалостно истребить. Мое второе я – нигилист в моем сердце, имеющий далеко не утонченный вкус к разрушению, пылко поддерживает меня: Да, к чему нам здесь вся эта живность, эти бездушные бесенята с их гениально устроенными механизмами для убийства и размножения? Они составляют 4/5 от всех видов живых су- 65 ществ. Они на несколько сот миллионов лет старше нас, когда-то мир принадлежал им и только им, и, видимо, еще будет. Они могут и подождать. А мы, другие, не можем. Спокойной ночи! 12-е Неуютный день. Жара гнетет. Несмотря на вдохновение, не смог ничего написать: докучали мухи и пели цикады. Ночью спал плохо – одолели комары.Здесь есть и клопы или какие-то другие пренеприятнейшие паразиты, которые, как комары, сосут кровь и вызывают волдыри и зуд. Пение цикад само по себе, конечно, достойно восхищения. Невольно представляешь себе этот дьявольский мини-оркестр, эти полчища неистовых, обезумевших музицирующих самцов, они все в апокалиптическом наряде, с крыльями и в зеленых очках (а сами они, наверно, красные), все они обладают одинаковой нечеловеческой энергией, все лихорадочно поддерживают идиотскую музыкальную традицию, которой уже миллионы лет, отупляющую машинерию серенады или чего бы то ни было. Но при всем том, как я говорил, этому не откажешь в элементарной мощи. Напоминает поздние композиции Шёнберга, атональные. Также на ум приходят разливанные моря заурядной танцевальной музыки, день и ночь льющиеся из множества громкоговорителей. Есть в ней и что-то от первобытного леса и далекого прошлого. А исполняется упертыми ослепленными самцами. Чувствительные соло на рожке более индивидуальны. С более драматичным и вызывающим отношением к слушателю. Романтические арии. А ведь нужно им не что иное, как кровь твоего сердца, этим маленьким циничным гарпиям, и хотя те стилеты и иглы шприцов, что они пускают в ход, великолепно отлажены, они оскорбительно нечисты и могут принести твоим жизненным сокам непоправимый ущерб. Москитных сеток в этих краях не водится, не говоря уж о химических средствах от насекомых. Только липучки. Остальное торговец вызвался доставить мне из Анз Эспаньоль. Я купил двенадцать липучек. Пока повесил шесть под потолком в кабинете, в спальне и на кухне. Они уже щетинятся мухами. Это омерзительно на вид, но эффективно. К вечеру мух в спальне совсем немного. Но в пустых комнатах стоит нечеловеческий шум от крыльев насекомых (и ночью, кажется, тоже). Я запер двери в эти беспокойные помещения. Услужливая жена соседа, которая, вроде бы, следит за домом, глядя на мои липучки, качает головой, не понимает моего отвращения к мухам, считает их полезными, например, личинки мясных мух – хорошее средство от воспаления глаз. Меня передернуло, и я спросил, как это понимать. Но ведь мухи откладывают яйца в воспаленные глаза детям, и личинка отъедает всю гниль. У господа бога всё имеет свой смысл. Даже клопы и комары? А скорпионы? Она кивает с серьезным и таинственным видом. Скорпионы совершенно безобидны, а о комариных укусах и говорить нечего. И потом, насекомых тут не так уж и много, мсье! Она дарит мне теплую, довольную, чуть лукавую улыбку. Она очень молода. Чистая смуглая кожа, глаза серые, как сталь; очень услужлива и бодра; очаровательно неуклюжа в движениях, как лань или молодая телица. Носит – к моему удивлению – то же имя, что и жена мастера в моей комедии: Глуар. Нет, я, наверно, принимаю этих насекомых слишком близко к сердцу. 13-ое. Еще один мучительный день после скверной ночи. Всё та же духота. Но мне прислали всевозможные порошки от насекомых и москитную сетку. Много часов сидел над пишущей машинкой, но не продвинулся дальше нескольких строчек. Наглые мухи со своими хоботками издеваются, без конца лезут целоваться! Они здесь буквально всех сортов и размеров, попадаются даже деревенские зеленые навозные мухи. Прилетают сюда из соседского свинарника во дворе, где еще полно навозных жуков, падальщиков и прочего добра. Забыл купить продукты, дома только кофе и старый хлеб. Ужинал в «Le Bouton d´Or», деревенском трактире, где тучами ходят тараканы. Одно из этих милых существ отправилось со мной домой и юркнуло внутрь пишущей машинки, где мне не удалось до него добраться. Чего доброго, это окажется беременная самка. Тогда будут у нас новые дорогие гости. 66 Глуар, лань со стальными глазами и лукавой улыбкой (в сущности, это улыбка Мадонны, «готическая»!) помогла мне натянуть москитную сетку, но отказалась участвовать в тривиальной процедуре уничтожения. 14-ое. Новый неудачный день после беспокойной ночи. Москитная сетка, видимо, оказалась негустой, во всяком случае, в доме комары. К обычному составу оркестра насекомых прибавился новый чудной солист, который издает громкий зудящий звук со стены прямо над моей головой. Должно быть, грийон, сказала Глуар; это, наверно, такой сверчок или древоточец. Пульверизатор из Анз Эспаньоль, похоже, не действует, то же касается некоторых белых порошков, несмотря на черепа и научные гарантии на этикетках. Глуар едва скрывает свое ликование. Она явно держит сторону насекомых . Сменил липучки. Они, во всяком случае, надежнее. Зато какие отталкивающие! Что же они мне напоминают? Старинные картины Страшного суда – Мемлинга, Брейгеля, Босха. Лагеря смерти. Открытые братские могилы. Символы разрушения. Сжег их внизу во дворе. Горят хорошо. Крематорий работает великолепно. Гиммлер облегченно вздыхает. Эйхманн умывает руки. Генерал Хи удовлетворенно созерцает сожженные напалмом деревни своей родины… Сегодня вновь не смог собраться и сесть писать. Да, но мои дорогие «средневековые» друзья всё еще со мной и спешат поскорее принять облик. Глория с ее насмешливо-загадочной и снисходительной улыбкой, сияющая, расторопная и бодрая – она всё же существует в мире, она осязаема, со своей страстной нежностью к детям, зверям и всему живому, что не может без помощи. Эта простая человечность – надеюсь, можно верить, что она еще существует? Бенедикт, честный и искусный ремесленник, терпеливо трудится над своей розой и день ото дня делает большие успехи, несмотря на относительно скромное техническое оснащение, он неподкупен, может выполнять только основательную работу. Его век не знал дешевки, ширпотреба, конвейра и потребительского мышления. И больших промышленных концернов (этих насекомообразных безликих тиранов нашего века, чудовищно ненасытных и вездесущих!). В общем и целом, то не были времена, подобные нашему, безупречные в технически-коммерчском отношении и варварски отсталые в отношении человеческом. Низменная жажда наживы еще не стала движущей силой общественных механизмов и причиной войн между народами. Война еще была доблестью, а не безликим пульверизатором от насекомых, направленным с воздуха на беззащитных детей и женщин. Generositas – еще была живой действительностью. То были времена, когда благородства хватало на то, чтобы принять бессловесных тварей в свое вселенское братство – когда Франциск Ассизский беседовал с птицами, и даже пес мог быть причислен к лику святых! И тут у моего второго «я» появляется мефистофелевская улыбочка. «Басенка для детей»? Называй как хочешь. Твое время, разумеется, слишком жестоко, чтобы это вызвало что-то кроме насмешки. Над этой святой собакой не зубоскалили, не злорадствовали над ее «глупостью». Ей улыбались, над ней веселились, она была источником возвышенного светлого юмора – этой способности наше циничное и суетливое время напрочь лишилось. Осталась только способность улыбаться по-взрослому, мрачно, сардонически и отчужденно, безнадежно, в приступе экзистенциальной тошноты… Я бросаю взгляд на своего антагониста. Всё та же демоническая усмешка на его самонадеянной роже! Это выводит меня из себя. Неужели этот сноб придет и разрушит мои добрые намерения своим замороженным desespoir1! Я решаю воспользоваться своим авторитетом «сверх-я» и вытесняю его. Стираю с лица земли. Он исчезает, лопнув как мыльный пузырь. Разумеется, не навсегда. Но пока он восстановится, пройдет некоторое время, а пока можно наслаждаться покоем. Днем вышел на прогулку. Та же голубая limpidezza2, тот же величественный вид. Море вдали. На юге снежная скалистая вершина с теплым названием La Maman. 1 2 безнадежность (фр.) ясность, ясное небо (итал.) 67 Влез на низенькую сосну на утесе, наблюдал, как заходит солнце и Сириус поднимается из моря, мерцая всеми цветами радуги. Ощутил древнюю тихую радость сидения на дереве. Думал: жизнь есть мистерия, бесконечно светлая и чудесная, бесконечно темная и жестокая, необъятная, непостижимая. Из всех живых существ один человек пускается на поиски, чтобы выявить и подтвердить ее схемы и законы. В этой феноменальной пьесе жизни мы, в отличие от других созданий, одновременно и актеры, и зрители. Действительно, удивительное положение! Мы видим мерцание звезд и знаем, что это связано с явлениями, которые находятся далеко за пределами наших измерений, но в то же время знаем и то, что это – работа нашего глаза, и свет, что они излучают, отражен светом внутри нас. Пока я, возвратившись с дивной вечерней прогулки домой, поверял только что приведенные размышления бумаге, внезапно ощутил слабый укус в спину под лопаткой, а затем жуткую боль. Оса? Или, может, скорпион? Ужаливший зверь еще точно был там, я чувствовал его под одеждой, живого и скребущего. Как бы то ни было, без покаяния ты не умрешь, подумал я и вскочил, снял рубашку – осторожно, надеясь найти возмутителя спокойствия невредимым; и это получилось: он сидел там, на рубашке, какая-то маленькая красненькая дрянь размером не больше блохи, но это была не блоха, скорее, паучок или крупный клещ. Ярко-алый. Я поймал этого негодника в спичечный коробок. Глуар, наверно, знает, что это за птица. Но когда мне потом, через некоторое время захотелось взглянуть на него, он уже исчез. 15-ое. Чувствовал противный укус всю ночь и не мог уснуть. Кроме того, как обычно, комары, клопы и грийоны. Сегодня утром спросил Глуар про красного зверя, который так нахально кусается. Она улыбнулась, решила взглянуть на мою спину. Просто блошиный укус, ответила она и рассмеялась еще больше, как решительные женщины смеются над мужчинами-ипохондриками, немного злорадно, но со скрытой нежностью. Мол, нам это немного гадко и, как известно, смешно, но ведь мы венцы творения и не собираемся им потакать. На новых липучках уже полно мух и комаров, мертвых и полумертвых. Некоторые из полуживых издают долгие певучие звуки. В миноре. Насекомые всегда изъясняются в миноре. Трудолюбивая пчела, беспечная мясная муха и даже такой обычно нерадостный шмель – все настроены в миноре. От одной липучки слышится настоящий детский плач. Нежная, неутешная жалоба вызывает у меня мороз по коже. Пора бы уже сменить эти жуткие клейкие западни на новые. Я брезгливо снимаю их с потолка, но не могу на них смотреть: поле сражения, усеянное головами и ногами, обреченные, корчащиеся в клейком аду. Там одна бабочка. Называется, кажется, переливчатый червонец. Она еще жива – но ножки прочно приклеились к бурому сиропу и ей уже нечем помочь; красивые крылышки цвета пламени, еще свободные, делают отчаянные взмахи. Символ разрушения. В какой-то момент меня охватывает непонятное раскаяние. Липучки скоро доконают меня. В обед я пережил нечто весьма неприятное, пока стоял на кухне и жарил себе бифштекс с луком. Нечто, лежавшее на подоконнике и похожее на увядший листик со стебельком, внезапно поднялось, оказалось живым, пришло в движение, выпустило клешни и – хвать! – вот в клешнях уже муха. Маленькое чудовище сразу принялось пожирать эту муху, но когда поблизости показалась другая, побольше, бросило свою добычу и схватило своими выдвижными клешнями новую. Первая муха еще даже не была мертва. Новая была уничтожена во мгновение ока. Вплоть до крыльев. Внутри клешней остались кровь и потроха. Мне редко доводилось видеть что-нибудь столь же неаппетитное, и бифштекс не шел мне в горло. Убийцу с клешнями я посадил в спичечный коробок. Хочу спросить у Глуар, что это за разбойник. 17-ое. Вчера, ближе к вечеру, мне было муторно, наверно, немного поднялась температура, боль от укуса загадочного насекомого распространилась на затылок и шею. 68 Выпил пару стаканов «Vin cuit» и лег на диван. Напиток пошел мне впрок. Он мягкий и густой, с привкусом горького миндаля. Вино местного производства, подозреваю, что его гонит сам торговец. На бутылке белая этикетка с надписью, разобрать которую невозможно. Απαγε Σατανας, вот что, сдается мне, там написано, Apage Satanas, «Отыди, Сатана!» Двусмысленно, не правда ли? Под этой зловещей фразой три звездочки или птичьи лапки и дата, не поддающаяся прочтению. Пропустил еще стакан, руководствуясь старинным жизненным принципом: бог любит троицу. На мгновение задумался, удивляясь неистребимому колдовскому воздействию числа 3 на человеческий разум. Древняя магия троичности. Три богини судьбы. Три грации. Три прародителя у народа. Три библейских патриарха. Сказочные три брата. Три главных добродетели. Далее: бог – царь – отечество. Мене текел фарес. Тень-тень-потетень. Начал моросить дождь, песня цикад затихла, зато у грийона появилась компания. Теперь их стало трое. Они посылали сигналы каждый со своей стены. Очевидно, любовные сигналы. Трое самцов, зовущих к себе самку. Быть может, одну и ту же. Сим, Хам и Иафет. Вот один из них умолк. Значит, нашел. И теперь у них свадьба внутри старой бурой панели. И сами любовники тоже бурые, похожие на дерево, с мощными хитиновыми головами. Ну, в добрый час, подумал я, и удачи с механикой. Вечером выпил пару рюмок, и наконец, мне удалось заснуть. Под утро видел очень неприятный сон. Он был о том маленьком убийце с клешнями в спичечном коробке на кухне. Он вырвался из коробка, начал расти, стал величиной с омара, пришел отомстить мне за свой плен. Я раздавил его каблуком, услышал, как крошится с треском его хитиновая оболочка и к этому звуку примешивается сухой плач. Затем я поджег его бренные останки, они хорошо горели и превратились в дым и ничто, но после этого меня начали терзать сомнения, был ли тот, кого я убил, действительно насекомым, а не человеческим существом. Плач был всё-таки человеческим. Я как-то постранному вышел из своей оболочки, на моих руках было множество серых отросточков и короткие обкусанные ногти – руки были не мои! А на ногах у меня были высокие военные сапоги с голенищами... Я проснулся от писка в ухе. Это были не комары и не сверчки. Пищащих дудок было много, целый маленький оркестр, в высшей степени странный, концерт для флейт в гиперсовременном стиле. Он доносился из одной из запертых комнат. Мне послышался, к тому же, шорох крыльев. Птицы? Летучие мыши? Ночь еще не кончилась. Меня мучила жажда, я выпил большой стакан «Vin cuit» и снова лег. Концерт для флейт продолжался. Впрочем, он мне нравился. Утром показал Глуар своего пленника в спичечном коробке. Он был мертв. О, это же Prie-Dieu, сказала она, «Богомолец». Священное животное. Я что – убил его? Нет, поймал в коробок живым, ответил я. Значит, убил. Она бросила на меня взгляд, полный сожаления. Prie-Dieu – благочестивое создание. Убить его означает несчастье. Это ведь единственное животное, кроме голубя и ягненка, которое молится богу. Да, и еще божья коровка. Может, я видел, как он молится? – Пока я наблюдал за ним, он поймал и убил своими клешнями двух мух, – ответил я. – А мы-то, люди? Разве мы не убиваем и не едим овец и ягнят? Да еще убиваем друг друга? И всё равно молимся богу? Я не нашел, что ответить. – А он же не умер! – вдруг обрадовалась она и схватила меня за руку. Да, этот зверь не умер, просто заснул или замер, он расправил пару невинно-зеленых крыльев и выпорхнул из коробка. Глуар отворила окно и, причмокнув, выпустила эту тварь. Потом повернулась ко мне, ласково посмотрела в глаза и сказала: «Это к счастью, мсье!» Это было сказано учительным и внушающим спокойствие тоном. Я рассказал ей о ночных флейтах. Скорее всего, летучие мыши, объяснила она. Значит, окно не было закрыто как следует. Она сейчас проверит. И она исчезла, напевая, в жужжащей пустоте. Я услышал, как она там смеется и с кем-то ласково говорит, сюсюкает, будто с младенцем. Через некоторое время она вернулась с божьей коровкой на тыльной стороне ладони. Игрушечное красное существо с черными точками на спинке сидело тихо, словно завороженное ее голо- 69 сом. Она вновь отворила окно и произнесла что-то вроде: «Лети, ангелочек, уж я знаю, куда тебе надо! Кланяйся от меня своей матушке! Adieu et bonne heure!» Божья коровка распахнула жужжальца и обнаружила пару прозрачнейших крылышек – и пропала. Я подумал про себя: ведь бедняжку наверняка поймает и съест какой-нибудь ненасытный «Богомолец»! То, что я слышал ночью – это действительно летучие мыши, сказала Глуар. Там под потолком их висит семь штук. Они мешают? – Да ради бога, пускай висят, – сказал я. – Может, они все-таки расплодятся. 18-ое. Ближе к полудню отправился в Анз, до которого отсюда час ходьбы. В Понте врача нет. Укус на спине, чем бы он там ни был, с тех пор беспокоит меня, вызывает чувство гадливости, мешает спать по ночам, не дает сосредоточиться во время работы. Приемная врача переполнена. Добродушный старик развлекал меня рассказом о своей сложной болезни. Из того, что он поведал мне, я, честно признаться, почти ничего не понял, но вежливо кивал в ответ, чтобы не огорчать его. Он спросил, что болит у меня. А, это Митавенин, ответил он. Если яд попадет в кровь, это очень опасно. Может вызвать температуру и галлюцинации. От этого даже с ума сходят. – С ума?! – Да, становятся ненормальными. Вот мой двоюродный брат… Но тут подошла его очередь, и он так и не успел рассказать мне о своем брате, которому так не повезло в жизни. Митавенин… Я так и эдак верчу странное название, предаваясь лихорадочным этимологическим спекуляциям. «Ядовитый клещ»? Врач – колоритный пожилой человек с усами á la маршал Петэн, похож на кузнеца – обычный в этих местах тип. Выглядит он так, словно объелся железом. – Это? – указывает он на мою спину. – Блошиный укус! Я пытаюсь возразить, но вынужден уступить знатоку. – Что такое Митавенин? – спросил я, одеваясь. Митавенин? Такого слова он прежде даже и не слыхал. Кто мне его сказал? Ах, этот, мсье Меттерин, брадобрей? Меттерин же сумасшедший. Довольно! Я расплачиваюсь и ухожу. В аптеке удивились, что я недоволен средствами от насекомых, которые мне прислали через торговца в Понте. Но если мне угодно что-нибудь более радикальное, то можно привезти из Байонне. Речь идет об усыпляющем ядовитом газе «Лямортсанфраз», содержащем химикаты, которые растворяют хитин. Это чудесное средство можно заказать в Байонне, и мне пришлют его прямо оттуда вместе с автоматическим распылителем на батарейках. Аптекарь протягивает мне рекламную брошюру с иллюстрациями. – Я над этим еще подумаю. На самом деле думать ни над чем не надо. Обстановка накалилась до предела, пора делать выбор. Или упорно продолжать борьбу с насекомыми, или оставить поле боя. В конце концов, ничто не мешает мне собрать вещи и отчалить, отправиться дальше и найти другое, возможно, лучшее прибежище. Так отчего же ты, черт возьми, не соберешься и не уедешь? Что, вопреки всему, удерживает тебя в этой заброшенной грязной норе в Понте? Здравый смысл велит тебе оставить ее, чем раньше, тем лучше. Вышло недоразумение. Так постарайся его исправить. По той или иной – пока непонятной – причине мне невмочь слушать этот ясный голос рассудка. Мое второе я, иррационалист в моем сердце, отвергает бегство как слишком простой и, как он выражается, трусливый выход. Хочет, чтобы я «шел до конца», что бы это ни значило. Какое-то скрытое жадное любопытство замешано в этом – так мне кажется. Черт его знает. И конечно, эта Глуар. Я вижу ее перед собой отчетливо, словно при галлюцинации, она стоит, углубившись в себя, и смотрит в пространство вслед божьей коровке, с которой она передала приветствие Святой Деве, неуклюже-восхитительно, немного по-детски, как балерина Дега, самозабвенно отдыхающая в ни к чему не обязывающей позе. Нет, я не мог решиться. И пока чувствовал, что измотался. Нужно время, чтобы как следует всё взвесить. Выпил вина и повалился на диван. Мне явно было нехорошо. Чувствовал себя 70 униженным и жалким. У меня болела голова и шумело в ушах. И болело, пухло запястье левой руки – укусила оса или скорпион. По крайней мере, я, кажется, видел, как двое странных бледноносых и тонкохвостых проныр с клешнями как у омара юркнули в щель в полу на кухне. От щетинистых липучек всё еще доносились те же тоненькие сетования, те же предсмертные хрипы. К одной из липучек приклеилась голубая стрекоза. Она похожа на юную даму в бальном платье, попавшую в беду. Она гибнет незаслуженно, она отдана во власть уничтожению и корчится в уродливых позах. Это страшно и мерзко. Ее постигла злая судьба, она в чудовищном плену клея. Узница Бельзена. Да хватит просто так лежать и смотреть на это, разозлился я сам на себя. «Не получится», – бодро заметило мое второе я. Я вижу: он заговорил, цинично воспользовавшись слабостью моей позиции. Вот он сел на своего любимого конька: «о глубинной и вечно неизменной низости человеческой натуры» – излюбленный напев всех незрячих мизантропов с давних пор. «Нечего притворяться, старина, – он говорит нарочито развязно. – Любая сенсация замешана на интересе. Даже страшная. Как на духу – разве ты не испытываешь легкую convoitise, когда читаешь в газете об изнасилованиях или убийствах и грабежах? Или об ударе молнии, землетрясении, наводнении, надвигающейся войне? Или с подозрительной безмятежностью смотришь на ужасные видения Гойи или Брейгеля? Или, дрожа от страха, наслаждаешься безжалостным фурором на картине Страшного Суда Микеланджело? Или воплощенным застывшим предсмертным вскриком в «Гернике» Пикассо? А что ты скажешь о Дантовом аде или массивах ужаса в античной трагедии?» Я попытался собраться с духом и возразить на эту бредовую речь. (Разве вид страдания и нужды не вызывает у нормального зрителя чувство протеста? И, возможно, стремления помочь? И в конце концов, существует ведь нечто под названием катарсис? Или этот проходимец о том ничего не знает?) Но не стал. Сквозь жужжание мух и пение цикад я слышу, как он самодовольно продолжает жевать тему абсурдности существования, примитивной жестокости человеческого сердца и его жажды разрушений, сильнее которой только неистребимое людское любопытство – и об эйфорическом экстракте, темной сласти, которую искусство своим демонизмом может извлечь из страдания и мерзости. Да, точно – современная картина мира. Гениальный homo sapiens викторианской эпохи, благородный завоеватель, ницшеанский кандидат в сверхчеловеки – оказался закоренелым хищником, «Богомольцем», чья натура проявляется в алчности, кровожадности, трусости, жестокости, лицемерии. И что же прикажешь делать с этим монстром? Что делать – с кем? Речь-то о вас самих, почтеннейший. Тут ничего не поделаешь, да ничего и не нужно, поскольку наш замечательный монстр, помимо всего прочего, позаботился о том, чтобы устроить себе эффектный уход со сцены. Просто он ждет, пока кто-нибудь не придет, не нажмет на рычажок и не положит конец всей этой подозрительной трагикомедии. Это всё, надо признать, верно. Но это только половина правды. Темная половина… А есть еще другая. Это то, чем я… Нет, слишком устал, чтобы всё сейчас повторять. «''Священный пес''?» – антагонисту не удалось скрыть злорадную ухмылку. Я с трудом поднялся с дивана. Заставил себя пойти на кухню за новой порцией вина. На мгновение почувствовал себя одиноким и лишним. Неужто я собрался капитулировать перед проклятым пораженцем в моем сердце? Встал перед зеркалом на кухне и испытующе посмотрел ему в глаза. Да, мы очень похожи: оба с яркими чертами нашего обезьяноподобного предка, единственного хищника среди приматов, с его окровавленной дубинкой и взъерошенными волосами и бородой (каковой и меня бог не обделил). Он послал мне долгий печальный собачий взгляд сквозь миллионы лет, наши глаза встретились с ненавистью и болью, в наших гадких голых ушах отозвался жалобный вздох, проходящий через всё живое… Выпил еще немножко. После этого более менее пришел в себя, даже появилось вдохновение. Сел за пишущую машинку. И вот я сижу здесь, только что опять накатав что-то совершенно невозможное! Ведь не этим я собирался заполнить всю эту кучу бумаги, но теперь, черт возьми, просто не могу прервать свой жуткий жалкий репортаж! Бесполезное, должно быть, занятие – но оно держит меня на плаву, не дает захватить меня адскому водовороту, чья злая улыбающаяся пасть в эти сожаления достойные дни грозит затянуть меня в пучину. 71 20-ое. Ночью видел диковинный сон. До сих пор остро переживаю его. Спешу записать. …Висел в каком-то неопределенном месте между небом и землей. Черной ночью. Одинодинешенек, словно дитя во чреве матери или космонавт в мировом пространстве. Почувствовал, как мной овладела невыразимая мука… Но только на мгновение, а затем я сам упал с потолка, где висел на кончиках пальцев ног, ощутил толщу воздуха под летательной перепонкой между своими огромными растопыренными пальцами, кровь горячо пульсировала по моим венам, мои громадные уши насторожились, жизнь с победой вернулась в мое сердце, тьма наполнилась нестройной щекочущей энергичной музыкой: вновь встало утро жизни – с голодом и либидо, радостным ожиданием и одержимой отвагой. На больших бесшумных крыльях я мягко парил в теплом сумраке, наполненном снедью, в буквальном смысле – летучим винегретом, живым и пряным, я набивал себе брюхо – пусть лопнет – и широко улыбаясь, показывал острые зубы. Существо моей породы, но противоположного пола, пронеслось совсем близко, задев мою щеку сосками и губами, сдавленный вызывающий смешок послышался из ее ноздри, щедрый запах кожи и меха. Мощные электрические разряды привели мои детородные органы в боевую готовность. Но вдруг – острый укус в ухо – бесцеремонное предупреждение соперника! И правда – дело было среди своих – млекопитающих и хищников с их давними индивидуалистическими: алчностью, страстью и ревностью, битвами и совокуплениями, серенадами и боевыми кличами! Еще укус. Возбужденное дыхание атакующего в моем ухе, мельком – его перекошенное лицо в предрассветной тьме… Защищаясь по мере сил от этого агрессора, я вновь куснул, завязалась кровавая рукопашная, мы оба старались как только могли штыками зубов изодрать друг другу летательные перепонки, зрачки и детородные органы, вырвать друг другу глаза, изничтожить друг у друга радары и инфра-, ультра- и пьезоэлектроустройства… Мы в отчаянии прижимались друг к другу, так что зонтовые спицы наших крыльев входили в клинч, под неистовое ворчание и писк мы пытались перегрызть друг другу глотку. Я с огорчением заметил, что враг сильнее меня, я смертельно ранен, больше не могу, вижу в роковой миг знакомое лицо и бандитскую улыбку моего кровного внутреннего врага… Мои изломанные пальцы болят, перепонка съеживается словно замерзающая сыромятная кожа, я шлепаюсь на землю, побежденный, жалобно хнычущий, шкура набухла от крови. Я еще не совсем мертв, один глаз у меня видит, и мне до ужаса ясно, что я есть, пусть это даже только мои плачевные развалины… К своему удивлению, я отмечаю, что вдруг попал в гущу старых дам в черном – как летчик, провалившийся сквозь крышу пансионата. Печальный запах гербария, пожелтевших книжек со стихами, лаванды, стеарина, теплых кожаных псалмовников, соли слез. Всё удивительно старомодно, вызывает в памяти давным-давно быльем поросшее время зонтиков и ночных сосудов из готических историй. Охрипший патефон поет: «Джим и я всегда друзьями были…» Осторожно ласкающие руки и кончики пальцев, несвежее дыхание, сентиментальное ощупывание, обмывание тела… Что это? Я понял. Я – мертвая летучая мышь, которую обследуют жуки-падальщики. Задумчивые и серьезные могильщики, похоронщики, черные священники ползают по моему гадкому, как у выкидыша, лицу с клочьями волос и в кровь разбитым рылом. Обрывки по-профессиональному полной утешениями и всхлипываниями надгробной проповеди застыли в еще не потерявших чувствительность мембраннах моих ушей… «Реальность этого мира есть исчезающее существование между богом и экзистенцией». Тут и замирающий звук похоронных псалмов. «Ach Mensch, gieb Acht», «Said the Raven nevermore». И еще что-то типа: «Круг жизни нашей вечен, / Всё возродится вновь». Как утешает! И вездесущие мухи, конечно, тоже здесь, мясная муха со своей слюной и экскрементами, другие мухи, старательно прочищающие нос и протирающие глаза, изредка – хорошо одетые слепни благородного происхождения, элегантные мухи-львинки в униформе со знаками отличия; пестрая погребальная процессия с беспокойными антеннами, хоботками и черными зонтами. Последние в толпе – клопы и уховертки, мокрицы и грийоны – и наш приятель «Богомолец» с лицемерно воздетыми к небу очами и клешнями, надежно спрятанными под надетым для этой цели балахоном. И я лежу, беззащитный, увенчанный терновым венцом… Терновым венцом? Я вскакиваю и избавляюсь от тернового венца… Это всего лишь одна из отяжелевших от мух липучек, которая свалилась с потолка прямо мне на лоб! Я выкидываю ее прочь, к пальцам 72 пристают вонючий клей и останки дохлых мух, к лицу тоже что-то приклеилось; измученно сажусь на край, в горле пересохло, в висках стучит. Рассвело. Я дрожащей рукой тянусь за стаканом, мало-помалу снова набираюсь сил, одиноко усмехаюсь этому – этим могильщикам и падальщикам с их тягучим исполнением полуночного хорала Заратустры. Выпиваю еще немножко. Принимаю решение собраться с духом и позвонить-таки в Анз, в аптеку, и заказать газовый баллончик или адскую машину, которую они мне предлагали. Время и впрямь пришло. Радостно листаю брошюру. Лямортсанфраз (англ. Kill Quick, нем. Schnelltöter). Содержит дихлордифенилтрихлорметилметан и пентахлориддифенилэтан (эти загадочные словамногоножки сулят мне добро!) Изготовляется международным картелем, всемирным предприятием, также на высшем уровне фабрикующем химические и бактериологические средства массового уничтожения для применения в военных целях во время международных конфликтов и для содействия целям повседневного геноцида. О, чего еще желать? У торговца, от которого я звоню, купил целых тридцать новых липучек! Судя по его виду (точнее, по виду его жены), здесь подозревают, что у меня в голове не все в порядке. В лавке полно ос, но это их не беспокоит, сказали продавцы, у них от укусов иммунитет. Жена – она представилась мне «мадам Фрелон» – маленькая худая женщина с пронзительным взглядом сквозь очки – хочет переговорить со мной, но только наедине, поскольку в магазине много других покупателей. Она уводит меня в заднюю каморку с конторкой и скоросшивателями; на стене старая пропыленная фотография президента Лаваля. Мадам Фрелон говорит на местном диалекте, его трудно разобрать, но, насколько я понял, речь идет о моей доброй Глуар. Она ведь ко мне иногда заходит? Да, следит за домом. И еще оказывает мне разные мелкие услуги. Мадам Фрелон проникающим взглядом смотрит мне в глаза и тихо качает головой. Глуар вовсе не следит за домом. Она плутовка и потасушка, от которой мне лучше держаться подальше. К тому же она воровка. (Фру Фрелон сгибает пальцы на обеих руках и перебирает ими в воздухе, словно это ножки насекомых). Ее много раз заставали в лавке на месте преступления. Она просто impudique. Какая-какая она? Мадам Фрелон протягивает ко мне руки, как для объятия, и покачивает бедрами. Глуар вот такая. Утром от нее муж ушел, не вынес ее поведения. Она распечатывала его письма и таскала марки из его коллекции. Теперь-то я понял, что она за птица? Берегите свои деньги, мсье, если они у вас, конечно, есть, носите всегда при себе или храните у нас. Не дайте этой стерве обольстить и одурачить себя. Считайте, я вас предупредила. Совсем подавленный, я поблагодарил за предупреждение. Мадам Фрелон натянуто улыбнулась, показав жесткие десны. А я вышел вон с новой порцией липучек и двумя бутылками «Apage Satanas». Глуар – воровка и потаскушка? Или я уже совсем перестал разбираться в людях? Мне жаль Глуар. Я долго восхищался ей, а теперь чувствую к ней еще нечто вроде нежности. Бедное дитя! Когда я пришел, она была на кухне, протирала стол и проветривала. На подоконнике – большой букет диких роз, которые она сама принесла. Она казалась посвежевшей и повеселевшей, серые глаза глядели озорно и очень по-девичьи. – Вы сегодня такая радостная, Глуар. У вас случилось что-нибудь приятное? – Наоборот! – отвечала она, широко улыбаясь, – сегодня утром от меня муж уехал! – Насовсем? Нет. Глуар еще шире улыбнулась, и слева в ее в общем-то безупречных зубах стала видна дыра. Ее мужу, деревенскому почтальону Хосе, дали повышение, теперь он городской почтальон в Байонне. И сама она скоро покинет тихий Понт и переселится в большой и шумный город у моря. Она поежилась, словно от такой мысли веяло стужей. – А дети у вас есть, Глуар? – К сожалению, нет, мсье. А мы прожили вместе два года. Это всё он виноват. Он по этой части совсем слаб. 73 Она слегка покраснела. Простите, мсье, наверно, не стоило этого говорить. Но просто он филателист. У него огромная коллекция марок. И ни о чем другом он думать не может. Вдруг она подняла глаза и послала мне нежный взгляд. – У мсье нездоровый вид, – сказала она. – Наверно, не питаетесь как следует? Если угодно, я могу пожарить для мсье отличную котлету. Или сделать рагу? Какое у вас любимое блюдо? Чтонибудь с овощами! Я дал ей денег на мясо и овощи и на пару бутылок вина. Почувствовал себя скверно, голова болит, в ушах шум. Водоворот, Харибда, чудовищная воронка, тянет изо всех сил. Выпил стакан вина и заметил с каким-то мрачным подъемом (как на дьявольски расчисленных американских горках), как понесло по безжалостному потоку, где руль уже бессилен. Ух ты! И глядите: там, на просторе из волн прибоя, вырастает высокий утес, где живет Сцилла, где слышен ее неистовый шум – тот самый, что тревожил твой сон еще в колыбели! Шесть пар клешней у нее, зубов же три ряда, Острых, сплошных и прямых, белых и черных как смерть. Двенадцать безжалостных акульих глаз глядят на меня, гигантская швабра осьминожьих щупалец взбивает пену на море; с ней шутки плохи, у нее не вызвать улыбку... И всё же, наконец – что за едва заметный изгиб губ – там, у шестого рта? Ваше здоровье, матушка! Я дрожащей рукой поднимаю стакан. И вдруг все головы разом улыбаются! Ничего себе! Так может, надежда еще есть? Intermezzo Яростный гром сабли и хруст хитина. Некий субъект в униформе и серых роговых очках на лице, как у насекомого, складывает пару больших жилковатых крыльев и, вытянувшись в струнку, отдает честь. На его фуражке я замечаю эмблему «Всемирной организации насекомых» – «WIO». Это я заказывал в «USAURUS. Ltd» адскую машину? В связи с этим он хотел бы задать мне несколько вопросов. Он садится со своим блокнотом за стол. Имя, дата и место рождения, цвет волос и глаз и т.д. Особые приметы? Вопли по ночам. Спасибо. Известно ли мне, что маниакальное и неблагородное преследование, которому я подвергаю безвинных инакомыслящих и представителей других видов, не только предосудительно с нравственной точки зрения, но и карается по закону? Ха-ха. Уж не он ли, мой дьвольский симбионт, опять принялся за свои штучки? А он продолжает, невзирая на мою попытку улыбнуться свысока, сухим менторским тоном. Разве я не представляю себе, что насекомые – незаменимое звено в цепочке природы, частично, поскольку они безотлагательно уничтожают и утилизируют те громадные потоки зловонных отходов, которыми покрывает землю процесс смерти и распада (виной которому ни кто иной, как мои сородичи), частично, поскольку они самоотверженно трудятся без отдыха и срока, занимаясь опылением, без которого жизнь практически угасла бы? И далее: разве могу я отрицать, что многие насекомые обладают высокоразвитым интеллектом, что, например, у муравьев и пчел есть своя система сигналов, у пчел даже самая настоящая звуковая речь, и что жалкое млекопитающее под названием homo sapiens в сравнении с этими гениальными крылатыми созданиями с их острым чувством социальной организации – всего лишь грубый и примитивный тугодум-хищник? Я так и не нашелся, что ответить. Робко возражаю, что не хочу истребить всех насекомых до единого, боже упаси, речь идет всего лишь о необходимых мерах против еще оставшихся вредителей и мучителей. Точно такой же аргумент приводили нацисты, опустошавшие Польшу, или американцы, стиравшие с лица земли Хиросиму и Нагасаки. 74 Ну уж нет, на этот раз улыбнулся уже я, до боли в мышцах испещренного волдырями лица. Вытянул руку и показал укус скорпиона в запястье. Засучил штаны и продемонстрировал лунные кратеры на икрах и коленях. – Это только начало! – воскликнул он и угрожающе зажужжал. Расправил большие прозрачные крылья. В какой-то момент он был почти прекрасен: безупречный, ангелоподобный, безгрешный божественный персонаж, податель жизни, истребитель зла, сердечный друг и товарищ душистых цветов. А я – вот он весь: поверженная возгордившаяся обезьяна с первобытной бородой и почти полностью разрушенной душевной жизнью! Новое intermezzo Из кухни доносится вонь, как от паленой резины. Это Глуар готовит ужин. Всё насекомые и насекомые. Паштет из мокриц. Клоповьи окорочка под майонезом из мушиных яиц, черная муравьиная икра, красный салат из глазок цикад. За столом нас много. Кроме нас с Глуар и моего второго «я», которое теперь выступает под загадочным псевдонимом «мсье Митавенин», приглашено множество выдающихся представителей мира насекомых – его экономики, культуры и оккупационных сил, – все в полный человеческий рост. Среди почетных гостей – врач с мировым именем профессор Шмароценвепсе, прославившийся своими эпохальными опытами на гусеницах бабочек в Майданеке и Аушвице. Из пустующих комнат, где накрыты столы для простого насекомого люда, доносится знакомый шум собрания, много торопливых голосов одновременно, взрывы смеха, самодовольные аттестации, небольшие перепалки, апплодисменты, ухаживания, попытки запеть на радостях, крики «ура». И всё это под непрекращающийся хруст и скрип хитина... Профессор Шмароценвепсе, мой сосед, показывает мне шприц с прозрачной, почти невидимой взвесью. Любопытно, не правда ли? Стекла его пенсне сыто блестят. Сейчас я вам покажу... Давайте сюда правую руку! Я отбиваюсь: что вы, профессор, не сейчас, не здесь!.. Чувствую тонкую боль, как от укола морфия... Рука тяжелеет... Я вскакиваю как ужаленный. День. Жужжание мух. Пение цикад. Глуар еще не вернулась. Почувствовал себя паршиво. Сполз вниз по лестнице, проблевался во дворе. Извергнутое содержимое желудка тотчас подверглось дотошному обследованию со стороны нахлынувших насекомых. После того, как меня стошнило, стало легче. Голоден и хочу пить. Быстро опрокинул два стакана. Ну скоро она там? Не могла же она сбежать с теми жалкими двадцатью франками, что я ей оставил! Это было бы чересчур мелко... Ага, вот ее легкие шаги на лестнице. Слава богу. Значит, надежда всё-таки остается... 21-ого, днем. Утром встал с невообразимой головной болью, но пара стаканов мягкого и густого «Vin cuit» поправили дело. Вновь сижу здесь, более менее сыт и доволен, твердо решил не роптать на судьбу. Пишу это вручную: печатная машинка исчезла. Исчезла и записная книжка с 2000 франков, которая лежала в кармане куртки. И чемодан с парой новых ботинок. Бог знает, зачем это ей понадобились мужские ботинки. И сама она исчезла. И теперь у нее есть причины не возвращаться. Я ей всё прощаю. И деньги, и машинку, и чемодан, и обувь. Только вот насчет ботинок я в полном недоумении. Ну да не всё ли равно. Продолжаю репортаж. Мы провели невероятную ночь: мы с Глуар и мсье Митавенин, который всё больше и больше пытается оторваться от нашего беспокойного коллектива, хотя это удается ему с трудом. Во сне всё понятно. Это он чуть не загрыз меня в облике летучей мыши, и любезный посол «Всемирной организации насекомых – WIO» – это тоже был он. Сегодня он – эдакий битл, волосатый, сладкоголосый (а руки, шея и лицо покрыты-таки волдырями от комариных и клоповых укусов!). С Глуар ведет себя надменно и по-пижонски – такой манеры я просто не выношу! Я дал ему понять, что 75 сейчас, в таком вот виде, он представляет собой ту стадию в моем развитии, к которой я уже давно испытываю лишь отвращение. Во время ужина, в остальном прошедшего мирно, он, как и следовало ожидать (естественно, в стельку пьяный) принялся заигрывать с моей доброй Глуар. Он не просто гладил ее по подбородку – он еще и покусывал ее за уши и за волосы, присасывался к ее векам, так что они краснели и вспухали, но когда он попытался заголить ей грудь, я вмешался, и мы обменялись парой резких фраз. Но когда уже дошло до рукоприкладства и Глуар пригрозила уйти, с собрался с силами – в конце концов, я ведь супер-эго! – и указал ему на дверь. Это было непросто, короткую спичку чуть было не вытянул я, но всё же в итоге он убрался прочь, оскорбленный, бледный, скрежеща зубами и бросая на меня обиженные взгляды. – Досадно, – сказала Глуар. – Ну, давай выпьем за его здоровье, – ответил я на это. – Он подлый ловелас. Прямо-таки типичный представитель нашего вульгарного века, втаптывающего в грязь все ценности, даже Эрос. Мне за него стыдно. – Неужели всё настолько плохо? – спросила Глуар и вдруг задрала свои черные одежды так, что стали видны обе упругие юные груди. На одну из них тотчас взбежал мерзкий черный таракан, я смахнул его, но тут набежало еще больше, я совсем замучился, пытаясь согнать этих гадких наглецов прочь с ее красивой девичьей груди, стряхивал и сдувал, она смеялась от щекотки, на ее губах были тараканы и муравьи, а под одним глазом серый клоп. – Пойдем! – сказала она, улыбаясь мне расплывчатой улыбкой. – Чего это вдруг? – встревоженно спросило мое удивленное сверх-я. Она звонко рассмеялась, ее смех пронзил меня до кости. Ее почти полностью обнаженный торс был цвета виноградины в росе, редко мне доводилось видеть что-нибудь столь же восхитительное. И тут произошло внезапное нарушение наших пропорций: она с космической скоростью раздулась до размеров слона, а я между тем съежился до крошечных параметров насекомого. Я был в отчаянии от такого невероятного поворота событий, попытался найти убежище в ее ухе – и обнаружил, что стою в длинном красновато-сумеречном тоннеле, стенки которого покрыты тонким темным пухом. В конце тоннеля раздвижная дверь, створки распахиваются и обнаруживают за собой что-то вроде машинного отделения современных электростанций. Идеальная чистота и порядок, на наэлектризованных и совершенно беззвучно вертящихся турбинах ни пылинки – и всё освещено таинственным и не отбрасывающим теней потоком света из овального окна наверху. Здесь царит абсолютная тишина, это повергает в панику... Где я? Кто я? Разве тут нет выхода? Отнюдь: вдали вновь открывается автоматическая дверь. Она ведет – через три извилистых коридора – в какое-то помещение с высоким напряжением, уставленное стеллажами со сложными приборами, со стеклянными стенками через равномерные промежутки, так что можно, как в комнате смеха, видеть себя в разных ракурсах. Поначалу это ободряет и успокаивает, как грандиозная шутка... пока не поймешь, что это лабиринт, и ты безнадежно заблудился в его чудовищных извивах. И начинаются испуганные метания в поисках выхода, безоглядное бегство, во время которого ты всё время встречаешь собственный потерянный взгляд и наталкиваешься лбом и коленями на проклятое отражение в неумолимом стекле... но вот вдали звучит звонкий девичий смех, он эхом разносится по бесконечным поворотам лабиринта, приближается, становится родным и теплым, сулящим освобождение. – Где же ты? (Раскатистое эхо, как в горах). – Здесь! (Эхо). – Выбегай из запасного выхода налево! Скорее! (Эхо). Да, здесь и правда есть запасной выход (бледно-лиловыми неоновыми буквами: EXIT). Я открываю дверь в совершенно черную пропасть – космическое пространство или океан, или что бы там ни было, скольжу по длинному изгибу вон во тьму, медленно опускаюсь, как на крыльях, восторг пронзает мою нервную систему, меня захватывают большие беззвучные массы влаги, я счастлив, захвачен таинственной взвесью морского дна, которому уже много миллионов лет, дикостью цветов из плоти, живыми и горячими щупальцами и мускулами: наполовину мякоть – наполовину дух... всей этой кипучей и восторженной флорой, населяющей глубокую мглу становления... Вот я и дома, вот я и тону, исчезаю полностью, твердо уверенный, что потом воскресну. 76 И теперь надо рассказать об еще одном кошмаре (или как его еще назвать, ведь при том, как у меня всё складывается, трудно различить сон и явь)... надо рассказать еще об одном spectacle imaginaire, под занавес. Под занавес? Звучит нехорошо. Неужели у меня и впрямь всё так скверно? Да не всё ли равно. Пусть занавес поднимается. Адскую машину привезли. Она меньше по размеру, чем я думал, не больше обычного транзистора, выглядит незамысловато – металлический ящик с ручкой, вроде сумки, два закрытые пластмассой углубления в крышке, в одном, судя по всему, вентиляция, в другом кран. В инструкции сказано, что надо просто снять пластмассовые крышки и отвернуть кран. Только и всего. К чему рассуждать – когда ты наконец близок к осуществлению самого своего горячего желания? «Ты и впрямь так торопишься?» – спросил я сам себя и налил себе еще стакан «Apage». Я смутно ощущал, что сейчас как будто чего-то не хватает. Каких-то формальностей. Фанфар – или чего? Что делают, когда перерезают шелковинку, на которой висит дамоклов меч? Что делали в Германии, когда открывали вентили с хлором в газовых камерах? Что делал американский президент, когда посылал груз атомных бомб в злополучные города желтых островитян? «Торжественный молебен!» – предложило мое alter ego на удивление вкрадчивым голосом. Я взглянул на него, мое сердце сжалось, когда я опознал его в новом обличье: фарисей с кокетливой розой в петлице. Чисто выбрит. С сигарой во рту. В соломенной шляпе и с тростью. Волосы напомажены. Кого же он мне напоминает? Бухмана? Трумэна? Он взял меня за руку – любезно, учительно и немного высокомерно, как «я»-шеф берет подчиненное «я». .. Разве мы поменялись ролями? «Исчезни!» – рявкнул я. «Ну, полно, – любезно произнес он, не моргнув глазом. – Помолимся!» Я послал ему взгляд, полный бессильной злобы. Да, случилось самое страшное: он возвысился до положения «сверх-я» и завладел ареной. А я – вот он, свергнутый с трона, низведенный до его наемника и подручника. Вот он я – с моей обезьяньей дикарской бородой. Вот она – прокаженная истерзанная обезьяна с распухшим пульсирующим запястьем, отравленной кровью и до смерти измученной душой. Мой изящний начальник преклонил колени перед адской машиной, сложил ладони. Под колени подстелил газету, чтобы не запачкать свежевыглаженные светлые брюки. Сигарету отложил на краешек стола, она лежала там и выпускала в воздух длинную безмятежную спираль дыма. Он молился! Я расслышал, как он сказал что-то о «малых сих». Впрочем, мы не одни – с нами еще третий: мой товарищ мозаичных дел мастер Бенедикт. Он был в жалком состоянии, существовал только наполовину – только руки и сердце и изможденная улыбка на лице, лишенном черт, как у искрошившихся древних статуй или несчастных жертв напалма. Почти беззвучным голосом, от которого бросало в дрожь, он поведал мне о своей злой судьбе. Всё пошло прахом, бомбардировщики по чудовищному недоразумению разбомбили собор, верному псу Просперу в голову угодило упавшее распятье, и он в приступе ярости растерзал малютку Росвиту, а ее мать с отчаяния подалась к флагеллантами, теперь лежала в припадке смеховой истерики после того, как ее изнасиловал один бесноватый сектант. Я налил насчастному рудименту человеческого существа стакан «Vin cuit», который он с жадностью осушил и пропал, лопнув, как пузырь. Мой тиран поднялся с колен. Бросил на меня понимающий, но тем не менее повелительный взгляд. – Итак – во имя Господа! Я сидел как на иголках и скалил зубы, но приходилось слушать. Распахнул двери в бурлящий ад необитаемых комнат – нечто среднее между мельтешением транспорта в современном мегаполисе и сатанинскими аллегориями Иеронима Босха – отнес туда машину массового уничтожения, снял пластмассовые крышечки и открыл кран. Ничего не случилось. Значит, надули, подумал я, просыпаясь. Белый день. Я на диване, один. На запачканном столе батарея пустых бутылок и пара перевернутых стаканов. 77 Вечер. Настоящую машину для уничтожения насекомых прислали только днем, но теперь мне нечем за нее расплатиться. Да и не стоит. Пусть ее отвезут обратно. Продавец, или, точнее, его жена, поскольку разговаривал я с мадам Фрелон, и слышать ничего не хотела о том, чтобы дать мне взаймы. Ни единого су. Она меня высмеяла – меня же предупреждали, пусть, мол, я теперь сам расхлебываю то, что заварил благодаря моей глупой халатности. Даже ни бутылки «Vin cuit» в кредит. Я, кажется, и так выпил его больше, чем следовало бы, рассудила она. Даже не позволили позвонить от них другу в Париж и попросить прислать денег на дорогу. Может быть, она хотя бы одолжит мне марку, чтоб я мог послать ему письмо? Нет. Мадам Фрелон расхохоталась, смерив мою отверженную и запущенную личность безжалостным взглядом. Но тут вмешался мсье Фрелон и протянул мне старую измятую почтовую карточку с маркой. Пожалуйста, пишите. Мы не скупые, просто принципиальные. Можем еще дать вам в кредит кусок хлеба и колбасу. А бутылку «Vin cuit»? Или просто «Vin de pays»? Он поглядел на жену (умоляюще, как я заметил). Она покачала головой. Непреклонна. Сам он тоже покачал головой, так и не встретив моего взгляда. Полночь. Сегодня ночью воздух прохладен. С Атлантического океана дует свежий западный бриз. Роскошное небо всё в мерцающих звездах. Отправил свою открытку, пошел на прогулку по этой райской местности. Серпик новой луны над заснеженным хребтом гор на юге, а по бокам Арктур и Сириус – упоительное трезвучие! Когда я вернулся, на столе стояли две бутылки деревенского вина, а впридачу к ним хлеб, сыр и большая saucisse. Доброе сердце мсье Фрелона всё же взяло верх. Прибрался в комнате и поужинал, теперь сижу с трубкой табака и обмозговываю свою ситуацию. Несмотря ни на что, всё не так уж мрачно. Вздувшееся запястье почти прошло. Авось-либо, и последствия укуса митавенина тоже ослабеют. Как бы то ни было, чувствую, что уже начал приходить в себя. И вдохновение возвращается. Проблесками. Действительно, надо переделать мою разрушенную пьесу. Со мной моя старая добрая ручка и море бумаги, вполне можно обойтись без старой машинки-стучалки. Здесь стало тише после того, как Глуар уехала, а жара схлынула. Мух очень мало, комаров почти совсем нет. Может, стоит подождать, пока горячка насчет отъезда утихнет? Подумаю об этом завтра: как говорится, утро вечера мудренее… Спокойной ночи. 78 БРЕД ПОЭЗИИ СВЯЩЕННЫЙ АНТИНОЙ перевод с английского ВАЛЕРИЯ ПЕРЕЛЕШИНА рисунки ВАСИЛИЯ БОРОДИНА Холодный дождь – и мрак еще другой. И юноша, раздет, Лежит на ложе низком, весь нагой, И Адриан, в чьем сердце гнев и бред, Глядит на тусклый мертвый полусвет. Мертв и раздет. А день оделся тьмой: Не стыдно ли природе и самой, Что юношу сгубить она смогла? А память – но и в памяти немой Утраченная радость не светла. Нет Антиноя! Голоса слились В единый вопль озлобленной любви. Взгляни, Венера: умер Адонис, Его оплакать с нами соизволь И в муках Адриана обнови Свою же боль. Теперь его похитила вода Холодная, и грустен Аполлон, Что поцелуям около соска, Где сердце билось, милый ключ живой, Не разбудить ответа никогда В той крепости, где был в осаде он. Теперь для ласк он больше не горяч, Не сцепит, лежа, рук под головой В последней полноте самоотдач: Я весь открыт – весь, кроме рук, я твой! Всё тот же дождь. А юноша лежит, О знаках пылкости своей забыв, Но пламени дождется ли в ответ? Ведь если смерть ревниво сторожит, Никто не сможет, эти льды пробив, Из-под золы огонь извлечь на свет. О Адриан, как холодно тебе! Ты властвуешь, а чем тебе помочь? Пятно потери на твоей судьбе Лежит, как ночь, Но и к утру надежд не приурочь. Без поцелуев ночи, без любви, А дни – предвиденье ночей одних. Искровени же губы, разорви, И смерть, разочарованная в них, Боль отведет – и удалится прочь. О руки, отвечавшие теплом, Вы холодны под холодом руки! О волосы над розовым челом, О робкие и дерзкие зрачки! О женственная муженагота, Вочеловеченное божество, О алость губ, ласкавших те места, Где похотью играло мастерство! О пальцы, колдовавшие тайком, Когда язык смыкался с языком! О сила похоти, когда она Прикоплена – и освобождена! И это всё теперь ушло в туман… Дождя не слышно. Грозный Адриан Сползает на пол – и самим богам Он будет, обезумевший, грозить За порчу красоты, рожденной жить, Пожалуется будущим векам, Которые пока еще нигде, И тем еще не видящим глазам, Что будут плакать о его беде. 80 Ощупывай руками пустоту, Прислушивайся: ливень перестал. А юноша, подрубленный в цвету, На ложе незабвенное упал, И мокрую одежду ты сорвал. А он разнасыщал твою мечту, Бросал тебя то вниз, то в высоту, И насыщал, и вновь разнасыщал! Твой мозг он распалить умел спинной Рукою щедрою и жадным ртом, И в мiре высосанном и пустом Маячила бессмыслица одна. А он игрой лукавил затяжной, Покуда, томный и полубольной, Не падал ты с одним желаньем: сна. Он знал искусство страсти наизусть И, к упоенью добавляя грусть, Всего тебя удерживал в плену. Теперь его вернул державный Нил, А смерть с улыбкой повела войну С тем, что еще ты в сердце сохранил! Утешься, император. Снова плоть Превозмогла двусмысленный отказ, И снова всё как было столько раз, И снова похоти не побороть! Умерший ожил, тянется ласкать, И вот опять проворные ползки – Легчайшие – невидимой руки Изношенному телу льстят и лгут, Нашептывают ласки – и бегут, Парфяне-перебежчики, в пески, Оставив жертву кровью истекать. Он привстает и смотрит на того, Кому теперь объятья не нужны, Но видит ли? Он ощупью идет Зацеловать любимого всего, А губы так бескровно-холодны, Что им и смерть себя не выдает. Вы оба живы – оба и мертвы, Такой любви всесильно колдовство, Так навсегда губами слейтесь вы! Но жив ли он? Дыханья нет совсем! Пусть губы догадаются, что мгла – Стеной! А пальцы верят, между тем, Что смерть хоть каплю жизни обошла, И повторяют зов упрямый свой. Нет! На призыв ответил бы живой, А мертвый – даже бог – лишен тепла. Он вскидывает руку в тот провал, Где стынет ряд богов глухонемой: Что ж, отвернитесь! Он того и ждал, Даятели! Согбенный, но прямой, Он власть уступит всё равно кому И станет нищим, странником, рабом, Лишь возвратите юношу ему С еще не отнятым земным теплом! Все чары женские со всей земли, Отжав, на этот бросьте мавзолей! О Ганимед, которого нашли Глаза Юпитера – резвей, милей, Чем Геба, ласковей и веселей, – Любви и дружбы жажду утоли! Отец богов, объятий женских ложь Развей, чтоб только этот уцелел: Он золотоволос и белотел! А вдруг он большую внушает страсть, Чем прежний твой, и просто захотел Ты для себя любовь мою украсть? То был котенок: похотью играл Своей и Адриана – то одной, То врозь двумя, то цельной и двойной, То высший миг ее отодвигал, То щурился, то наседал в упор, Как будто пойман был неловкий вор, И с ним бывал то мягок, то жесток, И, лежа, пристально соображал, Как похотью дать похоти урок. Вздымались в эти долгие часы То бедра, то предплечье, то спина, То руки – две железных полосы, То рот – большая чаша для вина. А юноша то закрывал глаза И замирал, то пела в нем гроза, То жгучий бич, то кроткая волна. В дар жертвенный свою любовь несли Они богам, гостящим у людей. Как юноше полунаряды шли, Когда, нагой сверкая белизной, В нем бог являлся, до конца земной: Ни мрамора, ни спеси, ни затей! Венерой выступал он из воды; Цвел Аполлоном юным, золотым; Юпитером, суровым как судьба, Держал у ног любовника-раба, А после смыслом озарял простым Мистерий сокровенные сады. Зато теперь он лучше ли других? Ответом обесчещенный вопрос. О лунный холод золотых волос! Он холоден – так холоден и тих. Из лабиринта памяти любовь Зовет виденья отошедших дней По имени любимого – и вновь Заулыбается, вообразив, Что юноша бессмертен - или жив. О горестное шествие теней! Дождь исподволь усилился, неся Сырую мглу, чреватую тоской, А императору картина вся – И юноша, и брачный их покой, И сам он перед ложем на полу – Предстала издали сквозь эту мглу. Тогда заговорил он про себя, Словами льды отчаянья дробя: «Я статую из мрамора создам Моей любви и красоте твоей, И оба мы соединимся в ней В напоминанье будущим векам. Смерть-хищница надбила нашу страсть, Жизнь отняла и осмеяла власть, Но в статую вселишься ты навек, И будет перед юным божеством – Могущественным – завтра и потом Склоняться человек! 81 Да будет эта статуя царить Над Временем, чтоб не была она Никем повреждена И чтоб ее не смели оскорбить Ни зависть, ни воинственный угар. Пусть остановит Рок ее врагов: Ведь он сметает и самих богов, Над нами властвующих, но и сам Не посягнет на мой бесценный дар В нем радость обретающим векам! Века мостом соединит он пусть И вечно брезжит из ушедшей мглы, Незыблемый, как римские орлы, В сердцах грядущих нагнетая грусть И вдохновляя поздние хвалы! О, если бы в том не было нужды И оставался ты цветком живым, Венком, венчающим мое чело, На алтаре пылающим огнем! О, если б этой не было беды И видел ты из-под оживших вежд, С каким я божеством воюю злым, Чтоб ожил ты и стало мне светло, – Мы, верно, посмеялись бы вдвоем Над тем, как я в отчаяньи моем Скорбел о безнадежности надежд!» Так он метался к вере и назад К отчаянью – и веру звал мечтой. Вполне уверовать он был бы рад, Но чувствовал, что вера – сон пустой, Навеянный упрямой слепотой. Со смертью встретиться должна любовь, Но древней тайны разум не постиг: То прячется надежда под огнем Сомненья, то, дотла сгорая в нем, Сменяется опустошеньем вновь, То возрождается на краткий миг. «Смерть и сюда пришла тебя украсть, Но для тебя я вечность покорю. Порукой – императорская власть, Врученная богами мне, царю! Живым ты будешь – и еще живей: Божественным присутствием своим Благословишь великолепный Рим, Своею невредимой красотой Подымешься над жалкой суетой, Над временем и плясками страстей! Любимый мой, ты бог уже вполне! Не вымыслом я праздным одержим, А истиной, что приоткрыта мне Богами: ведь любовь любезна им, И смертные порой под видом сна, 82 В котором чуть мелеет глубина, Заглядывают за земной порог, За частокол рассудочных границ. Ты тот уже, каким задумал я Тебя создать, ты олимпийский бог, И красота прославлена твоя. Ты – совершеннейшее существо, К тебе нельзя добавить ничего. Теперь и сердце у меня поет, Как на рассвете птица. Вновь оно Надеется – и тайну познает, Что если смерти всё обречено, То смерти стать забвеньем не дано. Мой бог-любовь! Похолодел твой рот, Зато бессмертьем он горяч теперь, И смерть напрасно стынет у ворот: Ведь это – в жизнь отысканная дверь! А если твой еще не блещет нимб, Моя любовь тебе создаст Олимп, И я пребуду, верностью палим, Единственным поклонником твоим! Достаточным для счастья и любви Мне будет мiр, пронизанный тобой: Живи, божественный, живи, живи Вне времени, над вечностью самой! Теперь ты бог, но бога создал я, Преображая камень и металл, И если ты теперь телесным стал, Вне возраста и возвращенья в ночь, То лишь моей любви обязан ты Возвратом несравненной красоты В живую плоть. И если б не держал В руках я власти, что смогла помочь, Божественности ты бы не стяжал. Найдя тебя, моя любовь нашла В тебе свои вернейшие черты. Она и в памяти моей светла, И высоко теперь вознесена – Моя любовь, а все-таки не ты: Пример на будущие времена! А если боги, мiру отслужив, Закатятся, то с ними, их собрат, Пройдешь и ты в зияющий проем, Когда круги докатят их назад! Но нет и нет! Мою любовь представь Богам старейшим, юный бог, ты сам: Позволь твоим медвяным волосам Им показать земную нашу явь. Как на земле, красуясь во плоти, Среди богов о доме не грусти, А статую на холм я подниму – Дар от земли бессмертью твоему! И статуя пребудет сращена Бессмертием с огромной болью той, Что к вечности лицом обращена! Запечатлен ты будешь в ней навек, Нетленный бог – и тленный человек. Боль – это бог, слепящий наготой; Взойди же, боль, на холм и вечно стой, И пусть моря волнуются у ног. А в той любви одни найдут порок, Другие – хмель блудливости пустой, И, слов не находя от злобы к нам, Позор прилепят к нашим именам, Собратьев наших яростно коря. И все-таки, как вечная заря, В час Красоты с востока мы взойдем И будущего бога возведем По мраморным ступеням алтаря! В тебе ты сам, но также я в тебе, И двое мы – одно в одной судьбе, В единстве той телесной красоты, В которую любовь моя влилась, И стала божеством, и поднялась Над временем, над пляской суеты. Не сердцу верят люди, а глазам, И эту весть я камню передам, Чтоб, как призыв, будила их она, Чтоб и для них не меркла та звезда, Что вправлена мне в сердце навсегда, И в статуе твоей, почти живой, Просвечивала болью роковой, Воплощена и развоплощена, И в голосе тритоновой трубы До чуждого дошли материка Любовь, и смерть, и счастье, и тоска, Гул вечности – и выкрики судьбы. Здесь, в образе изваянном твоем, Рука в руке, мы явимся вдвоем, Уверенные в том, что каждый жив И что меж нами снова нет преград! В конце времен, Юпитер, оживи, Чтоб Ганимеда вызволить из тьмы И, существо двойное, встали мы! Тогда и в нас, прещедрый, обнови Все россыпи любви, Чтоб сами боги были смущены Тем, что прочнее похоти любовь: Ведь были мы в ничто обращены, А нынче небожители должны Нам двуединство предоставить вновь!» Дождь не прошел. Волной небытия Ночь медленная чувство обдала. Самосознанье сделалось тусклей: Сквозь дымку притупились острия. А император, лежа в темноте, Почти забыл, откуда боль пришла И нанесла ему на губы соль. Свернулся свиток яростных страстей, Лишь проблеском заплаканной луны Осталась убаюканная боль. Так он лежал с возлюбленным своим Ничком на низком ложе, недвижим, И видел, затенив глаза рукой, Холодный необставленный покой, И чувствовал, что дышится с трудом. Вдруг резкий ветер круто набежал – И снизился до вздоха под окном. А император спал. Ободрен сном, Провеял бог сверхчувственным крылом И что-то драгоценное умчал. 83 ЗАЧЕМ? перевод с итальянского ПЕТРА ЕПИФАНОВА рисунки СЕРГЕЯ СЛЕПУХИНА МАТЕРЬ Забрали от ней сы́ночку, забрали – Такого, что подрос лишь маленько. А идти, да куда ему идти-то, Где от смертушки нету защиты. А остаться, да где ему остаться – Где ро́дного миною накроет, А где ро́дного миною накроет, Снег с горы сойдет, похоронит. А не пишет, это значит, вернется, По все ночки идет, не собьется; Как придет, одежку потную сбросит, Да рубашку у ней чистую спросит. А она всё у окна поджидала, Всё до зорьки очей не смыкала, А на зорьке труба протрубила, Что вернуться ему, знать, не судьбина. Забрали от ней сы́ночку, забрали. * Забрали от ней меньшего, забрали, А уж ласковый-то был, а хороший: И унес его далёко с собою Пароход под высокой трубою. Пароходу-то днями погода, А ночами не дают нигде ходу, А волна всё в окошечки бьется, Где родимый ее спит, не проснется. Забрали от ней меньшего, забрали. * Да забрали от ней мужа-то, забрали, Что навек с ней венцами венчался, Что любить у алтаря обещался, С тяжкой ношей одну не оставить. А сам-то и рад идти с парнями: По дороге пошел, не обернулся. Эх, забрали от ней мужа-то, забрали. * И с утра она вставала до света, Перстни, бусы с серьгами надевала, Всех коровок поила досыта, Все простынки-скатертя́ перестирала. Медный на́больший котел доставала, В очаге жар-огонь распалила, Да поближе к жару-то садилась. Хоть вернутся, а ей уж не встати: Эх, забрали, забрали и матерь. 1917 Приход Сарньяно ГОЛОС МЕРТВОГО ДОЗОРА Вот он, в кашу размазанный весь, в клочья лицо, в облаке вони лежит, развалясь. Здесь все – такое говно. Я отупел; я не плачу давно, пусть плачут, которые – там; а здесь хлюпает только грязь. А ты, если вернешься цел, не говори им – тем, кто не знает, не говори – там, где человек и жизнь еще понимают друг друга. Но когда-нибудь ночью, после дождя поцелуев, стисни покрепче подругу да крикни ей в самые уши: 84 ничем, ничем в этом мире вонючем не искупить наших тел гниющих. Словно шею петлей, сердце ее сдави, потом – поймешь: хоть чего-нибудь стоят все слова ее о любви, или цена им грош. 1918 ЗАЧЕМ? Где б только силы взять темному сердцу сбитому с толку Из глинистых нор пролезая корнями подобно этой траве меж камнями оно хочет листиком тонким на свету трепетать Праща времен занеслась в размахе а я лишь осколок щелястых глыб вбитых в мощеную наспех дорогу войны Я с самого первого взгляда в бессмертный лик мирозданья в пещеры сердца со стонами падал безумец ища познанья ПОСЛЕДНЕЕ НАПУТСТВИЕ Эй, раненый, там, в ложбине, Долго ты будешь кричать? Из-за тебя убили Целых троих ребят. Комок из грязи и крови, Тебя уж и нет почти: Обрубок лежит безногий И все кричит и кричит. И тех, кто еще остались, Давит такою тоской… На кой тебе наша жалость? Давай, помирай, дорогой. Не могут в этом дурдоме, Как надо, лишить ума. Желаем тебе покоя, Желаем хорошего сна. Скорей пусть часы остановят, И тихо отключится мозг. Молчи, отходи спокойно. Спасибо тебе, браток. 1916 Но будто чугунная рельса оглохло сердце познав сквозь гул и грохот куда забрело по следу пропавших бесследно Глаза впиваются в даль горизонта изрытую оспинами воронок и сердце жаждет глотка света как ночь струйку ракеты Сердце подняв с окопного дна заряжаю разрыв и грохот разом сердце снарядом стрясло долину и пелена в глазах Сердце навылет пробило разум сердце мое неповинно нечего тут знать 1916, Карсиа Джулиа ПУСТЫННЫЙ ЛИНДОРО Крылья качаясь в тумане глаз прерывают молчанье На горизонте играет красное с ветром поцелуев страстно желая при виде рассвета обомлеваю Вот моя жизнь излилась в ностальгии арабскую вязь И сейчас я слежу за точками мирозданья что прежде были знакомы мне как пёс разнюхивая дорогу До самой смерти во власти скитанья мы останавливаемся только во сне ненадолго 85 Слёзы с лица моего отирает солнце лучом мантией чистого золота укрывая словно тёплым плащом В этот час на уступе всеобщего запустенья я простираю навстречу руки доброму времени Высота 4, 22 декабря 1915 г. ТОСКА Мертвенная тоска во всем теле скованном своею судьбою Мертвенное ночное забвение тел заживо взятых в полон великим молчаньем что не видят очами только предчувствием Сон сладостное забвение тел что от горького отяжелели раскрываются губы в жажде далеких губ жестокое наслажденье тел онемелых в желании без насыщенья Этот мир Вечный испуг глаз влюбленных в безумном бегу В беге туманными тропами сна годы и годы и наконец встреча со смертью Она истинный отдых Насыпь 141, 10 июля 1916 г. РЕКИ Дерева покалеченный ствол гладит рука. В овраге, как в разбежавшемся цирке, смотрю медлительно облака переплывают озерко белой полной луны А утром лежал в водном ковчеге простертый будто реликвия в вечном покое Изонцо меня скользя шлифовал словно свои валуны И вот подобрав свои кости я как по канату пошел по камням над рекою Присел на корточки Одежка моя пропахла войной Спину склоняю, как бедуин, приветствуя солнце и сознаю что я вселенских нитей послушное волокно в струях твоих Изонцо Я мучился не обретая гармонии но твои прозрачные руки мне подарили мир и свет дочиста выполоскав меня Я ВСЕГО ЛИШЬ ТВОРЕНЬЕ Как этот камень на Сан Микеле настолько холодный твердый сухой бесчувственный и абсолютно бездушный Как этот камень таков мой плач невидимый и беззвучный Смерть отбывают живя Высота 4, 5 августа 1916 г. 86 И вновь текут предо мной реки жизни моей дороги: Серкьо что третью уж тысячу лет черплет моя родня Нил что видел мое рожденье, и как я мужал, и как средь пустынь томил меня неведенья зной Сена, в чьем мутном теченье себя я познал, перебродив Вот реки дороги мои все они здесь в одной в Изонцо И отражаются в каждой из них моя тоска и моя любовь Сейчас Когда ночь Когда жизнь моя кажется мне жалким венком цветов сухих упавшим во тьме Котичи, 16 августа 1916 г. БРАТЦЫ С какого полка будете братцы? Слово трепещет в ночи Лишь народилась листва на ветках В страдающем воздухе невольный мятежный побег современного человека в забытую нежность Но: Бог что же это такое? Запуганное созданье расширяет глаза обнимая взглядом капельки звезд и равнину в безмолвном покое И снова приходит в себя Марьяно, 29 июня 1916 РАССТАВАНИЕ Вот вам человек рядовой вот вам душа опустелая бесстрастное зеркало Мне как и вам с утра случается просыпаться случается совокупляться случается обладать Маленький лучик добра так редко во мне родится так тихо во мне родится неощутимо длится не слышно и не видать как гаснет Локвицца, 24 сентября 1916 г. VANITÀ Братцы... Марьяно, 15 июля 1916 г. ПРОБУЖДЕНИЯ Мгновение каждого дня мной прожито было когда-то в глубинах времен вне меня Моя память далёко в поиске тех потерянных жизней Удивленный обласканный пробуждаюсь в купели любимых привычных вещей Стремлюсь неотрывно глазами за облаками что сладостно тают и вспоминаю кого-то из убитых друзей И внезапно над руинами восстает беспредельности ясное диво И человек согнувшийся над водой что солнцем изумлена вновь обретает тень Тихо волна мозаику бликов качает как колыбель Валлоне, 19 августа 1917 87 СОНЕТЫ К ОРФЕЮ (Написаны как надгробье для Веры Оукама-Кнооп) перевод с немецкого НИКОЛАЯ БОЛДЫРЕВА рисунок СЕРГЕЯ СЛЕПУХИНА ЧАСТЬ ПЕРВАЯ I Взметнулось дерево. О чистый ввысь поток! Орфей поёт! О сквозень древа в ухо! Молчанье воцарилось. Каждый слог растеньем зреет снова в недрах слуха. И звери из глухот своих и нор, из леса чистоты и из берложий вдруг двинулись, в себя вперяясь строже, учуяв звуков, льющих в них, простор. Их страх покинул. А вошел стыд-срам за мелкость и ничтожность рёвов, рыков, за темноту жилищ, куда звук не дойдёт, куда лишь вожделеньям есть проход, где обитанье сумрачно и дико. И вот ты в слухе им построил, Боже, храм! II И оказалось то на девочку похоже. Блаженство шло от лиры и от пенья; и сквозь весеннюю фату лилось свеченье; и в моем ухе постелила себе ложе. И сновидением ее стал этот сад: деревья, что меня так волновали, и этот луг, и ощутимость дали, и изумление, не знавшее преград. Сновидит мир она. Поющий Бог, спросонок разве сумеет этот мир она понять? Смотри: едва сотворена и уже спит. Где смерть ее? Мотив однажды ощутит исчерпанность, чтоб новый мог звучать? Истает из меня? Еще почти ребенок… III Бог это смог. Но как, скажи мне, смертный за ним пройдет по музыки горам? Чьи помыслы порывисто-несметны, разве построит Аполлона храм? 88 Ведь пенье, как ты учишь, не алканье, не извещенье: наконец-то, мол, достиг! Песнь – Бытие. Для Божества – дыханье. Но мы есмы – когда? когда Архистратиг к нам в бытие круг звезд и Землю-мать направит? Не есть ты, юноша, и даже когда страсть твой голос распахнет и милую восславит. Учись же забывать воспетости красот. Это – течет. И в истине напева – иное веянье, иная власть: то дует в нас Ничто с божественных высот. IV О нежные! Вы иногда входили в дыханье это, в дух, не ведавший о вас, и щеки вам фарватерами были, за вами он смыкался, но не гас. О вы, блаженные, в вас целостность решений! Вам светит сердца вашего исток. Вы – луки мощные и вы ж – для стрел мишени. Заплаканной улыбки вашей свет высок. Что вам страшиться боли, если тяжесть лишь возвращается в глубь тяжести земной. Тяжки здесь горы и морей протяжность. И даже дерева́, чьи в детстве нежны створы, давно огрузли; вам их не забрать с собой. Но дуновенья эти… но просторы… V Не воздвигайте памятников. Роза пусть каждый год цветет ему во благо: Орфей бытийствует! его метаморфоза всевездесуща; имена – лишь сага; зачем иные нам? Один на тыщи уст Орфей поет за всех в ритмическом круженьи. И разве мало, если розы куст на пару дней переживет он в песнопеньи? Он должен уходить, чтобы его искали! Хотя ему и боязно: а вдруг исчезнет? Покуда его словом мир превосходяще залит, он сам уж там, куда нам не ступить ногою. Немотствует решетка лиры под рукою. Он слухом стал, весь в перехода бездне. VI Здешний он? Нет, из обоих из царствий дальняя сущность его прорастает. Зорче сгибает иву в пространстве тот, кто движенье корней ее знает. Идя ко сну, на столе не забудьте хлеб с молоком: мертвецы ходят рядом. Но, заклинатель, он призраков сути полуприкрытым, мерцающим взглядом Только кто с мертвыми мак ел с одной чаши, тайный хранит в себе знак – тон их наитишайший. вводит во все созерцанья полеты. Чары дымянки и руты дремоты так же он чтит, как правдивость вершин. Пусть отраженья в пруду часто и лгут нам: Образ не забывай! Пенью его неизвестна хвороба. Будь то из дома, будь то из гроба – славит он пряжку, кольцо и кувшин. И голосам воздадут вечным приютом только, где сдвоенный край. VII Славить – вот его единственная служба! Он родился, словно медь из каменного сна. Сердце божье – то давильни с виноградом дружба ради человеков бесконечного вина! Х Вас, ожившие в чувстве моем, я приветствую, саркофаги! Песнь веселая римская влаги промывает вас ночью и днем. Голоса всегда идут к нему из праха, ибо перед ним божественный пример. Виноградом станет всё; о, как он лаком в этом крае чувственно прогретых сфер. Даже в склепах царских, средь гниенья тлена пение осанны – правде не измена, как не лгут здесь тени, павши от богов. Он – курьер надежный между наших царствий. Он плоды осанны в чашах благодарствий держит там, у входа в мертвецов альков. Вас – распахнутых, словно то лик пастуха, что проснулся счастливым. А вокруг – тишь и бабочки миг и пчелиного ока приливы. Вас, отвергших отчаянья путь, рот открывших в порыве новом и познавших молчания суть… Ну а мы: с сутью этой знакомы? В колебаниях без конца суть прижизненного лица. VIII Только в просторах осанны странствует ЖеляЖалоба, наших слезных источников нимфа, стерегущая наше конденсатное зелье, в отсвете полукружия скального нимба, XI Выйди в небо! Разве не найдешь созвездья Всадник? Разве этот силуэт нам не врожден как гордость искони? Если первый погоняет, шпорит, сущий латник, то второй несет его. Как странно слитны в нас они. где восходят Алтари и Вратные своды. Глянь, как просыпается на кротких ее плечах ощущенье, что ее не тронули годы; а сёстры – всегда старшие в ее очах. Но не такова ль – преследуемый, а потом союзник – жилистая суть природы бытия? Путь и поворот: в борьбе родится спутник; и простор открыт; в единстве – ты и я. Ликование знает, тоска дать признанья готова, и только Желя всё ученица; снова и снова перебирает по пальцам старые обиды-печали. Но единство ль это? Или же здесь каждый чувствует свою тропу, хотя идут вдвоём? Стол и пастбище уже их развели однажды. Но однажды внезапно – еще неумело, неровно – вознесет наш голос в звездные его дали, в небо, чье дыханье огромно. Даже звездность связи вводит нас в обман. Впрочем, нам покуда в благость окоём: веруем в фигуры сквозь сплошной туман. IX Только кто с лирой прошел царством, где Тени, смысл ликованья нашел и нескончанья радений. XII Слава духу: oн формует связи. Мы живем воистину внутри его фигур. Как мелки шажочки стрелок часовых, их монотонной вязи рядом с дня сиянием в роскошестве фактур. 89 Для чего мы здесь? Безмолвны вены. Лишь касанья нас ведут вперед. То антенны чувствуют антенны. Пуст простор, но как же чист полет! Бог апельсин. Как забыть этот танец? Весь упоенный собой, он не хочет девочек сладость впустить; но хохочут те, овладев им, и вот он – посланец Как гудит струна! О музыка раскрытья. Разве наших дел пустяшные событья не отводят массу бед и кар? веры их лакомой. В вечном пейзаже танца огонь пробуждает в нас зрелость, родины чувство; раскрепощенье Даже пахарь, свою пашню холя, семя бросив, в остальном – неволен. Воля превращений – почвы дар. медленно длят ароматов пассажи. В тяге сродства в нас вливается спелость кожицы с соком как благословенье. XIII Яблоко, банан, крыжовник, слива… Нас во рту о чем-то извещают жизнь и смерть, сошедшись молчаливо. Посмотри, как дети плод вкушают… XVI Одинок ты, мой друг, не на час… Потому что словами из стали мир к рукам мы тихонько прибрали. Наихудшую, злейшую часть. Это к нам идет издалека. Медленна вкушенья безымянность. Вместо слов – глубинная река. Но не с плотью плода в ней слиянность. Можем ль пальцами ткнуть в ароматы? Ты же чуешь, что нам угрожает. Мертвецов твой пригляд провожает, гул заклятий, идущих в закаты. Что пытается нам яблоко назвать? Эту сладость первого сгущенья и прозрачную свободу вознесенья Многим хочется цельность понять как итог от сложенья фрагментов. Не вживляй меня в сердце: на дружбу патентов в ясность, живость, в радость постигать солнечность земли, бездонно милой, что в нас дышит светом и могилой. в мире нету: я каждою ночью расту. Вот рукою Орфея тебя бы обнять! Чтоб Исавы увидел красу. XIV Нам к плoду и к цветку чудны прикосновенья. Их с нами разговор – не лета краткий миг. Кто знает, может быть, цветное откровенье к нам рвется из глубин как ревности язык? XVII Предков чуть дремлющий луч в почвенной дерева чаще. Там, меж корнями, бил ключ. Тайный, невидимо-льдящий… Быть может, то свеченье ревностное мертвых, крепящих землю? Что мы ведаем о том? Об этом способе свободы в глинах горклых – костей эссенцию вливать в наш общий дом. Гончих охот куражи, шлемы, турнирные плутни; в братском раздоре мужи, жены как лютни… Но вот вопрос: сколь вольно то движенье? И тянется к нам плод – немых рабов елей как к господам своим, мечтая о сближеньи Гербы, девизы, престиж… Но ни единой там сирой ветви… Явилась! Расти ж! иль господа – они, кто спит среди корней и дарит нам пустяк из всех сокровищ ночи – плод поцелуев и молчанья мощи? Но до чего ж они ломки! И вдруг однажды у верха, у кромки ветвь изогнулася в лиру. XV Медленнее… Как вкусно… Ни слова… Только музыка… Ритм и жужжанье. Девочек теплых немое взмыванье: танец познанья фрукта живого! XVIII Слышишь ли новость, Орфей, – скрежет и грохот? То воздыманье затей новых пророков. 90 Что им, что в гомоне жизнь – слуху поруха. Славить машину взялись, оторопь уха. Строг был учитель. Но все же влюбленно ты белизну бороды созерцала. Ну а теперь голубым и зеленым всё увлеченно разрисовала. Глянь на машины заслуги: роет, как будто нам мстит; нас вытесняя, нам льстит, Как ты, свободе открывшись, счастливо в детство играешь! Тебя мы поймаем, радость земная; ликующий – ловок. кровушку теплую пьет, к страсти, бесстрастная, льнет, требуя жизнь за услуги. Смыслы учебы – такого налива! Тексты корней и стволов принимая, как ты поешь их потоком обновок! XIX Зыбок изменчивый мир: облачные скольженья… К предкам, в родимый надир – все и любые свершенья. XXII Мчит нас метелица временной зрячести. Но то безделица в непреходящести. Но над лавиной измен, выше любого порога – музыка перемен с лирой бредущего бога. Всё торопливое сгинет в бесследности. Лишь молчаливое близко к священности. Боли причин нам не счесть. Зовы любви так обманны. Смерть, чьи подходы туманны, Путь безупречности не в ускорениях и не в полётных дерзаниях, отроки. нас безответно томит. И лишь священная песнь нас над землею целит. Всё уже в вечности: тьмы и свечения, роза и стих, ураганы и шорохи. ХХ О мой Господь, что посвятить не стыдно мне тебе, кто выпестовал всех созданий слух? Воспоминанье об одной моей весне: Россия, вечер, белый конь и луг… XXIII Если полетов воленья в небо вздыматься начнут не для себя восхваленья, не для стяжанья минут С холма из-за деревни он в закат скакал, мотался сбоку выдернутый кол. Он воли на лугах ночных искал. Как бился гривы его вспененный хохол! в легком восторге паренья в модном любимце ветров, чьи воздыманья-паденья – лишь горделивости кров, Он ритмом удали был словно озарен, он прорывал стесненный свой галоп и кровью в жилах был весь вознесен. если машина однажды в чистом порыве Далече детский апломб превзойдет, Как чувствовал просторы гордый лоб! Он пел и слушал… Саги твоей весть в нем завершилась. Образ – вот он, есть! ей приоткроется вечность дали, где молчью объятый, станет бытийством полет. XXI Снова весна возвратилась. И почва словно ребенок, поющий вприпрыжку, песенок множество знает. Ей прочат приз за прочтенную длинную книжку. XXIV Где же ты, древняя дружба с самими богами? Как мы ее потеряли? не в том ли азарте, взявшись воспитывать сталь? наши боги – в Валгалле? или их можно внезапно найти по вдруг найденной карте? 91 Не прикасаются к нашим колесам их мощные чары; лишь забирают умерших. Где званость пиров? Где омовенья в купальнях священных? божьих послов мы обгоняем летуче: медлительно-стары тропы неторных их странствий. И всё одиночее мы, сплошь в толчее, не понимая друг друга. Не по прекрасным меандрам гуляем: жутко прямы́ наши дороги. Только, пожалуй, еще речная излука где пароходик колесный пыхтит, – в отблесках бога. О, мы пытаемся плыть, но моторы гудят, и мы тонем под тяжестью смога. XXV Ты мне вспомнилась снова – ты, кого я знал, как знают цветок, чей неведом язык. Как хочу показать вам, ушедшим, ее – живою, где красотою играться надумал безжалостный крик. О танцовщица, чье тело внезапная осторожность охватила: юное бытие словно втекало в металл; запечалилась, вслушиваясь… Музыки новая сложность в измененное сердце вошла, как в поющий кристалл. Но болезнь на пороге. И уже пронзенная тенями растревоженная кровь спешила ночами и днями, устремляясь в природы весну, читая остаток с листа. Снова и снова, прерываемая бурями и мраком, она искрилась по земле, пока, хмельная страхом, не хлынула в отверстые врата. XXVI Да, ты божествен, ты до конца был Звучаньем. Даже когда разрывала тебя свора менад, ты заглушал дикий ор их вод мусикийских журчаньем, и из останков вставал восходивший к нетленности лад. Голову, равно и лиру, их ярость почти не задела; как ни старались; и даже камней острота, в сердце летящих твоё, становилась нежной близ тела, и обретала вдруг слух: это пела сама пустота. Пусть растерзали тебя опьяненные местью, но остаешься мелодией в скалах и львах, в птицах и рощах звучишь ты певучею вестью. О наш потерянный бог! След бесконечной свободы! Лишь потому, что развеян был яро твой прах, мы теперь – ухо и слух, горло поющей природы. 92 ЧАСТЬ ВТОРАЯ I Дыхание – невидимость стиха! Обмена чистота пространства мирового на бытие своё. Контрастная река, где ритмом я творю себя как слово. Единственность волны, в которой я исподтишка перерастаю в море; о бережливейшее моря бытия в теснейшем изо всех просторе. Сколь много этого пространства мест во мне уже бывало. А ветра – как сыновья мои меня окрест. О воздух, узнаёшь моих блужданий самочинных норов? Ты – чистая, скользящая кора, округлость и листва моих глаголов. II Как художник порой во внезапный картинки пейзаж погружается словно в реальнейшее пространство, так и зеркало часто впадает в свой антимираж, принимая улыбок девичьих простое священство, когда утро они испытуют: одни, в тишине; или просто следят, в осиянии свеч, за движеньем. И позднее, в дыхании лиц настоящих, вовне, вновь влекутся вослед за своим отраженьем. Что когда-то глаза наши видеть и чуять могли в бормотанье углей и мерцанье камина? Блики жизни, ушедшей навеки. дав толчок, не может всё же возвратить закинутые кромки лепестков: о, давление миров на аромата ложе! Но кто знает утраты и скорби Земли? Только тот, в ком блаженного пенья лавина славит сердце, что цельно как реки. Мы – насильники, мы дольше длимся. Но когда же наконец, в каком ряду веков, вдруг раскроемся и отдадимся? III Зеркала́: удалось ли когда и кому разгадать тайну сущности вашей? Словно дырочки сита, из света в тьму, тоннели времени в вас зазывно пляшут. VI Роза, царица, когда-то была ты чашечкой просто, с тонкой каймой. Ныне, сортов совершенством богата, ты ворожишь нас бездонной судьбой. Транжиры и моты залов пустых. Но когда смеркается, вы – леса без края… Где люстры, как шестнадцатироговый олений дых, в чаще движутся, замирая. В своем цветенье кажешься укрытой в одежды, под которыми тело – чистый свет. Но каждый лепесток – отрицанье надежды на платья и формы: их просто нет. Иногда в вас – живописные пиры. Иные картины тонут в вас глубо́ко. Других смущенно отвергаете до поры. Аромат твой озвучен далью столетий, чередою чарующих твоих имен; и вот он уж славою в воздухе светит. Но прекраснейшие остаются, покуда из-за кулис, с той стороны, из косоурного стока, не выныривает светящийся Нарцисс. И все ж не поймать его словом никак. Воспоминание движется к истоку времен, покуда поёт в нас молитвенно мрак. IV О зверь, которого на свете нет! И все-таки они его любили, не познав. Его походку, шею, выправку, постав. До тихих глаз его, откуда лился свет. VII Цветы, неотразимо родственные рукам хлопотливым (девушек юных из самых разных времен), вы лежали в саду на столе израненно-молчаливы, и был нежен и изнурён Хотя и не было его. Но оттого, что был любим, явился кроткий зверь. Они ему пространство дарили: чистое, свободное от зим, где он бродил, не ведая лишенности гражданства бытийного. Никто не накормил его зерном: питался лишь причастностью тому, кто пел. Но это влило в зверя столько сил, что рог пророс на лбу, дотоль пустом. И к деве подошел он – белоснежно бел. И оказался в зеркале ее и в ней: кого любил. V Мускулы цветка, что анемонам помогают раскрываться по утрам, чтобы в лоно их – свеченьем полифонным – небо хлынуло, причастное мирам. В тихое цветочное созвездье бесконечного приятия распах иногда такую полноту впускает вести, что заката легкий взмах, вид ваш в ожиданье воды, чтобы раны на время утишить и отсрочить вошедшую смерть. И вот заструились меж пальцев; чувствовать странно волю их вам, их способность уметь делать добро больше, чем вам казалось; облегченно вы вздыхаете, окунаясь в глубокий кувшин, медленно охлаждаясь, и девушек теплоту смущенно, словно признанья, словно греха мучительную вязь – бытия в отрыве от почвенных вершин – возвращая как цветенье, как тайную меж вами связь. VIII Памяти Эгона фон Рильке Было немного вас, давних друзей моих детства в города парках, в укромных садах, где, одиноки, мы робко искали соседства, словно ягнята в раскрасках на бледных листах, молча играя. А если вдруг радость входила в нас безраздельно, была она чья? О, ничья! И растворялась она средь людей как безвестная сила в кротости долгого года, как в пеньи ручья. 93 Нас обгоняли чужие колеса, гремящие духи; лживо всесильны, нас окружали громады домов. Кто знал нас прежде? Что подлинно есть в мирозданье? Лучше, чем сеть и капканы, известна мне паруса ленточка, но не в полёте: в карстовой полости, свесившись, мелко-мелко дрожит. Только Ничто. Лишь мячи, их прекрасные дуги. Даже не дети... Впрочем, иной раз, в томлении снов, мальчик входил под прямое мяча попаданье. Тихо впускают в пещеру тебя, словно ты флаг перемирья. Ну а потом буйствует, стоя у края, холоп. И из пещерок и гротов голуби, горсткой бессилья, рвутся, кружася, на свет… Вот он, ваш честный улов! IX Хвалитесь, судьи, что пытками больше не мечены, что, мол, оковы на шеях – давно устаревший мотив. Ну а сердца? Возросло ль хоть одно? Искалечены сплошь, в тон ужимкам гуманности нежно себя развратив. Что подарила эпоха, то времени плоть эшафотом вернула; игрушку так дети дарят из старых запасов. О, разве бы так вот приветил чистое, вольное, настежь открытое сердце Господь? Мощно вошёл бы в него, воссияв всем милосердием подлинным, в божьей атаке. Больше, чем ветер, стремящий фрегата состав. Но и не меньше, чем тайное тихое бденье, что подает из глубин нам безмолвные знаки будто дитя, что играет в бездонной чреде размноженья. Х Машина всему угрожает, что нажито нами; ей лестно, что силу имеет не в послух, а в душу нашу входить. И что ей свеченье руки в замедлениях чувства чудесных, раз может она беспрерывно камень для стройки дробить? О нет, не захочет отстать, будет нас настигать неуклонно, расцветливых красок искать на тихих заводах сама. Как жизни резонная форма она равнодушно-бессонно готова равно постигать, членить, созидать и ломать. И все-таки бытие нам волшебств открывать не устало. Есть в тысяче мест родники; игра чистых сил всё странней. Но их не коснуться тому, чья молчь на колени не встала. О, все еще нежно струит несказанность терцето-катрены… И музыка, вечно нова, из трепетных строит камней в пространстве давно нежилом дома священные стены. XI Много ты правил убийства измыслил в спокойном расчете, всепокоритель, упорной охотой себя ублажив. 94 Вздох сожаления – где он? Даже случайный прохожий праздно взглядом скользит; ну а охоты недуг строит каркас приключенья… В нас заблудилось убийство – мрак и тоску в нас итожа… Чист только радости дух, самотворитель свеченья. ХII Благословляй перемены! в пламя входи изумленно, где вещь-беглянка течет в трансформациях огненных лент. Дух, что земное творит – жарко и все ж отрешенно – любит в ваянье фигур лишь поворотный момент. Все, что бездвижно замкнулось, то, состоявшись, – застыло, серая поверху пленка – надо ль ее защищать? О, берегись, издалёка мчит на нас грозная сила. Если взметнет она молот – некуда будет бежать! Лишь кто струится ручьем, познавания сути достоин. Чарою он опьянен: он в творение встроен; если иссякнет начало, в финале вернется мощь сил. Всякий счастливый простор – дитя или внук расставанья, что изумленно сквозит; Дафна – из лаврового необетованья – ждет, чтобы ты себя в ветер ласкающий обратил. ХIII Будь впереди всех разлук, всех прощаний, словно они и есть та зима, что идет. Ибо средь зим есть зима бесконечных молчаний, где твое сердце, зимуя, уже не живет. Пусть в Эвридике ты умер, все ж поднимайся, пеньем осанны назад возвращайся в чистый союз. Здесь, среди нас, уходящих, в осени царстве вздымайся вдребезг поющим бокалом, летящим от уст. Но в бытии пусть не оставит тебя не-бытия истеченье, той бесконечной основы, где щемит сквозно дуновенье и за собою ведет здесь лишь единственный раз. Стань же, ликуя, пыльцой, частью безмолвной природы, сумм несказанно-слепых, чьи нескончаемы своды, ну, а причислен, – развей в пыль и Число, и свой час. XIV Глянь на цветы, что земному верны бесконечно. Мы же судьбу отрядили им только на кромке судьбы. Но кто знает?! В увядании быстротечном не на наши ль ложатся гробы? Жаждет земное парить. Мы же бродим кругами жалобщиками, придавливая всё, весом своим восхищены. О, какими мы для вещей стали разрушительными учителями, покуда вечным детством они еще опьянены. Если бы взяли кого-то они в глубину своего сновиденья и он с вещами уснул: о, как легко бы вошел новым он в новый свой день из родников возрожденья. Или остался бы там, и они бы его восхваляли, обращенного в новую веру, и был бы уже не посол им он, но брат на лугах, что распахнуты ветру и дали. Пьёт лишь он: мертвец, – из источника, услышанного нами, если бог кивнет ему, умершему, слегка. Нам же здесь лишь шума ворожит река. А козлята колокольчик выпросили сами: истину – истец. XVII Где, в каких блаженно-тенистых кущах, в нежно обнаженных цветочных устьях вызревают чужестранные Утешения плоды? Быть может, ты встречал их или хоть следы на бедности твоей истоптанном лугу. От раза к разу ты изумляешься всё более размеру плода-чужака, целительному бытию и нежной кожицы его экстазу, тому, что не был ты предупрежден о нем ни птицею, ни червяка низинной ревностью… Да существуют ли ещё деревья те, что – по маршруту ангела полетов, воспитанные в странной чистоте незримыми садовниками? Плод дают, но сами – мимо нас. XV О рот фонтанный, ты отверст неистощимо. Сплошною чистотой ты говоришь! Воды текущего лица ты маска лишь, но мраморная. Саркофагов мимо И разве не могли однажды мы – лишь призрачные тени – в поспешной зрелости и в столь же скорой увяданья лени нарушить того лета дивий сказ? несешь ты акведуков древних сагу, она со склонов Апеннинских гор журчит меж склепов, испытуя тягу, и с подбородка черной патины в простор XVIII Танцовщица: о – перетеканье-скольженье всего, что уходит, в поступь: высок твой дар! И финальное круженье – древо из движенья – разве не вместило года предзакатный жар? бассейна падает перед тобою. То – ухо, в сон клонимое судьбою. Ты к уху мраморному речь извечную не прерываешь. К земному. Потому земля с собою диалог ведет. Но если кто кувшин подставит под фонтанный рот, ей кажется, что ты ее перебиваешь. Разве после всех твоих роений и облетов не расцвел внезапно тишины цветок из его вершины? А над ним – блеск лета: всё безмерное тепло; в тебе его исток. Но и не было бесплодным твое дерево экстаза. Разве не его плоды – спокойствия кувшин, зрело формы длящий иль текучая в покое ваза? ХVI Бога места, чьи целят касанья, рвём мы в клочья: дух наш разъярён. Мы кинжальны, ибо жаждем знанья, он же – просветлён и распылён. Даже в фотографиях твоих души заметен почерк: взлёт твоих бровей – полётность без причин, словно на стене таинственного танца мощный росчерк. Даже самый чистый дар священный не иначе он себе берёт, чем против кончин мгновений тленных тихо восстаёт. ХIХ Где-то в изнеженных банках золото длит свою быль, фамильярствуя с множеством. И все же есть Некто: нищий, слепой – сам для валютного спектра словно пустейшее место, словно подшкафная пыль. 95 Деньги в делах и торговле чуют себя словно дома, маскируясь мехами, шелками, гвоздикой петлиц. Он же, Молчащий, стоит как покой, как ризома между одышливо мчащихся денежных спиц. О, как он ночью сжимает ее, свою вечно открытую руку. Завтра судьба повторится, он снова протянет её – светлую, нищую; как она в слабости бренна! Чтоб Созерцатель однажды постиг ее долгую муку и изумленно восславил. Только осанной сказительно бытие. Только в божественном слышимое нетленно. ХХ Сколько дали меж звезд! и все-таки многажды дальше то, что дано здесь на срок. Скажем, ребенок или наш ближний, наиближайший – о, как непостижимо далек! Судьба нас, быть может, межует, исходя из бытийства причины, каждый раз являясь чужой. Подумай, какое расстояние от девушки до мужчины, когда она, к нему устремясь, все же обводит межой. Всё – вдалеке… В круженьи круг не завершит полета. Взгляни на блюдо в глубине роскошного стола: странно лик рыбы тих. Рыбы немы – так думают; но так ли это? Разве нет места там, в конце бытийного крыла, где рыб язык звучит без них? XXI О мое сердце, воспой аромат неизвестных садов: словно в стакан они влиты – прозрачны, недостижимы. Воды и розы Шираза, Исфагана цветистый покров; только за то их восславь, что ни с чем не сравнимы. И покажи, что не знало ты с ними разлук, что они любят тебя, эти спелые персик и смоква, что меж цветами и ветками песня твоя не умолкла: шепчешься нежно в потоках воздушных излук. Не соблазнись на ошибку думать, что тяжкую дань будем платить за решенье, которого сущность – бытийство! Шелковость нити, ты прочно вплетаешься в ткань. Если ты с Образом слился однажды вседонно-сердечно (даже когда в тебе боль так похожа на жизнеубийство), чувствуй: то вклад твой в ковёр – совершенный и вечный. 96 XXII О, вопреки судьбе: эти великолепные избытки нашего бытия, в парках плещущие через край, или каменными изваяниями охраняющие калитки или рыцарями возле порталов, ведущих в ад и в рай! О медный колокол, каждый день своё било поднимающий супротив суеты, выметающий хлам. Или те колонны в Карнаке – ведь это же было, было! И ведь они пережили почти вечный храм. Ныне избытки проносятся мимо и мимо в плоскости желтого дня с унылою миной прямо в огнями слепяще гонимую ночь. Буйство пройдет и совсем ничего не оставит. Трассы воздушных путей кто-то, быть может, восславит. Но лишь тогда, когда смыслом наполнится мощь. ХХIII Покажи мне время ускользанья, что внутри всего неведомо живет, как собачьей морды обожанье, но всегда таящей поворот, когда думаешь, что суть собачья брезжит. Ускользающее – подлинности взвесь. Мы свободны. Нас никто не держит даже там, где думали: нам рады здесь. Робко просим мы об остановке. Для минувшего мы юны и неловки, но стары для тех, кто – семена. Правы там мы лишь, где всё же славим, ибо мы и ветвь, и меч, и сладость зрелости – опасней, чем война. ХХIV О, снова и снова радость обольстившей нас глины! И разве кто помогал им – самым ранним отважным? И все ж города в заливах росли, блаженствуя влажно, и наполнялись водою и маслом медленные кувшины. Боги. Мы чертим их абрис в юных дерзких набросках, но рвет их в клочья судьба и угрюмостью позднею дышит. Но Боги – бессмертны; смотри же: жить можно совсем неброско и слышать того, кто сам нас в финале нашем услышит. О, кто мы в тысячелетьях? звенья единого рода, в нас зреет тихонько ребенок, наша общая тайна, чтоб в будущем нас потрясти, как новая наша природа. Мы бесконечно отважны, но не упущено ль время? Лишь смерть-молчальница знает, кто же мы изначально и что с нас имеет она, сдавая в кредит жизне-семя. XXV Чу, разве не слышишь первых тактов азарта вечной работы? Вновь человеческий ритм тишину затаенной дородности марта словно землю саму, поднимая из сна, шевелит. И не пошлым грядущее кажется. То, что так часто приходило уже, снова кажется юным, иным. Новизны ожидая, ты не мог взять ни мига, ни часа. Новизна обнимает тебя этим нежным напором весны. Даже в листьях дубов, просквоженных мягкой зимою, вечерами находишь грядущую смуглую явь. Иногда задувают ветра – чаще с вестью, чем с пустотою. Чернотою – кустарник. Кучи навоза разлеглись на полях словно сытая черная ярь. Каждый час уходящий пахуч, словно юная роза. ХХVI Как волнующи возгласы птичьи… Где-то некогда клич сотворенный. Но детьми уже мы, на полянах зеленых не по сути кричим, мимо кличей. Кличи случая. В щели, зазоры мирового пространства – прорывы, словно в снов человечьих просторы птицы клиньев вонзают призывы. Ну а мы? Лишь о воле орущи, словно змей, что сорвался с пунктира и летящий то майна, то вира; ветер в клочья нас… О Бог поющий, пусть проснутся в нас крики потоком, чтобы лиру принес он и Око. Мы же в своей уходящести силам, что в вечной здесь зрячести, ценны священством простым. XXVIII Приди, станцуй! Еще почти дитя, дополни хоть на мгновенье танца вещество до чистого созвездья там, где воли волны, которой мы тупой природы торжество всебренно превосходим. Дрогнула она лишь только раз, уйдя, как зачарована, в Орфея пенье. Ты от тогдашнего движенья оттолкнулась дна, чуть удивившись, когда дерево в ошеломленье задумалось, войти ли в ритм с тобою слуху вслед. Ты помнила еще то место, где вздымалась лира, когда звучала; о неслыханная сердцевина! Лишь для нее летела ты (не шла) – прекрасно и невинно, когда надеялась увидеть цельным образ мира, чтоб друга лик и шаг пронзил вращенья свет. XXIX Кроткий друг столь многих далей, чувствуй, как твое дыхание простор живит. Растворяйся в колокольнях чутких– пусть тобой звонят. Пускай не спит, силой становясь в тебе, больная жажда. В превращениях найди свой дом. Боль в тебе глубинами отважна. Горько пить? так становись вином! Этой ночью в силе тайной, в чуде пусть воскреснут чувства, умирая. Смыслом крестным освяти их весть. И когда тебя забудут люди, кротости земной скажи: струюсь-играю. Быстрому ручью в горах скажи: я есть. Замок Мюзот, февраль 1922 ХХVII Время-разрушитель – принадлежно ли действительности? В какой момент на вечном холме крепость рушит вода? Это сердце, послушное Богам до расточительности, разве демиург насилует когда? Действительно ли мы столь пугливо-ветшающие, как о том нам судьба нарочито ворчит? И разве детство, глубокое, многообещающее, позднее своими корнями молчит? Ах, привидение бренности сквозь добродушье мгновенности мчится как дымка и дым. 97 ТРЕПЕТ СТРАННЫЙ Проснётся в чаще леса; за ударом Послышится удар; раздастся ясно Из чёрного рогозника над яром, По полю пробежит... И многогласно перевод с сербского ОЛЕГА КОМКОВА рисунки СЕРГЕЯ СЛЕПУХИНА Достигнет недр земли! Во тьме страданья, Как колокол, исполнившийся стона, Немыслимое сердце мирозданья Забьётся мерно, тихо, монотонно. В СУМЕРКАХ НОЯБРЬ Вновь уводят думы, тяжки и тоскливы, Вдаль, в пустое поле. Стыло блещут росы. Над водою мутной горько плачут ивы, И холодный ветер теребит им косы. Полумёртвой сенью на закате мреет, Тихо угасая, бледный дневный пламень. В небе надо мною ширь немая реет, Мгла покрыла реку, лес, цветы и камень. Простёрся, как свинцовая завеса, Осенний небосвод, немой и грозный. Поля пусты; над самой кромкой леса Сгустился вечер, тусклый и морозный. Река бледна и бредит, как больная, Скелеты ив скорбят о ней по склонам. А в тёмной выси, горестно стеная, Тоскует ветер над опавшим клёном. Мороз объял стерню холодной хваткой; На тропах слякоть и пути размыло. Смолкая, птицы прячутся украдкой В умерший лес. Всё стихло; тьма уныла... Не знаю, отчего печаль мне снится – О чём жалеть? к чему желать иного? – И отчего так жажду схорониться И где-то плакать - снова, снова, снова... Вот погост у яра. Здесь лежат селяне: Родичи, соседи – всяк другому ровня; И стоит поодаль в меркнущем сияньи Набожно и скорбно ветхая часовня. На селе потухли огоньки сторожко Ночь, уснули долы... Лишь, как призрак млечна, От села к погосту криво вьётся стёжка, Чудна, неусыпна, коротка – и вечна. ТОПОЛИ Что шумят во мраке тополи так страстно, Так тревожно, странной дрожью обуяны? Жёлтый месяц тихо сходит за курганы, Дальней, чёрной вестью вставшие безгласно; Этой мёртвой ночью сны упали в воду, Сумраком застыли на свинцовой глади. Лишь трепещут шумно тополи в прохладе, Шепчут, шепчут странно, внемля небосводу. У воды недвижной я один тоскую, Из людей последний, преданный забвенью. Тень у ног простёрлась. В эту ночь глухую Я дрожу, напуган собственною тенью. АККОРДЫ Лиловой ночью тихо бродят тени; Сквозь шелест звёзд, мучительно-знакома, Почудится в немотном запустеньи Мне песня сфер над гладью окоёма. И вновь объемлет небеса и землю Извечный гул, что слышен издалече; И вновь недвижно, немо, долго внемлю Я говор вод и шумных листьев речи. И в языке немолчном разумею Глас Бытия и каждой вещи шёпот... Порою тишь наступит, а над нею – Лишь сердца стук... Но тот же смутный ропот 98 ПОЭЗИЯ Мраморно-недвижна, холодом объята, Тихой бледной девой ты в мечтах уснула. И пускай женою будет песня чья-то, Что слышна сквозь толщу уличного гула. Лентой не украшу твоего убора – Пусть желтеют розы в заплетённой пряди: Слишком ты прекрасна для мирского взора, Слишком горделива, чтоб служить усладе. УСТРАНЕНИЕ СТАТУЙ перевод со словацкого РАФАЭЛЯ ЛЕВЧИНА рисунки ВАСИЛИЯ БОРОДИНА Слишком полно сердце затаённой боли, Чтобы всех утешить в несчастливой доле, А для праздной славы ты скромна и странна. Будь же равнодушна, коль девичье тело Вместо пышных тканей трепетно одела Мреющая дымка тайны и тумана. ПОЛНОЧЬ Ночь. Музейной залы чёрная утроба. Пред гранитным Марсом, внемля страстной воле, Тешится вакханка. Молча льёт Ниоба Мраморные слёзы вековечной боли. Оплетённый змием, выгнулся в натуге Торс Лаокоона. Под незримым игом Смолк Эдип на камне... Тишь по всей округе: Слышно, как проходит робко миг за мигом. Вдруг с высокой башни глухо и зловеще Колокол наполнил тьму полночным звоном И во мраке хладном, где застыли вещи, Отозвался долгим, непостижным стоном. Охватил внезапно залу трепет странный, И почуял всякий, будто весть пророчью: Там, во тьме, измучен вековою раной, Гладиатор юный умер этой ночью. С ГОЛОВОЙ В ОГНЕ Залети мне в глаз искрой предрассветной, залети мне в глаз, разгоняя сон! Искра в глазу, голова в огне, ночь без дна, вверху, внизу, ночь во мне. В эту ночь я был бы в небо вознесён. В полдень жаркий будь мне солнечным ударом. Пусть смеются надо мной: сгорает! Пусть все видят: радостно хвораю. В полдень жаркий: с головой в огне думать о тебе. В пол-восьмого вечера: перестрою струны, чтоб тебя сыграть в цвете звездной платины, в цвете крови лунной. В пол-восьмого вечера: вся вселенная заполнена тобой. Стань однажды ночью воплощенным: «да». 99 В сердце и в устах, вот оно, то самое... Искра в глазу, голова в огне, ночь без дна, вверху, внизу, ночь во мне. Выжжены тобой глаза мои. ВЕЧЕР Ночь поспешно клочья тьмы сшивает, засыпают полевые твари. Дождь идёт густой, дождь не унывает, по обязанности падает на землю дождь. Над пустынной рощей пронесётся ворон, в опустелом поле рыскнет взглядом вора: дескать, не с кем спать. Парень, брось любовь – она одни укоры, страхи и обманы принесла! Над пустынной рощей пронесётся ворон, зачищая небо острием крыла. ЗА МИНУТУ ПЕРЕД ТЕМ КАК УСНУТЬ Я вижу птицу с красными перьями Глаза мои полны прекрасных диссонансов В ночи которую поджигают её крылья я всегда один мучаюсь плачу придумываю себе минуту с тобой среди роз там зазубриваю тебя наизусть там вдыхаю тебя пока не скажешь Довольно Я знаю сам что нельзя так Но попробуй коснись моего тела как струна зазвенит оно слушай Так довольно Довольно Я твоя музыка мелодия которая нейдёт из головы можешь меня насвистывать думая о другом Ты меня насвистываешь думаешь о другом у меня это нейдёт из головы Дай мне уснуть дай мне уснуть фантазия алая птица ЭСТЕТИКА 1 Престранные солдаты в покосившейся корчме, мы запрокидываем небо, как огромый чёрный жбан. Пьём осенний дождь усталый. Запоздало и напрасно солнце поднялось в атаку. Петухи уж давно протрубили рассвет, а мы всё придавлены тяжестью ночи. Окружает нас ураганный огонь меланхолии, прижимает к земле слезоточивый сплин. И мельтешит в нашем полупомрачённом сознании скорбная табличка умножения мужества: пишем – стираем, стираем, стираем. 2 А потом утро: какой-то приятель или просто знакомый, смутно запомнившееся лицо, из окна кафе окликнет меня. Встанет, рукой махнёт, погрозит, воздух динамитом насыщен, и над нами детонируют облака. – Поэт, беги, молчи, поэт! Перемалывай на дребезжащей мельничке жемчужины слёз, градины звёздочек, сладкий пряничек бесконечной, безмерной любви. Молчи, поэт! 100 3 Это я, пачкун, вечный двоечник муз. Впился я жизни в горло, напился её крови горькой и теперь выхожу из себя, словно речка из берегов, и слово несу вам, ещё раскалённое, ещё слепое, ещё нерожденное, сделаю вам из него острый нож, заколку для ваших волос или плуг, словом, всё, что угодно, всё, что нужно для вашего счастья. Прикажите – и зацветут деревья. Пожелайте – и загремит гравий. Засыпать с моим словом будете в сердце, и пробуждать оно будет вас к жизни. Но когда я однажды под дождем, холодным и сильным, с вами вместе пойду на работу и касаться буду украдкой ваших мокрых плащей, улыбнитесь мне взглядом хотя бы. ПОГОДА Сыплет дождь, осыпаются хризантемы, а люди глаза чуть не проглядели. Гроб заколочен, свеча догорает, соседа сосед шепотком уверяет: – Покойный, бедняга, был мне, как брат... А думает: «Хорошо ему, на него не каплет, он, небось, рад». Дождь льёт и льёт, плачут хризантемы, а глаза у людей – чтоб глазеть, а не плакать... Поэт, неужели нет другой темы? А чего б вы хотели в такую слякоть! УСТРАНЕНИЕ СТАТУЙ Ночь – как последняя. В Дунае луна вспенила свое синтетическое мыло. Над городом мрак кружил эксцентричной совой, обольстительные женщины в витрине улыбались приятно и глупо, словно живые, некий Джесси Оуэнс из Камбоджи побил мировой рекорд, последний троллейбус его ослепил синей молнией и унёс, мостовая почернела. Тогда возложили руки на бронзу. Чутко и нежно, как шею скрипки, нашли точку опоры, позволяющую перевернуть мир. Подсунули ломы и рычаги, площадь, рот разинув, от ужаса ахнула, зуб мудрости пошатнулся. Потом поднялась статуя в воздух. Словно ступая по головам каменных мужей, сошла с постамента. И горы не сдвинулись, не задрожала земля под ногами, только голуби уж не кружили вкруг единственной головы, не овевали ее херувимьими крылышками, пыль на неё не садилась. На камне увядший букет и гипса куски, словно сняли повязку. Брови ночи срастались долго, болезненно, как перелом, время окоченело. А утро было голубое-голубое, утро флюоресцировало, Дунай лениво пенил свое мыло, белая туча колыхалась в небе, как комбинация, бельё небесное было выстирано. Но я всё время представлял себе его лицо, засунутую за отворот кителя его руку, в которой зажата была ещё одна – такая же – статуя, в маленьких сапожках, с маленькой рукой, засунутой за отворот. Потом я осторожно коснулся двумя пальцами, выбрав минуту, когда за мною никто не следил, возле сердца, под сердцем, – всё время думая о той, маленькой статуе – и нащупал нечто холодное, твёрдое, каменное – тут-то горы и сдвинулись, тут и земля задрожала. 101 Она была там! В это мгновенье, на глазах у обольстительных женщин витринных, улыбавшихся приятно и глупо, словно живые, на глазах у подметальщиков судеб и рабочих, ремонтирующих светила над миром, в это мгновенье и именно там я понял: устранение статуй началось! ИЗ АБСОЛЮТНОГО ДНЕВНИКА I Из тебя бы вышел вполне образцовый труп, лежал бы себе в траве, заглядывал миру под юбку, со сверчком в ухе, желтел бы под музыку, тебя бы цитировали, в твою честь бы назвали кофейню... – А что теперь? А ничего. Горсть праха. В лучшем случае подходит для уроков анатомии. Распадаетесь оба вы, ты и тот старый зонтик забытый, скелеты в тёмном шкафу... А впрочем, твой костяк грудной сгодится – в баскетбол играть луной! Ничто. Тьма, прах и мел. Лишь постепенно морские звезды, тополя и травы проявляются, планета рвётся, континенты разбегаются... Где ты был тогда, хомо сапиенс? Что, попробовать вновь? Обтянуть тебя шёлком блестящим? О, чёрный зонтик, провал в памяти, затмение солнца, слепота куриная! О, чёрный зонтик, точка запредельная! (2) Когда будешь болтаться на проволоке, и ноги твои раскачает сквозняк, поймёшь, что это всего лишь очередной шаг к пустоте. Ну и кинь это всё, ведь ярмарка кончилась, да и ты себя продал давно, ещё заживо... Ты осликом был, который бежит в сундучке, запертом вечно на ключик, и груз свой неся, сам был несом, только в другом направлении. Это и есть механизм движения, это торжественный выход юродивого, явившегося убедиться, что нет его здесь, но видит, вернувшись, что нет, не ушёл, а так и сидит на ступеньках, рыдает, вопит отчаянно под хохот всего театра: «Ради бога, скажите мне, кто я такой и куда это я тороплюсь?!». А время течёт, как мука из мешка. 102 С тобой быть не обязательно. Тебя можно пропустить сквозь уши, как банальную мелодию, можно в темноте по полкам разложить, можно по ветру пустить... Был бы метеором, взволновал бы город! (4) Падаем, не добравшись до финиша, нас тошнит от городов окровавленных, покидаем их, руки накладываем на себя, а перед зеркалом разоблачаем пол несовершеннолетнего слова, жаждущего переспать чуть ли не с каждым стишком. Завидуем, ненавидим, наркотики жрём, словно хлеб насущный, лишь бы увидеть, как бабочка переходит в стадию розы. Мучаем женщин, мучаемся из-за женщин, пишем, пишем, последняя нижняя юбка ночи давно исписана, а никто так и не знает, что же такое поэзия. Кое-кто её понимает, как руководство по лишению невинности, а иные – как прерванное совокупление чувства и разума, но это роковая ошибка! Поэзия ходит в жёлтой кофте, и начхать ей на правила хорошего тона! С этой точки зрения комета в башке и луна под ногтем вроде бы вполне годятся в стихи, но поэзия – это, скажу я вам, нечто иное! Она начнётся тогда, когда заметишь, как в тебе оголился костяк, как тебе изнутри он в карманы залез, уточняя год, месяц и день рождения, цвет глаз, особые приметы... Это время стиха. Дрожи, ибо приходит послание в виде семени, болезнь, кровь, масло в огонь. Нагота, раскалённая добела, шипит кругом, карусели деревьев кружатся, кружатся... Кабан с чистым лицом убегал, в горлышках горлинок переливалось слово – сладкое, скользкое. Иди ко мне, стихотворенье, не солги (11) Сковородки, кастрюли и прочие ржавые звёзды, любовь шёлковая, любовь бархатная, смерть, счастье, случай и глаза – зелёный, чёрный, собачий, стеклянный, дурной – а в воздухе носится: «...возьми мальчишку, сука...», «...цыц, Моника, дождь идёт...» – и жизнь проходит. Люби меня. Люби меня хоть так! Гром дал петуха и у неба подмышкой смешно завывает, над грудами плоти дымясь. Каждый пусть готовится в дорогу. ПРОСТО ТАК Каждому стихотворению – своё время, но время стиха короче, чем думаешь. ИЗ АБСОЛЮТНОГО ДНЕВНИКА II (1) Каждый пусть готовится в дорогу, каждый пусть к своей взывает плоти, ко всему, что хочет взять с собою. Каждый пусть рыдает, каждый пусть страшится, каждый пусть спешит в глубины плоти и подольше остаётся там. Что в тебе, в твоей горячей плоти? Дымящийся камень, мотылёк, вертишейка, скрещенные ручонки пятипалых травинок или что-то иное? Мне надо это знать, чтоб знать, кого люблю. А что во мне самом, того не знаю. (6) В сумерках влажных я наблюдал брачный танец слов, чмоканье ртов, шорох шерстинок в ушах лопухов, смешение слюн – до сердцевины вещей. О, осень! О, жуткая любовь красных мурашей! Просто так, словно я тебя встретил случайно, словно дождь нас с тобою счищал с мостовых непрозрачными щётками, словно с якоря снялся корабль, на котором тебя я умчал бы, просто так, мимоходом: – Послушай! Люблю! – О! Ещё один!.. Получил?! 103 Это надо же – именно в августе! Аж по корни деревьев залившись стыдом, как ни в чем не бывало, покручу я на пальце ключи и скажу тебе, словно случайно: – Идём? Просто так, мимоходом. Это будет, я думаю, в среду, в пол-четвёртого, у бокового входа в магазин, где продают дирижабли и средства, помогающие от пустоты в памяти. Ты мне шепнёшь: – Да? А куда? Я спрошу тогда: – Что же нужно тебе? Ради бога, скажи мне, ну что? – Ах, не знаю, – ответишь мне ты, – может быть, то, что ты произнёс так случайно и мимоходом... МЫШИНЫЙ СОНЕТ Что же это, что случилось с нами? Что случилось, что молчишь, как мышь? Верба, крест, скамья, где ты сидишь, небо, занавешенное снами, помнит о твоей руке моя... В голове больной тяжёлый камень. Что же это, что случилось с нами? Что же это? Верба, крест, скамья... Завтра лучше песню сочинишь! Но меня все время этой рвёт: верба, крест, скамья, где ты сидишь... Изредка письмо твое придёт, как вода враждебно-ледяная... Что же это, что случилось с нами? Где ты, любимая, где? Задыхаюсь от страха, что встречу тебя в этой жуткой ночи, в изнуряющей летней воде, когда непристойная луна в гипнотическом сне неподвижно стоит за окном, как труп, и меня преследует плач, я трус. Когда пью чай, когда кофе мелю, когда надеваю плащ, постоянно дрожу, постоянно держу в голове это твоё: – А куда?.. Я почём знаю куда?! Есть ли место такое, где был бы я близок тебе, как дерево дереву, где бы я перелился в тебя и стал без остатка тобой, как вода – водой? Просто так, словно случайно. Словно в дождь. 104 УДРУЧЁННОСТЬ Хорошо бы стать фараоном с агатовым глазом. Хорошо бы утратить свой выигрыш во времени, расстояние, отделяющее меня от вещи. Чересчур уж сложна эта игра, и нипочём не понять, кто ты: преследователь или преследуемый. Самомненье укрытия, пространства и даже времени так мало значат, что лишь совпаденье случайностей или судьбы невнимательность позволяют вещам исчезнуть из памяти. Но не проходит случившееся, длится, присутствует в нас, каким-то образом мы причастны к мировому потопу, и невероятное порой наяву происходит. Помнишь? В мерцающем воздухе, в огне лилий, когда, скрытые ото всех, видели мы, как души вещей ослепительно сверкали, ты руки простёрла и произнесла: «Чувствую пятна на Солнце!». I Гай Юлий Цезарь, убегай, сосчитаю до тысячи и иду искать тебя. Чур-чура, вижу тебя, сладкая Клеопатра, в твоих волосах запутался ворон, и до сих пор он крыльями в небе рисует строгие брови, а под ними тишина, вкрадчива и так темна, что поверишь в голубые глазки грома и запросишь на коленях высоту: пусть скорей произойдёт это. Планета? Какая-то шутка какого-то бога! Ищи-свищи! Постоянно где-то что-то за спиною у кого-то... Копай под тополем, в котором проклинает хромой демон дерева, где подземная вода дремлет на плече песка, где кости ключиц сторожат свои тайны, а пугливые нагие черви связывают руки трупам. Гром ударил в горах, где страдают стада, воздух точно с похмелья прислушивается к дождю, травы склонились пред неким гласом – это вещи изнутри заговорили с нами. Войди в вещь и расскажи, что видел! Видел, как любовь прекословит причине, как отрицает связь рожденья с зачатьем, как стелется зелёная постель, как входит в алое её торжественная конница, как прячется, как пёсьим языком слизывает с неба месяц – динамит, – как на всех кустах висят её кровавые простыни! Пей из следа пчелиного, учись мудрости у насекомых, летящих письмами в вечность с такой скоростью, что забывают прежде, чем узнают. А, ты уже знаешь, где вода становится слезою, откуда в памяти семян топор и как проходит слава тела! А где череп Минотавра? Где он, этот нежный любовник? Где Иродовы младенцы? Где камень, под которым спит землетрясенье? Где мужчины, по-мужски шагнувшие в огонь и вышедшие из него, как выдох? Возможно, в будущем. Не знаю. А что такое прошлое и что такое будушее? Как отличить звук падающей воды от падающей воды? Я сам себе причина и следствие, как бабочка – будущее гусеницы, а гусеница – будущее бабочки. А любовь? А ненависть? Уродство? Красота? Даже слишком схожи, даже слишком, и коварно подсовывают нам наши ошибки каплями пота на зеркале. Не жалей. Жизнь – хождение с лампой по тёмной комнате, что-то освещено, а вокруг темно, но иной реальности нам не дано. Не говори о предчувствиях. Верю, что слово изречённое накренит вселенную. Подчёркиваю бесконечность пола, а также бесполость смерти. Смерть говорит с нами фальцетом, спит у музыки в ухе, слушает наши хрипящие басы и страдает комплексом неполноценности. И всё же ежедневно является и просит разрешения сотворить абсолютную гармонию духа и тела, нечто среднее между «да» и «нет», некое прочное соотношение между прошлым и настояшим. Смерть, которая так любит безветрие, что каждый наш вздох отдаётся ей болью в спине, а движение будущего плода – ломотой в коленке, смерть приходит, рисует вихри от уголков глаз, смерть от сотворения смерти приходит вот так и исследует: что такое человек? Ах, человек! Зонтик-подсолнух, 105 солнечно-дождевой, костылёк у Земли подмышкой! Однако – разве смерть одна? Разве их не тысячи? Не думай об этом. Не мучайся. Очень может быть, что осуществляется нечто, давно задуманное, недосказанное повторяется, забытое возвращается. II Перед Рождеством, в тысяча девятьсот шестьдесят четвёртом, ехала в поезде Олофернова голова, так красиво отрубленная, что крутилась вокруг неё карусель, полная добрых людей. Был белый день, и меж ними бритва была, которую передавали с глазу на глаз. В этом конкретном времени лежал Рамзес Второй на улице Тополевой, под бетонной плитой, потому что его жена влюбилась в шофёра. Тот сперва не хотел. Потом позвонил. Ради бога! Как же это вышло? Виноватых нет. Просто шла она по улице, и в глазах у неё были только чёрные клаксоны. память и в котором меня твои волосы душили, как дым! А ты свои руки над ним держала, ты его заклинала, твои пальцы огнём сосчитаны были, укротительница рептилий! В твоих руках пылали Помпеи и Хиросимы, твои руки, белым сиянием муки рассветающие и глоток воды в смертный час подающие. Ты была ежедневным хлебом мира! Так и вышло, как по писаному, сама знаешь. Зачем же тогда позволяешь, чтобы я вступил в твою тень нагою ногой? Я лишь нож, с твоей молнией скрещенный. Замедли молнию! Руки мои по локти ободраны о твою кожу, словно зверя, тебя добываю, открываю зубами по памяти, обжигаешь мой язык, как злой спирт. Овечка безумная! С копытцами к небу будешь заклана! Спасайся! Беги! Порою кажется мне, что и Земля – голова, отсеченная от гигантского туловища – Вселенной. Тогда мечи, рассекающие шеи, насилия, кровь, все убийства умышленные – лишь ритуальные повторения этого первого жеста? И подлость, и предательство, и войны, и чума, и наши объятия, опечатанные Луной, клятвы, нашептанные в рукав ночи в кошачьем серебре звёзд, да, эта любовь, эта ложь – это всё уже было? Это просто инерция, нас вынуждающая возвращаться к себе, начинать сначала снова и снова, как в прошлый раз? О, в прошлый раз! Вспоминаю тебя в огне, который тебя, розовеющую, вжёг в мою 106 О, в прошлый раз! Сколько тысячелетий кровоточит твоя рана? Со скольких мостовых кровь ты тайком стирала? А если бы пожелала, утаила б и трещинку в своде небесном, если бы пожелала, удержала бы волосок меж бёдер и оленя бы с волком поставила рядом. Ты вода. Я жажда. Близится ночь, небо чёрной шерстью зарастает, но рассвет уже намечается белым крупом коня. Тихо так, что слышно, как под кожей твоей булавочка падает. III У остановки троллейбуса номер восемнадцать выносили с кладбища кости. Было тринадцатое июля, судный день, и солнце было такое оранжевое и так свирепо било по голове, что из могил вставали невероятные танцовщицы, медные медички в жёлтых столбах огня и студентки консерватории с такой музыкой в икрах, что и дерево позабыло свой абсолютный слух. Звучали в глазах мужчин, рассеивали семена, босыми пальцами от щиколоток отколупывали глину, жевали хлеб и улыбались, как спросонок. У остановки троллейбуса номер восемнадцать старая женщина кости искала. У остановки троллейбуса номер восемнадцать старая женщина, в чёрную юбку уткнувшись, рыдала. Б ы л о солнце, б ы л о оранжевое. Было слишком много солнца для такого дня. Не увидела ни ямочки на темечке, ни мизинчика, словно не был похоронен. Даже собственной руки перед глазами не увидела! И солнце было такое оранжевое, и так свирепо било по голове! Безработный могильщик лежал в траве, дешёвый ром попивал и напевал: «И кто его видел, юдейского бога, в красном картузе, без единого рога?» Сколько есть такого, чего мы не видим и не увидим, и перед чем мы – как слепцы, мечущиеся на ипподромных дорожках? Так течёт время, так пройдут повести страстей, совпадений, случайностей, дружб. Лишь иногда подхватит нас счастье блескучим крылом, и, падая, видим в нём свой непохожий портрет, мерзкую морду, словно сфотографированную через зрачок чёрта. Так течёт время, дождь рассеянно отсчитывает ночи капельки от бессонницы, спешим домой, откладываем жизнь, как брюки, на коленях так пузырящиеся, словно тысячи лет уже ползали по ступеням каких-то тайных голгоф, спешим, свет гасим, при Луне глотаем бром и развлекаемся услужливым бормотанием газа. Что ж, с богом. Падаешь в голубые соцветия, лишь пальцы ещё желтовато светятся, столбики над поверхностью темно-синего аромата. Там слеза в глазу слезу встречает, там щёлкают зубами белые выключатели, там тьма расстёгивает твою кожу, там, там, где деревья были землёю, где они язычками змей ядовитых дуют в пустые кости, там, то ли нигде, то ли в вечности, ты один, наконец. Замурованные в стенах преклонили колени, и оркестр возвращается с похорон. Конь в снегу. Люди, как сажа, чёрные. Ночь тёмной мордой на бронзу падает. В воздухе – удручённость. Где та женщина, которую обокрали? Та женщина в чёрной юбке, которая ходит, как чистая роса дорожками воды, за каждым гробом, в каждой процессии, до того прозрачная, что похожа скорее на невод, на росинку ходячую, на ничто. И, неся в себе свистящую плеть, шажками короче травинки, пешком целую вечность обходит, слепой этот круг, крутящийся на пальце, как ключик, запирает мир, отворяет небо, в одиночестве жизни своего бога мучит: – Боже, ты не воскрес. Боже, тебя уж нет! Боже, тебя и не было?!! Снова звук трубы за окном фонари сшибает. 107 Сумасшедший какой-то джаз. Святые на ступеньках валяются пьяные. Тишина. Не спишь, мама? Тьма. Ветер гуляет по ладони. Сегодня ночью, нагой, окровавленный, поднялся я из огня и вознёсся – бог меж звёзд был, как мультипликация. Я знаю: уверенность. На гвоздик чёрную шляпу вешаю. (Не то, чем не быть тебе, но то, что ты есть.) Не снимай. Прикрой рукой. Под шляпой – тьма. Любовь берёт нас из живой воды. Так будь со мной и больше, чем себя, люби меня. Да, надо жить. Стоять на ногах, походить на чуму, не считать отливы. Я знаю: страх. Нетерпеливые считают до тысячи. Уже чувствуешь в себе чужие силуэты. Убегай – В КРУГУ Вездесущее око детоубийцы слезится над розовым бантиком. Уж заметно, как она побледнела, словно вдали, за стеклом, словно в будущем – но на первый взгляд красота всё та же, нетленная. Это надежду даёт. Может, месяц позволит укрыться в его рукаве, спрячет, скроет её у себя под пальто, да как гаркнет: «Вы, рогатые и безрогие вещи, прочь! Мотыльки и червяки, из дому прочь!!». В волосах его ржёт конёк среброгривый. О, кудесник! О, добрый старик! У него в ухе скрипка, он колдует: «При самой маленькой свечке и даже во тьме быстро растут мои пальцы...» 108 Потом, уж совсем в полусне, в кругу оказалась... Так страшно. Двенадцать чёрных кошек вокруг неё пляшут и поют тонюсенькими голосками: «Птичка в клетке, где же детки? Мы имеем, не дадим, мы имеем, не дадим, мы мявмяу, не мявмяв, мяу-мяу, мяу-мяв, мяу-мяу, мяу-мяу, мя-ау!!!» ПАНПУЛОНЫ Довелось мне как-то одному остаться. Стал я кофе пить, чтобы ждать и не тужить, чтобы не бояться. Веселее сразу стало. Только слышу – трель звонка! Этого мне только не хватало! Это ж Панпулон наверняка!! Панпулон из Панпулонии – сердце так и захолонуло! – носит белую рубаху с чёрным панпуловером. Чёрный панпуловер, чёрные ручищи, в чёрных панталонах чёрные ножищи, чёрные галоши (грязи – по полпуда), чёрные глазищи пялятся панпухло! Раньше тоже приходили, прятались в подвале и звонили, и звонили, и панпуловали. Каждый панпулянин руку к кнопке тянет, звонит всё сильнее, до панпосиненья! Делай что угодно, изогнись дугою, спрячься под свой панпулон – всюду звон, звон, звон!!. Ночь трезвоном панполна, этой ночью не до сна. ...Но чего боюсь я? Что это за дрожь? Я – один, а это всё – просто панпуложь! Хватит! Дальше не читай! Восстановим основные понятия, переберём всё сначала. Первый урок: Каин Авеля убил, знаю, не подсказывай, велики глаза у страха, вижу, боюсь – всё простые предложения. А счастье человечье? А кровь? А правда? Слова, слова, слова! ПОВТОРЕНИЕ ОГНЯ И были взгляды, и были слова, и ласки горючие, и оскорбления, и жестокие шуточки, записанные на манжете столетия. Ничего, ничего. Ветер знай себе веет, перелистывает словарь осиновый. Что есть, то есть. До чего ж точно: «Жить – (прекрасно), любить – (прочно)...». Ты светлым светла, когда улыбаешься. «Я счастлива», – лжёшь, и потом тихо плачешь в подушку, а утром напрасно улыбку новую пробуешь и трёшь мизинчиком лоб. Поведай мне, что тебя мучит! «Ничего, ничего... Ах, мы, должно быть, безумцы, безумцы беспечные, слишком надолго над нашим балконом завис дирижабль каникул, и всё у нас вылетело из головы, и выскакиваем из класса, едва звонок из-за туч...». Но я тебя прошу о связной речи, чтобы до конца всё разъяснилось. Ожидает нас то самое повторение огня от первой спички до тотальной магниевой вспышки, в результате которой получится грустный портрет одинокой звезды конца света. Потому-то прошу тебя: говори, но потише, хоть на пол-тона, поскромнее причёсывайся и обувь носи на пол-номера меньше, ждёт нас удушье и столпотворенье. Слишком мало, говорят, на планете места и слишком много ног! Стада топочут. Свихнувшиеся счётчики супружеских сношений и санитары сексуальных детсадов знай себе записывают в столбик и множат! Земля, отяжелевшая до ужаса, напоказ крутит брюхо разбухшее, срам срамной! Племена переминаются под юбками истории, всем хочется занять своё место в ряду, мир заплывает околоплодными водами, поберегись, смертный потомок, после нас – хоть потоп! Потому и прошу тебя: строй себе счастливое будущее и вычти мою руку из твоего декольте, вычти все ласки полузабытые, 109 сестёр своих, братьев своих, вычти детей своих, существующих, вероятных, возможных, вычти из окна герань, из лица веснушку, из неба луну, вычти жизнь свою, свои сны и надежды, человеческий разум, вообще человека, продолжай вычитание, антихрабрость, повторение огня, под которым и могилы вскроются, оживут скорченные, восстанут и власть возьмут. Тут, под музыку электронную, надёжно законсервированная, безупречная, чистая, сойдёт к нам и д е я. АНГЕЛ СЛОВА. КАТРЕНЫ перевод с украинского ВЛАДМИРА ИЛЬИНА 3 как там живется тебе о моя незнакомка на белом берегу разлуки? 6 поэт вечный паломник духа в саду Творца 7 нам бы спастись от грехов земных слезою покаянной в храме веры 8 усталость тысячелетий на душу легла как жить на земле без кванта надежды? 12 обжигающее солнце слов твоих вдруг спряталось за небосвод души 15 поэт рéчьник сердца на майдане судьбы Только что с неё толку? Искру не высечь, съесть не удастся, стронциевый дождь – и тот на неё не влияет. Тут вся стая тоскливо завоет и потянется к горизонту, за которым, по слухам, запрятано зёрнышко рисовое, а в нём – таинство жизни. 110 16 поэзия ангел слова что крылом коснулся стопы Творца 17 он лишь пришел еще и слова не сказал а струсúл уже росу надежды 18 зацветешь ли ты вишня-мечта моя в райском саду праотцов? 23 и что я был что нет меня костер дотлевает уже зима 48 пройду хулу неприязнь унижение дороги очищения меня души 26 отрекся я от мира и сует и стал послушником во храме слова 49 чтоб в жизни осознать хотя б немного больше чем человек простой терплю злословие насмешки 28 душа моя тобою обескровлена спасение находит в исповеди слове 50 не подобреешь ты однако мир и тысячу твоих грехов не вымолят за тысячу прощений и ни поэты и не дети 30 между отрав и бед спасением одним стал белый стих к нему стремлюсь я сердцем 51 а небо Лемковщины чистое святое на гору Магуру иду все ближе расстоянье к Богу 31 отболели слова перелились в строки отшумела печаль поэзии явился свет 53 сколь тяжела печальна чаша откровения сгораю сам на сам в долине горечи 34 где разминулся с любовью там и с собой разминулся 54 а сколько ж в мире душ насобиралось растерзанных прощаньем с отчим берегом земли? 37 орешек слова моего наугад разбиваешь тебе так легче мне печаль 55 печальны и черны дороги все что нас ведут за жизни небосвод 39 моя княгиня ясная зеленоглазая я так любил тебя на острове ожидания 56 на каждом шагу зло ожидает тебя коль ты идешь с добром любовью в жизнь 40 твои открытые ворота белые пленом открылись мне 57 на этом свете всё на своих местах добро и зло один всего вопрос где ты? 45 мой ангел слова вновь возник в душе и просветление подстерегает 58 Творец мой проводник на всех дорогах жизни а веры нитку золотую держу я крепко сердцем 111 59 мы начинаемся с греха одно нам Боже дай земной свой путь закончить прощеньем причастием 83 на Ивана Купала мы нашу любовь в росах купали рассветных пречистых 60 смерть наша есть венец грехов земных 62 равновесие жизни держится на волоске равновесие ливня замерло в капле дождя 84 в тебе как в зеркале душой я отражусь а ты во мне отразишься собою? 63 вопросы тучами над головой нависли ждут чтоб пролиться выплеском спелым грозы 85 убегаю спасаясь в ночь и в сон там покой забытье и марево иллюзий 87 и день как листок ветер его оторвет или хранитель времени перевернет вот и вся жизнь 67 какой же зверь умрет во мне сегодня без причины осенú, о Боже, осознаньем 88 слова мои все что отболели в сердце вдруг побелели и в миры уплыли 68 когда бы сесть мне за престол орлиный забыться убаюкать твои все страхи 89 людей близких сердцу как лет прожитых пересчитать всех можно отчего ж одиноко душе? 69 третее тысячелетие незаметно подкралось к дому мыслей моих думаю теперь о вечном 90 от разочарований жизни словоисповедью спасаюсь всхлипывает муза слёзно и лишь поэзия нас возвышает 75 отречься от себя чтоб обрести тебя такую цену любви ты предлагаешь? 91 ты вовремя пришел на землю и вовремя в землю сойдёшь не навреди лишь никому и тем спасешься 78 над моей головой седой-русой навис мечом твой черный призрак 93 когда обрывается путь ничего человеку не надо и нет спасення уже на суд идет душа 82 всем суждены и встречи и разлуки и только избранным любовь святая 96 такая работа в душе и сам с собой и над собой хоть бы несколько слов огранить мне в бриллианты?! 112 98 такое суждено мне с самим собой борюсь в самом лишь себе с Ангелом Слова в душе 100 тогда лишь вызреешь годами когда грехов все сто твоих обретут сто прощений однажды ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ НА ХОЛМЕ Счастье – целый мир обнять, Ничком – в траву! Ста цветов коснусь опять, Но не сорву. На обрыв ложится вечер, На облака. Тихо травы гладит ветер – Легка рука. Лишь внизу окошек стаю Зажгут дома, Может, я своё узнаю, И – вниз с холма! ОТЕЛЬ ЗЕМЛЯ НА ГРАНИ перевод с английского ВАЛЕНТИНА ЕМЕЛИНА 1763 Слава – пчела. И жужжаща – И жаляща – Ах, есть крыла́ ещё. 425 Здравствуй – Ночь – неспроста Домой меня вёл Рассвет День – от меня устал – Я от него – нет. Сладко сияние Дня – Я не люблю – тень – Утро не любит – меня – Ну – доброй ночи – День! Могу ведь ещё взглянуть – Да? – На алый Восток? Холмы пролагают путь– Для Сердца – наискосок– Не так ты прекрасна – Ночь – Я выбирала – День – Прошу – им выгнанной прочь – Девочке – дай сень! В отеле «Земля» дверь открылась, маня, Я вошла. Спросила вина. Но Хозяин лицо отвернул от меня Будто жажда – моя вина. Кров устала искать — головы не поднять... Неужто и хлеба нет? Но Хозяин лицо от вернул от меня, Не сказав ни слова в ответ. Ночью сырой душ измученный рой В холл отеля проник: «Здесь шумно, светло – как нам повезло!», – Восклицали они. «Хоть бы, гостя ценя, вы пода́ли огня, Приготовили мне постель...» – Но Хозяин лицо отвернул от меня. Что за странный такой отель? «Не останусь в гостинице этой ни дня, Не в чести тут пища и кров!» Но Хозяин лицо отвернул от меня И задвинул на две́ри засов. ПОЦЕЛУЙ Хотела быть любимой, Он в губы целовал, Но – птица, раненая влёт – Увижу юг едва ль. Хоть знаю – всё же любит, Сегодня я грустна; Не так был сладок поцелуй, Как обольщенья сна. 113 Струится свитками тоги Босые ПАРАЛИТИК Стряслось. Что дальше, вопрос? – Каменный мозг. Безъязык, беспал и безнос. Добрый стальной насос, Как Христос В те два Пыльных мешка Вдохнёт Дух, помогая мне. А день мимо скользит, как серпантин Ночь фиалок, огней В ней – ковры страз Глаз. Неизвестный, тихо: Ну, как ты сейчас? Груди́ целлулоид не чувствую, нет. Мёртвым яйцом Целиком Распластан в мире без цели, Целом, на белом Барабане моей постели Фотографии осаждают – Жена, мертва, плоска́, в мехах за 20-й год, Жемчуга полон рот. Шёпот: «Мы – дочки твои», двух девочек плоских. Во́ды полоску Объяли губ, Нос, уши, глаза, Нельзя Тот целлофан разорвать. Спокоен, словно трава, Улыбаюсь буддой, Страсть, желанья Спадают, как кольца Свой сжавшие свет. Клешня Магнолии так пьяна́ Собой, что не нужен Ей жизни ответ. НА ГРАНИ Женщина завершена: Тело В смерти одето улыбкой итога, Призрак выбора греков 114 Ступни возвещают: Всё. Мы пришли. Путь окончен. Каждый мёртвый ребёнок белой Змейкою свёрнут У иссякших молочных крынок Вобрала́ их в себя, Закрыв лепестки, словно роза, В остывающем парке, Где так запахи кровоточат Из глубокой гортани ночного цветка. Луне беспокоится нечего. Из капюшона черепом Щерится, всё повидала. Ширятся чёрные трещины. ГОРОД ЧАНЪАНЬ Терраса играющих фениксов. Фениксов больше нет, река течёт одиноко. Травами и цветами Сплошь заросла сумрачная тропа, ведущая к дому династии Го. Пёстрые шали, яркие шапочки Ши Теперь в основании древних холмов. Три Пика пробили слой далёких небес, Островок Белой Цапли Рассекает поток на два рукава. Вот солнце закрыли высокие облака, И я не вижу вдали Чанъань. И грустно мне. ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА Посвящается Кеннету Коху Если б я затевал грандиозную Стирку, я бы выстирал грязный Иран Бросил бы в барабан мои Штаты, добавил Мыло Слоновой Кости, Отдраил бы Африку, птиц и слонов на батике джунглей восстановил, Промыл Амазонку, и в Мексиканском заливе свёл нефтяные пятна, Стёр бы смога потёки на полюсах, смёл все трубопрово́ды с Аляски, Отстирал Роки Флэтс, Лос Аламос – как Ухти-Тухти, отполоскал Цезия блёстки из Лав Канал Смыл бы следы от кислотных дождей с Парфенона и Сфинкса, спустил Сточную воду из Средиземного моря, вернул ему цвет лазури, Подсинил горизонты над Рейном, отбелил облака, чтобы снег Снова стал снежно-белым, Очистил Гудзон, Темзу, Некар, с озера Эри сдул мыльную пену Затем бросил Азию в мегазагрузку, чтоб вытравить кровь с Эйджент Оранж, Поставил Китай и Россию на отжим, выжал крысиную серость доносов из полицейских соединённых банановых штатов Америк, и кинул планету в сушилку, выставил таймер на 20 минут или эру, пока снова не стала бы чистой. ОКОНЧАНИЯ перевод с английского АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВА ОКОНЧАНИЯ Ничто не взрывается, просто отказывает и увядает, так солнечный свет тускнеет на коже, пена морская вмиг исчезает в песке, даже любви полыхающей молния не обращается в гром, а отмирает со звуком цветка, усыхающего как обычная плоть МЕЛАНХОЛИЯ все мы – часть истории меланхолии. что до меня – то я корчусь на грязных про́стынях вперившись в никуда сквозь голубые стены. я сжился с меланхолией так, что рад ей, как последний дурак вот 15 минут пострадаю о потерянной рыжей, говорю: О боже, делаю это со страдающей рожей, ничто не поможет, потом я встаю, ОМЫТЫЙ, как новый, хоть мне так же хреново. это кара за то, что послал религию в зад. а надо было послать ту рыжую в зад, туда, где мозги у неё, где масло и хлеб её где... но нет – переживаю об этом теперь: эта рыжая – просто одно звено в длинной цепи потерь... вот по радио слушаю барабанный гром, и ухмыляюсь зло: что-то и вправду со мной не то, меланхолии кроме. от потом засаленной пемзы, этим заполнится все, пока мы не забыты, словно Бетховен, уйдя c головой в тишину. НЕСОСТОЯВШЕМУСЯ ПОЭТУ Речь вот о чем, Я знаю, Вам бы хотелось оказаться в чаще леса И жить судьбой поэта, А не торчать тут за столом – дешевый пластик – На совещании по поводу заметных всем различий В окладах и прибавках персонала института. Мне тоже жаль, что вы не в тех лесах, Ведь мало радости, поверьте, в том, что здесь, в отделе кадров Сидит несостоявшийся поэт. В стихах, что я у вас прочел, вы кажетесь порой таким толковым, И славным, и по-своему упорным, Что нам не очевидно здесь, в конторе. Поэтому, прекрасно сознавая – поэты и из горя могут сделать пир, Цветы выращивать на клумбах пьянства, размолвки, безнадеги – Даю вам этот чек, там жалование за две недели, Прошу сегодня же очистить стол И отправляться восвояси. И написать стишок, В котором будет подлинное яство И сливы, только что из морозилки, Холодные и сладкие на вкус. 115 ВЕЩИ ЭПИТАФИЯ ТИРАНУ Что есть то есть – все больше одиноки, живя среди вещей, нашли часам не лица циферблаты, и спинку – стулу. Столу четыре крепких ножки дали, которым и усталость нипочем. Нечто вроде совершенства его манило. Он придумал поэзию, которую легко понять. И познав людскую глупость как собственные пять, Был пристрастен только к маневрам на суше и море. Благородный сенат он до колик, смеясь, доводил, но – Дети гибли на улицах, если он плакал от горя. Мы гладкими как наши язычками свои ботинки наделили и, подвесив языки в колокола, их речь взволнованную станем слушать. Предпочитая грациозный профиль, кувшин изящным носиком снабдили, да горлышко бутылки – тонкой шеей. И то, что было вне и выше сил, в нас переплавлено воображением – так появились: сердце – у страны, у бури – взгляд сквозь тучи, и пещер разинутые ртами подземелья. Все лишь затем, чтоб обрести покой внутри самих себя. БРАТ БЛУДНОГО СЫНА ты был тверд и надежен как мелочь всю жизнь, и прощал другого, кого она отметала подобно поддельному чеку, всегда, когда отец говорил тебе – надо. В конце концов, это и есть добродетель. Ведь и вправду, именно ты собирал гостей, выбирал закуски, всем откупоривал шампанское. И в каждом тосте вспоминал о брате : бывшем жулике, насильнике, наемном убийце. К концу вечеринки, когда всё предместье, упившись, несло чепуху, обнимая друг друга в угаре, прощая друг другу, только ты, кто всегда желал лишь одного – быть вот так же безмерно любимым – проходился по их домам, сгребал в ранец их кольца и броши, браслеты и канделябры. А наутро всё это сплавлял с лёгким сердцем в портовый город, который тем и славился: напомаженные дамочки в каждом окне, за каждой третьей дверью – бар. 116 А ЗЭК ТАНЦУЕТ В САПОГАХ ОТЦОВСКИХ… перевод с украинского ВАСИЛИЯ БЕТАКИ *** Памяти Миколы Зерова Колеса туго тарахтят, Как волны, бьют в паром. Встречай товарища, Харон, И с горем и с добром! Колеса бьют, колеса бьют, И бесконечен путь. И всё. Домой не повернуть, И дом свой не вернуть! Москва, Медвежегорск и Кемь, И остров в волны врос, Колючей проволокой оброс И весь распух от слез! И снова – Вятка, Котлас, УстьВим... Не перечисляй! Сов-конц-соц-лагерный Союз, Забытый Богом край! Он даже дьяволом забыт! Тут правит бог иной: Марксист, Расист и Людоед Един их лик тройной! Москва-Сибирь, Москва-Сибирь... Руками лагерей Сооружают новый мир Из крови и костей! *** ...А зэк танцует в сапогах отцовских Под небом сивым, под дождем слепым. Грохочет, словно колотушкой в доски, Вытряхивая из души, как пыль, Скорбь одиночества и злую тьму... А дождь - за шиворот (на коем номер!). Эх, добежал бы с Киева в Житомир За этот час, что выдали ему! Гуляй! А что там дальше, через час? Плевать, что снова ни вздохнуть ни охнуть, Пусть не вздохнуть: тут главное – не сдохнуть! Чтоб снова фигу показать в свой час! *** Гляну вдоль стерни осенней – Куда ты бежишь, дорога? Горизонты всё пустынней, В мире мокро и убого... За прудом – лес холодеет, Витражи берез, пылая, Всё зовут: «Беги скорее В мир безвестный, в мир без края...» Осень – зимой обернется... Стынет над землей Сварога Обезумевшее солнце. Мокро в мире и убого. ИЩА ЗОЛОТУЮ ЖИЛУ перевод с английского ЕВГЕНИЯ ВИТКОВСКОГО рисунок СЕРГЕЯ СЛЕПУХИНА ДЕРЖИСЬ! Коль забрел в глухомань, коль дела твои – дрянь И становится всё не впрок – Сил не трать на брань, револьвер достань И подохни, нажав на курок. Это – право мужчин, и закон, и чин, Только сбей с себя эту спесь: Будь к себе милосерд, а к чертям на десерт Прежде времени все же не лезь. Встань, хотя бы с трудом: не терзайся стыдом Иль проигранной в прошлом борьбой. Вся задача твоя – обойтись без нытья, И победа, считай, за тобой! Если бьют – бей в ответ, пользы, может, и нет Ни в в войне, ни в бесплодной вражде, Только сдаться всегда можешь ты без труда, Посему – не сдавайся нигде! Проще стать мертвецом – вот и дело с концом, Вот и все, что ты сделать успел, Но сражаться, когда от надежд ни следа, Только это завидный удел! Надо просто в бою оставаться в строю, Ты изранен, а все же в седле, И запомни-ка впредь, что легко умереть, Трудно разве что жить на земле. ЗОВ ЮКОНА Ища золотую жилу, Я спину свернул в дугу. Молодость отдал и силу, Взамен получил цингу. Завидуй мне, соплеменник: Я кучу монет огрёб, Но не все состоит из денег, Не возьмешь их с собою в гроб. Кто здесь не был – не пикни даже, А кто был – посиди молчком, Вспоминая горные кряжи, И ручьи с золотым песком; Этот мир слепив беззаконно, Господь ушел на покой. Но иным – не жить без Юкона, И вот я-то как раз такой. Ты приходишь стать побогаче, Но тут не ждут чужака; Год пройдет в сплошной неудаче, Только это цветочки пока. Сущий грех: ни врагу, ни другу Не опишешь ты жар в крови; Беды гонят тебя по кругу, И поди этот круг прерви. Под разверстым пещерным сводом В мире, тишью наполненном всклянь, Золотым, карминным восходом Постепенно вскипала рань, В ночь – луна жемчужного цвета, Звезд нахальная чехарда – Мне, наверное, снилось это, Только вновь я хочу туда. Там летние грозы часты, Там солнцем трепещет лог; В речке – хариус плавникастый, В скалах – баран-толсторог. Охотишься, ловишь рыбу, Полно свободы житье, Призывно кричат карибу: Там, Господи, сердце мое! Там зимы лишают зренья, Земля закована в льды, Там требует ужас смиренья, Там полшага до беды. 117 Снег, что старше людского рода, И тень легла на тайгу, Там слиты страх и свобода: Все забыл бы, да не могу. В нём не чаяли мы злости – скромен, тих, уныл и худ; Жрал объедки, корки, кости – лопал всё, что ни дадут; Как отъелся – с ним не сладишь; видно, злоба велика; Наконец ума хватило – укусил он мясника. Безымянны горные кряжи И неведомы устья рек; Там не грех убийства и кражи, И про смерть забыл человек; Там никто никогда не плачет, Лишь безмолвие – в том краю, Там земля, что манит, а значит, Я вернусь на землю сию. А мясник – хитрец от Бога: мол, судиться не люблю! Приволок телячью ногу и подкинул кобелю. Не учуял пёс подвоха – и, себе же на беду, Не поняв, что будет плохо, закопал мосол в саду. Златокопу жизнью роскошной Жить положено испокон. Мне от вкуса шампанского тошно, Скорей бы вновь на Юкон. Я сравнивал оба ада, И я обоим судья, И если уж выбрать надо – Юкон выбираю я. Там золото есть в избытке, Однако в моей судьбе Важней, чем любые слитки, Их поиск сам по себе. Просторы природы дикой Всегда и всюду со мной, Страна красоты великой, Земля тишины сплошной. И – конец. Моя супруга, что была к нему добра, Помянула все проклятья от Адамова ребра; У неё цветы на клумбе – ну, и где теперь они? Пёс отрыл такую яму – хоть кобылу хорони. Мы с женою совещались очень долго – не совру, Горевали, возмущались – явно пёс не ко двору; Косточку в дорогу дали, до калитки довели, И, открыв её, сказали: «Провинился – так вали!» ЭПИТАФИЯ КЭССИДИ Здесь австралийца славный прах, Надежды человечества; Как он с оружием в руках Смирял врагов отечества! В трудах он был весьма хорош, Умом – малец лет десяти; Австриец, турок или бош – То все одно для Кэссиди. За галстук заложить он мог Стаканчик не единственный; Какой по счету свалит с ног – Вопрос весьма таинственный. Легко опасливых допечь: Не повредят ли смеси те? Стоймя стоять иль в лежку лечь – То все одно для Кэссиди. ВДОЛЬ РЕЧУШКИ МУКИ-РИВЕР… перевод с английского АНДРЕЯ КРОТКОВА ПЁСЬЯ ПРОМАШКА Я забыл, как появился в нашем доме этот пёс – То ли с улицы прибился, то ли чёрт его принёс; Еле-еле душа в теле, и в клочки свалялась шерсть, Что-то в нём от спаниеля, от медведя что-то есть. 118 Ребята затевают бал – Народ, пляши и радуйся! А Кэссиди уже добрал Чувствительного градуса. И с пьяных глаз пустился в пляс, Пошел скакать-чудесить, и Мазурка, танго или джаз – То все одно для Кэссиди. Теперь узрел он Вечный Свет – И как он там управится? Ни выпивки, ни драки нет – Едва ль ему понравится. Поверку сделают в раю Войти достойным в веси те – Кричи фамилию свою, Правофланговый Кэссиди! СРЕДСТВО ОТ ЗМЕИНЫХ УКУСОВ Вдоль речушки Муки-Ривер без сапог гулять не смей – Там полным-полно кусачих, ядовитых, злобных змей; Гады всюду заползают; даже повар полевой Хлеб в корзинах проверяет – отвечает головой; А у фермера-хитрюги лист железа вшит в штаны – Муравьи и скорпионы жалят злее Сатаны; Билли Джонсон часто видел – пожирает гада гад, И мечтал найти лекарство – эликсир-противояд. Джонсон был обычный фермер, недалёкий по уму, От обилья вредных тварей страшно делалось ему; Все поля свои обшарил – рыскал сутки напролёт, Уповая, что лекарство он чудесное найдёт. Рассказал ему туземец с поседелой головой: «Глянь, гадюка парня тяпнет – парень будет неживой, А когда варана тяпнет – то варан спешит пожрать С фела-дерева листочки – и не будет умирать». «То лекарство!» – взвился Джонсон. – «Ну-ка, мигом покажи!» Но ленивый черномазый предпочёл жевать гужи. Затвердив рассказ туземца, Джонсон стал как будто пьян – День и ночь стреляет глазом, не ползёт ли где варан. Как-то раз, бродя вдоль речки, в думы погружён свои, Он увидел потасовку ящерицы и змеи; Бились два ползучих гада до победы, на распыл – Победил отважный ящер, супостата проглотил. Затаил дыханье Билли, а варан, закончив бой, Пощипал с куста листочки – он доволен был собой – Облизнулся по-кошачьи и уполз, хвостом бия, А в его раздутом брюхе билась бедная змея. Завопил в восторге Билли: «Вам, ползучие, назло Я нашёл противоядье! Наконец-то повезло! Вот Спасенье-От-Укусов! Все его благословят! Многим тысячам индусов не грозит змеиный яд. Китаёзов, черномазых и другое арапьё На ноги поставит сразу чудо-снадобье моё. Стану я богат и славен! И не будет в жизни дня, Чтобы толпы любопытных не глазели на меня. Все известнейшие люди, все учёные мужи – Все придут на Муки-Ривер, только слово им скажи. Кто допился до горячки, видит змей и пауков – Исцелит моё лекарство этих бедных мужиков; Коль тебя копытят черти, пухнет спрохмела башка – Глотани от верной смерти Джонсонова порошка». Побежал в музей природы, чтоб проверить мысль свою: «Покажите мне, профессор, смертоносную змею; Пусть она меня укусит – на себя ответ беру, Я открыл противоядье – буду жив и не умру. Пусть и нету яда злее – риск загнуться очень мал, Не страшны нам больше змеи – я лекарство отыскал». Но сказал ему профессор: «Ты, похоже, сдохнуть рад. Испытаем на собаках твой чудесный препарат. Приведи свою овчарку, а лекарство мы дадим Только ей одной; что будет – подождём и поглядим. Коль не сдохнет от укуса – значит, есть в лекарстве прок. Что, отдашь свою собаку?» Джонсон мигом приволок, И шепнул он псу на ухо: «Стампи, это звёздный час, Мы докажем, что лекарство настоящее у нас». Псов подставили змеюке – был укус хорош вполне; Джонсон дал лекарство Стампи, ждать уселся в стороне. «Полчаса назад, профессор, вы сказали: поглядим. Сдохнет тот, что без лекарства; Стампи будет невредим». Но увы! Уильям Джонсон подождал – и сразу сник: Выжил пёс, что без лекарства – Стампи вывалил язык. А профессор подхватился – и бегом; придя назад, Заявил: «Твоё лекарство – небывало сильный яд; С полщепотки дохнет страус, с полкрупицы сдох козёл, Нет на свете яда злее – где ты, друг, его нашёл?» Вдоль речушки Муки-Ривер без сапог гулять не смей – Там полным-полно кусачих, ядовитых, злобных змей; Там с винтовкой бродит Билли –то ли трезв, а то ли пьян, Убивает всех варанов – за коварство и обман. А туземец седовласый, что любым обноскам рад, Не сказал с тех пор ни слова про чудной противояд. ПЕСНЬ О ПШЕНИЦЕ Воспели мы в песнях старую быль О тех временах, когда На выпас брели, подымая пыль, Отощавших овец стада. Но в наши дни, коль хочешь с земли Добыть достаток-доход – На плуг налегай, а певцу вели: Пшеницу да воспоёт! К юго-западу от Большого Хребта, Где простёрся равнинный край – Годами ни капли дождя – сухота, Овцеводу – хоть помирай. Падал духом, готов был сдаться не раз, Покорялся – мол, не судьба; Наконец он услышал Господень глас, Повелевший растить хлеба. И кустарник сухой он предал огню, Что до дерева – рухнет само, И подпругу потуже стянул коню, И поставил быка в ярмо; И пыль, что взбита сотней копыт, Столбом стоит до небес; Открыты врата – караван спешит В Долину Хлебных Чудес. Легла борозда в оборот пласта, Девственна и груба Земля – но как ровна и чиста Пахота под хлеба; Что там овцы, и что быки – Им выжить не суждено; Жаре и засухе вопреки В землю легло зерно. Пал от бескормицы тощий скот; Но, силу жизни храня, 119 Посев умерший упорно ждёт – Вплоть до светлого дня, Покуда не грянет весенний гром, И сквозь земляной покров Под ласковым, мягким, тёплым дождём Пробьётся зелень хлебов. Янтарного солнца нива полна, Согрета морем тепла, Под ветром волнами ходит она – И кличут перепела. В зерне воплотясь, Господня любовь Звездою горит вдали; Златое море спелых хлебов Уходит за край земли. Июльское солнце умерило зной, И тени легли на дол; Гремящих жаток железный строй На море хлебов пошёл. Скрипят колеса, и стонет ось – Обилен Господень дар. Тот не внакладе, кому удалось Засыпать полный амбар. Божественный тот напиток Мы воскресить не смогли; Когда я уйду в Пределы Вечного Жития – Там встречу аптекаря-ангела, Что знает секрет питья. ХОЧУ ЛЮБВИ ЖЕСТОКОЙ… переводы с испанского АННЫ ГОРДЕЙЧУК, рисунки ВАСИЛИЯ БОРОДИНА Земные Владыки, Князья, Цари – Величие вам дано; А Царь Хлебов от зари до зари Везёт к причалам зерно; Пройдут пароходы, вспахав моря, Сквозь сотни препон и скреп, И люди воспрянут, благодаря За Божий Насущный Хлеб. УТРАЧЕННЫЙ РЕЦЕПТ После долгой бессонной ночи Распухла башка моя, И я попросил у аптекаря Для поправки стакан питья. Смешал он разные зелья, И содовую, и лёд; Напиток лимоном пахнет, И пряным чуть отдаёт. Он лёг на горящую глотку, Как роса на выжженный дол, И вновь я к жизни воспрянул, Весенней травой взошёл; Я будто снова родился, Я сбросил душевный груз, Всего лишь глоток – появился У жизни особый вкус. С тех пор покутил немало, Но больше ни разу я Не смог добыть у аптекаря Живительного питья. Рецепта он не запомнил – Случайно, мол, в простоте. Он пробовал разные смеси, Да все они были не те. И сколько мы с ним ни искали – Насмарку труды пошли; 120 УСТАЛЫЙ ЗВЕРЬ Хочу любви жестокой, когтями и клыками Пусть нападет из-за угла средь бела дня Под натиском ее падет моя гордыня И спесь благополучного житья Хочу любви жестокой, когтями и клыками Пусть кожу мне сдерет и пустит кровь гнилую Тоску убьет отравную и злую Что в душу мне впивается шипами Хочу любви, что будет болью и бедою Пусть все разрушит, пусть все заново создаст Непостижимой силою своею Меня насытит и омоет грязь, всю эту грязь В которой я бреду усталым зверем по тропам опостылым. ЭРОСУ Вот так, за горло я тебя поймала На морском берегу, пока ты пускал свои стрелы В меня, стараясь ранить больнее. На песке валялся твой венок цветочный. Как кукле я нутро твое распотрошила И разобрала колесики фальшивые твои И глубоко в механизме твоем золоченом Запрятанный капкан нашла с надписью: секс На пляже я тебя уже как жалкое отрепье Предъявила солнцу, подлому сообщнику твоих геройств, Пред хором перепуганных сирен. Крестная мать твоего коварства, госпожа Луна, Вверх взбиралась по склону соленого неба, И тогда в пасть голодную волн я тебя швырнула. В ОЖИДАНИИ ТЕМНОТЫ Не уходит в небытие мгновение Пустое, не обращается тенью Пустое, отвергнутое временем Мгновение бедное, хранимое нежностью, Обескровлено, обескрылено Безглазое, не помнит былой тоски Безгубое, не помнит сока ярости Растворенной в песнях оледенелых колоколен. Храни его, дитя немое души Брось локоны заиндевевшие в огонь И статуэтку страха обними. Смотри, как бьется мир в конвульсиях у ног У ног твоих, где умирают ласточки От ужаса пред будущим дрожа Скажи слова, что шепот моря Увлажнит, единственные те слова Ради которых стоит жить. Но мгновение это в поту забвения В угол забилось в пещере судеб Без рук, чтоб никогда не говорить Без рук чтоб бабочек дарить Мертвым детям. КРАТКАЯ ЛЮБОВЬ С какою легкой ласкою нежнейшей Меня с постели поднимаешь, из полей Благоуханных снов глубоких И пальцами по коже проводя, меня рисуешь В пространстве, в невесомости, пока Нас поцелуй не возвращает, сплетенных, В медленный огонь, что в ритме танца Разгорается костром, спиралями и искрами Летит и опадает в вихре дыма – (зачем же после, все, что остается от меня, поверженного в прах – ни до свиданья, ничего, лишь жест, чтоб высвободить руку?) 121 ME ACUERDO DE LOS REPOLLOS ACRESPONADOS, BLANCOS-ROSAS... Для глаз твоих огромных. Орхидея жаждущей плоти Для глаз твоих жадных Как рой пчелиный. Я помню капусты белые кочаны – снежные розы земли, Огородные розы из мрамора, из тонкого фарфора; Кочаны с детками внутри. И мангольда высокие синие стебли. И томатов рубиновые почки. И луковицы в обертках шелковой бумаги, папиросной бумаги, Как бомбы сахара, и соли, и алкоголя. И гномы из спаржи, башенки крепости гномьего царства. Я помню картофель, посреди картофельных грядок Мы всегда сажали один тюльпан. И гадюки с большими, оранжевыми крыльями И светлячков, что курят постоянно, табачный дым. Я помню вечность. 1. НА ОЩУПЬ Приблизься медленно к границам тела; Пальцами, вслепую ты изучаешь Пространство темноты, скрывающей меня, Прокладывая сквозь завесу густую Теней и тишины – тропу ко мне. Спаси меня светом, что пальцы твои Источают, касаясь меня, расколдуй мою Неподвижность. Заключи в эту яркую, В эту живую осязаемость рук. Как мотыльки на пламя в ночи, Так на твой зов иду я, предпочитая сгореть, но не остаться в темноте. 2. НА ЗАПАХ Ваниль, лаванда, зеленый мох, корица. Порою легкий аромат воды, Как будто облаков или дождя; а иногда Резкий запах похожий на шкуру газели, На пот и кровь животного в брачный сезон. Но потом, в конце всегда ваниль, лаванда... 3. НА ВЗГЛЯД Для глаз твоих. Для глаз твоих открытых, диких. Для глаз твоих, которых не отводишь. Для глаз твоих, затуманенных жаром. 122 4. НА ВКУС Соль на губах. На языке--русалочьи следы и водоросли, остатки Кораблекрушений, вкус зеленых Вспененных океана глубин. В близости тел бушует зимнее море И ветер с запада полночный, штормовой. 5. НА СЛУХ Твой голос поднимается, дрожит, кружит Воздушным змеем, в волосах запутался моих, Но рвется ввысь, рычит, в безумстве Забывая все слова и звуки. В этом голосе ты кто-то другой. Не знаю этого мужчину, Что кричит от наслажденья. Прекрасный незнакомец Языками ангельскими говорит на грешном ложе. ПЕСНЯ НАДЕЖДЫ РАКОВИНА СЕРДЦА (перевод с испанского ИРИНЫ ПОЛЯКОВОЙСЕВОСТЬЯНОВОЙ) ТРОПИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР В этот вечер грустный, мглистый Море бархатом одето. Небеса спешат пролиться Скорбным светом. Из морских глубин извергнут Голос, жалобами полный. Услыхав напевы ветра, Плачут волны. Солнце меркнет. Скрипок пенье В белизне тумана зреет. И рождается из пены: — Miserere! В глубь гармонии небесной Песнь, звенящую тоской Легкий бриз несет из бездны Морской. Луч пророс над горизонтом — Горн в симфонии богатой. Голос гор ей вторит звонким Раскатом. Как невидим он и грозен, Этот рык в кромешной мгле! Ветер страх в себе приносит, Словно лев. РАКОВИНА Посвящается Антонио Мачадо Я раковину эту нашел в песке у моря. Вся чудной позолотой и жемчугом сверкала. Её Европа дивной рукой своей ласкала, Мчась на быке небесном, с волной крутой в раздоре. К губам её поднес я — полился звук, и вскоре Увидел я, как эхо зарею распускалось. А чуть приблизил к уху — о кладе в синих скалах Поведала мне сотни таинственных историй. Воронье в синем небе — грязно-черные стаи. И в дыханье столетья страх чумы нарастает. Далеко на Востоке смерть трудиться устала. Апокалипсис грянул? Народился Антихрист? К чудесам и знаменьям взоры все обратились. В возвращеньи Христовом — видят неотвратимость… Боль во чреве планеты столь глубокая зреет, Что мечтатель, парящий высоко в эмпиреях, Разделил с сердцем мира это горькое бремя. От убийц идеалов горе миру осталась. И затворником бездны человечество стало. Грубый молох вражды и войны вырастает. Боже мой, Иисусе! Отчего же ты медлил Протянуть свою руку этим хищникам бедным, Озарить свои флаги солнца отблеском бледным? Он является рано, жизни вечную сущность открывая безумным и безрадостным душам, сладость утра забывшим и во мраке заблудшим. Боже мой! Да придешь ты, да грядет твоя слава! Да придешь в звездной дрожи, в катаклизмах кровавых! Мир неси и любовь нам, милосердный и правый! Чтоб, мечтателя видя, бледный конь твой примчался, Божество в необычной песне трубной звучало. В сердце углем остался твой огонь величавый. ФАЗАН Золотой фазан встречал меня секретом: — Белый клад твой спрятан в кабинете этом, Смех ее чудесный весь искрится светом. На коврах — фигуры красотой блистали, И с вином столетним ждал бокал хрустальный, Стебли роз французских в вазах из Китая. Дар земли французской… В час перед свиданьем, Там, в уединеньи, в сладком ожиданьи, Свежий аромат свой розы ей отдали. Ужин ждал… Но стрелы грозные взмывали, Целились амуры, с глаз платки срывали, Масленичной ночью, ночью карнавальной! Так соль я собираю из горьких вздохов ветра, что аргонавтов бросил в далекий путь по свету, дарил Язону звезды в его прекрасном сне. Шелковая маска сброшена невинно, В радостной размолвке был пролог недлинный, Очищенье пил я в сладких этих винах. И я волнам внимаю, их тайному биенью, И ветру, что приносит волшебное волненье (Та раковина сердце напоминает мне). Что за виноградник — страстные те губы! Легким жгут укусом, поцелуем губят, Как они безумны и как белы зубы! 123 Жгучих губ коснувшись, я вина отведал, Из чудесных пальцев, что нежней рассвета, Брал я землянику и больших креветок… Я в костюм Пьеро был облачен той ночью. Радовался, слыша, как она хохочет. Отчего же горечь душу мою точит? Карнавальной ночи огненная россыпь. И прекрасна гостья в грустных моих грезах. Пламенные очи, губы, словно розы… Для нее в уютном этом кабинете Я — любовник новый, их полно на свете. Странник издалёка, тих и неприметен. Доносилось эхо песен карнавальных, С флердоранжем белым молча расставались Тысячи невинных на ночных бульварах… И когда вино мне песню напевало, За окном, я видел, тучка проплывала, Фебу скрыв волшебным черным покрывалом. …Как-то у любимой я спросил ответа: — Ночь полна печалей — видишь ли ты это? Есть ли она где-то, Королева света? Не Она ль смотрела на меня? Померкнув, Отвечал фазан мне: Был любим безмерно ты Луной умершей, лишь Луною верной. ЖИЗНЬ Я — тот, чья речь звучала не смелее Стихов лазурных, песни оскверненной — Но соловьем над темною аллеей Стал жаворонок, светом дня плененный. Как властелин, я проходил по саду, Где лебеди и розы только снятся. Там горлицы моим движеньям рады, Гондолы возле берега теснятся. Веков — их восемнадцать — ряд нетленный, Там — современность, и чужие страны. Там — мощь Гюго, двусмысленность Верлена, И жажда бесконечного обмана. Боль детства, что изведана когда-то. И юность… Это юность? — сердце спросит. Мне роз её чудесных ароматы Одну лишь грусть забытую приносят. Как жеребенок, упряжи не зная, Бутылке и клинку я был послушен. И юность не разбилась, озорная — Лишь потому, что Бог великодушен. 124 В саду моем — ожившая скульптура. Считалась мраморной — но как была прекрасна! Чувствительная юная натура Превратностям эпохи неподвластна. Робея перед силою земною, Закованная — много лет молчала, Но пробудилась нежною весною И музыкой чудесной зазвучала. …Закат, свиданье, поцелуй невинный, А сумерки — приносят расставанье. «Люблю тебя». — «И я». Как вздохи длинны! Наивность, торжество, очарованье… И вот — свирели чистое сопрано, И звук хрустальный вдаль летит проворно, Вплетая в песни греческого Пана Латыни прорастающие зерна. И сердцем, что ветрам насквозь открыто, Жар ощущая и тревогу мира, Моя скульптура обрела копыта, Украсили чело рога сатира. И Галатеи вычурные речи, И блеск Маркизы — сердце покорили, В душе смягчили страсти человечьи, Божественный огонь ей подарили. Жар и волненье, ясность ощущений, И сила, что не ведает обмана, Без книг, без фарса перевоплощений Ковали моё сердце неустанно. И — башня из слоновой кости. Страстно Желал тогда я замкнутости сонной! Просторы неба я искал напрасно Среди химер души моей бездонной. Как губку море насыщает солью, Что зрела в глубине, вдали от суши, — Мир, плоть и ад заполонили болью И горечью встревоженную душу. Но слава Богу — в глубине сознанья, В том лучшем уголке — добро сгустилось. И горечь жизни, боль существованья — Всё в пряный мед Искусства превратилось. И мыслить о простом стал ум свободный. Водой кастальской душу мне омыло. А сердце за звездою путеводной Нетронутые заросли открыло. Гармонии священнейшие кущи! Божественного сердца излученье! Источник, плодородие несущий, Достойное мне дал предназначенье! Священный лес! О, лабиринты мира! Пылает тело, а Душа — взлетела Пока внизу бесчинствуют сатиры, От неба опьянела Филомела. Напевы нежны, и жемчужны грёзы, И лавр растёт, цветущий и зелёный. Вот Гипсипила — пьет нектар из розы, А черешок — кусает фавн влюблённый. Бог похотливый мчится вслед за смертной, И Пан в грязи тростинку обретает. Там Вечной жизни семена несметны, И зеленью все сущее взрастает. ПРОЛИВНОЙ ДОЖДЬ перевод с корейского СТАНИСЛАВА ЛИ (Эпоха Древний Чосон) ПЕСНЯ ЦИТРЫ Душа туда приходит обнажённой. Желание томит и страсть святая, И, на терновник пав, заворожённо Поет — и содрогаясь, и мечтая. Жизнь, свет и правда — тройственное пламя. В нем бесконечность пламени сокрыта. Искусство! И рука Христа над нами — «Egosumluxetveritasetvita!»' Жизнь — тайна, от слепого скрыта света, И правды чудеса необъяснимы, Спит совершенство, тьмой густой одето, — Но ускользает вдаль неутомимо… Быть искренним — а значит, всемогущим. Лишь искренность звездой меж туч искрится. Душа стремится вдаль ручьем бегущим, Хрустальный голос меж камней струится. Очистить душу я хотел, не скрою Впервые — со звездой, с ручьем тем звучным… И с ужасом поэзии, с зарею — С авророй, что с безумьем неразлучна Лазурных сумерек — они лишь постоянно Божественный экстаз душе приносят. И флейта — дочь минора и тумана, А лиры звук — заря на землю бросит. Рис. Василия Бородина Просила, умоляла: «Не переходите реку!» Но разве Вас в упрямстве кто осилит! Пучина вод речных Вас поглотила. «Как быть теперь?» – скажи, любимый. Она звучит — и опустился камень. Она от цели стрелы убирает. Праща бессильна — камень в воду канул, Стрелою гнева ветерок играет… Покой и мощь добру необходимы. Всё — внутренним огнём сгорает немо. В борьбе со смертью — жизнь непобедима. И караван подходит к Вифлеему. Рис. Дмитрия Геллера 125 (середина VIII в.) (IX в.) *** Тоскливой летней ночью Прозрачен свет полной луны. О, сколько же гор ты, Луна, озаряешь, Весь мир обновляя собой! Такая ночь бередит больше душу, И даже страннику покой невыносим. Не говорите: «Путь не близок». Чужбину и края родные Безмолвно месяц породнил. *** Душу как облачко, Хотела держать в чистоте. Но очень тоскливо, поверьте, На этой безлюдной горе. Пышные травы – и те Мечтают в свой срок расцвести. Зачем же тело моё молодое Увянуть должно без любви... (704 г. – ?) МЕСЯЦ ВЗОШЁЛ И ТРОНУЛСЯ В ПУТЬ Луна взошла, я тотчас в путь в Ченчук вступил. Ночное облако спешит, Плывёт в края родные... С плывущим облаком письмо отправить что ли? Вдруг ветер сильный ответ доставит мне. Отчизна где? Вдали за небом, на севере земли, А я в стране далёкой, на самом западе туманном. Как жаль, в Ченчуке нет летящих журавлей И не с кем весточку отправить... Рис. Василия Бородина (19 г. до н. э. – 17 г. после н. э.) *** Иволга, и та нашла себе подругу. Летит легко, крылом играя. И только я один на этом свете, Мне без тебя домой дорога тяжела. Рис. Дмитрия Геллера Рис. Дмитрия Геллера 126 Рис. Дмитрия Геллера (конец VI в.) ОДИНОКИЙ УТЁС Рис. Василия Бородина ЧВЕ ЧИ ВОН (857 г. – ?) ДОЖДЬ В ОСЕННЮЮ НОЧЬ Я, ветру осеннему вторя, Печальную песню пою. В мире людей никого, Кто б утешил меня... За окном среди ночи Грустно падает дождь. И только дорога в родные края Всплывает над лампой за тысячу ли ... Рис. Дмитрия Геллера Утёс высокий, в небо устремлённый, Внимательно глядит на озеро внизу. Там, у подножья, неизменно Об камни бьются волны, И ветер, сильный и сердитый, Деревьям ветки задирает. Прозрачны в воде отражения И солнечный луч На вечерней заре промелькнёт. Смотрю и смотрю на утёс одинокий. Среди облаков он стоит непреклонен, И облик прекрасен его. Рис. Василия Бородина 127 *** На Юге нравы развращённые, Здесь дочки белоручками растут. Стыдятся брать они иглу и нитки И только за собой следят да в музыке находят наслажденье. Легки, изящны музыка и песни. Они как шелест лепестков цветочных, Когда весенний ветер нежно гладит их. Хвалятся красотой лица, Как будто старость их минует. Над бедной девушкой-соседкою смеются. Та день за днем, согнувшись, за станком в работе. – Хоть ткёт она усердно шёлк, ей платья Не носить, — так издеваются они над ней. *** На родине моей Зимой цветут цветы. На родине моей Всегда шумит, Танцуя, море. Родители живут На родине моей. Рис. Дмитрия Геллера Рис. Дмитрия Геллера НА РОДИНЕ МОЕЙ На звуки позднего дождя Невольно голову поднял. В углу свой угол Паук плетет неутомимо. О море! На родине моей Мой дед всю зиму Сеть плетет… Всю ночь – Из струй дождя – Я буду крылья ткать, Чтоб домой Вернуться… 128 *** Надо начать сначала. И, если возможно, Вернуться к истоку. Надо найти Другой путь И обязательно открыть Другое окно. Сколько я обещал себе, Что окно от меня к вам Наглухо занавешу Или вообще заколочу. И тогда рана на сердце Когда-нибудь заживет, И по холму Голгофы Не нужно ходить. Но в сердце, Раненном однажды, Кровь не остановить. Оно будет Всегда кровоточить… Потому что Я давно распят На кресте любви. *** Вселюбящий!.. На этом месте я остановился, Под солнцем сверкающем, заснеженном месте. Снял обувь и стою босиком У вашего священного подножия. Ветер пришел неизвестно откуда, И, обласкав лицо, улетел в безымянную сторону. Я очарован спокойствием горы Больше, чем сиянием снега. Входит в силу сырая осень. Смотри! В небесных лучах Воскресают счастливые лица любимых. Словно бабочки, летящие над пропастью, Расцветают ромашки, когда наступает синяя осень, Колышется на ветру. О, моя любовь, мои осенние ромашки Под лучами осеннего солнца! ОДИНОЧЕСТВО Возвращается ветер, Закрыв глаза, Слушаю песню далекого моря И чувствую, как по самому дну Течет тягучая тишина. Шум капель дождя Об опавшие листья. Всю ночь пробубнит, Осенний холм переходя. Тени суетных дел в моих мыслях исчезли, И опустевшая душа наполняется спокойствием горы. Всемогущий! Я маленькое семечко, движимое Вашим дыханием. Я хочу Вас воспеть! Позвольте посвятить Вам свою песню. Сижу у окна и слушаю Грустную исповедь ночи. И роняю во тьму Омертвевшие воспоминания. С начала мира и до сей поры Прекрасен и неизменен Ваш лик. Открылось бесконечное небо, И я посылаю к Вам с ветром Свою трепетную радость. Это потому, что Вы проснулись в моей душе И заполнили собой эту гору, далекое море И всю Вселенную… РОМАШКИ Как звезда, что блуждает по ночному небу, Я странствую по земле в поисках спутницы. Я иду по небесной тропинке, вспоминая её глаза, Похожие на звездные цветы. Я иду по ромашковой тропе, Как по Млечному Пути, В поисках своей мечты. Таким же было небо, наверное, в первый день Творенья, Как для меня минуты ожидания С недавних пор. Я иду по осенней земле, А с высокого неба Льются и пронзают лучи, гонимые космическим ветром, И тихо шепчут позабытые имена. Бесконечные дни и ночи, С пустотой в груди, Сменяются волнами тоски и томленья. Сезон ромашки – будит ромашковый дух. А когда вдруг повалит Тяжелыми хлопьями снег, От самой земли до высокого неба, Одинокое сердце мое В барабан застучит. НА ВОЛЮ От вашей светлой улыбки Я забыл обо всем на свете. Вы спросили меня, куда я иду. – На волю! На волю я направляюсь! Ветер дует со всех сторон, А я направляюсь на волю. Мир, окруженный ветрами, Больше не в силах меня удержать, Потому что я сам стал ветром И дую теперь на вас. СЛЕДЫ ШАГОВ Следы двоих на снегу – Это ваши и мои шаги. Одинокий след на снегу – Все равно это Ваши и мои шаги, Потому что, даже когда я один, Никогда не забываю о вас. Но если люди смогут Найти ничьих следов, Знайте: Бесконечная тоска, Обращенная к вам, Не желая, чтобы вы тревожились, Став ветром, Тихо проходит мимо… 129 СТИХ В один из дней, Я думал, что он – это гость. НА УЛИЦЕ Вы в самом деле, тот человек? Вы тот самый Ко Ын? То и дело, сегодня, вопрошают меня. Эй, послушайте, если после вашего рождения, Вы были никем... Как ветер этого мира, Смог бы трепать ваши волосы. В один из дней, Я думал, что он - это хозяин. В такое время, Каждая из дымовых труб, Мечтает пустить свои дым. И сегодня я не знаю, стих, кто он такой? ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ Никакая сила, Исчезновение мира, Медленное Или внезапное не может остановить. Никакая любовь Не сможет остановить исчезновение человечества. Остается вихрь. О, последнее заклинание... Рис. Дмитрия Геллера СНЕЖНЫЙ ДЕНЬ В день когда падает снег, Хочу стать собакой в деревне. Нет, Не ведающим ничего, В дремучем лесу Спящим медведем. Падает снег! Падает снег!... ПРОЛИВНОЙ ДОЖДЬ В те дни, когда идут проливные дожди, Душа моя грустна. Люди покидают родину, Один За другим И становятся другими людьми. В те дни, когда идут проливные дожди, Душа моя грустна. Опавшие Листья и травы мокнут, Один За другим И становятся другим миром. После дождя На улицу первыми Выходят дети. Их глаза ищут, И находят радугу. Пожалуйста, не исчезай, не исчезай! Не исчезай, пожалуйста... Рис. Василия Бородина 130 КАКАЯ-ТО РАДОСТЬ То, о чем я сейчас думаю, Где-то в мире Уже кто-то подумал. Не плачь. То, о чем я сейчас думаю, Где-то в мире Об этом кто-то, тоже думает Не плачь. То. о чем я сейчас думаю, Где-то в мире Кто-то собирается подумать. Не плачь. Рис. Дмитрия Геллера Это чудо! В этом мире, Где-то в этом мире, Я, состою из бесчисленных, таких как я. Какое чудо! Я состою из бесчисленных незнакомцев. Не плачь. ДУША ПОЭТА Среди грабежа, убийства, мошенничества и насилия, Посреди тяжких преступлений, В одном из уголков этого мира родился поэт. Слово поэта в горной деревушке Джонг Сам Чанг Син Донг Чонг Ге Чон, Среди ругательных слов этого края, Берет на время ответственность за человеческое общество. Душа поэта просочившись сквозь щели зла и обмана, Создает несколько слов истины текущего времени. И потом погибает, От другой души. Душа поэта со временем становится несчастьем... Рис. Василия Бородина ДРУГ Все боли мои он взял на себя, уходя из этого мира... В летний день, закрывшись в бутоне белого мака. 131 ДВОРИК (ПЕРЕД ДОМОМ) Сегодня, так много падает листьев, Ветер Их все забирает. Пойду туда, пританцовывая, пойду... Рис. Василия Бородина ДЕРЕВУ Целых три дня Во время урагана Ветвями. Ты качалась Вместе с корнями. Ветки совершенно голые, Как истаявшие Рёбра сестры, Рёбра сестры от голода совсем тонкие. Ведь избавление состоит в кровном родстве с душевными муками, не так ли? Так много падает листьев, Ветер Забирает каждого из оставшихся духов. Пойду туда, пританцовывая, пойду и не вернусь более… Нет ветра, И поэтому ты стоишь, Сегодня, в полном покое. Или перед днями, в которых еще предстоит качаться Остановилась?.. Знай, мир не приемлет лжи... НА ГОРЕ СО БЭК Дует сильный ветер, Но ещё умирать нельзя. Давай спустимся, Спустившись, Отзовемся эху рюмки и нальём себе водки... ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН Плачу Проходя экватор Индийского океана похожий на гибель, Оплакиваю все прошедшие 50 лет. Плачу 7000 тонным кораблём тунцов. После плача, Гляжу на дальний горизонт Мадагаскара. Уже Красный закат, Как быстро наступает вечер… 132 Рис. Дмитрия Геллера У МЕНЯ НЕТ СЛЕЗ В конце 60-ых годов, в один из дней, Я прочитал дневник Гарама (настоящее имя – Ли БенгИ). Каждый день, Каждый день, Ежедневно, Утром в одно и то же время, сидя в туалете, Утром в одну и ту же минуту в туалете, В туалете, В туалете я читал, Читал и плакал, К концу той жизни, следуя, плакал. На следующий вечер, в переулке, я зашел в пивную. Там я сожалел о том, что плакал, Дневник Гарама был омерзителен, И мне было противно. Все огоньки сбирая с небосвода, Напоминают призрачные арки, Что даже в день и радостный и яркий, Куда ни прячься, ты стоишь у входа. И ты, чью душу пожрала дремота, Вперясь в безмерье, вслушиваясь в худо, К замирному прошел через ворота, Что за тобой не заперты покуда. И после, из-за другого дела я долго плакал. А теперь у меня нет слез, Каждый день умирают иракцы, В районе Бонгчон, в верхней деревне, у бабушки на несколько лет, Остался, остывший угольный брикет. Девушка на реке Думан торгует телом, Палестинские дети На спинах носят бомбы, Бездомный в метро на станции Сеул, Укрылся газетой и страшно болен. Эх, на этом свете больше нет слез, Выплакался, Нет синего неба, В огромном синем небе погибли все Боги. У меня нет слез, не проливаются слезы, Из этой темной пропасти, как ты выберешься? ЗАПОЗДАЛАЯ ВСТРЕЧА перевод с польского ГЕННАДИЯ ЗЕЛЬДОВИЧА рисунки ВАСИЛИЯ БОРОДИНА РАДУГА Он слышен был, когда в зеленом жите Он убыстрялся – теплый дождик мая, А солнце, тучу брызгов пронимая, Разъяснивало бисерные нити. Ударил в пыль трухлявую на шляхе, Нырнул в кусты, шурнул по мокрым сучьям, Прошелся черным по булыжной плахе, Потом притих, заслушавшись беззвучьем. Он замолкает – и, расцветшей сразу, Безмерье будет радугой объято, Она ж прерывиста и клочковата, Как будто снясь прижмуренному глазу. ГЛУХОНЕМАЯ Есть в деревне у нас эта странная девка – Не умеет сказать, не умеет услышать, А в очах – небеса и лихая запевка. Забрела к нам в село, как безродная пришать. Я не ведал, как звать, – и кому она снится: Из таких из людей, что лишь смерть позовет их; Если б я был той смертью, нашел был в немотах Ту струну, на которой – Господня десница. И казалось – когда б средь веков златоперых Ей во грудь земляным я ударил бы комом, Отголосок в долинах катился бы гремом, Тормоша лебедей на сонливых озерах! Есть в деревне у нас очень бледная речка. Возле речки столкнулся с рыбачившим дедом И, спросив, как зовется, услышал словечко: «Не зовется никак то, чей путь нам неведом! 133 Называли – Тикуша, порою – Могила; Называли Далекой, и кликали Близкой; А поживши, я знаю, что, сколько ни рыскай, Все, что ищешь, дремота давно поглотила!..» И бывают в деревне вечерние зори, Когда мир превращается в сон о сновидце И рождаются в душах багровые мори, Вместе с памятью всех не сумевших явиться. И однажды под вечер глухая-немая – И с душою не больше соловьего тельца, – Словно лира, которой не дали владельца, Шла к бегучей водице, чему-то внимая. И стояла, как будто бы кто-то покликал, И косу, будто бредень, спускала в глубины, И хотела поймать этот сон голубиный, Что ее голоском – под водою курлыкал! И вода для смелячки была как зерцало, И свой образ линялый мечтался – уловом, И надеялась – он, обладающий словом, Нам поведает все, что она не сказала! И тряхнулась она. И своей позолочью Притемненная вечность светла без исходу... Не своя и ничья, между светом и ночью Безымянно глядит в безимянную воду... ХРЫЧЕВСКАЯ БАЛЛАДА Молотилось об землю – да сухое полено: Отчекрыжило ногу старичку до колена. Брел зачем-то куда-то непутевым кочевьем И застыл возле рощи, но спиною к деревьям. И бельмом, но краснявым зазирал старичонка, – Ой, да-дана, да-дана! – как речьится речонка. Извихнулась из глуби водяная девица, Да как брызнула в бельма – аж дедуга кривится. Ей хотелось быть нежной, и хотелось быть лютой, И улыбить улыбкой, и засмучивать смутой! И таращила глазья – изумрудные вспуги, – Обняла его ноги – стосковалась по друге. Целовала щекотно, целовала взажмурку, – Ой, да-дана, да-дана! – деревянную чурку! Хохотал он впокатку над поблазницей падкой, Аж запрыгал по травке, аж пустился присядкой. Аж тряслась бороденка, и подщечья, и губы, Околачивал чурку об жемчужные зубы! «Отчего ж ты целуешь только эту колоду? Али брезгуешь плотью, что мне дадена сроду? Убирайся же к черту – бесовская утроба, Ты, русалочья дохлядь, ручьевая хвороба! 134 Ой, помру я со смеху, а помру – не забуду, Как мою деревяшку искушаешь ко блуду!» Обхватила объятьем, окрутила, как дзыга: «Так иди же со мною, ты, дедуля-дедыга! Я тебя полелею на печи из жемчужин, Подприбойную гальку приготовлю на ужин. Отведу я в хоромы, заживешь ты на славу, А с губы моей выпьешь поцелуев отраву». За бородку тянула, да за торбу бродяжью К переглотчивым водам, что залоснились блажью. Не успел оглянуться – волны хлещут, как плети; Не успел помолиться – перестал быть на свете. Заворочались воды, размешались размешью, Да и сгинула торба с бороденкой и плешью! Лишь чурбак перехожий – деревянная рана – Победительно выплыл – ой, да-дана, да-дана! Мог поплыть себе прямо, мог податься не прямо, От калечья свободный и отмытый от срама! И хорошей дороги заискал он повсюдно, Будто судна отломок, убежавший от судна. Отогрел на припеке – да свою мосолыжку, На своем отраженье затевал перепрыжку. И не мог надивиться своему поособью – И – да-дана, да-дана! – бултыхнулся к загробью. ВИШНЯ Как-то вишню в саду у владыки Озарили закатные блики – И узрел ее, полную жаром, И поддался погибельным чарам. Ах, горю я и стражду Не про чью-то про жажду! «Поклоняются люди и птицам, Поклоняются звезд вереницам – Я в тебя буду веровать свято, Вишня, вишня! Сестрица заката!» Ах, горю я и стражду Не про чью-то про жажду! «Пронижи мне, о зорькая зорька, Мою душу, где буйно и горько... Здесь во саде – затишья затишней...» И устами тянулся за вишней. Ах, горю я и стражду Не про чью-то про жажду! И тянулся он к скорби заклятой, Каменел он, безумьем объятый, И не знал, что не дни и недели, А столетья над ним пролетели. Ах, горю я и стражду Не про чью-то про жажду! Обрела через то целованье Вишня присное существованье И, в укроме из листьев блистая, Пламенела, навек молодая. Ах, горю я и стражду Не про чью-то про жажду! Расточился он облачком мрака, По себе не оставив ни знака, – Лишь уста, что ее целовали, В безмятежном саду вековали. Ах, горю я и стражду Не про чью-то про жажду! И ей песенку пели из ночи: «Чтобы грезить, нам надобны очи, Но какой бы ни жили судьбою, Мы навеки пребудем с тобою». Ах, горю я и стражду Не про чью-то про жажду! Шли девицы, юны и пригожи, И дивились, к чему и почто же. «Вы, уста, если жаждой томимы, – Разве вас напоить не могли мы?» Ах, горю я и стражду Не про чью-то про жажду! 135 «А могли б не одной вы девице Дать любовь, без которой крушится! Что за хворь прикрутила вас путой К этой вишне, от сока раздутой?» ГОРБАЧ Ах, горю я и стражду Не про чью-то про жажду! СМЕРТИ Смерти проходят в солнечном звоне, Дружно проходят, ладонь в ладони. – Выбери в нашей несметной силе, Кто же тебя поведет к могиле. Выбрал не ту, что в охре спесивой: После могила пойдет крапивой. Выбрал не ту, что в парчовом платье: Хлопотно будет эдак сверкать ей. Выбрал он третью, пускай бобылиха, Но зато – тиха, зато – без пыха. Оттого я тебя предпочел им, Что, боговитая, ходишь долом. Жаль мне, жаль улетающей птицы, Я умру, чтобы следом пуститься. А бледна ты, как лучик предзимний, – Ты откуда и кто ты, скажи мне. Обочь мира живу я, далеко, Ну а имени нет, кроме ока. Ничего-то в нем нет, кроме ночи, – Знала, какие ты любишь очи. Гибель ты выбрал, какая впору, Только не сам погибнешь от мору. Гибель выбрал еще не себе ты, Но ты запомнишь мои приметы. Я иду к твоей маме, что в хате С улыбкой ждет своего дитяти. Горбач помирает не втуне, Предосенье горем калеча. И жизнь у него – из горбуний, И смерть у него – горбоплеча. В дороге, где хмарей заплеты, Он понял чудную примету: Всего-то и вышло работы – С горбиной таскаться по свету. Горбом и плясал он, и клянчил, И думал над старью и новью, Его на спине своей нянчил И собственной выпоил кровью. Покорная тянется шея Ко смерти под самую руку... Лишь горб, нагорбев и большея, Живет, набирается туку. На время упитанной туши Верблюда он пережил в мире; Тому – все темнее и глуше, Другому – небесные шири. И горб на останки верблюда Грозится своею колодой: "Вставай, долежишься до худа, С моею поспорив породой! Иль доброй те надобно порки? Иль в дреме затерпнули ноги? Иль брал ты меня на закорки, Чтоб сбиться на полудороге? Чего ж утыкаешься в тени? Спины твоей тесны тесноты. Спросил бы тебя, телепеня, Куда меня двинешь еще ты!" 136 СОЛДАТ Вернулся служивый, да только без славы – Не слишком-то бравый и очень костлявый. К ядру приласкался ногою и боком – И нынче вышагивал только поскоком. Стал горя шутом, попрыгушкой недоли И тем потешал, что кривился от боли. Смешил своих жалоб затопом-захлопом И мучинских мук неожиданным встрепом. Причухал домой он – и слышит с порога: «Пахать или сеять – зачем колченога?» Дотрюхал до кума, что в церкви звонарил, Но тот не признал и дубиной ошпарил. Явился к милаше – а та употела, Когда греготала с ядреного тела! «Ты, знать, свой умишко на войнах повыжег. Тебя – четвертина, а три – передрыжек! Так мне ли поспеть за твоим недоплясом? И мне ли прижаться полуночным часом? Уж больно прыглив ты прямохонько к небу! Ступай, и не лайся, и ласок не требуй!» Пошел к изваянью у самой дороги: «О Боже сосновый, о Господи строгий! Кто высек тебя, того имя забвенно, – Но он пожалел красоты и полена. Мы братски разделим по малости смеха, Кто первым зальется – тому и потеха. Опрусь я на тело, а ты на соснину, Меня ты не минешь, тебя я не мину!» С ладонью в ладони, пустились в дорогу, Суча перепрыжливо ногу об ногу. И вечных времен проходили толику, Какой не измерить ни таку, ни тику. С увечным коленом, с твоим кривоножьем, Тебе не ходить, а скакать бездорожьем. Минуло все то, что бывает минучим, – С беспольем, бескровьем, безлесьем, беззвучьем. Такой ты бестелый, такой худобокий, Что будешь мне пара в моем перескоке». И буря настала, и тьма без оконца, И страшная явь истребленного солнца. И долу ниспрянуло тело Христово; Кто вытесал Бога – тесал безголово! И кто это бродит среди снеговея, Вовсю человечась, вовсю божествея? Ладони – две левых, а ноги – две правых; Когда зашагал, продырявилось в травах. Два Божьих шкандыбы, счекрыженных брата, Культяпают как-то, совсем не куда-то! «Не буду сосниной от века до века, Пойду через вечность, пускай и калека. Один без заботы, второй без испуга – Волочатся двое влюбленных друг в друга. Пойдем неразлучно – одна нам дорога – Чуток человека и крошечка Бога. Своей хромоты было каждому мало: Никто не дознается, что там хромало. Поделимся мукой – поделимся в муке! – Обоих людские скостлявили руки. Скакали поскоком на всяку потребу – Покуда в конце не допрыгали к небу! 137 ГОДИНА БЕЗБЫТЬЯ Наступает година безбытья, бесцветья, И как бабочки осенью, вымрут девчонки, И сама я бледнею, прижавшись к сторонке, И все меньше меня, и должна умереть я! Полюби мою гибель и роскошь распада, Эту морось, что шепчет моими устами, Верь в мое торжество, в неоторванность взгляда – Даже если ослепнет в засыпанной яме. И склонялся к ладошкам, потраченным гнилью, И к зеницам ее, изнебывшим во хлуде, Всей душой природнился к ее замогилью И искал в замогилье горячие груди. Для чего же мой жар – и уста для чего же? Иль не душны тебе мимобытья захлесты? Перейми мою страсть, перейми мои дрожи, О воспрянь же ко мне из могильной коросты! Я любви предаюсь! Я покорствую чуду, Я навстречу объятьям объятья раскину! И чем жарче твой жар, тем быстрей изнебуду, И чем ближе уста, тем бесследней загину. ЗАПОЗДАЛАЯ ВСТРЕЧА Пойдем вослед и шелестам, и теням, Пойдем дорожкой, от росы текучей, Где под ветвей крыжовенных сплетеньем – Кротовые распаренные кучи. Висит листва, скукоженная хладом, На ней росинки от вчерашних ливней; И жаворонки над увядшим садом Все жалобней кричат, все безотзывней. Вот яблоня, а с нею рядом сосны, И в бледно-синем выкупана хвоя. Как торопко промелькивают весны, И что живет – от страха неживое. В запахнутой укутанная шали, Ты словно зверь, что схоронился в нору. Теперь пусты, теперь уже не впору Все те слова, которых не сказали! Мы не сплели увертливых ладоней, Мы не ослепли в помыслах о Боге. Теперь глаза – открыты для бездоний, Теперь губа – замрет на полдороге! ДЖАНАНДА Шел Джананда в лесу, где бываю я дремой. Пробирался на ощупь – дорогой знакомой! Змеи вснились во блеск, пустоту испятнистив, Слон громадился в чаще, темнея средь листьев. Обезьяны, вварясь в неопрятное пламя, Орхидею-обморыш хлестали хвостами; Леопардову шкуру проплавили дырья, А бельмастые очи ютились в замирье; Где текли муравьи, словно струйка из раны, Пахли свежие смирны и пахли лаваны. 138 Задыхается вечность! Все пусто пред глазом! И замирье и мир обездвижели разом. Не скрипели кусты, бесколеились травы, Безголосились птицы, немели агавы. Тишина от небес, а другая – от чащи – Тишина с тишиною – немая с молчащей... А Джананда вполсонках прогалину встретил, Там девицу приметил... И снова приметил... Она длила в траве неразымные дрожи. Ворковал ей павлин, в коем образ был Божий. Это Индра покинул прабытную осень, Чтобы в очи ей вылить пернатую просинь! В птице прятался наспех, почти что случайно, Как смутнеет в догадке тревожная тайна, – И пушистился к шее, нашептывал в ухо, И ему отвечала девица-шептуха. И она рассмеялась всем солнечным светом – И ладонями слух замыкала при этом; Разговоры текли средь молчанья лесного, Но Джананда из них не расслышал ни слова. Потемнел он с лица и завистливолице Порывался душою в павлина всмуглиться! А как сыпкие косы прилетыш расклюнул, Взял Джананда стрелу – и в чело ему вдунул! И, едва различимый во теле во павьем, Всполошился тот Бог – и порхнул к разнотравьям. А стреле подвернулась иная разжива, И девица упала – о дивное диво! Индра оземь хватил оперение птичье – И по свету пустил – и сбледнел в безграничье – И взывал к белу свету в великой оскуде: «Ведь себе воплотил я лилейные груди! Ведь меня поразил сей удар окаянный!» – И бедро обнажил с продолжением раны... А оно было цветом небесных верховий: Черешок синевы и головка из крови. «Ты сожги ее там, где явился я деве, Где сновал твою долю еще не во гневе. Кто же деву сыскал средь твоих упований? Кто напухлил ей губы и выснежил длани? Божествея из радуг безумием духа – Кто ей имя твое наговаривал в ухо? Кто учил ее впрок и любви, и печали? Ты и в лес не вшагнул – а тебя уже ждали. А теперь предпочел ты разгребывать в гробе, Что тебе насудьбилось в павлиньей утробе. Ты, поземыш, на Бога хотел покуситься! Только Бог отлетел! – И погибла девица!» – Жизнь и смерть оглядел он в холодном защуре – И пропал! – И безбожье осталось в лазури! И павлиньи подвывы – и тишь без раздыма... А кто зрел эту тишь – убедился, что зрима. И Джанада глядел на останки девичьи И подумал: «Девичьи рука и обличье...» И подумал вдогонку: «Ее – это тело. Где ж теперь это время, что прежде летело? Сколько ж надобно было любви и тревоги, Чтобы деву утратить на полудороге? Сколько надобно Божьего, сколько павлинья, Чтобы в мороке сталось такое бесчинье? Если б тело пернатое Бог не подкинул, Только Бога сразил бы я! Бог бы и сгинул! А теперь не пойму – так склубились две дали, – Умерла за Него, умерла за себя ли? Так два кружева этих сплелись перед взором, Что погибель – ошибкой, а та – приговором!» И не ведал Джананда в раскаяньи строгом, Был ли Бог тот павлином, девица ли – Богом, И стрелы острие наводили лукаво – Или пав не без Бога? – Иль Бог не без пава? – И пришло это все – из каких судьбоделен, Кто тут любит – кто гибнет – и кем он застрелен. КУКЛА Мои бусы к замирью скользят, будто змейки; Складки платьев моих, как могила, глубоки. Я люблю этот лак духовитый и клейкий, Что румянит мне смертью бесцветные щеки. Я люблю, если мир задневел светозарно, Я ложусь на ковра расписные узоры, Где невянущий ирис, бесплотная сарна, – И пылится мне вечность из плюшевой шторы. Я девчонке мила тем, что нет меня въяве; И когда из безбытья к ней на руки сяду, Что-то мне говорит – и, почти не лукавя, Ожидает от куклы услышать тираду. Ворожит мне с ладони, что в месяце мае К занигдетошним странам сумею шагнуть я – И, бродягу юнца по пути обнимая, Обниму вместе с ним бездорожье-беспутье. 139 Упадет мне цена, позабудут о куклах – И, когда уже мрак преградит мне дорогу, Две ладошки моих, по-черпачному впуклых, Протяну к не за куклу распятому Богу! Он поймет, – сквозь ухмылку – как трудно, как сиро В это как-бы-житье выходить на просценок, – И к бессмертью на пробу возьмет за бесценок: За единую слезку загробного мира! ДВА ЧЕЛОВЕШКА Звенится мне песня – захлипа, испуга, – Как два человешка любили друг друга: Шептали признанья, и брались за руку, И первый же шепот накликал разлуку. Развел их надолго неведомый кто-то, А время уплыло – и без поворота. А встретясь – и руки сплетая в привете, Болели так страшно, как страшно на свете! На земле и на небе – мне надо беспутий, Чтоб, когда у судьбы окажусь я опале, Удалось перебиться уже без печали – Без надежды – без смерти – без собственной сути. Я почти Гуинплен. Я смеюсь до покату. Я читала ту книжку: хозяйка-разумка Обучала читать так, как учат разврату; Я полна новостей, как почтовая сумка. Сочиню я роман со своей героиней – С Прадорожкой, ведущей к прадревней Прачаще, – И укрыла там кукла в трущобе молчащей Свою тминную душу и облик без линий. И зовет беспрестанно то Папу, то Маму: «Мама» – это о смерти, а «Папа» – о гробе. Над кормушкой пустот свои сны узколобя, Усмехает уста, как разверстую яму. И прикатится к бездне моя Прадорожка, И покончит с собой, как велели туманы... Занапастится кукла, смешливая крошка, Ничего не останется – только тимьяны. Так на что же писать? Сказки вышли из моды, Словно фижмы из радуги!.. Надо молиться... Посерела душа, и серы огороды... Ну а мне еще есть – кукляная больница! В прободенную рану мне вляпнут замазки, Налощат мне губу тошнотворным ухмылом – И поставят в окне, чтобы милым-немилым Я прохожим стеклянные строила глазки. 140 Под явором – тени, под явором – ложа, Где сникла надежда, сердец не тревожа. И умерли оба без ласки, без блуда, Единого смеха, единого чуда. И траур бескровил в своем фиолете Им губы так страшно – как страшно на свете! Они миловаться хотели в могиле, Но нежность погибла, ее пропустили. Бежали к недоле и, став у порога, Хотели молиться – но не было Бога. Хотели, домучась до мая, до лета, Воскреснуть – но не было Божьего света. *** Ты плачешь, плачешь во тьму Таким беспомощным плачем! Когда тебя обниму, Объятье будет горячим. До смерти достанет мук, До смерти достанет мочи! Увядших, увядших рук Сумею желать я в ночи! Оглядчиво разомлей, Задохшаяся над краем! То к смерти, к смерти твоей Мы вместе с тобой привыкаем. И тогда говорит ей Господь с небосвода, Что пред нею Мартын, по прозванью – Свобода! И бледнеет, и молвит: «Грехи отпусти нам, Только мне это мясо – не будет Мартыном!» И приблизил Господь к нему бездну-могилу, Чтобы бедному телу там было под силу. И, любимой своей не придясь полюбезну, Безымянное тело – отхлынуло в бездну. ГОРИЛЛА Из чащи леса космач-горилла На мир подлунный глаза лупила. Орла дразнила, когда – подранком — Вихляво ползал живым останком. И льва кривляла, когда в берлогу С клыков оскалом ломился к Богу. МАРТЫН СВОБОДА Глазела в вечность, сумнясь ничтоже, И ей паячьи кроила рожи. Снеговая лавина, обидев природу, Как-то скинула в пропасть Мартына Свободу. Но смерть в салопе пришла к резвунье — И та бледнеет, что перья луньи. И он падал, безумствуя косточкой хрупкой, И ударился – духа последней скорлупкой. Думал, муку поборет он чохом да чихом, Обнизавши ее человеческим жмыхом. И ладонь в нем торчала, как ножик над булкой! И пластался то молча, то с гулкой поскулкой. И лишенные формы людские ошметки Наконец доползли до девицы-красотки. Парой губ, что пропахли скалой и бурьяном, Он себя называл, чтоб не быть безымянным. Избочилась на поползня, молвила колко: «Не пугай мне цветы, ухажер-костомолка! Одкровавься на небо искать себе дома! Ну а мне твоя кличка – уже не знакома!» 141 Дразнить хотела – да смякло тело, Понять хотела – но не умела. КОРЧМА Невесть с чего бы – упасть пришлось ей Да заходиться скулежкой песьей. А та тихонько, как спят в могиле, Впирала ногу во грудь горилле... И бесподобна, невыдразнима, Она смотрела на гибель мима. ТРУПЯКИ Коль бедняк умирает, а смерть свое просо Для приманки просыплет, чтоб шел себе босо, То семья постарается, в горе великом, На тернистую вечность обуть его лыком – И, последними не дорожа медяками, Купит лапти ему, что зовут трупяками. И внезапно заметит, везя на кладбище, Как расплакался нищий – от роскоши нищей! Я – поэт, что хотел от нужды открутиться И напевами вечность разбить на крупицы; И, ограблен, глумлюсь я над жизнью бескрылой – Ведь мои трупяки меня ждут за могилой! То любимой ли дар, от врагов ли подмога – Но в моих трупяках добегу я до Бога! И там буду я шествовать шагом чванливым То туда, то обратно по облачным гривам. То туда, то обратно – до третьего раза, И я буду бельмом для Господнего глаза! Ну а ежели Бог, с изумлением глядя, Станет брезговать прахом в крикливом наряде, То – покудова тело трухлявится в яме – Там на Бога затопаю я трупяками! 142 Между небом и пеклом, где в морок неезжий Божий дух норовит заноситься пореже, Есть корчма, в коей призраки умерших пьяниц Затевают пиры и пускаются в танец. Для скупца, что пред смертью глотал аметисты, Здесь ночлежек навечный, не больно клопистый; И вложившего душу в ножовое лезо, Жертвы сами найдут своего живореза; И беспутница с ладанкой наизготове Тут же купленной синью раскрасила брови; И какой-то жирняк принимается охать – Разобрала его замогильная похоть. И грохочет в корчме удалая капелла, Чтобы вся эта нечисть плясала и пела; И такую отжарит запевку-запарку, Что корчма и танцоры несутся насмарку – И орут запивохи в таком заполохе, Что запрыгали в бельмах кровавые блохи. Только баба, что встарь онемела со страху, Пятерых сыновей проводивши на плаху, Хочет в смрадном запечке прожить изначала Ту любовь, что вершилась во тьме сеновала, Вспоминает о детях – о каждом ребенке – И пиликает польку на ржавой гребенке. ПРОХОЖИЙ Трава безбрежная у шляха, Лиловой смерти – явь! Просил у трав, просил у праха: «Избавь меня, избавь!» И путник шел... И отчего-то, Но поманил к себе, Как если бы его забота – Прислушаться к мольбе! А мир в тиши как будто минул, И солнца край обник; А он на тишь глазами двинул – И словно бы постиг: "Нет хлеба мне, и нет мне дома! Нет силы для житья. Кому несчастье незнакомо, Тот самый – это я! Раскинуты у смерти бредни, Мне от врага – расплох. Коль час пробили предпоследний, То сны сметает – Бог! Но верю я последней дреме, Но сбудется хоть раз! И что набрезжит в окоеме, Я разделю меж нас!" Клялся на верность обещаний До смертного до дня! И подал длани – обе длани – И вызволил меня! II Быть конторским затворником радости мало, А грустить после службы отнюдь не пристало – Я шагаю домой, и мне чувства сродни Покидающей класс озорной ребятни. Через парк я иду, где под вечер пичуги Раскричались, как будто случился в округе Небывалый пожар: и трещат, и шипят – Словно масло в огонь пролилось невпопад! Я беспечен и шествую шагом нескорым, Не боясь показаться заядлым фланёром. III Красою чуждых стран меня не покоришь – Я истово влюблён в обыденный Париж. При виде снежных гор над морем величавым Мечтами уношусь на родину – к забавам Предместной детворы; пригорок вспомню тот, Откуда наблюдал закатный небосвод; Лужок на берегу, где меж деревьев ловко Для немудрящих нужд прилажена бечёвка; Развешенные в ряд холстину и фланель И рыбные места на острове Гренель. IV Предместья мне милы с их пашнями под паром И стенами, где я по объявленьям старым О жизни узнаю утраченных времён: Почтённый лавочник, что ныне погребён На кладбище Лашез, вёл бойкую торговлю В округе... Я мечтам своим не прекословлю – Шагаю не спеша, и даже хмурый вид Окрестных сорняков мне душу веселит. На окнах вдалеке – зари вечерней пламя. Скорлупок устричных хрустенье под ногами. Поль Шабас. Портрет Ф. Коппе НА ВОЗДУХЕ И В КОМНАТАХ перевод с французского ТАТЬЯНЫ БЕРФОРД рисунки ВАСИЛИЯ БОРОДИНА V В ненастный вечер я, взгрустнув у камелька, Задумался: как жизнь пичужья коротка! Суровою порой, зимою безотрадной И рощи, и поля терзает ветер хладный – О, скольким птицам здесь погибель суждена! Когда же вновь придёт желанная весна, То посреди цветов отыщем мы едва ли Останки певунов, что в холод погибали. И сызнова себе вопрос я задаю: Зачем пернатые скрывают смерть свою? Полю Даллозу I Стихи мои – тебе, читатель! Большинство Людей не сыщет в них, пожалуй, ничего. Но если бытия ты ревностный приметчик Со множеством его явлений и словечек, И если на часы порою не глядишь, Когда кружится снег, иль шумно каплет с крыш, – Тебе стихи мои: воспоминанья, шутки И просто мысли вслух в свободные минутки. Охотно свой дневник тебе доверю я, Как делают подчас хорошие друзья. 143 VI А вы хотели бы усесться за столами В уютном кабачке, что окружён полями Пшеницы и лозой зелёною увит? Бесхитростных людей он мигом единит: Воркуют в уголку влюблённые, покуда Папаши чествуют жаркое, и повсюду За рюмкою винца – друзья-весельчаки. Воскресные деньки им слишком коротки! Лишь я гляжу вокруг, печалуясь нелепо, – На шляпе ленточка из траурного крепа. VII Растроганно смотрю вослед походным ранцам – Дорогой полевой идущим новобранцам; У каждого в руках батог взамен ружья. И будто наяву картину вижу я: Контора, супрефект, вершащий выбор тяжкий, Крестьянский паренёк со жребием-бумажкой, На шапке галуны, вещички за спиной, Прощанье ввечеру с одной-единственной, Что обещает ждать, на беды невзирая, Передником глаза неловко утирая. X А знаете ли вы, как страсти жар неистов В крови взрослеющих мальчишек-лицеистов? Властитель их умов – нескромный Поль де Кок С его красотками, чей облик так нестрог. Юнцы в восторге от распахнутой накидки, Явившей наготу прелестной сибаритки, От яркости румян и подведённых глаз, В которые они влюбляются тотчас, И рьяно познают поддельный мир с галёрки, Мечтая о любви какой-нибудь актёрки. XI Прелестный будуар времён Наполеона: Тиснёный жёлтый шёлк и бархат однотонный. Здесь каждая деталь расскажет о былом – Кушетка-рекамье, награды под стеклом, Портреты на стене: красавица в тюрбане И бравый офицер – герой на поле брани (Всё это написал великий мэтр Жерар), А в стороне – рояль, изысканный «Эрар», Что вторил столько раз – то бурно, то блаженно – Беседам трепетным Алонсо с Иможеной. XII Все ночи летние я проводить готов В предместьях городских, средь парков и садов, Чей воздух напоён блаженством духовитым. И вечера люблю на воздухе открытом: Веселье, болтовня, потом все пробки – вон, Бокалов над столом отчаянный трезвон, И музыка, и смех, и танцы до упаду! И вздохи ветерка, несущего прохладу, Когда из-под ветвей позадремавших лип Едва доносится качелей мерный скрип. VIII Лелею в сердце я наивные мечтанья: За городом найти себе для обитанья Нехитрое жильё, где, позабыт молвой, Я заживу один – простак-мастеровой. Зимою на холмах там серебрился б иней, А летом небосвод пленял бы далью синей, И ароматом трав дышали бы луга! ...И добрые друзья, бредя издалека, Слыхали бы, как я, забыв про всё на свете, Играю у окна на старом флажолете. IX Истают, отгремят потешные огни, Гулянье кончится, и, армии сродни Разгромленной, толпа расходится угрюмо. По-муравьиному ползёт она без шума – Лишь хныканье детей да шарканье шагов. Вы слышите? Их звук тосклив и бестолков. Алеют небеса. Не правда ли – зловещи В заулках городских обыденные вещи? Больные фонари горят едва-едва... И словно не было в помине торжества. 144 XIII Извозчик ломовой в столицу катит бойко – Песчаник он везёт на городскую стройку. Под вечер повернёт обратно в Гран-Монруж: Поводья отпустив, плетётся, неуклюж, С телегой рядышком и слушает уныло, Как на ходу храпит понурая кобыла. А я завидую невольно бедняку – Всего-то и нужны трудяге на веку Еда и крепкий сон. Ни грёз, ни потрясений, Ни летних радостей, ни горечи осенней... XIV Покойно я пишу, под лампою склонясь – Ложится на листы чернеющая вязь. Старушка мать моя притихла у камина: Ей, верно, вспомнилась тяжёлая година, Что разлучила нас; но я уже не мал И тёплый шарф зимой носить не забывал. Вот и теперь она, не прерывая бденья, В огонь заботливо подбросила поленья. О матушка, меня хранящая от лих, Благословенна будь промежду жён других! XV В каждом запахе тайное есть волшебство: Вот беру апельсин, вот я чищу его – И мечтой уношусь в театральные ложи; А дрова в камельке ароматами схожи С бивуаком лесным, и представить могу Звук рожков и охотничий пир на снегу; Ну, а запах котлов с разогретым гудроном Мне напомнит опять о причале смолёном, И как будто воочью увижу вдали Лиловатые волны, а в них – корабли. XIX Усадьба. Лето. Парк изящно-старомодный: Два белых лебедя скользят по глади водной Среди затейливо подстриженных куртин. В гостиной девочка, присев за клавесин, Являя строгий вкус и бездну прилежанья, Играет Гайдна, где сплошные задержанья. А дед её, старик в белёсом парике, Из кресла слушает игру невдалеке И, вспоминаючи былые похожденья, Постукивает в такт басам сопровожденья. XVI Заслыша вдалеке шум свадебных гуляний, Вслед Музе озорной я поспешу к поляне, Где пляской тешится простой работный люд: Вот руку девицам мужчины подают, И весело чепцы с костюмами кружатся! Жених меж тем решил по роще прогуляться. Порой совсем безус, порой седой вдовец, Он рад почувствовать солидность наконец В кургузом пиджаке от местного портного... Невеста же кольцо разглядывает снова. XVII Как выжлятник бывалый, хромой инвалид, На собаку печально свою поглядит, Возвращаясь мечтою к непуганой дичи И к охотничьей сумке, набитой добычей, Как безгласая роща в глухом октябре, Как ославленный за любодейство кюре, Как похмельный пьянчуга без рюмки желанной, Как рояль, поразбитый игрой бесталанной, – Так мой разум никчёмный исполнен тоской, Что не в силах угнаться за беглой строкой. XVIII Над чернотою парт на стенке меловой – Самшитовый Христос, поникший головой. Сестра-наставница в монашеском наряде С терпеньем на челе и кротостью во взгляде Поставлена следить, как дочки бедняков Твердят Писание десятком голосков. Добрейшая сестра! Уроком занятая, Ты опустила взор, ничуть не замечая, Что два десятка глаз любуются тайком Ползущим по стене огромнейшим жуком. XX С тех пор как сын её отправлен воевать, Всё так же – на двоих – обед накроет мать, Нальёт в тарелки суп, плеснёт вина в бокалы И ждёт, пока бедняк какой-нибудь усталый По улице пройдёт, чтоб, в гости пригласив, Досыта накормить. И сын старушки жив. Обычай тот вдова блюдёт светло и кротко. Но лавочник-сосед, философ околотка, Ворчит: «И для чего такая кутерьма? Все суеверия – отрава для ума!» XXI Простого счастьица наивна благодать: Помощником кюре недурственно бы стать В затерянной глуши, в провинции предальней, В старинной церковке с резной исповедальней; От паствы получать, не знаючи нужды, Компоты, сладости, соленья и плоды; Слыть лакомкой большим и знатным латинистом; И всякий Божий день просёлком каменистым Тащиться кое-как на сослуженье в храм, Чтоб мирно подремать под бормотанье дам. 145 XXII Ночной снежок с утра прибила ожеледь. На улицу теперь отрадно поглядеть – Карнизы и забор, балконы и скамейки Примерили тишком пушистые шубейки. В примолкнувшем саду земля белым-бела; А выше небосвод из серого стекла, Как рамкой, окружён деревьями седыми. Смотрите: вот закат запутался меж ними Атласной полосой. И стали розовей Кораллы хрупкие заснеженных ветвей. Сказали ей, когда угрюмый гробовщик Обмерил колыбель и удалился вмиг. Теперь она грустит, забившись в дальний угол, Вздыхает и твердит: «Нет-нет, не надо кукол...» XXVI Бывает, до того Париж мне надоест, Что хочется сбежать из этих шумных мест В укромный городок, где супрефект любезный Внимать готов моей эпистоле помпезной Меж переменой блюд; а после по углам Один куплетец мой, который не для дам, Читают шепотком – не вызвал бы скандала! А я, не тяготясь известностью нимало, Романтиком слыву, и на моём столе Кумиры – Эсменар, Лебрен, Шенедолле. XXVII Простоблузые парни, ваш весел устав: К выходным от забот городских приустав, Вы махнёте в поля дикарями завзятыми, Оглашая вокзал смеховыми раскатами. Арсенал ваш – цветы и сигарный дымок, Обаяете всех вы кругом недотрог, И, в тенистых беседках усевшись за кружками, Поведёте игривые речи с подружками. А когда заалеет вечерняя даль, Вам ушедшего дня будет вовсе не жаль. XXIII Её песня тоскливо летит из окна – Над шитьём повседневным склонилась она. Серолицая, рыжая, в пятнах веснушек, Про таких говорят: из отменных дурнушек. Ей кольцом обручальным – напёрсток простой, А семьёю – комод в комнатушке пустой. Перечтя ввечеру немудрящие франки, Она бросит медяк одинокой шарманке. Ей кивнёт по привычке какой-то сосед И сухую улыбку получит в ответ. XXIV Чтоб ни один жених для дочек не пропал, Зимою маменьки устраивают бал, Предусмотрительно пуская в обращенье Приятное вино, глазурное печенье... Когда на барышне богатый туалет, От воздыхателей у ней отбоя нет, А бесприданнице – вон там, у стенки слева – Судьба, держу пари, остаться старой девой. Её папаша-мот (он отставной стрелок) За картами в углу: играет на мелок. XXV Ей отроду пять лет. Важна и торовата. Домашние велят: «А подержи-ка брата!» И гордо малыша таскает на руках Она – не уронив, не стукнув второпях. Заботится о нём, как будто мать вторая… «На небе кроха наш, резвится в кущах Рая!» – 146 XXVIII У старого моста сидит он, одинок, Нацеливая взор на сонный поплавок, Вдали от суеты. Ничто не шевелится. Играет бликами на солнышке водица. Вдруг леска напряглась! Бедняга сам не свой, Готов подсечь... Но то – не рыба, то – сувой: Весёлый катерок промчался ненароком, Мелькнули зонтики над голубым потоком, Но долго не унять волнение валов... И снова он один, мечтатель-рыболов. XXIX На вид его никак не назовёшь юнцом, Но бравый инвалид глядится молодцом. Когда вояка наш бывает при деньжатах, Завяжет он в платок закусок небогатых И к полю Марсову неспешно держит путь. В ближайшем кабачке отметившись чуть-чуть, Поведать норовит призывнику-салаге, Как ногу потерял в суровой передряге; Потом, впадая в раж, зажав костыль в руке, Сраженье при Исли рисует на песке. XXX По сонной мостовой предместья Сен-Жермен Священник с мальчиком идут вдоль серых стен К заутрене. Маркиз-подросток худосочен, Осанкою спесив, однако робок очень, – Старинный род его и славен, и велик... Чернеет длинный плащ, белеет воротник. А после церкви – час привычного ученья, И сдержанный прелат смолкает от смущенья: Сейчас обиняком поведать должен он, Что дед ученика был Генрихов миньон. XXXI Он ждёт. И муки нет жесточе и сильней, Чем ждать свидания! И то известно ей. Но в комнате своей, где реет запах сладкий, Замешкалась она, чтоб застегнуть перчатки. И в зеркале видны, изящны и легки, Движенья скорые одной, другой руки... Прелестен танец их, вам втайне доложу я! Она же между тем, не в шутку негодуя На промедление, волнуясь наперёд, Носком ботинки в пол нетерпеливо бьёт. XXXII Как некогда Руссо смахнул с лица слезинки, Воспоминаньем полн о голубом барвинке, Так ведома и мне отрада из отрад: Какой-то пустячок – забытый аромат, Улыбка, время дня иль ветра дуновенье – И вот я сызнова во власти впечатленья Минувших радостей и счастья бытия! И потому вполне бываю счастлив я, Но счастье то совсем особенного рода: Пять вечера, октябрь и купол небосвода. XXXIII Ботанический сад бесподобен весною: Приоделись деревья листвой кружевною, Ароматы цветов и лазурная высь – Словно мы заглянули в земной Парадиз. Из-под ели альпийской доносятся рыки – То желанья бушуют в зверином владыке, Необузданном льве. У загона слона Новобранцев наивных орава видна; Потрясённо следит за громадной скотиной, Уплетающей булки с довольною миной. XXXIV Палящий солнцепёк. Свистит жестокий кнут. Баркас по большаку неспоро волокут, С надсадою хрипя и напружиня выи, Четыре лошади – трудяги ломовые. Извозчик хлещет их, обочину топча. А сзади, на корме, не слыша звук бича, Воздвигся судовщик в спокойствии ленивом. Любуясь облачком, летящим над заливом, Покуривает он, погодке славной рад... «Се деспот и народ!» – сказал мне демократ. Я взор стремлю туда, где алый шар клонится В закат – за край земли опустится вот-вот. Но чу! По временам негромкий хруст идёт Из ближнего ко мне густого перелеска... И взгляду предстаёт чернеющая резко На фоне огневом, подпёртая клюкой Старуха-нищенка с вязанкою сухой. XXXVII Я встретил как-то раз в пути глухонемых И долго следом шёл, разглядывая их. Беседу странную они вели руками В молчаньи – лишь песок шуршал под башмаками. И вдруг я услыхал: вот, ласков и легок, Верхушки тополей колеблет ветерок, Из ближнего куста несутся птичьи трели, Кузнечики в лугах задорно зазвенели... Сколь каждый звук земли красноречив и благ! Я буду вспоминать глухонемых бедняг. XXXVIII В неярмарочный день пустуют балаганы. Давно утихли шум и грохот барабанный. Томится на шесте потасканный макак – Сердито щуря глаз, не разгрызёт никак Орех. А в стороне два добрых селянина Баранами глядят на занавес холстинный. Поднявшая подол дебелая жена Красуется на нём, предивно сложена; С улыбкой до ушей, накрашенная ярко, Лодыжками блазнит австрийского монарха! XXXIX Стишата эти я писал забавы ради, Но в них легко найти и поводы к досаде: Не зря ли собраны неброские цветы, Что по обочинам вседневно видишь ты, Читатель мой? Скажи, взаправду ль интересен Тебе предмет моих простых негромких песен? А может быть, взглянув на череду замет, Нечаянно поймёшь, что ты и сам поэт, До наблюдения за жизнью столь же падкий... ...Ай-яй! Да ты уже читаешь их украдкой! XXXV Где мчатся поезда, подобны злым кометам, Там стрелочника дом стоит анахоретом; Разлиты вкруг него уют, покой и мир, О коих грезит всяк спешащий пассажир. Порою женщина, неся в руках ребёнка, Выходит из дверей. Гулит малютка звонко, А мать спешит скорей к чугунному пути, Чтоб вовремя рычаг тугой перевести. Грохочет мимо них стальная колесница, Но крохотный малыш нисколько не боится! XXXVI Пустынная тропа. К белёсости небес Громадой чёрною взметнулся голый лес. На спутанных ветвях не видно малой птицы. Обложка книги издания 1875 года 147 ГРИБЫ С ЮГГОТА перевод с английского ОЛЕГА МИЧКОВСКОГО Рисунки ЕВДОКИИ и СЕРГЕЯ СЛЕПУХИНЫХ 1. КНИГА В квартале возле пристани, во мгле Терзаемых кошмарами аллей, Где призраки погибших кораблей Плывут, сливаясь с дымкой, по земле, Мой взгляд остановился на стекле Лачуги, превращенной в мавзолей Старинных книг, достойных королей, Но днесь у паутины в кабале. С волнением шагнув под низкий свод, Одну из книг раскрыл я наугад, Но с первых строк меня швырнуло в пот, Как если б я случайно принял яд. Я в страхе огляделся – дом был пуст, И только смех слетал с незримых уст. 2. ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬ Заветный том за пазухой держа И сам как будто бесом одержим, Я мчался, озираясь и дрожа, По грязным и разбитым мостовым. Из затхлой глубины кирпичных ниш За мной следили окна. В вышине Маячили громады черных крыш, Будя тоску и панику во мне. Зловещий смех по-прежнему звучал В моем воображении больном, И, думая о томе, я гадал, Какие бездны зла таятся в нем. Меж тем вдали все топот раздавался, Как если бы за мною кто-то гнался! 3. КЛЮЧ Я все никак опомниться не мог От странных слов, чей тон был столь суров, А потому, взойдя на свой порог, Был бледен – и закрылся на засов. Со мной был том, а в нём – заветный путь Через эфир и тот святой заслон, Что скрыл от нас миров запретных жуть И сдерживает натиски времен. В моих руках был ключ к стране видений – Закатных шпилей, сумеречных рощ, Таящихся за гранью измерений, Земных законов презирая мощь… Пока я бормотал оторопело, Окно мансарды тихо заскрипело. 148 4. УЗНАВАНИЕ И вновь вернулся тот блаженный час, Когда – еще ребенком – я забрел В лощину, где дремал могучий вяз И тени населяли мглистый дол. В плену растений, как и в прошлый раз, Томился символ, врезанный в престол В честь Безымянного, кому с террас Века назад кадили чадом смол. На алтаре покоился скелет… Я понял, что мечтам моим конец, Что я не на Земле в кругу планет, Но на коварном Югготе. Мертвец Исторгнул стон, за всех живых скорбя, И в бледной жертве я узнал – себя! 5. ВОЗВРАЩЕНИЕ Дух объявил, что он меня возьмет В то место, где когда-то был мой дом, В чудесный край на берегу морском, Где высится сверкающий оплот. К нему крутая лестница ведет С перилами из мрамора. Кругом Тьма куполов и башен, но пером Живописать все это – кто рискнет? Поверив искусителя речам, Я вслед за ним поплыл через закат Рекой огня вдоль золотых палат Богов, душимых страхом по ночам. Потом – сплошная ночь и моря плач. «Здесь жил ты, -- молвил дух, -- когда был зряч!» 6. ЛАМПАДА В пещере, где служили Сатане; Куда ходы нечистые вели, Прорытые исчадьями земли; Где символы виднелись на стене, Чей тайный смысл постичь, увы, не мне, Старинную лампаду мы нашли. Ее латунь сверкала и в пыли, Остатки масла плавали на дне. Нарушив сорока веков запрет, Мы свой трофей из праха извлекли И к темным каплям спичку поднесли, Гадая, вспыхнет масло или нет. Лампада занялась – и сонм теней Возник в дрожащем зареве над ней! 7. ХОЛМ ЗАМАНА Зеленый склон лесистого холма Взметнулся над старинным городком В том месте, где шатаются дома И колокол болтает языком. Две сотни лет – молва на всех устах О том, что на холме живет беда, О туловище, найденном в кустах, О мальчиках, пропавших без следа. Стоял на склоне хутор, но и тот Исчез, как испарился. Почтальон Сказал об это в Эйлсбери. Народ Сбегался поглазеть со всех сторон. И слышалось: «Почтарь-то, видно, врет, Что видел у холма глаза и рот!» 8. ПОРТ В десятке миль от Аркхэма я влез На скальную гряду вдоль Бойнтон-Бич, Спеша долины Иннсмута достичь, Пока закат не обагрил небес. На синей глади – зыбок и белес – Маячил парус. Не могу постичь, Чем он так ужаснул меня, что клич В моих устах остался без словес. Я вспомнил древний иннсмутский девиз: «Уходим в море!», и последний луч Озолотил громады сонных круч, Откуда столько раз глядел я вниз. Вдали простерся город – море крыш. Но странно – в нем царили мрак и тишь. 9. ДВОР Я помнил этот город с давних пор – Очаг заразы, где безродный сброд Колотит в гонги и молитвы шлет Чужим богам из чрева смрадных нор. Колдобин сторонясь и нечистот, Меж стен гнилых я крался, словно вор, Потом свернул в какой-то темный двор, Надеясь, что застану в нем народ. Но двор был пуст, и проклял я тот час Когда забрёл сюда, себе во вред, Как вдруг все окна осветились враз, И в них замельтешили – что за бред! – Танцующие толпы мертвецов, Все как один – без рук и без голов! 10. ГОЛУБЯТНИКИ Мы шли через трущобы. Грех, как гной, Коробил кладку стен, и сотни лиц Перекликались взмахами ресниц С нездешними творцом и сатаной. Вокруг пылало множество огней, Повсюду колотили в барабан, И с плоских крыш отряды горожан Пускали в небо черных голубей. Я знал, что те огни чреваты злом, Что птицы улетают за Предел, 149 Но с чем они вернутся под крылом – О том я даже думать не хотел. И каждый испытал священный страх, Увидев то, что было в их когтях! Пока я наблюдал, как меркнет день, Из верхнего окна донесся вой. Я поднял взор – в окне мелькнула тень, И я помчался прочь, едва живой. Будь проклят этот дом с его жильцом – Животным с человеческим лицом! 13. ГЕСПЕРИЯ Заря, в морозной дымке пламенея Над шпилями и скатами строений, В страну заветных грез и настроений Зовет меня, и я слежу, бледнея, За тем, как облака – то каменея, То истончаясь в череде вращений – Претерпевают сотни превращений, Одно другого краше и чуднее. Гесперия – страна зари вечерней. Там время начинает свой отсчет, Туда от века избранных влечет Из дольних сфер, что созданы для черни. Влечет неудержимо, но увы! – Туда не попадем ни я, ни вы. 14. ЗВЕЗДОВЕЙ 11. КОЛОДЕЦ Сет Этвуд в свои восемьдесят лет Затеял рыть колодец у ворот. На пару с юным Эбом старый Сет Трудился дни и ночи напролет. Мы думали – одумается дед, Но вышло все как раз наоборот: Эб тронулся, а Сет дал задний ход И сам себя отправил на тот свет. Как только был закопан дедов гроб, Мы бросились к колодцу – злу вине – Но в нем нашли лишь ряд железных скоб, Терявшийся в зловещей глубине. И сколь б веревка ни была длинна, До дна не доставала ни одна! 12. НАСЛЕДНИК Кто шел в Зоар, выслушивал совет: Не пользоваться бригсхильской тропой, Где старый Воткинс, вздернутый толпой, Оставил по себе кошмарный след. Отправившись туда, я увидал Плющом увитый домик под горой И вздрогнул – он смотрелся как жилой, Хотя и много лет пропустовал. 150 В тот час, когда зальется соловей И за окном затеплится свеча, По улицам, сухие листья мча, Гуляет звездный ветер – звездовей. Печной дымок, послушный лишь ему, Творит за пируэтом пируэт. Он вторит траекториям планет, А с юга Фомальгаут сверлит тьму. В такую ночь поэты узнают Немало тайн о югготских грибах И о цветах, что в сказочных садах На континентах Нитона растут. Но все, что в эту ночь приснится им, Уже к утру развеется как дым. 15. АНТАРКТОС В глубоком сне поведала мне птица Про черный конус, что стоит во льдах Один как перст. Над ним пурга глумится, На нём лежит тысячелетий прах. Та часть его, что подо льдом таится, В былые дни внушала Древним страх. Теперь о ней не помнит и Денница, Единственная гостья в тех краях. Иной смельчак, пройдя через невзгоды Ледового пути – мороз, буран – Сказал бы: «Что за странный жест природы – Создать такой диковинный курган!» Но горе мне, узревшему во сне Взгляд мертвых глаз в хрустальной глубине! 18. ЙИНСКИЕ САДЫ За той стеной, чьих лет никто не счел, Чьи башни поросли седыми мхами, Лежат сады с нарядными цветами, С порханьем птиц, и бабочек, и пчел. Там стаи цапель дремлют над прудами И царственные лотосы цветут, Там звонкие ручьи узоры ткут Среди деревьев с яркими плодами. Так думал я, наивно веря снам, В которых уж не раз случалось мне Приблизиться к внушительным вратам В той исполинской каменной стене. И вот я у стены – но где же вход? Вы мне солгали, сны! В ней нет ворот! 19. КОЛОКОЛА 16. ОКНО В старинном доме с лестницей витой, Где жили мои прадеды, одно Манило и влекло меня – окно, Заделанное каменной плитой. Невольник грёз, я с детства жил мечтой – Узнать, какой секрет хранит оно, И часто подходил к нему. Темно И пыльно было в комнате пустой. Лишь много лет спустя в свой уголок Я пару камнетёсов пригласил. Они трудились, не жалея сил, Но, сделав брешь, пустились наутек. А я, взглянув в проем, увидел в нем Тот мир, где я бывал, забывшись сном. 17. ПАМЯТЬ В огнями звезд разубранной ночи Дремала степь, вся в лагерных кострах, Чьи языки, в стада вселяя страх, Лизали мрак, остры и горячи. На юге – там, где степь во всю длину Ныряла вниз – темнел зигзаг стены, Как будто некий змей из глубины Там камнем обратился в старину. -- Куда попал я и каким путем? – Метался я, судьбу свою кляня. Вдруг чья-то тень, поднявшись над костром, По имени окликнула меня. Приблизившись, я встретил мёртвый взгляд. Зачем я пил надежд напрасных яд?! Из года в год, в часы ночного бденья, Я слышал колокольный перезвон, Протяжный и глухой. Казалось, он Заоблачного был происхожденья. Среди полузабытых грёз и снов Искал я ключ к разгадке этой тайны И, думается, вспомнил не случайно Шпиль в Иннсмуте и белых чаек зов. Но как-то в марте шум дождя ночного Взбодрил мне память, где царила мгла, И я припомнил, словно сон бредовый, Ряд башен, а на них – колокола. И вновь раздался, звукам ливня вторя, Знакомый звон – со дна гнилого моря! 20. НОЧНЫЕ БЕСТИИ Какие подземелья их плодят – Рогатых черных тварей, чьи тела Влачат два перепончатых крыла, А хвост – двуострый шип, в котором яд? Они меня цепляют и летят В миры, где торжествуют силы зла, Где разум обволакивает мгла… Их когти и щекочут, и язвят. Кривые пики Тока одолев, Мы с лёту низвергаемся на дно Геенны – там есть озеро одно, Где часто дремлют шогготы, сомлев. И так из ночи в ночь, и несть конца Визитам этих бестий без лица! 21. НЬЯРЛАТХОТЕП Он объявился под конец времен – Египта сын, высок и смуглолиц. Пред ним феллахи простирались ниц, Цвет ризы его был закату в тон. К нему стекался люд со всех сторон, Охочий до пророчеств и чудес, И даже дикий зверь, покинув лес, Спешил к Ньярлатхотепу на поклон. 151 Все знали, что настал последний час, И было так – сперва ушли моря, Потом разверзлась суша, и заря Скатилась на оплоты смертных рас. В финале Хаос, вечное дитя, С лица Вселенной Землю стер, шутя. 22. АЗАТОТ Я вторгся с вездесущим бесом в паре Из мира измерений – за Предел, Туда, где нет ни времени, ни твари, Но только Хаос, бледен и дебел. Непризнанный ваятель мирозданья, Он быстро и бессвязно бормотал Какие-то глухие заклинанья И сонм крылатых бестий укрощал. В его когтях надрывно голосила Бесформенная флейта в две дыры – Не верилось, что в звуках этих сила, Которой покоряются миры. «Я есмь Его Глашатай!», -- дух съязвил И божеству затрещину влепил. 23. МИРАЖ Не знаю, есть ли он на самом деле, И где – на небесах иль на земле – Тот край, которым грежу с колыбели, Седых столетий тонущий во мгле. Закрыв глаза, я вижу цитадели, И ленты рек, и церковь на скале, И переливы горней акварели, Точь-в-точь, как на закате в феврале. Я вижу заболоченные дали, Слежу за тенью птичьего крыла И слышу звон, исполненный печали, Со стороны старинного села. Но где тот чародей, что скажет мне, Когда я был – иль буду? – в той стране? 24. КАНАЛ В одном из снов я посетил район, Где вдоль домов, ограбленных нуждой, Тянулся ров, заполненный водой, Густой, как кровь, и чёрной, как гудрон. От вялых струй дух тлена исходил, Стесняя грудь предчувствием беды, И лунный свет сочился на ряды Пустых жилищ с осанкою могил. Ни стук шагов, ни скрип оконных рам Не нарушали мрачной тишины – Был слышен только мерный плеск волны, Уныло льнущей к мертвым берегам. С тех пор, как мне приснился этот сон, Меня терзает мысль: не явь ли – он? 152 25. СЕН-ТОУД (СОБОР СВЯТОЙ ЖАБЫ) «Сен-Тоудского звона берегись!» – Услышал я, ныряя в тупики И переулки к югу от реки, Где легионы призраков вились. Кричал одетый в рубище старик, Который в тот же миг убрался прочь, А я направил шаг в глухую ночь, Не ведая, что значил этот крик. Я шел навстречу тайне и дрожал, Как вдруг (я было принял их за бред) Еще два старца каркнули мне вслед: «Когда пробьет Сен-Тоуд – ты пропал!». Не выдержав, я бросился назад, И все же он настиг меня – набат! 26. ЗНАКОМЦЫ Селянин Джон Уэтли жил один Примерно в миле вверх от городка. Народ его держал за чудака, И, правду говоря, не без причин. Он сутками не слазил с чердака, Где рылся в книгах в поисках «глубин». Лицо его покрыла сеть морщин, В глазах сквозила смертная тоска. Когда дошло до воя по ночам, О Джоне сообщили в «желтый дом». Из Эйлсбери пришли за ним втроем, Но в страхе воротились. Их очам Предстали два крылатых существа И фермер, обращавший к ним слова. 27. МАЯК 30. ИСТОКИ Над Ленгом, где скалистые вершины Штурмуют неприступный небосвод, С приходом ночи зарево встает, Вселяя ужас в жителей долины. Легенда намекает на маяк, Где в скорбном одиночестве тоскует И с Хаосом о вечности толкует Последний из Древнейших, миру враг. Лицо его закрыто желтой маской, Чьи шелковые складки выдают Черты столь фантастичные, что люд Издревле говорит о них с опаской – Веками поминая смельчака, Который не вернулся с маяка! Меня не привлекает новизна – Ведь я родился в старом городке, Где видел из окна, как вдалеке Колдует пристань, призраков полна. Затейливые шпили золоты От зарева закатного костра, На крышах – с позолотой флюгера: Вот истинный исток моей мечты. Реликвии эпохи суеверий, Они порой прельщают духов зла, И те несут нам веры без числа Из всех миров, где им открыты двери. Они рвут цепи Времени – и я Встречаю Вечность, их благодаря. 28. ПРЕДВЕСТНИКИ 31. ДРЕВНИЙ ГОРОД Есть ряд вещей, рождающих во мне Такое чувство, будто бы вот-вот Одно из тех чудес произойдет, Какие происходят лишь во сне. Нагрянет ли незваное извне Иль сам я попаду в круговорот Безумных авантюр, пиров, охот В еще не существующей стране? Среди таких вещей – холмы, зарницы, Глухие села, шпили городов, Закаты, южный ветер, шум садов, Морской прибой, старинных книг страницы. В их дивных чарах – жизни оправданье, Но кто прочтет их тайное посланье? Он гнил, когда был молод Вавилон. Бог знает, сколько эр он продремал В земле, где наших заступов металл Из плит его гранитных высек звон. Там были мостовые и дворцы, И статуи, похожие на бред, – В них предков нам оставили портрет Неведомых ваятелей резцы. И вот – мы видим лестничный пролет, Прорубленный сквозь грубый доломит И уходящий в бездну, что хранит Знак Древних и запретных знаний свод. И мы б наверняка в нее сошли, Когда б не гром шагов из-под земли! 29. НОСТАЛЬГИЯ 32. ОТЧУЖДЕНИЕ Один раз в год над морем раздаётся Призывный клич и гомон птичьих стай, По осени спешащих в дальний край, Откуда их пернатый род ведется. Узнав о нем из грёз, они томятся По рощам, где над лентами аллей Сплелись густые ветви тополей, Где всё усеял яркий цвет акаций. Они спешат с надеждой, что вот-вот Покажется высоких башен ряд, Но, видя впереди лишь вёрсты вод, Из года в год ни с чем летят назад… И купола в хрустальной глубине Веками ждут и видят их во сне. Телесно оставаясь на Земле, Чему свидетель – пепельный рассвет, Душою он скитался меж планет, Входя в миры, лежащие во зле. Пока не пробил час, ему везло: Он видел Яддит – и не поседел, Из гурских областей вернулся цел, Но как-то ночью зовы принесло… Наутро он проснулся стариком, И мир ему предстал совсем другим – Предметы расплывались, словно дым, Вся жизнь казалась сном и пустяком. С тех пор он держит ближних за чужих, Вотще стараясь стать одним из них. 153 33. ПОРТОВЫЕ СВИСТКИ 35. ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА Над крышами и остовами шпилей Всю ночь поют портовые свистки; Мотивы их исполнены тоски По ярости штормов и неге штилей. Чужие и невнятные друг другу, Но слитые секретнейшей из сил, Колдующих за поясом светил, В поистине космическую фугу. С их звуками в туманы наших снов Вторгаются, туманные вдвойне, Видения и символы Извне, Послания неведомых миров. Но вот вопрос – какие корабли Доносят их до жителей Земли? Я разглядел ее надменный лик Сквозь зарево закатного холста. Она была прозрачна и чиста, Всё ярче разгораясь в каждый миг. С приходом тьмы ее янтарный свет Ударил мне в глаза, как никогда. Воистину, вечерняя звезда Способна быть навязчивой, как бред! Она чертила в воздухе сады, Дворцы и башни, горы и моря Миров, которым с детства верен я, Повсюду различая их следы. В ту ночь я понял, что её лучом Издалека привет мне слал мой дом. 34. ПРИЗВАННЫЙ 36. НЕПРЕРЫВНОСТЬ Тропа вела меж серых валунов, Пересекая сумрачный простор, Где из земли сквозь дыры затхлых нор Сочился тлен неведомых ручьев. Могильной тишины не оживлял Ни ветерок, ни шелест листвяной. Пейзаж был гол, пока передо мной Стеной не вырос исполинский вал. Весь в зарослях густого сорняка, Он подпирал собою небосвод, И грандиозный лестничный пролет Стремился по нему под облака. Я вскрикнул – и узнал звезду и эру, Которыми был призван в эту сферу. Предметы старины хранят налёт Неуловимой сущности. Она Прозрачна, как эфир, но включена В незыблемый космический расчет. То символ непрерывности, для нас Почти непостижимой; тайный код К тем замкнутым пространствам, где живет Минувшее, сокрытое от глаз. Я верю в это, глядя, как закат Старинных ферм расцвечивает мох И пробуждает призраки эпох, Что вовсе не мертвы, а только спят. Тогда я сознаю, сколь велика Та Цитадель, чьи кирпичи – века. 154 ТУДА И ОБРАТНО Перевод на английский АЛЕКСАНДРА ВЕРНИКОВА The poems translated into English by ALEKSANDR VERNIKOV АЛЕКСЕЙ РЕШЕТОВ (1937 – 2002) ALEXEI RESHETOV (1937 – 2002) *** Родная! Опять високосная стужа Хватает за горло средь белого дня. Пойди за меня, назови меня мужем, Вдвоем веселее. Пойди за меня! Я буду вставать далеко до восхода И ну – за работу, судьбу не кляня. Я буду кормить тебя ивовым медом И хлебом пшеничным. Пойди за меня! Не варит мне матушка зелья – забыться, Не дарит мне батюшка реза коня – Лететь и лететь во весь дух – и разбиться О камень горючий. Пойди за меня! *** My sweetheart! This leap-year’s cold so severe Is gripping my throat, I feel like I’m gone. Please, marry me, be my true wife, always near. Together it’s merrier, together it’s fun! I’ll be rising long before dawn, promptly getting To work, no matter how hard is the toil; With wheat bread and sweet honey you I’ll be feeding – Do marry me, marry me, do not recoil! My Mom won’t brew any ale – to distract me, My Dad won’t give me a stallion fast – To fly in a gallop towards wreckage directly – Oh, marry me, marry me, do it at last! *** Опущу усталую главу: Поздно для хорошего поэта Я узрел подземную траву И потоки косвенного света. То, что рядом, – надоело брать, Что подальше – все никак не трону, Только глажу новую тетрадь – Белую голодную ворону… *** I will droop down my old dome, downcast – ‘t was too late for such a decent poet That I noticed the underground grass And the rays of light, circuitous, to it. Sick and tired of objects close by, And too shy to claim what’s not so near, I’m just fondling this new pad of mine, This snow-white and hungry crow, so dear. *** Пальто и шапочку надень – Пойдем встречать обманный день. Обманем сильно сдавший сад, Что он – как много лет назад. Обманем рыхлый вешний лед, Что он напрасно слезы льет. И всех знакомых созовем, Как будто весело живем. А спор застольный закипит – Попросим: тише, мама спит. Не в темноте земли сырой, А в нашей комнате второй. *** Put on your coat so that we may Meet in the open the swindly day. Let’s diddle this garden out of its age Pretending it’s still young, let’s pledge Allegiance to this porous ice To dry its dark tear-oozing eyes. Let all our friends come to our place As if our life’s full of joy – it pays. And when towards heated talk they slip We’ll whisper, ‘Hush! Our mom’s asleep’ Not in the earth’s underground gloom But here, in this adjacent room. *** На берегу дороги дальней, Седой бродяга, блудный сын, За голос матушки печальной Я принимаю шум осин. Я в черный день не без призора: И в чистом поле небеса, *** Stopped at this winding highway distant, A gray-haired tramp, a prodigal son, I take the aspen’s leaves’ loud whisper For Mother’s voice – the tristful one. I feel at all times I’m looked after – Both the sky’s blue over a field 156 И во сыром лесу озера – Ее усталые глаза. Я глажу реденькие злаки, Внимаю шороху ветвей, И хорошо мне, бедолаге, С бессмертной матушкой моей. And the lakes’ blue are a good proof to The omnipresence of her mild And kind tired eyes. I stroke the ears In corn-fields, listening to the hum Of wind-rocked woods – and I feel near My deathless, my eternal mom. *** Я с природы осенней Серых глаз не свожу, Словно с девушкой сенной Далеко захожу. Но уже не по воле Возвращаюсь домой. Но уже я помолвлен С нелюбимой зимой. И хожу я, поручик, И красив, и высок. И свинцовою тучей Продырявлен висок. *** From this picture of fall I Cannot take off my eyes, It’s like foolishly falling For a maid in one’s house. With homecoming I tarry, It’s a duty of sorts – To come home means to marry To white winter, of course. Just promoted lieutenant, I look chic with my head At the temple neatly rended With a cloud of lead. МАЙЯ НИКУЛИНА (р. 1937) MAYA NIKULINA (b. 1937) *** Тем и жили, что рекой. Вот и почта фронтовая Приходила по реке, без руля и без ветрил. Бойко веслами гребла почтальонка молодая, Репродуктор на столбе про Победу говорил… *** It’s by river that they lived. And the letters from the frontline Were delivered by the river – in a punt without a sail A mailwoman, young and hefty, paddled merrily for miles; on A lamp-post, the loudspeaker our sure Victory would hail. И теперь живут рекой. И столетние старухи, Как в былые времена, плакать ходят на причал. Не от немощи беда, не от голода поруха – От того, что на столбе репродуктор замолчал. Even now they live by river; and the hundred- years-old Women would, as in years bygone, go out to the pier to mourn – It’s not weakness, it’s not famine that makes them all feel like mauled, It’s because the loudspeaker on the post has stopped to drone. От того, что по реке вместо лодочки бедовой Ходит серый пароход с красным бантом на трубе, От того, что вместо слов, а вернее, вместо слова Шепоточек шебутной с шелухою на губе. It’s because the punt has vanished, and instead of it a steamboat Courses up and down the river with its funnel painted red, It’s because the words have died out, and instead of them the loud Silly whisper of the music from the steamboat is being shed. СТЕПЬ STEPPE И то красавица – вся воздух и простор, На все четыре стороны пустая, То каменной коростой прорастая, То солью сеясь из горячих пор, Вся – пересол, громада, перебор, С чем ни сравни, заведомо другая, Вся, если цвет, то я его не знаю, И если звук, то сухостойный хор, Где стрекозиный вертится мотор И крошится погода слюдяная. A beauty, isn’t she? – All made of space and air, All void, whichever way your glance is cast – Now getting overgrown with rocky crust, Now exhaling salty patches here and there. She is all too much salt, excessive in all things, Incomparable, quite different in advance, Her color – it has no name, and once You hear her sound you can’t but think she sings In myriads of hollow-centered herbs and wings Of dragon-flies that cut the mica weather in their dance. Гудящая, сводящая с ума, Горячая такая, что зима Охолодить ее не успевала, Широкий свет и корневая тьма, With her dementing everlasting hum, So hot that winter has no strength to numb Her with its most severe frostbites, she is teeming With broad daylight and darkness of the dumb 157 Удобренная солнцем до отвала, Забывшая о низменной потребе Кормить и есть, в цветущей нищете Бегущая к спасительной воде С корабликом на выгоревшем небе. And mute black earth-bound roots, and seeming To have bypassed the lowly need of feeding And that of eating, in blooming poverty, She runs to water’s saving safety – With a small ship in its sky, pale, heat-fading. *** Зачем куда-нибудь, когда в Бахчисарай – Там теплится сентябрь в долинах защищенных, И лучшие места под солнцем полуденным Не заняты никем – любое выбирай. *** Why go to somewhere else but to Bakhchysarai? There in the shielded vales, September keeps on gleaming, And places in the sun—one might be only dreaming Of—are just for the asking, so go ahead and try. Там внятны и легки старания зимы И время ничего не стоящего снега Не более чем знак, склоняющий умы К величию огня и верного ночлега, Its simple winter toils are easy to discern; Its snowfall season there is brief and unimportant, No more than just a sign to help one better learn The greatness of a hearth and of a roofed abode and К величию жилья на улочке кривой, К значению семьи, работы, урожая, К безликости любви, к обыденности рая Меж каменных опор под крышей золотой. That of a dwelling in a narrow winding street, That of a family, of work, of harvest gleaning, Of love anonymous, and of the daily need To live in Paradise under a rustic ceiling. Там сыплется в подол сухая синева, Там все так долго есть, что хитрости не надо, И просто обменять вчерашние слова На яблоки из завтрашнего сада. Into the lap of robe, there pours down azure hay, And everything there is looks artless and eternal And one can simply trade one’s words of yesterday For apples from tomorrow’s garden vernal. *** Слёту в окошко в такую рань торкнулась птица пока синица… Сегодня приснился Бахчисарай… Значит завтра Стамбул приснится… *** Flying full tilt at the crack of dawn A bird – just a tit – has hit the window… Last night’s dreams of Bakhchisarai spawn Those of Istanbul – then of tender Нежная Греция… острова… Это душа на исходе ночи воспоминает свои права жить и дышать, где она захочет… Greece, of its numerous islands… It Is the soul in its night wanders That’s recollecting – bit by bit – Its ancient rights to live where it wants to. То ли обещанный нам потоп пересидеть под родимой крышей, то ли, доверившись знаку свыше выпорхнуть в форточку… и потом Shall one, despite the predicted Flood, Stay in one’s house, one’s native dwelling Or maybe, following and obeying This as a sign, better take to flight, выпасть из птичьего каравана – ласточкой, уточкой – все равно, не долетая до Инкермана, чтобы на землю, а не на дно. And, later on, from this caravan – Be it of ducks, be it of swallows – Simply to drop short of Inkerman, So as to land – not to sink in billows. *** Дыханием, желанием единым Утрату одолеть и превозмочь, Осилить два коленца соловьиных И повторить торжественную ночь *** With single breath and unified desire To overcome the loss and put it right, To imitate the nightingales’ night choir And to re-live anew that solemn night С боярышником тесным и пахучим В древесной влажнодышащей толпе, Где мелким блеском, кратким и колючим, Блестит кремень на выбитой тропе, With its hawthorn, most thick and sorely fragrant Amid the lush and moistly-breathing trees, With the well-trodden path where bare and flagrant Flint-rocks would glisten here and there, with 158 Где наши разноцветные палатки Большим венком уложены в траве Под берегом, где ласточки и лодки Живут в таком стремительном родстве, Our multicolored tents arranged wreath-like In lush and soft engulfing grass of green Along the bank where swallows and boats swift-like Exist in such a speedy kinship that you, in Что ты, устав от долгого ночлега, От легковерных дружеских забав, Перебежал по лодкам через реку, Реки не расплескав. A single dash, too headlong to believe it – Fed up with all the camping and its fun – Have run upon the boats across the river With not a splash, not one. ЮРИЙ КАЗАРИН (р. 1955) YURI KAZARIN (b. 1955) *** Все позади – судьба и лебеда И старый бог, помянутый не в суе, Когда сойдемся тесно, навсегда, Зубами чокаясь при поцелуе… *** We’re through with all, both destiny and chance, And good old god, appropriate to mention, When finally we clench each other – once And for eternity in this last kiss’s tension. Солоноватый привкус бытия, И на кусте качается пилотка. И в толчее густого комарья Играет на воде пустая лодка It’s a bit salty and it tastes of life… My forage cap is off and stuck in brush as In a mosquitoes’ mist, in its suspended dive, An empty boat is dancing in the rushes. *** Как долго лошадь пьет из лужи сначала ноздри, очи, уши свои, потом кусок небес и в кромку врезавшийся лес. *** A horse is drinking down a puddle And sucking slowly from its middle His own nostrils, eyes and ears, The sky and woods that seem to pierce И дождь идет, у нас бывает – он лупит вкось по пузырям, и лужа ноздри раздувает навстречу розовым ноздрям. The puddle’s rim. And it is raining Quite hard, in steady slanted runs; The bubbling puddle is dilating Its nostrils towards the horse’s ones. Целуйтесь, два лица природы – и жажда жизни и любовь, Пока несут над бездной своды Вода и кровь, вода и кровь. Do kiss, two faces of the Nature – The thirst for life and love’s hot flood, While o’er the Deep they jointly venture To prop the welkin – water, blood. *** Как выпал снег, так пишется о снеге. Так часто о любимом человеке Не говорят, как говорят о снеге. *** As snow has fallen, so one writes about snow, One seldom speaks of someone loved, for all I know, As tenderly as one does speak about snow. А за окном такая благодать, Что страшно слово лишнее сказать: Мальчишки увязают и собаки Не могут пухлых двор перебежать. It is so beautiful beyond the window-pane That to pronounce a single word is quite a pain. Both boys and dogs that seem to sink in snow Have hard time crossing both the yard and lane, И строки эти вязнут на бумаге. И страшно слово лишнее сказать. Likewise these lines appear to sink in snowWhite paper – and to write them is a pain. *** В этом доме был вчера покойник. Окна – настежь, комнаты пусты. Сядет воробей на подоконник. Дедушка посмотрит с высоты. *** There was a dead man in this cottage Yesterday – the windows are agape, Still – the rooms, a sparrow as in dotage Sits upon the sill, late grandpa’s shape 159 Бабушка развесила бельишко. Варится картошка в чугунке. Спит в саду зареванный мальчишка С яблоком надкушенным в руке. Shows in the high clouds, grandma’s washing Hangs upon the line, the grub is on The hot stove, a little blubbered urchin In the garden sleeps while holding on Видит он: на кладбище копают, Старики заглядывают в сад. Слишком высоко они летают – Мальчики туда не долетят. To an apple he’s giv’n a couple of big bites, In his dream he sees a grave being dug, The old folks in one of their high flights – Too high e’en for kids that have some pluck. *** Чтобы вырезать дудку из ветки в лесу, Нужен мальчик-заика и ножик, И река, и чтоб небо щипало в носу, И пыхтел под рябинами ежик. *** It would take a little stuttering boy with a knife To cut out a thin pipe from a bough, and Some small stream nearby, and the nose-tickling sky, And a hedgehog to puff at a rowan. Скоро дождик равнине вернет высоту, В одуванчике высохнет ватка. Rain will make this flat land feel as if it is placed Higher up, with its features a-glitter. После ивовой дудочки горько во рту, После ивовой музыки сладко. Made of willow, the pipe is quite bitter to taste; Made with willow, the music is sweeter. БОРИС РЫЖИЙ (1974-2001) BORIS RYZHIY (1974-2001) *** Я пройду, как по Дублину Джойс, сквозь косые дожди проливные приблатненного города, сквозь все его тараканьи пивные. *** I will walk through my hustling Sverdlovsk, Through its roach-ridden pubs, acid showers, Quite like once did a Dubliner, Joyce, In the smallest, the oddest of hours. Чего было того уже нет, и поэтому очень печально написал бы уральский поэт – у меня получилось случайно. No traces of what there had been And some poet, some local, no doubt, Would have written of it, full of spleen – I am casual in what I recount: Подвозили наркотик к пяти, а потом до утра танцевали, и кенту с портаком «ЛЕБЕДИ» неотложку в ночи вызывали. Dope arrived in the late afternoon, Then we danced all night through, till the daybreak, And a chum, a tattoo-covered goon, Did crash out doing one of his great breaks. А теперь кто дантист, кто говно и владелец нескромного клуба – идиоты! А мне все равно – обнимаю, целую вас в губы! What are they now? A dentist, a shitHead, an owner of a gay-club, a dealer – Wretched fools! But I don’t give a spit – Here my hugs and wet kisses, my dears! Да, иду, как по Дублину Джойс, Дым табачный вдыхая до боли. Here I’m not loved for my voice, I am loved for my existence only. Yes, I’m walking my city like Joyce Walked his Dublin – chain-smoking and lonely. Here I’m not loved for my voice, I am loved for my existence only! *** В кварталах дальних и печальных, что утром серы и пусты, где выглядят смешно и жалко сирень и прочие цветы, есть дом шестнадцатиэтажный, под домом тополь или клен *** In quarters faraway and dismal, Gray and deserted in the morn Where lilacs and all other flowers Look shabby in the rays of dawn There is a multistory building And under it a maple or 160 стоит ненужный и усталый, в пустое небо устремлен; стоит под тополем скамейка, и, лбом уткнувшийся в ладонь, на ней уснул и видит море писатель Дима Рябоконь. Он развязал и выпил водки, он на хер из дому ушел, он захотел увидеть море, но до вокзала не дошел. Он захотел уехать к морю, оно – страдания предел. проматерился, проревелся и на скамейке захрапел. Но море сине-голубое, оно само к нему пришло, и, утреннее и родное, заулыбалося светло. И Дима тоже улыбнулся. и, хоть недвижимый лежал, худой и лысый, и беззубый, он прямо к морю побежал. Бежит и видит человека на золотом на берегу. А это я никак до моря доехать тоже не могу – уснул, качаясь на качели, вокруг какие-то кусты. В кварталах дальних и печальных, что утром серы и пусты. A poplar, untoward and tired, Grows to the empty sky, what’s more There is a bench under that poplar And on that bench, asleep and prone, And seeing in his dream a sea, lies A writer Dima Ryabocone. He has relapsed and left his home, His family, his wife, his life – He’d wanted to some sea to go But failed to reach the railway line. He’d wanted to the sea to go – It puts to suffering an end – He’d sworn, he’d sobbed and fall’n exhausted Upon the bench, my poor friend. The sea, though, in its hues of azure Came to him of its own accord, So tender, soothing and caressing, So smiling, and in smiling broad. So Dima also smiled, and although As standstill as a log he lay, Bald, scraggy, toothless as he was, he Ran right towards the sparkling bay. He runs and notices a person Upon a golden sandy beach, And it is nobody but me who, Likewise, the sea’s unable to reach. Asleep I fell upon a swing in The very early misty morn In quarters faraway and dismal, Gray and deserted at the dawn. *** *** Л. Тиновской For L. Tinovskaya Мальчик-еврей принимает из книжек на веру гостеприимство и русской души широту, видит березы с осинами, ходит по скверу и христианства на сердце лелеет мечту, следуя заданной логике, к буйству и пьянству твердой рукою себя приучает, и тут – видит березу с осиной в осеннем убранстве, делает песню, и русские люди поют. Что же касается мальчика, он исчезает. А относительно пения, песня легко то форму города некоего принимает, то повисает над городом, как облако. A credulous Jewish boy takes from the books as for granted Russian magnanimousness, as depicted in art, He walks in a park, watches birches and aspens, enchanted, Fosters a Christian dream in his sensitive heart . To keep with this logic he makes himself practice Drinking in earnest and ways of a hooligan, and Suddenly seeing the autumnal flaming of birch-trees, Makes up a song and the Russian people chant. As for the Jewish boy he disappears somehow, As for the song, with a nonchalant grace, It either takes on a shape of some town Or overhangs that same town with a white cloudy lace. *** На окошке на фоне заката дрянь какая-то желтым цвела. В общежитии жиркомбината некто Н. кроме прочих жила. *** Silhouetted against a red sun-set Yellow stinkers in pots on the sill Of a hostel-room bloomed – so it chanced Some N. N. from a cannery mill В полулегком подпитье являясь, я ей всякие розы дарил. Раздеваясь, но не разуваясь несмешно о смешном говорил. There did live. Under influence slightly I would call upon her with a rose, And about important things slightingly Spoke to her having on all my clothes. 161 Трепетала надменная бровка, матерок с алой губки слетал. Говорить мне об этом неловко, но я точно стихи ей читал. How they quivered, her arrogant brows, How sweetly her scarlet lips pursed! It’s a shame, but I swear, my vows – I read out to her poems, be I cursed. Я читал ей о жизни поэта, четко к смерти поэта клоня. И за это, за это, за это эта Н. целовала меня. I recited the life of a poet Firmly steering him to his death, And because of it, yes, I do know it, She would listen to me out of breath. Целовала меня и любила, разливала по кружкам вино. О печальном смешно говорила, Михалкова любила кино. She would listen to me and she kissed me, With cheap red wine my glass she would fill, She could turn into fun what was tristful She praised high Mikhalkov’s good old films. Выходил я один на дорогу, чуть шатаясь, мотор тормозил. Мимо кладбища, цирка, острога, вез меня молчаливый дебил. Then I’d leave; on a desolate highway Slightly lurching, a cab I would hail, And a taciturn blockhead would drive me Past a grave-yard, a circus, a jail. И грустил я, спросив сигарету, что, какая б любовь ни была, я однажды сюда не приеду. А она меня очень ждала. I would ask for a cigarette – sadly Pulling at it I’d think of a day I would not come to this N. N. – hardly Any love, e’en the greatest, can stay. *** Молодость мне много обещала, было мне когда-то двадцать лет, это было самое начало, я был глуп, и это не секрет. *** Youth had promised me of gifts a plenty When at the beginning of my road I had stood, a foolish boy of twenty – This can readily be understood. Это, – мне хотелось быть поэтом, но уже не очень, потому что не заработаешь на этом и цветов не купишь никому. I had wanted to become a poet, Although, frankly, not too craving, as You can’t make a decent living on it Nor buy flowers for a girl, I guess. Вот и стал я горным инженером, получил с отличием диплом, не ходить мне по осенним скверам, виршей не записывать в альбом. So I have become an engineer, Excellently graduated from The Academy of Mining – never Like a poet in dark parks I’ll roam. В голубом от дыма ресторане слушать голубого скрипача, денежки отсчитывать в кармане, развернув огромные плеча. In a restaurant blue with cigar smoke Shall I listen to a fiddler gay, Wallet thick with bucks caress and stroke In my coat’s pocket, toughest guy. Так не вышло из меня поэта и уже не выйдет никогда. Господа, что скажете на это? Молча пьют и плачут господа. This is how I missed “The Poetry” boat Never to catch up with it again. Gentlemen, what will you say about it? Silence: drink and weep the gentlemen. Пьют и плачут, девок обнимают, снова пьют и все-таки молчат, головой тонически качают, матом силлабически кричат. Drink and weep while hugging their pick-ups, Drink and weep and drink in silence dead, In syllabics voicing their hiccups And in tonics shaking their heads. 162 МАЭСТРО Художник Нафтали Безем. КОВЧЕГ ПРОРОКОВ Монолог мудреца – это диалог с самим собой, а диалог дураков – это два монолога.. Константин Мелихан «Метафизические парадоксы» *** Нафтали Безем - маленького роста и худ. Его легко принять за подростка, если не видеть лица. Его всегда принимали за подростка. Даже в армии не послали в боевые части, а отправили в канцелярию – благо, умел писать и читать на иврите лучше многих сверстников, приплывших вместе с ним из Германии. Их тогда долго держали на рейде из-за оформления документов, а когда высадили на берег Тель-Авива, он упал. От тревоги зачастую начинались спазмы желудка, и тогда его выворачивало наизнанку. По-видимому, он казался таким беспомощным и несчастным среди юных репатриантов, шумно радовавшихся солнцу и пальмам, что на него обратила внимание Генриетта Сольд, руководившая сионистской организацией «Молодежная Алия», и взяла под свою личную опеку. Потом, в разговоре через шестьдесят лет Безем признается, что в тот день предчувствовал что-то ужасное. Спустя две недели началась война, названная мировой, хотя никто еще не мог понять всех масштабов происходящей катастрофы. Но его постоянно терзала тревога за родителей. Из Эссена их давно депортировали в припограничный польский городишко Збоншинь, оттуда время от времени доходили весточки, потом все реже и реже, внезапно появился штемпель с непонятным названием «Аушвиц», а в 1943 году пришло письмо, написанное чужим почерком, но он так ничего и не понял. Больше писем не было. Понимание появилось только потом, после войны, когда вдруг оказалось, что он – круглый сирота. Один на белом свете. Все, на что он мог опереться – это новые друзья и... страна. Зарождающееся государство, поставившее перед собой цель собрать таких же бездомных евреев со всего мира, как и он. 164 Мадонна в бараке. 1952. А эти евреи приехать не могли – они томились в лагере для перемещенных лиц на Кипре. Британцы, под чьим мандатом находилась Палестина, не спешили дать убежище тысячам обездоленных жителей Европы, сгоревшей в пламени ненависти и безумия. И тогда его, уже набравшегося преподавательского опыта в Школе Искусств «Бецалель», отправили по линии Еврейского Агентства (Сохнут) помочь несчастным, организовать для них кружок рисования, занять, отвлечь от тяжелых воспоминаний. Отправили не одного, а в сопровождение Ханы Либерман, молодой художницы, которая родилась в Палестине в семье первопроходцев и была, что называется кровь от крови, плоть от плоти Земли Израиля. Вернулись они мужем и женой. За поездкой на Кипр последовала поездка во Францию: для переправки беженцев нужны были документы, которые получить быстро и законным путем было невозможно. И ждать, пока власти проявят милость в решении жизненно важных вопросов, было тоже невозможно. Приходилось «оформлять» требуемые бумаги, что нисколько его не смущало – ведь, речь шла о спасении людей. Тогда, в послевоенном Париже он стал свидетелем движения за социальную справедливость, которым руководила коммунистическая партия: толпы рабочих вышли на улицу. Его опьянила мощь огромной массы людей, она показалась ему той единственной силой, что способна противостоять фашизму, погубившему все самое для него дорогое. 165 На улицах Парижа. 1951. 166 Родители. 1951. *** В отличие от многих своих европейских товарищей по цеху, увлечение Безема социальным реализмом не являлось следствием разочарования в буржуазной морали и желанием «хорошенько проветрить затхлый чулан» – он даже не успел познать эту мораль. Его общественный порыв был столь же естественен, сколь был естественным для большинства молодых израильтян, оставивших за спиной родные пепелища и прах близких. Пепел отцов постоянно стучал в их сердца: измученные ночными кошмарами, они жаждали видеть вокруг себя только сильных людей, способных постоять за себя. Они отвергли прошлое, лишний раз не вспоминая о нем (долгие годы в Израиле вообще было не принято говорить о Холокосте), и с воодушевлением принялись за строительство нового общества. Их убеждения были даже не социалистическими «с человеческим лицом», а коммунистическими, родственными убеждениям библейских пророков, сетовавших на бездуховность современников и верящих в светлое будущее, в котором непременно наступит всеобщее благоденствие и народы «перекуют мечи на орала» (Исайя, 2:4). Целое поколение израильтян, а то и два, мечтая построить свой «Третий Храм» – царство Добра, в качестве примера видели перед собой государство рабочих и крестьян, представлявшееся им несокрушимой Мощью, посрамившей Зло. Воспитываясь на советской пропаганде, неотъемлемой частью которой было изобразительное искусство, они были влюблены в демонстрацию здоровья, силы, уверенности в своей правоте – во все то, что с избытком можно увидеть на политических плакатах того времени. В этом явственно чувствовался и подспудный протест против судьбы своих галутных родителей – обреченных на гибель обитателей европейских местечек. Безем влился в ряды так называемых «мобилизованных» художников, чье творчество служило политическим целям кибуцного движения и партии МАПАМ. Среди них были такие мастера графики и живописи, как Авраам Браунштейн, Моше Гат, Дани Караван, Шмуэль Кац, Гершон 167 Книспель, Авраам Офек, Рут Шлосс, Йоханан Симон, Шмуэль Цабар, Шрага Вайль. Однако, в отличие от большинства коллег, его не столько увлекал созидательный процесс безликих масс и обобщенные портреты строителей нового общества, сколько судьба «маленького» человека, социальная несправедливость, а, более всего – протест против насилия. Пожалуй, именно последняя тема была для него основной в том периоде жизни. Решительнее, чем все остальное, она отделила его творчество от реализма социалистического, «воспевающего начальство в доступной ему форме», по образному определению писателя В. Войновича, и приблизило к реализму иному – критическому. К тому самому, что дал миру гоголевского Акакия Акакиевича, Макара Девушкина Ф. Достоевского, героев романов Ч. Диккенса и О. Бальзака. Хотя, если взять в расчет язык времени, то скорее, приходят на память произведения Генриха Белля и Ганса Фаллады. Процесс кристаллизации «своей» темы шел постепенно, и его эволюцию можно проследить почти в хронологическом порядке. Одна из значительных работ раннего периода – «На улицах Парижа», написана в 1951 году и вызвала весьма благожелательную критику. Собственно, придраться там не к чему – все принципы соцреализма были тщательно соблюдены: буржуазный Запад, потрясаемый кризисами, протест трудящихся, масса транспарантов с призывами «Миру – мир!», на переднем плане негр, инвалид с костылем (жертва войны), пролетарий в синем комбинезоне и женщина с ребенком, держащим в ручонках рисунок с голубем (явная цитата Пикассо). Думается, что и сегодня при взгляде на эту запрограммированную идиллию с делегированием всех социально-этнических групп апологеты политкорректности умильно бы зацокали языками. Однако с Беземом все оказалось сложнее: настоящий творец редко бывает «примерным учеником», гораздо чаще он бунтует, идет против течения и вырывается из уготованной ему колеи. *** Тогда, в начале 50-х, в работах Безема еще ощущалось влияние художников – коммунистов Р. Гуттузо, П. Пикассо, Д. Сикейроса, Б. Шана («Двое в комнате», «Гладильщик», «Беседа в кибуце», «Строительный рабочий», «Работница в поле», «Хайфский порт»), но уже стала проявляться некая тенденция, заставившая кибуцных идеологов пристальней всмотреться в своего товарища: «свой ли?». Картина «Родители» изображает семейную пару на фоне шкафа с предметами еврейского быта: стаканчиками для кидуша – субботнего благословения, семисвечником – менорой, посудой. Мать одета в домашнее платье, в то время как на отце подчеркнуто европейский костюм, он в плаще и шляпе. Шкаф, шляпа еще появятся, и не раз. Эти символы будут переходить от работы к работе на всем протяжении творчества Нафтали Безема. Личные мотивы оказываются выше общественных, и это не совсем встраивается в «композицию», партийных теоретиков, однако, таких работ становится все больше и больше. А в 1952 году на выставке представлено большое полотно «В помощь морякам», вызвавшее неприятный осадок уже не только у идеологов, но и у «государственных мужей». На картине изображена забастовка рабочих хайфского порта, поддержанная членами кибуцного движения. Вроде бы, классический идейно-выверенный сюжет объединения пролетариев (буквально, по Марксу!), однако взгляд зрителя невольно притягивается к заднему плану – к массе людей справа. Они одеты в зеленую униформу, вооружены и выглядят весьма угрожающе. Для социалсионистской атмосферы современного израильского искусства это было новой темой. Темой насильственного противостояния Власти и мирного человека. Лидеры молодого государства, гордящиеся близостью к народу, вдруг наяву услышали голос одного из пророков: «А вы ненавидите добро и любите зло; сдираете с них кожу их и мясо с костей их» (Михей, 3:2). 168 В поддержку моряков. 1952. Картину запрещали выставлять, Безем судился, выиграл процесс, ее выставили на всеобщее обозрение, скандал следовал за скандалом, но то были пока что «цветочки». И за этой работой последовала другая, которая на сей раз просто взорвала все израильское общество. Она была написана по следам событий, произошедших 29 октября 1956 года на въезде в арабскую деревню Кафр Касем, расположенную вблизи городов Петах – Тиква и Рош – Айн. Прямо за деревней начиналась Самария – область, относившаяся в ту пору к Иордании. В результате начала Суэцкой войны внезапно (буквально, мгновенно) изменились условия комендантского часа в приграничных районах. Об изменениях не успели сообщить людям, с утра вышедшим работать в поле, и, когда те возвращались к себе домой, по ним был открыт огонь бойцами взвода пограничной полиции под командованием лейтенанта Габриэля Дахана. В итоге убили 47 человек, половина среди которых – женщины и дети. Неуклюжие попытки начальства замять дело без особой огласки не увенчались успехом и этому делу дали ход. Расследование быстро выявило обстоятельства произошедшего, и суд наказал виновных. Полковник Иссахар Шадми, незаконно введший комендантский час, был символически оштрафован на 10 прутот. Майор Малинки, командир батальона, отдавший приказ «стрелять в любого араба, появившегося на улице после начала комендантского часа» и лейтенант Дахан, выполнивший этот приказ предельно точно, получили по 17 и 15 лет соответственно. При этом они не были раздавлены тяжелыми тюремными условиями: их выпустили по амнистии в 1959 году и предоставили возможность занять неплохие должности. Обнародованная история вызвала тяжелую психологическую травму всех слоев общества. Убитые не были ни врагами, ни пособниками врагов. Они являлись гражданами Израиля, точно такими же, как и все остальные, только другой национальности. Вся их «вина» заключалась в том, что они попали в нелепую ситуацию, спровоцированную преступным недомыслием местной военной администрации или чьим-то жестоким замыслом. Безема не увлекли ни теории заговора, ни многочисленные политические дискуссии вокруг «Кфар-Касемской бойни» (кстати, они не прекращаются и по сегодняшний день), он просто опять увидел ненавистную картину: бездушная машина перемалывает «маленького человека», отнимая не только «шинель», которая честь и достоинство, но и саму жизнь. Возможно ли такое в Израиле, на Святой Земле? Художник пишет «Во дворе Третьего Храма». Женщины на фоне Меноры – символа Святости, оплакивают убитого родственника, сжимающего в руке израильское удостоверение личности. Работа очень напоминает «Гернику» Пабло Пикассо, представляя сцену бессмысленного насилия, зверства, страдания, беспомощности и отчаяния. 169 Во дворе Третьего Храма. 1957. Вслед за Пикассо, Нафтали Безем мог бы заметить: «Чего только не довелось мне услышать о моей «Гернике» и от друзей, и от врагов». Его укоряли слева и справа, обвиняли в антипатриотизме, чуть ли, не в государственной измене, угрожали физической расправой, какие-то «очень умные» художники даже не постеснялись перевернуть картину и испортить стену в выставочном зале, написав на ней, что их коллега продает страну. А он недоумевал: «О какой политической подоплеке все они говорят? Плач по невинно убитым – это политика? Назвать мерзость мерзостью – это политика?» Громкоголосые радетели за «государственные и национальные интересы» умолкли через год, когда Безема наградили престижной Премией Дизенгофа за выдающееся достижение в искусстве, признав тем самым неотъемлемое право художника на самовыражение. О своей пресловутой «радикальной левизне» в то время и о своих убеждениях художник говорит просто и без обиняков: «Я, действительно, испытывал благодарность Стране Советов за победу над Гитлером, кстати, и по сегодняшний день это чувство меня не оставило. Если б не Красная Армия, конец был бы не только евреям, а всему миру. Да ведь с коммунистами никогда и не спорили по поводу идей, только действия вызывали сомнения. Я был близко знаком со многими из них – из тех, кто ратовал за создание государства рабочих, абсолютно игнорируя его еврейский характер, не желая понимать, что это наш единственный национальный очаг. Среди них были и талантливые художники – Шимон Цабар, например. После становления Израиля Цабар уехал в Лондон и оттуда яростно критиковал сионистов. Я с ним не соглашался, но, по крайней мере – это честный поступок. Если ты враждебно настроен – уезжай! Я не состою ни в каких партиях. Только работаю всю жизнь. Скажу тебе так: по прошествии 74 лет, что я здесь, мне абсолютно ясно, что Израиль – это колоссальный успех, возможно, уникальный в современной истории. Беда лишь в том, что мы не устроены для справедливости...» «Никто в мире не устроен для справедливости», – возражаю я. Безем соглашается: «Никто». 170 *** Примерно в то же время, когда гремели скандалы на живописных выставках Безема, израильские коммунисты потерпели два сокрушительных удара. В 1952 году по приказу Москвы была смещена вся правительственная верхушка Чехословацкой Республики, причем «Пражский процесс» носил явный антисионистский и почти нескрываемый погромно-антисемитский характер. 11 руководителей партии и государства (из них 8 евреев) были казнены. И это явилось первым потрясением для идеологов строительства нового общества на Ближнем Востоке по советскому образцу. Второе настигло их в феврале 1956 года, когда с трибуны XX съезда Никита Хрущев объявил о беззакониях и массовых репрессиях в период правления Сталина. Съезд был закрытым для прессы, но стенограмма случайно попала в руки журналиста польского агентства печати Виктора Граевского (под таким «нейтральным» псевдонимом трудился Виктор Абрамович Шпильман), который передал ее в израильское посольство. В результате, копии секретных бумаг оказались на западе, и сегодня даже невозможно себе представить, какое влияние они тогда оказали на весь мир. В израильских кибуцах, традиционно начинавших день с пения «Интернационала», наступил апокалипсис: никто не знал, что делать с портретами любимого вождя – оставлять висеть на видном месте или снимать и прятать в чулане? Буквально, как в поэме Александра Галича: «А это ж Гений всех времен, Лучший друг навеки! Все стоим ревмя ревем...». 171 Вход в музей Яд ва-Шем. Нафтали Безем стоит перед настенной скульптурой «Катастрофа и Героизм». Но смятение в партийных рядах вряд ли коснулось Нафтали Безема: меня не оставляет ощущение, что к тому времени он уже жил вне идеологии МАПАМа и кибуцного движения. Все чаще и чаще в его картинах возникают образы Холокоста. Все больше и больше художник отстраняется от социального реализма, ставящего общественное над личными переживаниями, и входит в нелегкий диалог с самим собой, со своей семьей, с домом, народом, страной. Этот диалог ведется на языке символов жертвы, света, тьмы, веры, страдания, гибели и возрождения. Снова и снова появляются в его творчестве предчувствие гибели, приметы смерти, надежды, новой жизни. Наверное, самым известным произведением, вобравшим в себя многие элементы, повторяющиеся в будущих картинах, стала рельефная скульптура «Катастрофа и Героизм», закрепленная на стене у входа в Иерусалимский мемориал «Яд ва-Шем» (сегодня ее можно увидеть на выходе из музея). Она состоит из четырех частей. Первый фрагмент, расположенный слева, представляет образ Катастрофы. Перевернутую женщина, представляющую гибель еврейского «местечка», машина уничтожения втягивает в крематорий. Женщина держит в руках подсвечники с потухшими свечами – это символы поруганной святости. Чуть правее – перерезанная рыба: жертвенная смерть. Второй фрагмент – Героизм восставшего народа. Человек с запрокинутым вниз лицом, рвется из охваченного пламенем дома, сжимая в одной руке горящее копье, в другой – лестницу, символ надежды (намек на лестницу Якова). Третий фрагмент: Восхождение к Земле Обетованной. Человек, в европейском костюме сидит в лодке, спасаясь от ужасной катастрофы. Лодка управляется веслами, в которых угадываются предметы храмовой утвари – знак избавления. Её нос грозит копьем, не обещающим врагу легкой добычи – еврейский народ не собирается сдаваться без боя. Шофар – образ свободы, закреплен на корме в виде руля. Четвертый фрагмент горельефа расположен справа и символизирует становление Государства Израиль в виде льва. По щекам льва стекают слезы – память о шести миллионах погибших евреев. На спине его стоит светильник с горящими свечами. Тот самый перевернутый подсвечник из первой части вернулся на свое место: народ не погиб, он возродился на новой земле, земле своих предков, связь с которой отображена в виде растущего кактуса «сабры» – уроженца Страны Израиля. 172 «Хана и Ицхак».1951г. *** Десятиметровую скульптуру Нафтали Безем создавал в 1970-1971гг., будучи жителем яффского «Квартала художников». Этому предшествовал целый ряд событий. Когда в 1965 году у руководства города возникла идея «оздоровить» огромный припортовой пустырь, кишащий уголовниками всех мастей, то было решено создать там нечто, вроде послевоенного Берлина или парижского Монмартра. Для этой цели планировалось привлечь мастеров искусств выгодными условиями проживания. Свято веря в великую притягательность «богемы» для широкой публики, власти озаботились тщательным отбором претендентов и создали комиссию из самых авторитетных деятелей культуры, пригласив в нее Безема. Кстати, с атмосферой Яффо он был знаком не понаслышке, поскольку выставлял там собственные работы в галерее Жана Тироша. Поначалу дело шло неплохо: удалось убедить нескольких известных мастеров поселиться в этом романтичном, но совсем неблагоустроенном месте. Спустя несколько лет и сам Безем пожелал приобрести студию для работы в доме своей ученицы Софии Киселевой и ее мужа-архитектора. Там и начал выкраивать заготовки для будущей отливки. О своей жизни в Яффо мастер вспоминает без особой ностальгии. Жил, что называется, на два дома: в Тель-авивской квартире оставалась жена, прикованная к постели многолетней тяжелой болезнью. Утром отправлялся в мастерскую на автобусе, вечером возвращался на такси: выбираться в одиночку из глухого района было небезопасно. Приезжал за ним один и тот же шофер-«йеменец», обслуживавший местный криминалитет. «Он был приятным человеком», – вспоминает Безем, – «но однажды пропал. По слухам, его убили. Многие вспоминали о нем с теплотой, даже «народную» песню сочинили...». Соседи из арабского квартала «Аджами» вызывали у него симпатию: «Несколько раз меня обворовывали, но, если было что-то нужное – возвращали без вопросов. Они не брали картины, они брали только то, что можно продать, брали пиво. Ничего не поделаешь – люди жили этим. Зато, когда забывал ключи (я рассеян!), они, те же самые, что воровали, забирались в дом каким-то, известным только им, способом и любезно открывали». Особой благодарности Безема удостоились домушники, обчистившие мастерскую на конечном этапе работы над большой скульптурой «Катастрофа и Героизм», о которой шла речь выше. Все ее части выкраивались из пенопласта го- 173 рячим ножом, который раскалялся на огне: дело очень кропотливое и неспешное, поскольку одного нагрева хватает всего на три надреза. Так он трудился почти два года. И вот, наконец, все было закончено, собрано воедино и десятиметровое сооружение встало вертикально, ожидая утренней перевозки в поселок Ор-Йехуда для дальнейшей отливки по приготовленному шаблону. Чтобы хрупкая заготовка случайно не опрокинулась, мастер на ночь подпер ее палкой швабры к стене и уехал домой. А ночью в студию залезли воры и перерыли все вверх дном, искали деньги, которых не было, – но, счастье! – они даже пальцем не задели скульптуру, которая держалась только «на честном слове». «Депрессия тогда была не от них, а от полицейских, допрашивавших меня грубо в присутствии сына. Они производили отвратительное впечатление своей необразованностью, отсутствием культуры и безобразным поведением. В Израиле нет нормальной полиции», – заключает художник. В то же время художник завершает одну из самых трудоемких своих работ – роспись потолка в доме Президента Израиля, состоящую из 60 квадратов по 160 сантиметров каждый. В Яффо Нафтали Безем пробыл года три или четыре, точно не помнит. Мастерскую пришлось оставить из-за переезда в Иерусалим, ближе к Аврааму Офеку, старому товарищу, замечательному художнику, нуждавшемуся в то время в дружеской поддержке. Там, в Иерусалиме, и случилась беда. «Похороны». 1983 Утром 4 июля 1975 года Нафтали послал старшего сына, юного студента архитектурного факультета, в магазин, расположенный на Сионской площади в самом центре города. В это время туда же подъехал мотороллер, с которого арабские «рабочие» сгрузили холодильник и оставили возле дверей. А через несколько минут прогремел взрыв, ответственность за который взяла на себя Организация Освобождения Палестины. Среди 19 погибших числился Ицхак Безем. Пережить потерю первенца было невозможно. Безутешные родители оставили Израиль и уехали в Европу. «Горный воздух полезен Хане», – решил Нафтали. На самом деле, спасался и он сам… 174 «Человек, несущий дом». 1998 Все чаще в его картинах встречаются евреи над разверзнутой могилой, все чаще возникает образ пророка Авраама, занесшего нож над сыном, принося его в жертву. Видит ли Безем себя таким? Или вопиет в ужасе подобно другому пророку, лишившемуся всего, даже лица своего: «О, если б Ты в преисподней сокрыл меня, и укрывал меня, пока пройдет гнев Твой, положил мне срок, и потом вспомнил обо мне!» (Иов,14:13)? Носит Нафтали по безбрежному океану, меняет он страны и города, продолжает писать картины. В них те же символы, что и прежде: львы, рыбы, кактусы, лестницы, весла. В них Иерусалим и пустыня, населенные странными людьми. В них одинокий мужчины с бородой, бережно несущий свой дом, в освещенном окне которого видна женщина. Он опутан корнями, прирастающими к растрескавшейся каменистой почве, над головой его парит ангел с детским лицом, а за спиной – пылающий куст. Тот самый, что назван «Неопалимой Купиной» в сказании о пророке Моисее, стремящемся к Земле, заповеданной ему Всевышним. Спустя десятилетия, Нафтали Безем возвратился в Израиль. Его не забыли, несмотря на длительное отсутствие. В начале 2013 года Тель-авивский Музей искусств устроил выставку работ художника, на которой были представлены все периоды творчества. Успех был ошеломляющий, картины посмотрели не только израильтяне, но и заграничные ценители живописи, приехавшие специально для того, чтобы увидеть живую легенду. Безем опроверг мнение, что «нет пророка в своем отечестве». Вернисаж собрал редкое количество посетителей; каталог был раскуплен моментально и понадобился дополнительный тираж. Завершала экспозицию огромная скульптура «Лодка». В ней, рядом с лестницей Якова и зажженными подсвечниками – символами Веры и Надежды – стоит художник, наклонившийся вперед, словно Ной, увидевший спасительный берег. 175 «Лодка». 2012 176 ХОРОШО ПРИ СВЕТЕ ЛАМПЫ… СТРАННИК ДУХА Эссе Моему сыну Филиппу было 16 лет, когда он подарил мне этот карандашный рисунок, который с тех пор уже многие годы висит над моим письменным столом. И я особенно часто на него поглядываю теперь, когда начал вплотную работать над биографией Блейка — моего любимого художника и поэта. Здесь я предлагаю читателям одну из глав моей будущей книги. Филипп Фирсов: Портрет Уильяма Блейка (2001) Бескрайна ль эта плоская земля? — не может странник Измученный в подлунном мире знать наверняка. И неба Заверть для него уж позади; но путнику На Вечности тропе неведомы ещё земные Вихри. («Мильтон» 15:32—35) Шёл 1803 год. Это был уже третий год, как Уильям Блейк поселился в Фелфаме, в 70 милях (или 112 км) к юго-западу от Лондона — самое далёкое расстояние, на которое он когда-либо отдалялся от того места, где родился. Давние его мечты о поездке на континент — во Францию, Испанию и, особенно, в Италию, где он собирался совершенствовать своё мастерство художника, так никогда и не сбылись, до конца жизни он ни разу не покинет Англию. Но ничто не мешало ему пересекать морской пролив, видневшийся в окне его рабочей комнаты, и странствовать по Европе, Азии, Африке и даже Америке, не сходя с места — в своём пылком воображении. Впечатления от таких путешествий он описал и в своих длинных поэмах, и в коротких стихах: 178 Песнь Свободы (фрагмент) Рыдает Вечная Жена, и стон летит повсюду, Но тих усталый берег Альбиона, луга Америки дрожат, И Призраки Пророчества колышатся над реками, озёрами, шуршат над океаном: «О, Франция, разрушь свою темницу!» «Испания златая, сокруши преграды Рима!» «Брось в бездну, Рим, ключи свои, пусть их поглотит вечность!» ... «Довольно золото считать, вернись к вину и ладану о, Иудей!» «О, Африканец, чёрный Африканец! Пусть мысль крылатая расширит лоб его». Темза и Огайо Зачем мне в смущенье взирать на народ, Омываемый жижей продажных вод? Иль в рабском усердье творить поклоны, Косясь на подлые Темзы законы? Рождённый на низменной лжи берегу, От вод зловонных скорей убегу, Пусть грязь мне отмоют Огайо воды — Там был я рабом, здесь глотну я свободы! Но можно мчаться и дальше, на самый край света, и даже за его пределы, на Луну, например, или в тот мир, где кончается материальное и начинается царство Духа, чтобы затем по тропе Вечности возвратиться в этот бренный мир, с любопытством оглядывая его земные Вихри уже глазами Духовного Странника. Подобные путешествия Блейк проделывал не раз, оставив множество свидетельств такого опыта. Одним из них оказалась тоненькая тетрадь, вошедшая в историю поэзии под названием «Манускрипт Пикеринга». Эта беловая рукопись 12х18 см., исписанная аккуратным чётким почерком без иллюстраций и каких-либо украшений, получила своё странное название от имени её временного владельца, издателя Бэзила Монтегю Пикеринга (1836—1878), который купил её на аукционе Сотбис за 7 фунтов и 5 шиллингов в 1865 году. Но стихи из этой рукописи к тому времени были уже опубликованы во втором томе «Жизни Блейка» Александра Гилкриста (1863). Данте Габриэль Россетти, составивший этот дополнительный том, поместил в нём также комментарии своего брата Уильяма Майкла Россетти. «Манускрипт Пикеринга» а) «Странник Духа» (начало); б) Серый монах (окончание) и «Прорицания Невинности» (начало) Почти все стихи этой тетради можно отнести к жанру баллады — излюбленному жанру блейковского горе-покровителя Уильяма Хейли, вообразившего себя поэтом. В тетради всего 22 страницы и 10 стихотворений: 1) Улыбка; 2) Златая Сеть; 3) Странник Духа; 4) Долина Снов; 5) Мэри; 6) Хрустальный Чертог; 7) Серый Монах; 8) Прорицания Невинности; 9) Длинный Джон Браун и Малютка Мэри Бэлл; и 10) Уильям Бонд. Все они условно датированы 1801—03 годами, 179 то есть, временем жизни Блейка Фелфаме. Многие из них производят загадочное впечатление, и над раскрытием смысла или расшифровкой их тайного кода бьётся уже не одно поколение литературоведов, так и не пришедших к общему мнению. Однако все они сходятся в том, что стихи эти прекрасны и глубоки по содержанию, что они захватывают и обладают невероятной мощью, и вместе с тем мастерски отточены, являя собой важнейшее, что Блейк написал в этом жанре. Два стихотворения из них всегда выделяют особо — это «Прорицания Невинности» и «Странник Духа». Первое — это богатая коллекция афоризмов изложенных в основном двустишиями, а по смыслу напоминающих его же «Пословицы Ада» из «Бракосочетания Рая и Ада», хотя мысли здесь иные. Что же касается «Странника Духа», то в его 26 катренах обозначены 26 стадий некоего сложного жизненного процесса, который затем превращается в бесконечно повторяющийся цикл. Стихотворению посвящено множество аналитических статей и даже книг, интересных глубоким проникновением в философский и мифологический мир Блейка, а также дискуссиями по поводу различных его прочтений и интерпретаций, что может помочь читателю, а может и помешать сформировать собственное о нём представление. Русскому читателю стихотворение это знакомо по многократно публиковавшимся переводам Виктора Топорова и Сергея Степанова. Здесь же предлагается новый перевод1. Странник Духа 1. В Страну Людей: Мужей и Жён Меня дороги завели, И ужас тот, что я узрел, Неведом странникам Земли. 2. Зачать Дитя там — скорбный труд, Но в радости рожает мать, Так тяжко сеять семя нам, Но в радость — урожай сбирать 3. Родится Сын — и на скале Распнёт его Старуха вмиг, В златые чаши соберёт Она и стон его, и крик. 4. Венчая тернием чело, Пронзает длани остриём, И сердце вырвав из груди, Томит то хладом, то огнём. 5. И Жилку каждую его Она считает, как Скупец, И с каждым днём Она юней, И с каждым днём взрослей юнец, 6. И вот уж Дева перед ним, Он — Юноша и, весь в крови, Её цепями обвязав, С ней предаётся он любви. 7. И в Жилку каждую Её Себя он семенем кладёт, Она ему и Дом и Сад, Что плодоносит каждый год. 8. Бесплотной Тенью Дом Земной Обходит он — совсем без сил, И блещет злато, что трудом Он в дольней жизни накопил. 9. Здесь все сокровища его: Рубины слёз, души алмаз, И смертный мученика стон, И изумруд влюблённых глаз. Ранний вариант перевода опубликован: Уильям Блейк. «Манускрипт Пикеринга», перевод Д. Смирнова-Садовского. Журнал «Побережье», вып. 20, 2013, Филадельфия США. 1 180 10. И мясо это, и питьё, Он с Нищим делит, с Бедняком, Для Странника всегда открыт Его гостеприимный Дом. 11. Cкорбь Старика — их вечный Рай, Кольцом возводится стена, Пока из пламени костра Не явится Дитя-Она. 12. Вся золото и жемчуга, И вся огонь — младая стать, Старик не знает как Её Понежить иль запеленать. 13. Богач иль бедный, стар иль млад — Кому отдаст она теперь Свою любовь? Им станет тот, Кто Старца выставит за дверь. 14. И Старец сгорбленный, слепой, Бредёт рыдая и скорбя, Пока в далёкой стороне Не сыщет Деву для себя. 15. И чтоб согреть свой хладный век, В объятьях Деву сжал Старик, Но Дом пропал, и Сад исчез, И Гости разбежались вмиг: 16. Глаза, меняя мир вокруг, В смятенье чувства привели, В кружащий Шар преобразив Окружность плоскую Земли. 17. От страха сжались в небесах – Все Звёзды, Солнце и Луна, И нет ни пищи, ни питья, Лишь Пустошь чёрная одна. 18. Глазами Девы соблазнён, Он с вожделеньем ест и пьёт Манящих губ вино и хлеб И сладостной улыбки мёд. 20. Как Лань бежит она, чей страх, Засеял дикий лес пред ним, За ней он мчится ночь и день, Любви безумствами томим. 21. В Любви искусной Лабиринт И в Ненависти Лес, увы, Бескрайний превратился мир, Где бродят Волки, Вепри, Львы. 22. Но вот опять младенец он, И вновь состарилась она, И в мире вновь царит Любовь, А в небе — Солнце и Луна. 23. Приносит рощица восторг Тем, кто скитался средь песков, Отрадно в городских домах И в хижинах у пастухов 24. Но в страшный час найдут Дитя, Чей грозен лик. «Беда! Беда! Оно явилось!» — закричат И разбегутся кто куда. 181 25. Коснёшься гневного Дитя — Рука отсохнет до корней, Львы, Волки, Вепри побегут, Попадают плоды с ветвей. 26. Коснётся гневного Дитя, Старуха, чтоб затем средь скал, Распять его, а дальше всё Пойдёт точь-в-точь, как я сказал. Стихотворение непосредственно, без всякого комментария, сильно воздействует на читателя, но при этом многие детали кажутся труднообъяснимыми, странными и даже абсурдными. Блейковский Странник повествует о некой стране, которая находится за пределами Земли, ибо «земные путешественники о таких ужасах никогда не слыхали». Но затем, словно забыв об этом, он поселяет своих героев в «Земной Хижине» (строфа 8), над ними светят «Солнце, Луна и Звёзды» (строфы 17, 22), а «плоская Земля превращается в Шар» (строфа 16). Многие аттрибуты говорят, что описываемый здесь мир очень похож на земной, однако время в нём может идти вспять, и одни люди стареют, в то время как другие молодеют, что и приводит к ужасающим последствиям. Странно также, что Дитя там зачинают «в ужасном горе», а рождают его «в радости», но явление его в этот мир наводит на всех страх и обращает в бегство. Блейк наполняет стихотворение множеством намёков аллюзий и даже почти прямых цитат, как например, в конце второй строфы парафраз из Библии: «С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои» (Псалтирь 125:5). Другая библейская ассоциация — «хлеб и вино», символ плоти и крови Господней Блейк превращает в «пищу и питьё» и даже, более откровенно, в «мясо и питьё». Дева, соблазняющая и омолаживающая Старика, ассоциируется с библейской Раав, иерихонской блудницей, которая в мифологии самого Блейка, объединяясь со своей дочерью Фирцей, олицетворяет земную форму Матери-Природы (Валы), а также физическую сущность человека и все его чувства. В строфе 23 есть намёк на Моисея, выведшего народ Израиля из Египта и приведшего его к прохладным рощам и пастбищам Земли Обетованной после сорока лет скитаний по пустыне. Три зверя, Лев, Волк и дикий Кабан напоминают трёх зверей из Первой песни дантовского «Ада» — Пантеру, Льва и Волчицу, вопощающих сильнейшие человеческие страсти: чувственность, властолюбие и жадность. В самой Библии эти три зверя олицетворяют врага: Волк — символ злого человека, лжепророка; Вепрь — безнравственное и вредоносное начало, подрывающее под корень виноградную лозу; Лев, представляющий силу и мужество, в этом контексте означает опасность, вражескую мощь, воплощение Диавола или Сатаны. Дитя, распятое на скале, намекает сразу на Иисуса, Прометея и блейковского Орка. Его чело, увитое терниями подтверждает, что это Иисус, а сердце, вырванное из груди приводит на память миф о Дионисе. Cбор его стонов в золотые чаши (строфа 3) — излюбленный образ Блейка, неоднократно им повторенный, например: Вкруг гибнущих они танцуют, пьют их вой и стоны, Мешая в кубках золотых предсмертные их крики, Как если б это был любви божественный напиток… («Мильтон», 27:37—39) В предисловии к первой публикации Данте Габриэль Россетти признавался, что стихотворение показалось ему «неразрешимой загадкой», которою он собирался исключить из собрания «ввиду её непонятности, несмотря высокую поэтическую красоту». Однако брат убедил его своими пояснениями, которые, по словам составителя, «несомненно верны». Комментатор объяснял стихотворение как взаимоотношение идей и меняющихся условий их существования, а также как борьбу старого и нового. «Духовный Странник – это исследователь мыслительного феномена. Мыслительный феномен символизируется здесь развитием какой-либо большой идеи, или движением мысли, как например: Христианство, рыцарство, искусство и т. д. — представленное прохождением через такие стадии, как 1) рождение, 2) невзгоды и гонение, 3) триумф и зрелость, 4) перезревание и упадок. 5) постепенное преображение в новых условиях в обновлённую Идею, которая снова должна пройти через все те же этапы. Другими словами, поэма представляет действие и повторное действие Идей на общество и общества на Идеи». Далее в подтверждение своей концепции он разбирает строфу за строфой: «2. Идея зачинается в муках и рождается с энтузиазмом. 4. Если эта идея мужская и стойкая по своей природе, она подпадает под контроль и подвергается наказанию со стороны уже существующей структуры общества (старуха). 5. По мере развития Идеи, старое общество трансформируется в новое (старая женщина молодеет). 6. Идея теперь обретает свободу и доминирует, объ- 182 единяясь с обществом, подобно браку. 8. Она постепенно стареет и истощается, живя только на духовных сокровищах, накопленных в те дни, когда она была полна сил. 10. Эти сокровища ещё служат для различных целей, принося практическую пользу, и внешне Идея находится в своей наиболее процветающей стадии, даже если у неё подрублены корни. 11. Ореол власти и традиции, или репутации, собирается вокруг идеи, что символизируется рождением блистательной [женщины-]дитя явившейся из очага. 13. Эта репутация покидает Идею и объединяется с тем, кто захватывает власть ранее принадлежавшую Идее (подобное, как мы видим, случается с папской или королевской властью); Идея остаётся в тени своей репутации и вынуждена принять её как своего заместителя. 14. Бездомная Идея скитается, пока не находит то общество, с которым может объединиться («пока не завоюет деву»). 15—17. Находя его, Идея оказывается совсем в иных условиях. 18. Идея «впадает в детство», становится новой идеей, действуя в новом обществе в изменившихся условиях. 20. Но Идея и общество не становятся единым целым; общество убегает, а идея его преследует. 22. Здесь мы возвращаемся в первоначальную ситуацию. Идея начинает свою новую жизнь — это младенец, а общество на которое эта идея работает, стареет — это уже не справедливая девственница, но пожилая женщина. 24. Идея оказывается настолько новой и непривычной, что чем она ближе, тем больше она возбуждает ужас. 26. Никто не может иметь дело с Идеей, чтобы развивать её в полной мере, за исключением старого общества, с которым она вступает в контакт, и это может произойти только начиная с дурного с ней обращения, как раньше, при этом (как и в начале) она снова подвергается воспитательным мерам, чтобы затем одержать окончательную победу». Йейтс (1925) считал что «Странник Духа» навеян идеями Сведенборга, главным образом, изложенными в позднем «Духовном дневнике» шведского теософа-мистика. Также находясь под их влиянием, Йейтс искренне считал себя единственным, кто правильно понял смысл блейковской баллады, и объяснял её с позиций своей эзотерической концепции, называемой «Видение». Для описания пути души и истории Йейтс ввёл два основополагающих понятия-символа: «спиралей» и «двойных конусов», которые по мере расширения взаимно проникают друг в друга, а затем сходятся в точку — таким представлялся ему закон всякого развития. Он писал: «Когда Эдвин Дж. Эллис и я закончили большую книгу по философии Блейка, я почувствовал, что мы не понимаем этого стихотворения: мы объясняли его детали, потому что они перекликаются с другими местами в его стихах или картинах, но не стихотворение в целом, не миф вечного возвращения к одному и тому же, ни то, что заставило Блейка это написать; но когда я понял идею двойных конусов, я понял и это стихотворение. Женщина и мужчина — две конкурирующие спирали, растущие одна за счёт другой, но в случае с Блейком недостаточно сказать, что одна из них — красота, а другая — мудрость, ибо Блейк распространяет этот конфликт на все виды любви — будь то любовь между стихиями, как у Парменида, либо «распутная любовь», как у Аристотеля, либо любовь между мужчиной и женщиной — которая заставляет каждого быть рабом и тираном по очереди. Также и в нашей системе, где основной принцип это отделение каждого от своей противоположности — и его победа заключается в разделении и «самопоглощении». Существование одного зависит от существования другого». Нортроп Фрай (1947) попытался по-своему разобраться в стихотворении и объяснить главную странность этой истории, которой мы не наблюдаем в нашем земном мире — то есть, обратный рост от старости к младенчеству. «Новая жизнь начинается не с момента рождения: она начинается с эмбриона в утробе матери. Но каждая мать, это частица Матери-природы, и хотя жизнь младенца может отрываться от своего непосредственного родителя, она не может избежать обволакивающей защиты природной среды. Поэтому Орк оказывается по отношению ко всей Природе, вечным эмбрионом. Но лишь небольшая часть природы формирует реальную среду для какой-либо формы жизни, и последняя может получить значительный контроль над этой небольшой частью в зависимости от своих творческих сил. Жизнь человека обладает такой силой в большей мере, чем жизнь кого-либо ещё, являясь вершиной всего исторического цикла, когда были совершены обширные и драматические преобразования природы. Какова бы ни была форма Орка, он рождается беспомощным и зависит от Матери-природы. По мере того, как он становится старше, он получает больший контроль над ней, и она, в этой связи, если символика последовательна, должна молодеть, то есть перестать быть его матерью и стать его женой». Кэтлин Рейн (1967) предложила иное прочтение, указав, что непосредственным источником этого сюжета является платоновский миф о Дионисе: «...источником структуры «Странника Духа» является миф Платона «Великий Год» [или «Великий цикл»] . Стихотворение Блейка вероятно основано на притче Платона из диалога «Политик» где повествуется о чередовании в истории Золотой расы и земнорождённой расы. Бог Са- 183 турн (правитель Золотого Века) в один период времени управлял миром и его круговращением, а в другой — пускал его на самотёк, предоставляя миру раскручиваться самому, подобно освобожденной пружине. В царствование Сатурна, согласно мифу, мужчины росли не как сейчас, от младенчества к старости, но от старости к младенчеству, так же как и Младенец Блейка. Убийство бога Диониса связывалось в этом культе с началом нового цикла, и Блейк (который знал легенду о Дионисе по диссертации Томаса Тейлора «Об Элевсинских мистериях и Дионисе» — книга, которую Йейтс также знал), последовательно основывает на нём свой миф о «Младенце», который подвергается процессу жертвенного «схождения» в мир времени, и затем, возвращается к вечной жизни, как и Младенец-Дионис, возрождённый из сердца, сохранённого богиней Афиной. Женщина-Дитя у Блейка олицетворяет материальное начало (традиционно это всегда женщина), и власть женщины-блудницы, чередуется с доминированием мужчины и принципом разума. Женщина эта одновременно и Юнона-разрушительница [то есть, Гера, жена Зевса, призвавшая Титанов разорвать Диониса, сына Зевса и Семелы, земной женщины] и Афина, хранительница сердца бога». Элиша Острайкер (1977) изложила более широко распространённую точку зрения, считая, что Блейк изобразил здесь сложную историю взаимоотношений Человека и Природы: «Это аллегория истории человечества, представленной в виде процесса переменного доминирования мужского и женского начал. Мужчина, который начиная с младенца, становится юношей, зрелым человеком, стариком и, наконец, снова малышом, является фигурой, подобной Иисусу-Прометею или Человеку вообще, воплощающему в себе потенциальный гений и энергию человечества. Женщина, которая проявляется по-разному, как старуха, девственница, маленькая девочка и, наконец, снова старуха, воплощает в себе всё то, что может управлять мужчиной, препятствовать ему, сбивать его с пути. Им подобны персонажи более развёрнутых произведений Блейка, это Орк (Революция) и Вала (Природа)». В России также делались попытки найти ключ к пониманию этого стихотворения. Здесь следует назвать комментарии Евгения Владимировича Витковского (1975), Алексея Матвеевича Зверева (1982) и Александры Викторовны Глебовской (2000). Витковский писал, что «стихотворение в фантастической форме вскрывает извращённость отношений в современном Блейку обществе»; Зверев видел в нём «аллегорию, изображающую тернистый и причудливый путь Свободы через века истории, как представлял себе этот путь автор»; по мнению Глебовской, «в этом стихотворении Блейк прослеживает собственный духовный путь, а также — в виде обобщения — путь всего человечества». Во всех этих рассуждениях и трактовках наверняка имеется доля истины, но до конца объяснить стихотворение они не в состоянии — смысл остаётся таким же загадочным, как и был до того. Однако в этом нет большой беды — ведь мир, в котором мы живём также полон загадок, которым вряд ли когда-либо найдётся исчерпывающее объяснение. Напомним слова Блейка из письма преподобному доктору Траслеру: «...Вы должны знать, что Великое непременно туманно для Слабых людей. То что Ясно каждому Идиоту, не стоит моего внимания. Мудрейшие из Древних считали не вполне Ясное наиболее подходящим для инструктивных целей, поскольку оно развивает способность к действию. Я говорю о Моисее, Соломоне, Эзопе, Гомере и Платоне». Блейк твёрдо знал, что Поэзия, как любое другое Искусство, невозможна без тайны. Именно тайна, заключённая в стихах, музыке, живописи и делает их глубокими, объёмными, многозначными, волнует и очаровывает, пробуждая от бренной спячки и превращая нас в Странников Духа. Джеймс Девилль. Прижизненная маска У. Блейка (1823) 184 НЕВЕРНАЯ НИТЬ АРИАДНЫ 185 ИСТОРИЯ ОДНОЙ КНИГИ (перевод с китайского – автора) Моя докторская диссертация, защищенная в Чикагском университете, была посвящена литературе русской эмиграции в Китае. Я выбрала эту тему по совету моей преподавательницы русского языка Иссы Заубер, рекомендовавшей написать диссертацию о «чем-нибудь особенном». Как-то я рассказала Иссе, что не знала о существовании русской эмигрантской художественной литературы в Китае, пока несколько лет назад не натолкнулась в библиотеке на сборник стихотворений под названием «Русский поэт в гостях у Китая». – Так и пишите об этом, – немедленно сказала Исса. В то время мое знакомство с русской эмигрантской литературой ограничивалось этим сборником, но после слов Иссы я поняла, что хочу заниматься именно этим. В то время я знала только, что в первой половине ХХ века в Китае жили «белые русские эмигранты». Даже среди моих пекинских преподавателей были их дети. Но как они попали в Китай, почему среди 56 народов, проживающих в Китае, есть и русские – об этом я никогда не задумывалась и никого об этом не спрашивала. После разговора с Иссой я пошла в университетскую библиотеку, выяснить, нет ли в электронных каталогах библиотек Северной Америки русских изданий, выходивших в Китае. Мне сказали, что теоретически это возможно, но на деле найти ничего не удалось. Тогда я обратилась непосредственно к библиотекарю славянского отдела Джун Фаррис, которая, к моему удивлению, сразу же отвела меня в зал, где обнаружился каталог зарубежной русской периодики, содержавший сведения о том, где выходил тот или иной журнал. Мне удалось выяснить названия нескольких журналов, издававшихся в Харбине, Шанхае, Тяньцзине, Дальнем и Ухане в 20-40 годах двадцатого столетия, однако это были всего лишь названия, а не художественные произведения. Тем не менее, постепенно мне удалось найти воспоминания нескольких беженцев, покинувших Россию во время гражданской войны, и следы их жизни на Дальнем Востоке. Постепенно в голове стала складываться картина из разрозненных фрагментов. Следующим этапом стал поиск исследователей, занимавшихся проблемой русских беженцев на Дальнем Востоке. Я начала рассылать обычные и электронные письма и получила несколь- 186 ко ответов с названиями книг и именами авторов воспоминаний русских беженцев, но их было очень немного. Тогда я еще не знала, что исследованиями этого вопроса уже занимался профессор Хэйлунцзянского университета Дио Шаохуа. Не знала я и того, что в Харбине сохранились газеты, которые издавали русские эмигранты, и того, что профессор Ван Чжи-чжэн из Академии общественных наук Шанхая выпустил монографию «История русских эмигрантов Шанхая». Естественно, я думала, что если нужные мне книги и журналы издавались в Китае, то искать их надо именно там, например, в какой-нибудь маньчжурской библиотеке, среди стопок старых бумаг, однако на деле все оказалось не так просто. Меня спрашивали: «А что Вы будете делать, если найденное окажется никому не нужным мусором»? Но я была убеждена, что для того, чтобы оценить произведение литературы и понять, стоит ли его изучать, прежде всего его необходимо найти. Мне удалось получить грант, и в начале лета 1996 года я поехала в Харбин. А потом начались путешествия по всему миру. Я побывала в Хабаровске, Пекине, Шанхае, Сан-Франциско, Торонто, Вашингтоне, Амхерсте, на Гавайях, в Москве, Санкт-Петербурге и голландском городе Лейдене. Я и не представляла, что в поисках материала для диссертации мне придется брать интервью у глубоких стариков, общаться с учеными четырех континентов, читать личные письма эмигрантских авторов, и уж конечно, мне не могло прийти в голову, что я буду переписываться с государственными организациями России и США, в первую очередь с ФСБ и ФБР. РУССКИЕ ЭМИГРАНТЫ И ХАРБИН В настоящее время одна из самых известных достопримечательностей Харбина – собор Святой Софии, отремонтированный и заново открытый в 1997 году. За год до этого, когда я ездила в Харбин, его «русские черты» были еще видны, но постепенно исчезали с каждым днем. Например, одно бледно-желтое здание русского стиля, находившееся в самом южном конце бывшей Китайской улицы, было снесено при мне, буквально «у меня на глазах». Тогда в Харбине повсюду сносили старые, в том числе и русские дома, а рядом строили новые современные здания. Незадолго до моего приезда профессор Архитектурного университета Харбина Чжан Хуайшэн издал монографию со многими замечательными фотографиями «Искусство архитектуры Харбина». Он мне сказал, что большинство фотографий было снято им за последние годы, но к выходу книги многие из запечатленных на них домов исчезли. Мне показалось, что Харбин почти не отличим от других знакомых мне китайских городов. И, тем не менее, у Харбина есть свои отличительные особенности. Во-первых, в нем находилась и находится единственная в то время в Китае православная церковь. В середине 1990-х годов священником церкви был китаец Чжу Шипу. Съездив в одно дождливое воскресенье на церковную службу, я увидела, что прихожан собралось совсем немного: двое-трое русских и несколько человек, бывших полурусскими, полукитайцами. После службы ко мне подошли две старушки и начали рассказывать о жизни русских эмигрантов и их детей в Харбине. Неожиданно в разговор вмешалась женщина средних лет и строго спросила: «Ты откуда? Что тут делаешь? Ты православная?» Когда я ответила, что нет, она скривилась и сказала, что нельзя беседовать с христианами в церкви. Отвечать на мои вопросы о жизни и культуре русских харбинцев она категорически отказалась. 187 До поездки в Харбин я читала воспоминания эмигрантов, в которых говорилось, что русское кладбище города уничтожили во время «культурной революции», но у входа в церковь одна полурусская женщина сказала мне, что это не так, и что кладбище было перенесено на окраину города, на кладбище Хуаншан. Я решила убедиться в этом, увидеть своими глазами, и после службы поехала туда на автобусе. Моим гидом была дочь профессора Хэйлунцянского университета Жао Лянлуня. Директор кладбища Лю Дюнь сказал нам, что бывшее русское кладбище – так называемое Новое кладбище – было перенесено сюда в 1959 году, то есть еще до «культурной революции», и что большинство могил на кладбище Хуаншан не было разрушено хунвэйбинами и существуют до сих пор. За последние годы на могилы своих родственников не раз приезжали русские бизнесмены. На холмах находилось около 1200 могил русских православных, неподалеку от которых было расположено еврейское кладбище (около 800 могил). На некоторых надгробных памятниках были фотографии, а на последующих захоронений были написаны по-китайски. Профессор Жао Лянлунь нашел для меня уведомление городских властей 1959-го года относительно перемещения кладбища, из которого я узнала, что причиной перемещения стало расширение города. Профессор Жао помог мне уточнить и то, что на кладбище Хуаншан были перемещены могилы только тех лиц, родственники или знакомые которых зарегистрировались у городских властей, остальные же, по решению властей, были уничтожены. Вначале я решила, что все это соответствует истине, но в 1997 году мне довелось встретиться в Москве с 84-летним русским поэтом-эмигрантом из Харбина. Он рассказал мне, что его мать умерла в Харбине, была похоронена на Новом кладбище, но ее могила исчезла. Его слова напомнили мне о том, что в 1996ом году я встретилась в Калифорнии с внуком другого русского эмигранта, посещавшим два раза в Харбин в 1980-х годах, чтобы найти могилу дедушки, но так ее и не нашел. Вспоминая эти встречи, я поняла, что история русского кладбища далеко не так проста, как я представляла. В самом центре Харбина, в городском Парке культуры, на месте бывшего Нового кладбища, все еще похоронены русские – это советские солдаты и офицеры, погибшие во время второй мировой войны в боях с японской армией. Ворота на кладбище крепко закрыты, но через щель между створками виден памятник с эпитафией по-русски: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость Союза Советских Социалистических Республик!» Другой такой же памятник 1945 года стоит недалеко от вокзала рядом с Провинциальным музеем. Эпитафия на этом памятнике написана на двух языках: русский текст тот же самый, а китайский гласит: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость Китая!» Я видела, как две школьницы копировали китайскую эпитафию, и подумала, что они не знают русского языка. Как-то я спросила одного харбинского профессора, почему русский и китайский тексты различаются, и он ответил: «Тогда мы подчеркивали одну дружбу между Китаем и Советским Союзом и поэтому закрыли один глаз…». 188 Чжу Шипу Со священником харбинской православной церкви отцом Григорием (в миру Чжу Шипу) я встречалась дважды, первый раз в церкви, второй – во дворе за церковью, около его кабинета. Отец Григорий – высокий, седовласый мужчина с низким голосом. К моему большому удивлению, он говорил по-китайски с чистым пекинским произношением. Наша вторая встреча произошла в будний день, поэтому он был в обычном костюме, а не в белой рясе. Он сказал, что родился в Пекине и принял православие в детстве из-за бедности семьи, что служил в церкви при Православной миссии, приехал в Харбин в начале 1950-х годов и остался тут навсегда. Я вспомнила, что русский поэт Валерий Перелешин, когда-то дьякон Герман, также служил в Православной миссии, и спросила отца Григория, не помнит ли он его. Отец Григорий ответил, что помнит, но не очень отчетливо, так как в то время он был совсем юным и посоветовал мне поехать в Пекин и узнать о дьяконе Германе у другого православного священника, Ду Лифу, который живет недалеко от бывшей Миссии и на много лет его старше. ИСПЫТАНИЯ В ПЕКИНЕ На территории бывшей Миссии находится посольство Российской Федерации. Сейчас этот район перегружен машинами и автобусами, но в середине 1990-х годов он выглядел почти таким же, каким, как я помню, был четверть века тому назад – тихим, с многочисленными аллеями и невысокими домами. По указаниям отца Григория я нашла дом священника Ду Лифу и не без труда узнала от соседей, что он недавно переехал в новый дом. Потом, через одного его родственника, я нашла его дочь, которая сказала мне, что отец болен раком, ему только что сделали операцию, и к нему не допускают посетителей. Ге Баоцюань Той же осенью я планировала поехать в Шанхай для сбора материалов о русских эмигрантах и по дороге посетить Нанкин, чтобы встретиться с переводчиком русской поэзии Ге Баоцюаня, бывшего коллегой Перелешина, работавшего для ТАСС в Шанхае в 1940-х годах. Ге Баоцюань перевел «Двенадцать» А. Блока на китайский, причем Перелешин помогал ему. Мы с Ге Баоцюанем когда-то были коллегами в Институте иностранной литературы Академии общественных наук Китая, и я слушала его лекцию о «Капитанской дочке» Пушкина в студенческие годы, но никогда с ним не общалась. Другой бывший коллега, главный редактор журнала «Мировая литература» Гао Ман, узнав о моем плане заехать в Нанкин, посоветовал сначала узнать о здоровье Ге Баоцюаня, а потом решить, поехать к нему, или нет. Но, к своему удивлению, Гао Ман нашел только адрес, а не домашний телефон Ге Баоцюаня, и мне пришлось послать ему телеграмму от имени Гао Мана с просьбой позвонить. Тем же вечером супруга Ге Баоцюаня позвонила Гао Ману и спросила с тревогой в голосе: «Что-то случилось?» В середине 1990-х годов у каждой китайской семьи в городах был телефон, а телеграммы стали большой редкостью и поэтому могли вызвать удивление и даже панику. Что касается моего плана, супруга Ге Баоцюаня сказала, что он совсем плох и практически не может говорить. Я очень пожалела, что не расспросила его о русских эмигрантах в Китае в то время, когда он был здоров. Но я тогда еще не знала ни о Перелешине, ни о русской эмигрантской литературе. После всех перипетий я поняла, что люди, которых ищу, уходят с лица земли и свидетелей жизни русских эмигрантов в Китае остается все меньше и меньше. ТЕЛЕФОННЫЕ ИНТЕРВЬЮ ЧЕРЕЗ ОКЕАН Чтобы собрать материалы о жизни и деятельности Перелешина в Шанхае и его работе по переводам с китайского, я взяла телефонные интервью у переводчика русской литературы Цао Ина и эксперта по классической китайской поэзии «Чу Ци» Вэн Хуайша. Гао Ман рассказал мне, что в сороковых годах Цао Ин работал в шанхайском отделении ТАСС, то есть был коллегой Перелешина. Связаться с Цао Ином оказалось непросто. Сначала через Гао Мана, а потом напрямую я послала ему письмо с вопросами в Шанхай, но долгое время не получала ответа. Тогда Гао Ман 189 позвонил Цао Ину и узнал, что его письмо, адресованное мне, было возвращено американской почтой, так как он указал неправильный адрес. Цао Ин сохранил это письмо и переслал его Гао Ману, а тот переслал мне. Таким образом, оно дошло до меня только через два года после того, как было написано. Затем мне потребовалось уточнить доходы служащих ТАСС в китайской валюте, и я позвонила Цао Ину домой. Он только что прилег после обеда, но немедленно поднялся и терпеливо ответил мне на вопросы о ситуации в Шанхае 1940-х годов. Говорил тихо и медленно, отвечал уверенно, если хорошо помнил то, о чем я его спрашивала, отвечал «не помню», если что-то забыл. Вэн Хуайша был старше Цао Ина по крайней мере на десять лет, но говорил громко и ясно. Я позвонила ему потому, что Перелешин перевел «Ли Сао», а Вэн Хуайша был экспертом по творчеству автора «Ли Сао», древнекитайского поэта Цюй Юаня. В свое время «Ли Гао Ман Сао» перевела на русский язык и Анна Ахматова, которая вообще не знала китайского языка. В работе над переводом ей помогал русский дипломат Н. Федоренко, с которым какое-то время общался в Шанхае и Перелешин. Перелешин презирал Федоренко и считал свой перевод «Ли Сао» гораздо лучше ахматовского. Тем не менее, сравнив оба варианта перевода, я увидела, что хоть Перелешин и был уверен, что знает китайский язык гораздо лучше Федоренко, ошибок в переводе он наделал ничуть не меньше. Кроме того, перевод Федоренко и Ахматовой сопровождался подробными комментариями о китайской истории и культуре. Я недоумевала: если китайский Федоренко был действительно так плох, как говорил Перелешин, как же он мог так хорошо понимать классическую поэзию «Ли Сао», которую нелегко понять и современным китайским читателям? Прочитав случайно в газете воспоминания Федоренко, я узнала, что во время второй мировой войны он работал дипломатом в тогдашней китайской столице Чунцине и изучал «Ли Сао» с помоВэн Хуайша щью Вэн Хуайша. Вспоминая о том, что было шестьдесят лет назад, Вэн Хуайша разволновался и рассказал, как он читал «Ли Сао» Федоренко. Он сказал откровенно, что не знает, до какой степени Федоренко понял и запомнил его слова, но его чтение, безусловно, произвело на Федоренко глубокое впечатление, о чем он и пишет в своих воспоминаниях. В конце телефонного разговора Вэн Хуайша сказал: «В следующий раз, когда ты приедешь в Пекин, поучи меня русскому языку, а я почитаю тебе «Ли Сао». ИНТЕРВЬЮ СО СТАРШИМИ КОЛЛЕГАМИ В начале 1998 года я нашла в Ленинской библиотеке русскую шанхайскую газету начала 1950 годов «Новая жизнь», на которой стояло имя издателя: Чжэнь Бин-И. В свое время мы с ним работали в Институте иностранной литературы, однако разговаривать нам не довелось. Мне нужно было узнать как можно больше о культурной жизни русских и советских жителей Шанхая второй половины 1940 годов, и я решила к нему обратиться. В 1998 году Чжэнь Бин-И был уже на пенсии. В 1990 годах позвонить из Москвы в Пекин было нелегко, поэтому я никак не могла с ним связаться. Е Шуйфу 190 Совершенно случайно выяснилось, что мой Чжэнь Бин-И отец и Чжэнь Бин-И были знакомы. Я попросила отца написать письмо и спросить о том, что меня интересовало. Оказалось, что Чжэнь в самом начале 1950 годов переехал в Пекин на новую работу и никогда не слышал, что русская газета называла его своим издателем. Несмотря на это, он рассказал мне о культурной жизни русских эмигрантов в Шанхае все, что ему было известно. Другим старшим коллегой, у которого я решила взять интервью, был бывший директор нашего Института Е Шуйфу. Он перевел роман Фадеева «Молодая гвардия», прочитав который я впервые узнала это имя. Когда я поступила в аспирантуру Института иностранной литературы, он был его директором, но общаться с ним мы начали только после моего окончания аспирантуры, в то время, когда я стала сотрудником института. Тогда мои коллеги работали коллективно над трехтомной «Историей советской литературы», а Е Шуйфу был главным редактором. Мне поручили составить приложения. Я жила недалеко от дома Е Шуйфу и однажды ездила к нему на велосипеде за рукописью. Через тринадцать лет, в жаркий летний день, я опять пришла к нему для того, чтобы узнать о культурной деятельности издательства «Эпоха» в Шанхае. Е Шуйфу пил чай, но мне предложил кока-колу. Он подробно рассказал об отношениях между китайским и русским издательствами «Эпоха», китайцами и ТАСС, беженцами-белогвардейцами и советскими гражданами Шанхая. Я была поражена его памятью. Из его рассказа я также узнала, что харбинский и шанхайский русский поэт Николай Светлов был его учителем русского языка. Ранее один знакомый китайский редактор говорил мне, что Перелешин учил его русскому языку в Шанхае. Думаю, что таких русских эмигрантов в Шанхае было немало. В тот день, когда я была в гостях у Е Шуйфу, я взяла с собой фотоаппарат и сфотографировала его. Он выглядел замечательно. Когда мы прощались, он вдруг сказал: «Обязательно приходи ко мне еще раз!» В тот же момент у меня возникло зловещее предчувствие. Через несколько месяцев я узнала, что Е Шуйфу умер от какого-то острого заболевания. ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ США – ТРЕТЬЯ РОДИНА РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ Почти все русские эмигранты в течение 1940—1960 годов покинули Китай. Они вывезли с собой почти все ими изданное, так что большую часть их книг можно найти только за рубежом. Осенью 1996 года я поехала в Беркли, так как в библиотеках Калифорнийского университета хранится более трехсот книг и большое количество периодических изданий. Только в Беркли я поняла, что в зоне залива, где находится этот город, осела большая часть русских эмигрантов, покинувших Китай. Русские эмигранты из Европы поселились в основном на восточном побережье США, а те, кто приехал в Соединенный Штаты непосредственно из Китая или через Южную Америку – на западном. Несколько профессоров Беркли приехали из Харбина и называли себя «харбинцами». Одним из них был Николай Рязановский – историк, автор учебника «История России», которым пользуются во многих американских университетах. Его отец, Валентин Рязановский, был профессором и ректором Юридического факультета в Харбине, сам же он родился в Харбине. Когда я приехала в Беркли, Рязановский только что вышел на пенсию. Он пригласил меня встретиться в кафе неподалеку от его кабинета, сел за столик и сразу начал читать наизусть стихотворения харбинского поэта Арсения Несмелова. Рязановский сказал, что покинул Харбин в возрасте двенадцати лет, через два года переехал с семьей в США, окончил американский университет, говорил на трех языках, но никогда не забывал Несмелова. Русский оставался для него родным языком, а русская поэзия – частью жизни. Кроме Николай Рязановский того, он выразил сожаление тому, что не учился в детстве китайскому языку. В то время я приняла его слова за желание сделать мне приятное. «Было бы куда лучше, если бы ты приехала на десять лет раньше, многие из Харбина были тогда еще живы», – добавил он. Позже я слышала эти слова и от других русских в Беркли. Вторым человеком, который мне это повторил, был профессорэкономист Григорий Гроссман. Он родился на Украине и приехал с родителями в Харбин, когда ему был всего год. Человек скромный и смиренный, Гроссман относился ко всем бывшим эмигрантами одинаково. Это он рекомендовал мне сборник очерков Наталии Ильиной «Дороги и судьбы», несмотря на отрицательную реакцию многих эмигрантов на ее роман «Возвращение». Гроссман спокойно рассказывал мне о своей встрече с Ильиной в Москве в начале 1990-х годов. Я думала, что отношение к Ильиной объясняется его высокой оценГригорий Гроссман кой ее литературного дара. Но, возможно, дело было в том, что воз- 191 мущение других эмигрантов он не разделял всего лишь из-за того, что был слишком молод, когда покидал Харбин. Как и Рязановский, Гроссман жалел, что не выучился китайскому, когда была возможность. Те же самые слова я услышала еще от одного семидесятилетнего человека, и это заставило меня поверить, что все они говорили искренно. Профессор русской литературы Семен Карлинский – третий «харбинец», с кем мне довелось встретиться. Тогда я ездила в Беркли как аспирант по обмену, и поэтому формально мне был нужен «наставник». Я знала, что Карлинский из Харбина и преподает на кафедре Славянских языков и литературы в Беркли, поэтому решила написать письмо с просьбой быть моим «наставником». Помощник Карлинского ответил мне, что профессор уже на пенсии и выполнить моей просьбы не сможет. Профессор Маклин, коллега Карлинского, ставший моим «наставником», благодаря помощи которого я смогла поехать в Беркли, тоже был пенсионером. В Беркли я решила, что надо пойти навестить Карлинского, но долго не могла решиться. Наконец, я позвонила, но каждый раз либо его не было дома, либо он спал. В конце концов, мы все-таки встретились, даже дважды. В первый раз беседовали часа два, но оба вели себя настороженно. На второй раз его Семен Карлинский отношение ко мне сильно изменилось. Он много говорил, даже читал наизусть китайские детские стишки, чему научился в детском саду в Харбине. По-китайски говорил с сильным акцентом, так что ему пришлось прочитать стихи трижды, прежде чем я его поняла. Он рассказывал о войне, о том, как служил после войны в американской армии в Германии, как изучал творчество Цветаевой, о соседской китайской девочке в Харбине. Маклин рассказывал мне, что Карлинский пишет воспоминания. Когда я спросила Карлинского, когда он собирается их опубликовать, он ответил: «Я их не окончил. Остановился на том моменте, когда наша семья переехала в США». На мой вопрос почему, он ответил кратко: «Маме Америка не нравится». Карлинский рассказал, как с друзьями помог Перелешину опубликовать в США автобиографическую «Поэму без предмета», как переписывался с ним, как добился для него маленького, но постоянного гранта от одного нью-йоркского литературного фонда. Как известно, Перелешин в этой поэме писал о своем гомосексуализме и не надеялся опубликовать ее при жизни, а поэтому был в ней вполне откровенен и благодаря этому поэма имеет большое историческое значение. Во время встречи Рязановский пригласил меня посетить православную церковь в Беркли. Люди в ней оказались не такими консервативными, как в Харбине. Они здоровались со мной, просили меня как посетителя пожертвовать на церковь и пригласили в столовую на обед. Там Рязановский познакомил меня с двумя русскими. Один из них – Константин Долбежев – был сыном последнего генерального консула Российской Империи в городе Чугучак в провинции Синьцзян, второй – Владимир Шкуркин – внуком синолога Павла Васильевича Шкуркина из Харбина. Долбежеву было уже за девяносто. Он сказал, что полностью забыл китайский язык, которому учился в молодости. В этот день он подарил мне свои неопубликованные воспоминания. Знакомство со Шкуркиным оказало огромное влияние К. Долбежев на написание моей диссертации. Родители Шкуркина приехали в США из Харбина, сам он родился в Сиэтле, служил в американской армии во время корейской войны, стал инженером по оконВладимир Шкуркин чании университета, а в 1990-х годах – вышел на пенсию. Человек с большим сердцем, он всегда готов был кому-нибудь помочь. Он сказал, что в его семейном архиве хранятся материалы дедушки, отца и дяди, и пригласил познакомиться с этим архивом. Я побывала у него несколько раз и нашла в его архиве переписку между Перелешиным и дядей Шкуркина Петром Лапикеном, харбинским писателем и приятелем Перелешина. Из писем мне стала понятна настоящая причина, почему Перелешин в 1946 году снял рясу и вышел из шанхайской церкви. Покинув Беркли, я долго переписывалась со Шкуркиным, о чем я расскажу чуть ниже. 192 Последним человеком, у которого я взяла интервью в Калифорнии, был брат Перелешина Виктор Салатко. Из Беркли до его дома – два часа езды на машине. Виктор эмигрировал в США в конце 1930 годов и служил во время второй мировой войны на Аляске. Как выходец из России, он попал на Север. «Если бы меня послали служить на Тихий океан, я бы не вернулся», – добавил он. Когда я была у него в гостях, ему был 81 год, он был разговорчив и достаточно откровенен. По профессии Салатко был инженером. В Харбине он писал стихи. На мой вопрос, почему он бросил заниматься поэзией, ответил просто: «За строчку платили пять копеек, так что на гонорар за одно стихотворение можно было купить от силы буханку хлеба, а как же на это жить?» В начале пятидесятых он купил Виктор Салатко за 350 долларов визы в Бразилию для матери и брата, а потом сам долгие годы работал в этой стране на одну американскую компанию, чтобы быть с родными поблизости и материально им помогать. Перелешин в переписке с друзьями жаловался, что Виктор был против того, что он пишет стихи, требовал от него не писать по-русски, и что читать Пушкина ему приходилось тайком. Но Салатко считал свою помощь семье огромной: «Я фотограф семьи. Все фотографии мамы и Валерия сделал я». Кроме ежедневных расходов, он оплачивал лечение брата, из-за плохого зрения трижды попадавшего под автобус. Не мне судить об их отношениях, но думаю, что и без помощи Виктора Перелешин с матерью сводили бы концы с концами. Лишь на одну тему Виктор не хотел говорить – о гомосексуальности Перелешина. Во время нашей беседы Виктор сказал, что нашел после смерти Перелешина в архиве брата толстую ученическую тетрадь, в которой Валерий вел дневник. В письме от десятого мая 1998 года Виктор подтвердил, что он сам положил эту тетрадь в один из чемоданов, которые потом перевезли в Москву. Я пыталась разыскать эту тетрадь, но выяснилось, что никто, в том числе и Генеральный консул России в Риоде-Жанейро Александр Жебит, под руководством которого составляли список посмертного архива Перелешина, и русский приятель Перелешина по Тяньцзиню и Бразилии Александр Кириллов, едва не ставший его наследником и душеприказчиком, никогда дневника не видели. Нет его ни в архиве Перелешина в ИМЛИ (Москва), ни в библиотеке Лейденского университета. Из-за потери этой рукописи и части писем Перелешина к матери мне до сих пор не удалось понять некоторые поступки Перелешина харбинского и шанхайского периодов. Есть люди, считающие, что такого дневника просто никогда не было. Я бы хотела думать так же, но чем тогда объяснить слова Виктора Салатко? НЕРАСКРЫТОЕ ДЕЛО До сих пор остается неясным один вопрос в биографии Перелешина – истинный характер отношений между ним и его гомосексуальным партнером, шанхайцем Лю Синем. Их связь длилась с 1946 по1948 год, имя Лю Синя встречалось в «Поэме без предмета». Там говорилось, что Лю Синь – книготорговец и рабочий текстильной фабрики, а в примечаниях Перелешин добавил, что эта фабрика называлась Юн-ань («Вечное спокойствие»). Однако предприятие Юн-ань в Шанхае было не фабрикой, а большой компанией с собственным универмагом. Прочитав примечания, я решила лично поехать в Шанхай, чтобы собрать достоверные сведения о Лю Сине. В городском архиве хранятся книги зарплат компании Юн-ань 1940 годов. Я проверила все записи с 1945 по 1947 год, но имени Лю Синя так и не нашла. Получалось, что Лю Синь в компании Юн-ань не работал, а Перелешин просто принял на веру его слова. Но в таком случае было непонятно, для чего Лю Синь обманывал русского друга? В поэме Перелешин описыВалерий Перелешин вал, как Лю Синь был арестован в 1947 году из-за того, что «пошел бороться за народ». В шанхайском архиве хранятся документы подпольной компартии города, в том числе и список арестованных коммунистов. Этот список находился в особом отделе архива, поэтому быстро получить копию не представлялось возможным, а я уже купила билет на поезд в Пекин и уезжала тем же вечером. Поэтому мне пришлось попросить сотрудников архива передать копию списка профессору Шанхайского университета Сун И, а та потом переслала список мне в Пекин. В этом документе 1947 года я нашла и имя Лю Синя, и дату его ареста, что совпадало с тем, о чем писал Перелешин в «Поэме без предмета». Стихи оказались правдивы и достоверны. Кроме того, в списке также говорилось, что Лю Синь вступил в ком- 193 партию в 1945 году, то есть за год до знакомства с Перелешиным. Однако поэт никогда об этом не упоминал – ни в поэме, ни в переписке с друзьями. Вероятно, ему было неизвестно, что Лю Синь был членом компартии. Мне кажется, что, независимо от своей сексуальной ориентации, Лю Синь, в качестве члена подпольной компартии преследуемой гоминдановскими властями, не мог скрывать от своих товарищей связи с иностранцем. Встречаясь со священником в черной рясе, он, безусловно, обращал на себя особое внимание. Если же они общались тайно, Лю Синь серьезно рисковал. Видимо, этими соображениями и было вызвано то, что Лу Синь дезинформировал Перелешина. Кроме того, Перелешин не объяснял в поэме причину их внезапного расставания. Это интриговало, ведь оба были глубоко привязаны друг к другу. В Шанхае я узнала, что Лю Синь умер в середине 1980 годов, поэтому тайна их отношений так и осталась тайной. Начиная искать Лю Синя, я надеялась, что мы с ним встретимся, и я смогу спросить его обо всем, что меня интересуВалерий Перелешин ет, даже если у него не будет особого желания раскрыть передо мной душу. Тогда меня тревожило лишь одно: Лю Синь родился в 1920-х годах, а что, если он не говорит на мандаринском языке? Ведь Перелешин учился шанхайскому диалекту, которого я практически не понимаю! Этот вопрос отпал сам собой из-за смерти Лю Синя. Подобную тревогу я испытала и в Хабаровске. В харбинские годы у большинства эмигрантских поэтов и писателей были псевдонимы. По неопытности я не обращала внимания на их настоящие фамилии, запоминала только псевдонимы. В Государственном архиве Хабаровского края, обращаясь к сотруднику архива за биографиями эмигрантских авторов, я не могла вспомнить их фамилий, а найти их по псевдонимам было невозможно. В то время электронная почта не была еще развита, а Интернет являлся чем-то новым и непривычным. Связаться с Харбином я не могла, в Хабаровске же помочь мне было некому. Но как я могла позволить себе провести время в Хабаровске безрезультатно? Сидя на скамейке архива, я изо всех сил пыталась вспомнить когда-то знакомые мне фамилии. Наконец, одна за другой, они стали всплывать из глубин памяти. Этот случай научил меня не только запоминать и псевдоним, и настоящую фамилию каждого автора, но и записывать все, что, возможно, могло бы мне когда-нибудь понадобиться. ВПЕЧАТЛЕНИЕ О ХАБАРОВСКЕ Я никогда не думала, что первым русским городом, куда посещу, будет Хабаровск, стоящий неподалеку от места слияния рек Амур и Уссури. От Москвы он находится очень далеко, зато из него можно увидеть находящийся на другом берегу реки китайский уезд Фуюань. После моей поездки многие русские знакомые, не бывавшие на Дальнем Востоке, спрашивали меня о впечатлении от Хабаровска, и я всегда отвечала, что, прежде всего, это русский город. В самом деле, хабаровчане говорят по-русски с едва заметным акцентом, манеры у них несколько грубоватые, но кроме этого, ничто не показывает, что город находится на Дальнем Востоке. Как и москвичи, и жители других городов России, хабаровчане сохраняют свое культурное наследие, в том числе и здания, где жили и работали писатели, художники, музыканты и другие деятели культуры. Здания с мемориальными досками можно увидеть по всей России, но лучше всего мне запомнился один дом в Хабаровске. Стоит на тихой улице серое здание, без окон и дверей, остались одни стены с дверными и оконными рамами. Внутри – мусор, вокруг – сорняки. На стене висит доска: «В этом здании в 1935-1936 гг. работал Александр Александрович Фадеев, выдающийся советский писатель, один из организаторов дальневосточного отделения Союза писателей». На мой вопрос «Разве Фадеев у вас полностью забыт?» хабаровчане отвечали: «Нет, но для капитального ремонта здания нет денег». Я уверена, они говорили правду, что подтверждается еще одним случаем. Пока я была в Хабаровске, 194 отмечался трехсотлетний юбилей российского морского флота. Вечером на улицах и на берегу Амура было полно народа, но кроме временной деревянной эстрады, на которой пели и играли музыку, были видны только слабоосвещенные корабли амурского флота. Долго ждали фейерверка, но так и не дождались. Люди огорченно разошлись по домам… МОСКВИЧИ В Хабаровске люди из культурных слоев общества дружелюбны и доброжелательны, но общаться с остальным жителями города приходилось с большой осторожностью. Когда рассказывала я об этом москвичам, они говорили: «Ну, это на Дальнем Востоке, а у нас все не так», однако, имея дело с большинством москвичей, нужно запастись необыкновенным терпением. Например, в США не принято звонить знакомым после девяти часов вечера, в Москве могут позвонить когда угодно. Тем не менее, если звонишь вечером и пытаешься договориться о встрече на следующее утро, тебе обычно отвечают: «Перезвоните завтра утром!» Иногда же мне звонили и сообщали об изменении времени встречи накануне, поздним вечером. Когда я была в Москве, чаще всего я встречалась с многолетним корреспондентом Перелешина Евгением Витковским. Нередко, после того, как мы с ним договаривались о встрече, встреча отменялась, и нам приходилось договариваться снова. Витковский с Перелешиным никогда не виделись, но переписывались с перерывами больше двадцати лет. Осенью 1997 года в архиве библиотеки Лейденского университета я прочитала около ста писем Витковского Перелешину с конца 1960-ых до конца 1970-ых годов, а зимой в архиве ИМЛИ нашла еще несколько десятков писем Витковского, написанных в последние годы жизни Перелешина. В 1970 годы многие письма передавались Евгений Витковский через дядю Витковского, жившего в Западной Германии, но немалая часть писем пропала на почте. Разумеется, часть переписки попала в руки советских властей. Даже в 1996 году мое первое письмо Витковскому принесли ему домой милиционеры. Во время нашей первой встречи Витковский был несколько насторожен и прямо спросил: «А как вы, китайцы, относитесь к русской эмигрантской литературе в Китае?» Я поняла, что ему не хочется иметь дела с теми, кто относится к его любимой теме несерьезно. Осенью 1997 года, приехав в Москву, я немедленно позвонила и другой собирательнице наследия русской эмигрантской литературы в Китае – Елене Таскиной, но увиделись мы только в феврале 1998 года, перед моим отъездом, после того, как она несколько раз отменяла встречу. Таскина родилась в Харбине, вернулась в СССР в середине 1950 годов, преподавала английский язык в средней школе и к моменту нашего знакомства была уже на пенсии. Однажды вечером она позвонила мне и предложила встретиться на следующий день в одиннадцать часов в каком-то клубе, членом которого она была в то время. В половине восьмого утра она перезвонила и сказала, что встреча в одиннадцать часов отменяется, что единственное возможное время встречи – через час на станции метро Фрунзенская! Тогда в Москве было больше 150 станций метро, и добраться до далекой и незнако- 195 мой мне станции за час было бы практически невозможно. К счастью, я ежедневно ездила в Научную библиотеку Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), а ГАРФ находится как раз около метро Фрунзенская. Поэтому я знала, что как раз за час я сумею туда доехать. В часы пик поезда московского метро обычно не опаздывают, поэтому я обещала Таскиной, что приеду в половину девятого. Она поколебалась, но потом подтвердила, что будет ждать меня посередине платформы, а я узнаю ее по шубе и меховой шапке. Мне не было необходимо описывать свою внешность – в те времена в московском метро китайцев было мало. Положив трубку, я поспешила в метро, задержавшись у входа, чтобы купить цветы. Доехала я за 45 минут, то есть была на Фрунзенской вовремя. Выход на этой станции только один и обычно одновременно со мной выходило много пассажиров, которые шли к выходу. Как ни странно, именно в этот день я была единственным пассажиром, вышедшим из вагона, но на платформе стояли две старушки, обе в шубах и меховых шапках – обычном зимнем наряде русских женщин. Когда я выходила из вагона, обе они посмотрели на меня. Я не знала, к какой из них подойти, и пошла к выходу. Сделав несколько шагов, я повернулась и увидела, что одна из старушек следует за мной. Я подошла к ней и подарила цветы. Она поблагодарила, взяла букет, вытащила из сумки старую газету и аккуратно его завернула. К моему удивлению, когда я предложила ей пойти в кафе неподалеку от метро, чтобы спокойно поговорить в тепле и тишине, она отказалась и предложила беседовать на платформе, стоя. Разумеется, из-за шума поездов мы практически друг друга не слышали. Наконец, Таскина согласилась пойти со мной в вестибюль. Мы проговорили на холоде, у входа в метро, часа два. Женщина все время оставалась серьезной. В глазах сквозила нервозность. Время от времени старушка окидывала взглядом прохожих, убедиться, не следят ли за ней. Была она обычным продуктом советской системы. Впрочем, может быть, ее страх объяснялся тем, что некогда ей довелось быть эмигранткой. ПОИСКИ СВЕДЕНИЙ ОБ АРСЕНИИ НЕСМЕЛОВЕ В 1935-ом году русских беженцев в Маньчжурии обязывали регистрироваться в БРЭМ (Бюро по делам российских эмигрантов), находящееся под контролем японцев. Как житель Харбина, был зарегистрирован и русский поэт Арсений Несмелов. После войны все регистрационные формы были захвачены советскими войсками и отправлены в СССР. В 1996-ом году я нашла регистрационную форму Несмелова в Государственном архиве хабаровского края по его настоящей фамилии Митропольский. В ней Митропольский указал, что имеет двоих дочерей, а в одном из писем за 1936-ой год он писал, что у него в СССР есть две дочери, живущие со своими матерями. До этого мне было известно только об одной дочери Несмелова, Наташе, возвратившейся в СССР со своей матерью Худяковской в 1935-ом году; о существовании другой его дочери я никогда не слышала. В середине 1930-х годов Несмелов женился на Анне Кушель и жил вместе с ней и ее дочерью. Где оказалась Кушель с дочерью после развода с Несмеловым в 1936-ом году, я не знала, и решила, что если они тоже уехали в СССР, то вторая дочь, о которой говорит Несмелов, могла быть дочерью Кушель. Если они в СССР не уехали, то у Несмелова до Худяковской была другая жена, от которой у него была еще одна дочь. Для того, чтобы заполнить этот пробел биографии Несмелова и выяснить местонахождение Анны Кушель, я обратилась к Владимиру Шкуркину, внуку П.В. Шкуркина, живущего в Калифорнии. Он посоветовал мне начать поиски в США, так как каждый американец имеет номер социального страхования, и данные о его смерти могут быть найдены по этому номеру в Интернете. Действуя этому совету, я нашла в Соединенных Штатах только одну покойную по фамилии Кушель, которую звали Анной. Тогда Шкуркин на основании собственного опыта посоветовал мне обратиться к властям штата, в котором скончалась Анна Кушель и запросить официальное свидетельство о ее смерти. Я заплатила 13 долларов правительству штата Калифорния и после долгого ожидания получила от него ответ. В свидетельстве о смерти Анны Кушель упоминалась некая Ирина Радченко, бывшая, по всей видимости, родственницей покойной. Шкуркин полагал, что через двадцать лет после смерти Кушель Ирина Радченко вряд ли живет по тому же адресу, который был указан в свидетельстве о смерти, но скорее всего, осталась на Западном побережье Америки. Он помог мне найти адреса шести Радченко, проживающих на Западном побережье США и Канады. Я написала по каждому адресу письмо с просьбой сообщить мне, не является ли адресат родственником или родственни- 196 цей Анны Кушель. Это было в октябре. Первым пришло мое собственное письмо, возвращенное мне из дома престарелых в Сан-Франциско. Оно лежало нераспечатанным в большом конверте вместе с письмом сотрудников, сообщавших мне, что находившаяся у них старушка по фамилии Радченко умерла месяц тому назад. Следующим вернулось еще одно мое письмо с пометкой: «Адресат выбыл». После этого я прожила в тревожном ожидании чуть больше месяца. Но вот однажды, в середине декабря, во второй половине дня, у меня зазвонил телефон. Я подняла трубку – звонил муж Ирины Радченко. Прежде всего, я подумала, что и эта Радченко умерла, так как иначе мне позвонил бы не ее муж, а она сама. Я торопливо спросила звонившего, где его жена, на что он спокойно ответил, что она сидит рядом, но у нее проблемы со слухом, и поэтому она попросила его набрать мой номер. Услышав его слова, я вздохнула с облегчением, однако оказалось, что разговаривать с Радченко, дочерью Анны Кушель, очень сложно. Из-за ее глухоты она в основном говорила не о том, о чем я ее спрашивала. Мне повезло в одном – она ответила на мой главный вопрос, что они с матерью никогда не возвращались в СССР, то есть, одной из двух дочерей Несмелова, о которых он писал в регистрационной форме БРЭМ и в письме 1936-го года, была не она. Радченко достаточно долго рассказывала о своей жизни в Харбине в 1930-1940 годы, в том числе и о своем первом замужестве. Кроме того, она сказала, что мое октябрьское письмо получила не она сама, а ее сын, который передал его ей только на День Благодарения, то есть в конце ноября, когда приехал к ней на праздник. К концу нашего разговора муж Радченко снова взял телефонную трубку. Я подумала, что надо поблагодарить и его, и поэтому спросила о его имени и отчестве. К моему удивлению, он отказался от ответа и сказал сердито: «Вы уже слишком много спрашивали о нашей семейной жизни!» Очевидно, не слыша моих вопросов, он решил, что я спрашивала именно о том, о чем говорила его жена. Меня же, разумеется, интересовало только то, что было связано с жизнью Несмелова, а вовсе не семейная жизнь Радченко. Тем более, что дама не была дочерью Несмелова, и он не был женат на Радченко в Харбине. Впрочем, после того, как я выяснила, что нашла Ирину Радченко и узнала, что кроме Наташи, у Несмелова была еще одна дочь в России, мне было не до обид. Через два дня я получила по электронной почте письмо с подписью «От Ирины Радченко». Я подумала: «А не мошенница ли это? К счастью, настоящая Радченко уже нашлась!» Однако, открыв письмо, я прочитала следующее: «Я была бы рада оказаться той, кого Вы ищите, но должна сообщить Вам, что только два года назад я вступила в повторный брак с господином Радченко, который недавно умер. Желаю Вам удачи и надеюсь, что Вы сможете легко и быстро найти мою тезку». Это письмо пришло из Канады. Я была очень благодарна этой Ирине Радченко, но подумала, как бы я была огорчена, если бы получила это письмо на три дня раньше! АРХИВ ФСБ Наверное, мне было предначертано судьбой написать и родной дочери Несмелова. Из-за того, что Несмелов во время войны служил властям Маньчжоу-Го, он был арестован советской армией в Харбине в 1945 году, отправлен в СССР и умер в тюрьме, но точная дата и точное место его смерти были неизвестны. До моей поездки в Москву осенью 1997 года я ездила в архив Центра русской культуры Амхерстского колледжа в штате Массачусетс, где хранятся архивы Несмелова и Перелешина. Сотрудник архива, эмигрант из Москвы, посоветовал мне обратиться в архив ФСБ, чтобы найти сведения о Несмелове. Приехав в Москву, я встретилась с сотрудником Института российской истории АН России Юрием Мелиховым, который родился в Маньчжурии и вернулся в СССР в середине 1950 годов. В 1990 годах он основал в Москве Ассоциацию харбинцев. Я посоветовалась с ним о том, как искать материалы о русских эмигрантах в архиве ФСБ, и он познакомил меня с одним аспирантом Института, изучавшим историю репатриантов. Аспирант, хорошо знакомый с ситуацией и материалами архива, сказал мне, что в 1993 году Российское правительство приняло новое положение об архивных материалах и постановило, что нужно иметь разрешение членов семьи тех, чьи документы исследуешь. Я задумалась, как получить подобное разрешение и вспомнила, что в одном письме 1980 годов Перелешин говорил Витковскому, что нашел в каком-то сибирском городке дочь Несмелова Наташу Митропольскую, и познакомил его с нею. Я обратилась к Витковскому, получила от него адрес Наташи и написала ей письмо с просьбой разрешить мне ознакомиться с архивными материалами ее отца, но ответа не получила. Решив, что она не получила моего письма, я написала ей еще раз. Ответа по-прежнему не было. Год с лишним спустя Митропольская умерла. Только через несколько лет я случайно прочитала в книге одной из приятельниц Митропольской, что в последние годы жизни Наташа пыталась узнать дату и место смерти своего отца, но все архивы, к 197 которым она обращалась, отвечали, что никакой информации у них нет. Как раз в это время она получила из Москвы письмо от неизвестной ей китаянки и была очень недовольна тем, что она, родная дочь Митропольского не может получить об отце никаких сведений, а тут в дело вмешивается какая-то иностранка! Автор книги пишет, что Митропольская так и не выяснила дату смерти отца. Но я знаю, что эта дата была ей известна, потому что я ее выяснила и сообщила Митропольской через Витковского. Наверно из-за того, что она жаловалась на меня своей приятельнице, она никогда об этом факте не упоминала. Дату и место смерти Несмелова я выяснила благодаря помощи того самого аспиранта Института российской истории. Он мне сказал, что можно написать письмо в архив ФСБ, на имя одного генерал-майора, а архив по правилам должен ответить мне в течение месяца. Кроме того, он объяснил, что письмо нужно не посылать по почте, а отнести в архив ФСБ, находящийся около станции метро «Лубянка» на Кузнецком мосту, и что архив находится за двойными воротами, первые обычно открыты в рабочие часы, а дежурные охранники стоят только за вторыми воротами со стеклом; между воротами на правой стене висит деревянный ящик, в который и надо бросить письмо. Хотя обратиться в ФСБ таким образом может любой человек, аспирант все-таки попросил мне никому не говорить, что я получила эти сведения от него. По его совету, во второй половине одного ноябрьского дня я приехала на Лубянку. Выходя из метро, вспомнила, что во время Сталина там находилась тюрьма секретной полиции. Зимой в Москве темнеет рано. Было всего четыре часа дня, но уже зажглись уличные фонари. Я шла, утопая в снегу по узкому Кузнецкому мосту и, наконец, нашла архив ФСБ без таблички у ворот. Я попробовала потянуть дверь. Несмотря на ее тяжесть, она легко открылась и через стекло на внутренних воротах я увидела охранников в форме. На правой стене действительно висел ящик. Я бросила в него письмо и услышала, как конверт со стуком упал на дно. Видимо, ящик был пустым: либо письма в тот день уже забрали, либо в последнее время писем никто не опускал. Выйдя на улицу, я облегченно вздохнула. Было темно, как глубокой ночью. В начале января следующего,1998 года, то есть месяца через полтора, мне вдруг позвонила одна женщина из архива ФСБ. Она сказала, что личное дело Несмелова хранится в архиве московской области ФСБ, личное же дело другого харбинского эмигрантского писателя, Бориса Юльского, также арестованного советской армией в 1945 году, и сведения о котором я тоже искала, хранятся в архиве ФСБ иркутского края, и поэтому мне нужно послать запросы в эти архивы. Кроме того, я узнала, что если мне нужны только общие сведения, например, даты рождения и смерти, дата ареста, приговор и т.п., разрешения семьи не нужно. Я спросила ее, что же делать, если, как в случае Юльского, все члены семьи умерли или не найдены, а мне нужно получить более подробные сведения? Она ответила, что в любом случае без разрешения семьи мне представят только общие данные. Я попросила дать адреса архивов, куда мне надо писать, но та ответила, что в этом нет необходимости, так как если я напишу на конверте «архив ФСБ такой-то области», то почта письмо доставит. Потом она предложила мне записать телефонный номер ее кабинета, но когда у меня появились вопросы, и я ей несколько раз звонила, никто и никогда не снимал трубку этого таинственного телефона. К концу февраля того же года я получила ответ из Прокуратуры г. Москвы. Почему он пришел не из ФСБ, а от начальника «отдела реабилитации жертв политических репрессий», мне неизвестно. Еще более непонятно, что в письме говорилось, будто Несмелов умер до назначенного суда, и поэтому уголовное дело было прекращено, так что он не мог быть реабилитирован. Но ведь если это действительно так, почему мне написал начальник отдела реабилитации? Тем не менее, я получила информацию о дате и месте смерти Несмелова. Я сообщила эти сведения Витковскому, а он тотчас же написал Наташе Митропольской. Я почувствовала облегчение – по крайней мере, дочь Несмелова узнала наконец, где и когда умер ее отец, которого она не видела с пятнадцатилетнего возраста. Тогда я еще не знала, что она недовольна моей деятельностью. Не знала я и о том, что она подумала, получив письмо Витковского. Гораздо сложнее было найти сведения о другом харбинском писателе – Борисе Юльском. Сначала пришел ответ от Регионального 198 управления по иркутской области о том, что дело в отношение Юльского находится в Военной прокуратуре Забайкальского военного округа в связи с пересмотром по реабилитации, поэтому полный ответ на мой запрос будет дан только по возвращении архивного дела из Читы. В Москве я сняла комнату в двухкомнатной квартире в большом жилом доме. Тогда в Москве были серьезные проблемы с общественным порядком, поэтому у входа в подъезд сидел пенсионер-дежурный. Входя и выходя, я всегда здоровалась с ним, но он не знал моего имени. Когда письмо из Иркутска пришло, из-за ошибки сотрудника архива на конверте был указан неправильный номер квартиры. Почтальон не мог меня найти и отдал письмо дежурному, а тот, не стесняясь, Борис Юльский немедленно его вскрыл и по содержанию точно определил, что это письмо мне. Тем же вечером он отдал письмо моей хозяйке. Вскоре мне предстояло уезжать из Москвы, а архивные материалы Юльского были все еще в Чите. Хозяйка сказала: «Не беспокойся, я тебе все перешлю, как только получу ответ». Честно говоря, тогда я думала, что надежд на это немного, но через пару лет, к концу 1999-го года, я получила пересланное мне моей бывшей квартирной хозяйкой письмо, прочитав которое немедленно позвонила ей в Москву: «Посмотрите, мы с вами ждали так долго, а какой результат!» Оказалось, что Юльский был арестован в 1945-ом году, приговорен к десяти годам лишения свободы, сослан в Магадан, откуда через пять лет бежал, дальнейшая же его судьба неизвестна. Я ждала два года, и дождалась результата «судьба неизвестна», какая досада! Мы с хозяйкой по телефону подсчитали, что с тех пор прошло почти полвека, и если Юльский еще жив, то ему уже около девяноста лет. Разумеется, скорее всего, он умер от голода в горах и лесах восточной Сибири. Ведь почти невозможно выбраться пешком из такого отдаленного места, да еще и в одиночку. Моя бывшая хозяйка тоже очень сожалела о том, что мне не удалось выяснить дальнейшую судьбу Юльского. ПЕРЕЛЕШИН И ФБР Весной 1950-го года Перелешин иммигрировал из Шанхая в США, однако кто-то написал донос американским властям, и по прибытии в Сан-Франциско он был немедленно арестован. Через три месяца, после безрезультатных допросов, его репатриировали в Китай, предупредив, что въезд в США ему навсегда запрещен. Тогда его единственными документами были только советский паспорт и справки о выезде из Китая. В своих воспоминаниях Перелешин писал, что американцы заподозрили в нем советского агента, поскольку он работал на ТАСС, и, якобы, помогал основать китайскую коммунистическую партию, хотя в 1921 году Валерий был всего лишь восьмилетним ребенком (!). Перелешин считал, что доносчики – русские, его знакомые по Шанхаю. Однажды мой американский коллегааспирант выразил недоумение: «Если у него был советский паспорт, почему же его не репатриировали в СССР?» Действительно, в то время у Перелешина не было китайской въездной визы, и по приезде в Тяньцзинь он был арестован и отправлен в тюрьму. Тогда я подумаВалерий Перелешин ла, что на этот вопрос может ответить только американское правительство, которое знает и настоящую причину ареста Перелешина, и то, в чем его обвиняли. В поисках ответа я вновь обратилась к Владимиру Шкуркину, и он снова помог. Он сказал, что можно запросить американское правительство относительно тех или иных его действий (это законодательное положение называется «наше право знать»). Для этого нужно скачать из Интернета соответствующую форму запроса, заполнить ее и послать в правительственную организацию, которая должна ответить на запрос в течение двух месяцев. Делом Перелешина занимались различные правительственные организации – и вследствие того, что он получил иммиграционную визу в 1950 году, и потому, что снова подал заявление об иммиграции в 1968 году, но получил отказ от министерства труда, и из-за того, что ему все-таки удалось побывать в США в 1974 году. Я решила послать запросы о причине ареста Перелешина в Службу иммиграции и натурализации, в отделение этой службы в Сан-Франциско, в Министерство юстиции, в Государственный департамент, в Министерство труда и в Государственный архив. Вскоре я получила ответ из Министерства труда о том, что у них нет никаких записей, касающихся данного лица. Затем пришел ответ из Государственного архива, что у них хранятся документы только до 1973 года, то есть за год до приезда Перелешина в США. В ответе же из Госу- 199 дарственного департамента говорилось, что все документы до 1975-го года – на год позже, чем визит Перелешина в США, давно переданы в Государственный архив. После этого пришел ответ и из Сан-Франциско, в котором сообщалось об отсутствии каких-либо записей о Перелешине, и следовал совет обратиться в Государственный департамент... К счастью, получая запросы, правительственные организации присваивают каждому делу номер, ссылаясь на который можно обжаловать в вышестоящие инстанции неудовлетворительные ответы. Изучив противоречивые ответы, я решила продолжать «обжалование». Когда я заполняла форму запроса, в ней, в том числе, был параграф, гласящий, что я могу получить до ста страниц ксерокопий материалов, но только в том случае, если они не будут использованы в коммерческих целях. В ответе из Государственного департамента говорилось, что я не соответствую этому критерию. Мне даже позвонили и объяснили, что правительство не имеет права разбазаривать деньги налогоплательщиков. Я сказала, что все понимаю, но повторила о необходимости иметь материалы о русском поэте только для того, чтобы включить их в диссертацию. Тогда мне посоветовали взять письмо-доказательство от декана моего факультета. Письмо действительно помогло, но на этот раз мне сказали, что они получают очень много запросов и придется ждать очереди. Ответ из Министерства юстиции был примерно таким же. Началось долгое ожидание. Тем временем мне приходилось постоянно обращаться в вышестоящие органы. После двух с лишним лет ожидания я впервые получила пакет из ФБР при Министерстве юстиции США. Только тогда я поняла, что имею дело именно с этой организацией. Вскрыв пакет, я была потрясена: десятки страниц документов были практически полностью закрашены черной краской, так что на каждой странице оставалось всего несколько слов. Оказалось, что ФБР закрасило всю конфиденциальную информацию, например, фамилии частных лиц и названия неправительственных организаций, предоставляющих информацию правительству. Из нескольких оставшихся слов я поняла, что Перелешин был обвинен в том, что был «политическом корреспондентом ТАСС» и поэтому подозревался в угрозе национальным интересам США, за что и был арестован и выслан. Когда я наконец узнала об этом, моя затянувшаяся работа над диссертацией практически подошла к концу. Впоследствии я получила документы из Министерства юстиции США, из которых узнала, что неприятности Перелешина в 1974-ом году действительно были результатом его ареста в 1950ом году, причем тот (или те), кто на него тогда донес, по-прежнему выдвигал против Перелешина свои обвинения. Летом 1973 года Перелешин получил от Техасского университета приглашение участвовать следующей весной в международном поэтическом фестивале и планировал после фестиваля поехать в Вашингтон и Нью-Йорк навестить друзей. Тем не менее, после долгих мытарств ему разрешили посетить только город Остин. Между прочим, среди документов, присланных мне из Министерства юстиции, была переписка минюста с Государственным департаментом относительно визы Перелешина, хотя Государственный департамент утверждал ранее, что не имеет никаких сведений о Перелешине, датированных 1974 годом! Я решила написать туда еще раз с просьбой расследовать и выяснить, почему после депортации 1950 года Перелешину все-таки удалось приехать в США и почему ему дали визу, но не разрешили посетить другие города. К моему большому удивлению, вскоре после этого мне опять позвонили из Государственного департамента. Меня не было дома, поэтому мне передали просьбу перезвонить, чтобы прояснить несколько вопросов устно. На следующее утро я перезвонила и больше часа проговорила с одним из сотрудников Государственного департамента. На несколько моих сложных вопросов он ответил откровенно. Во-первых, независимо от того, был ли Перелешин обыкновенным переводчиком или «политическим корреспондентом» ТАСС, тот простой факт, что он работал для ТАСС, сам по себе был уже достаточно серьезен для того, чтобы депортировать его из США в начале 1950 годов, в эпоху Маккарти. Очевидно, подавая заявление на иммиграционную визу в 1950ом году в Шанхае, Перелешин скрыл факт своей работы на ТАСС. Во-вторых, в начале 1970 годов, этот же сотрудник Государственного департамента сам работал в Посольстве США в столице Венгрии и выдавал визы членам правительства Венгрии, то есть коммунистам. По его словам, в 1970 годы американцы уже поняли, какие глупости делались во времена Маккарти, политика смягчилась, и поэтому в 1974 году Перелешин относительно легко получил въездную визу – в этом не было ничего удивительного. В-третьих, Перелешин не раз говорил знакомым, что вначале американское консульство в Рио-де-Жанейро отказало ему в визе, и лишь потом, после того, как Госсекретарь США Киссинджер послал в Рио телеграмму, визу, наконец, выдали. Я относилась весьма скептически к возможности того, что сам Киссинджер послал такую телеграмму, но сотрудник Государственного департамента объяснил, что, скорее всего, это была телеграмма, посланная, в соответствии с правилами, за подписью Киссинджера так же, как теперь все документы, направляемые в посольства, консульства и представительства США, идут за подписью нынешнего госсекретаря. 200 Разумеется, сам Киссинджер никогда не вмешался бы в процесс выдачи туристической визы какому-то иностранцу. Причина же того, что в 1974 году Перелешину не разрешили посетить Вашингтон и Нью-Йорк, по мнению моего собеседника, была в том, что в 1970 годы американцы были еще относительно консервативны и опасались иностранцев вроде Перелешина, побывавших в американской тюрьме. Затем я спросила, почему в 1950 году Перелешина как советского гражданина не репатриировали в СССР, а отправили в Китай, но на этот вопрос ответа у него не было. Он лишь высказал предположение, что, возможно, причиной этого решения послужило то, что Перелешин приехал в США из Китая. Таким образом, мы обсудили все документы, полученные мной из Министерства юстиции, касающиеся Государственного департамента. Сотрудник, с которым я разговаривала, обещал попытаться найти и прислать мне то, чего у меня еще нет. Через несколько дней он прислал мне электронное письмо, в котором говорилось, что я уже получила все документы, так что присылать мне больше нечего, но мне надо отправить ему электронное письмо с заявлением о том, что я отзываю свою просьбу, содержащуюся в моем последнем письме в Государственный департамент. По его словам, если они не отвечают мне письменно, это является нарушением процедуры, но если я добровольно отзову свою просьбу, то они, в соответствии с процедурой, могут мне не отвечать. Я, с одной стороны, восхитилась его отношением к работе, но с другой, с грустью подумала о том, что бюрократизм вездесущ. Визит Перелешина в США в 1974 году был вне темы моей диссертации, однако он был связан с его арестом в 1950 году и репатриацией в Китай, поэтому мне хотелось узнать о нем как можно больше. Документы в последнем пакете из Министерства юстиции касались, в основном, визита Перелешина в Остин. И в них бóльшая часть каждой страницы была замазана черной краской, но не замазанных слов стало все-таки больше. В письмах 1970 годов, говоря о своей поездке в США, Перелешин повторял, что он был особенно осторожен и пробыл там всего одиннадцать дней, то есть меньше двух недель, на которые ему была выдана виза. Видимо, он больше не хотел иметь никаких неприятностей с американцами. Однако американцы по-прежнему не доверяли ему и размещали вокруг него «глаза» и «уши». В документах Министерства юстиции есть отчет университета Техаса о том, что Перелешин жаловался на трудности при получении визы, отчет туристического агентства об изменении даты его вылета, даже отчет о том, кто из сотрудников кафедры славистики Техасского университета вез его в аэропорт после поэтического фестиваля. Все это полностью соответствует китайской поговорке: «Правосудие имеет длинные руки». Однако, когда Перелешин пересел на другой самолет в Майами на пути в Бразилию, агенты ФБР не явились в аэропорту своевременно, кроме того, в те годы у авиакомпаний не было компьютеров для регистрации пассажиров, так что бывший «агент» ТАСС вдруг исчез, и никто не знал, уехал ли он из США или задержался в стране незаконно. ФБР начало искать Перелешина везде и всюду и прекратило поиски только через полтора месяца, в конце мая, когда подтвердилось, что Перелешин действительно выехал из США. Фарс закончился комедией. Больше никаких документов, связанных с Валерием Перелешиным, в Министерстве юстиции не было. Думаю, что сам Перелешин был бы очень встревожен, если бы знал, что создал для ФБР так много проблем. 201 АПОСТЕРИОРИ …А ты поверь, Что будет мне и мертвому нетрудно Любить тебя таким, как я теперь. Валерий Перелешин, 1974 Перелешину шел шестьдесят первый год, когда он написал это прямо адресованное мне стихотворение (правда, он точно не знал моего года рождения, – теперь это уже не играет роли). Мне идет шестьдесят четвертый. Значит, пришло время: подобные предсказания всегда сбываются – только не надо мешать им сбыться (хуже будет). Я не мешаю. Я пишу о том, что знаю на собственном опыте, добавляя немногие факты, о которых узнал только в XXI веке – благодаря заботе моих младших коллег по этому собранию сочинений. Не надо никаких «хочется верить». Я точно знаю и безусловно верю. Моя вера велит никогда ничего не просить, а всегда прощать всех, кого могу вспомнить – и даже тех, кто растаял в памяти. Не спрашивайте, что это за вера такая. Мой стакан всегда наполовину полон, а не пуст. Кто захочет – тот поймет. *** Легко установить, когда, и при каких обстоятельствах я узнал имя Валерия Перелешина, когда впервые прочел его стихи, еще проще – назвать точную дату нашего контакта (письменного, между Москвой и Рио де Жанейро – я так его и не увидел, хоть и связывал с ним всех моих друзей, которым был интересен «русский поэт в Бразилии»). И, к сожалению, почти точно назвать могу время, когда этот контакт оборвался, когда и как я узнал о его смерти. Примерно двадцать лет – с 1971 года по 1991 год – нас можно было бы назвать друзьями, хотя сам Валерий (я и теперь в мыслях называю его только по имени) употребил бы другое слово. Как он называл меня до смерти его матери в 1980 году, и как, когда, похоронив ее, он «вышел из чулана» и позиционировал себя уже как открытый гей. Я определенно был объектом этой почти исступленной страсти, от нее русской литературе осталось куда больше, чем мне. Но ведь и я сам – часть русской литературы, точнее – ее читатель. Странная мне выпала участь. Но не более странная, чем выпала Перелешину. Мое дело было неприметно для меня самого и мне долгое время непонятно – дать влаге попасть на питающие пальму корни. Нечто подобное есть на одном из рисунков Леонардо да Винчи. Он пытался познать пути воды и законы ее движения. Я – не пытаюсь. Попробую рассказать то, что выпало мне узнать на собственном опыте. Апостериори, не более. Об эмигрантской литературе я узнал почти случайно – и еще в школе: довелось забрести в «Клуб Любителей Научной Фантастики» при Доме Детской Книги (Москва, ул. тогда – Горького, д. 43). Руководила этим «клубом» Зинаида Павловна Смирнова, родная сестра прозаика и поэта Николая Павловича Смирнова (1898–1978), жили брат с сестрой у метро «Аэропортовская», я скоро оказался приглашен в этот дом – там собирались старшеклассники-фантасты, – увы, писателем стал, кажется, один я. Стены двухкомнатной квартирки были в стеллажах – и один их них выглядел загадочно. На дворе стояла осень 1963 года – даже хрущевская оттепель еще не кончилась. Стеллаж был почти целиком заставлен поэтическими сборниками, изданными на русском языке – но за границей. В Париже, в Нью-Йорке… Книги стояли вперемешку с переплетенными самиздатскими копиями (в формате обычных книг). Что это такое – я понял довольно быстро. Понял, но глазам не верил – откуда и как такое могло попасть в Москву 1960-х годов. Книги были эмигрантскими, все до единой. Да еще на каждой второй стояла дарственная надпись хозяину дома. Стихов я тогда еще не писал (и тем более не переводил – откуда человеку знать, что именно судьба приготовила ему в качестве профессии на всю жизнь?), но любил их до дрожи. И очень хотел их читать: но не советские (для этого советская власть должна была рухнуть, а до этого было еще ох как далеко), не старинные (этим я уже был сыт, спасибо хорошему домашнему воспитанию), и не иностранными – тогда еще ни на каком языке стихи свободно я читать не умел. Разве что на русском. Помню, что первой вытащил с полки книгу избранных стихотворений парижско- 202 го поэта Юрия Терапиано – «Избранные стихи» (Вашингтон, 1963). Это была книжная новинка, и я понимал – советской цензуры она не проходила. Я влюбился в поэта, в эмиграцию, в «парижскую ноту» и т.д. – еще ничего о них не зная, ничего не понимая. А откуда книга взялась?... Хозяйка спокойно ответила мне: «Пришла по почте. Николаю Павловичу пропускают иногда – ну, не «Посев», не «Грани», а тут издатель – американский «Виктор Камкин». Это не политика, а Николай Павлович со многими эмигрантами был знаком, когда они еще и не думали уезжать». Лишь очень много лет спустя я понял, что защищала во времена «оттепели» Н. П. Смирнова его юношеская дружба с Фурмановым. Да еще он был из числа отсидевших (1934-1939), но уцелевших и реабилитированных, к тому же – ветераном войны, а писал – вполне вегетарианскую прозу о любимом Золотом Плесе, о Левитане… Писатель не лез ни в первый ряд, ни даже в третий. Ему и в пятом было хорошо (кстати, проза его забыта весьма несправедливо, надо бы вспомнить). Вот и проходили изредка к нему книги из-за рубежа: вероятно, его имя не входило в черный список тех, кто подлежал сплошному пресечению контактов. Ненадолго, по одной, но книги самым доверенным из «Клуба» выдавались на чтение. С той поры, почти уже полвека, и стал я самиздатчиком – благо на машинке научился печатать раньше, чем писать от руки (а «Эрика» берет четыре копии», кто ж не помнит). Клуб при ДДК умирал на глазах, все зубрили физику прочее естественное-самое-важное… Может, оно и самое важное, а я, не умея рисовать вовсе (и с астигматизмом к тому же) увлекся историей живописи. Голландской, фламандской, немецкой, далее по списку и по выбору. Поступил в 1967 году в МГУ, сдав экзамен «по профессии» – по предмету, который не преподавался в школе, а именно – по истории искусств – и сразу вернулся к литературе. В МГУ было катастрофически скучно (научный коммунизм, история КПСС, диалектический материализм, исторический материализм… и физкультура) – а профессионалы, кандидаты-доктора, специалисты по Рембрандту и ниже – не знали голландского языка. НИ ОДИН. Меня тошнило, и прежнее увлечение эмигрантской поэзией проснулось, будто гормоны взорвались. Для ясности – я ведь и сам к этому времени стал писать стихи. Не важно, какие, но причастность к литературе во мне пробудилась окончательно и на всю жизнь. Я стал искать эмигрантскую поэзию в таких местах, где ее даже теоретически не могло быть (например, в открытом доступе Ленинки) – и, бывало, кое-что находил: каталогизаторы, приняв непонятную фамилию за иностранную («Моршен», к примеру) оставляли книгу в доступности. Надо знать, что искать, не более. А я знал, с тринадцати лет знал. Ну, и отношение с исторического факультета МГУ, бывало, открывало путь в спецхраны крупных библиотек. Беда была в другом: даже на самых тайных глубинах этих спецхранов 90% того, что мне было интересно, не оказывалось совсем. Ну, для начала надо разобраться с тем, что доступно. Я и разбирался. И однажды открыл, что русская литература в эмиграции прекрасно существовала не только в Европе, но и на Востоке – прежде всего в Китае. Вот тут, строго говоря, и начинается «история Ариэля, апостериори». История того, как я побывал Ариэлем – да еще и очень эротическим – почти не понимая, что именно такое амплуа для меня означает. *** В 1968 году неведомыми самиздатскими путями попал мне в руки номер парижского журнала «Возрождение» (1968, № 204), где нашлась обширная статья Юстины Крузенштерн-Петерец «Чураевский питомник (о дальневосточных поэтах)». И немедленно стало ясно, что миф о том, что Париж – столица русской литературной эмиграции – это миф, сочиненный непосредственно в Париже; даже Берлин, Белград, Прага…. Ну, Харбин… это еще ладно, это глухая провинция, а вот Варшава, Нью-Йорк, Таллинн, Хельсинки и т.д. – это что-то вроде Плутона: как «по счету раз» в 1930 году его открыли, так «по счету два» в 2006 году «лишили статуса планеты». Однако как Солнечная система была и осталась единым целым, так и русское зарубежье XX-начала XXI веков было, есть и никуда не делось. Однако в 1968 году, когда я решил посвятить все свободное время «Восточной Ветви» русской эмиграции, юные мои коллеги, бредившие кто Георгием Ивановым, кто Борисом Поплавским, смотрели на меня как на законченного психа. А я на них никак не смотрел: статья Ю. Крузенштерн-Петерец давала ориентиры, по которым надо идти. Прежде все – к писательнице Наталье Ильиной, мать которой, Е. Воейкова, увезла в СССР «остатки архива поэта Леонида Ещина», умершего, а скорей – погибшего в 1930 году в Харбине. Единственная книга Л. Ещина «Стихи таежного похода» (Владивосток, 1921) в Москве отыскалась. Ильина тепло (вот уж чего я не ожидал) приняла меня и достала те самые «остатки архива». А стихи там были куда сильней, чем во владивостокской книге. Ильина разрешила скопировать все, что мне было нужно (а мне нужно было ВСЁ – я ведь и сам понимал, что предмет не изучен и впору экономить на минутах), дала координаты бывших жителей Харбина и Шанхая (больше артистов оркестра Олега Лундстрема, но и поэтов, избежавших отсидки – осевшей в Краснодаре Лидии Хаиндровой и прижившегося в Свердловске Николая Щеголева; кстати, отчасти послужившего прообразом главного героя ее романа «Возвращение»). А в библиотеке, тогдашней «Ленинке», отыскались первые четыре сборника главного для меня по тем временам (спасибо наводке Ю. Крузенштерн) русского поэта Харбина, 203 Арсения Несмелова – урожденного Митропольского, но из-за немалой известности старшего брата, журналиста Ивана Митропольского вынужденного взять псевдоним. В одной семье из числа музыкантов Олега Лундстрема уберегся шанхайский коллективный сборник «Остров» (1946), – у Хаиндровой же, возвратившейся из Китая в 1947 году в Казань, по каким-то религиозным причинам вещи не досматривали; русских книг, изданных в Китае оказалось немало, ее собственный архив совсем никто не тронул, а ведь там была ее переписка с Арсением Несмеловым с середины 1939 года (когда поэтесса покинула Харбин, оказавшись сперва в Дайрене, а годом позже – в Шанхае) до конца весны 1943 года и немало его стихотворений, вовсе не печатавшихся (в частности, рукопись поэмы «Прощеный бес», которую – забегая вперед – я скопировал и отослал Перелешину, а тот опубликовал ее в 1973 году в № 110 нью-йоркского «Нового журнала»). В 1955 году в Краснодар из Китая был призван весьма поздно (в 1955 году) промосковский архиепископ Виктор (Святин); туда же переехала из Казани и Хаиндрова. Я написал ей, приложив копию статьи Ю. Крузенштерн, ну, и как говорится, все заверте… В Краснодар я ей в 1968 году и написал. Моя переписка с Лидией Юлиановной – три огромных папки. Кому их оставить?... Думать не хочется, пусть мой младший сын решает. Она была участницей «Чураевки» (как и Н.А. Щеголев, с которым я очень быстро связался), а главное – после двадцатилетнего молчания, видимо, разбуженная статьей Крузенштерн, она вновь стала писать стихи; даже выпустила в Краснодаре маленький книжечку избранного, старого и нового – «Даты, даты». И стала понемногу искать адреса друзей юности, прежде всего – чураевцев, Лариссу Андерсен, Ольгу Скопиченко, Викторию Янковскую и т.д. – и многих других, менее значительных. Ктото нашелся… А кого-то лучше бы и не находить. Но вернемся к нашей переписке с Лидией Хаиндровой. В письме ее от 22 апреля 1969 года есть фраза: «Хорошо, что Щеголев Вам написал, а еще лучше, что воздал должное Арсению Ивановичу <Несмелову – Е.В.>. Жаль, что это так поздно, а в свое время Несмелова очень огорчало их <Щеголева и его друга, скончавшегося в 1944 году поэта Н. Петереца – Е. В. > отрицательное отношение к нему. Как ему хотелось принимать участие в творческой работе «Молодой Чураевки» и отнюдь не как признанному мэтру, а просто дышать одним воздухом с молодыми поэтами Чураевки, но его тут же отстранили, как и в свое время отстранили так много сделавшего для лит. объединения “М<олодая> Ч<ураевка>” Ачаира». К сожалению, процитировать ни строки из писем Николая Щеголева (1910-1915) не могу: их для каких-то неведомых музейных нужд после смерти поэта вытребовала у меня его вдова – и, разумеется, уничтожила почти все, кроме самых последних, от которых у меня случайно остались копии. Но то были еще 1960-е годы, и «мы не знали, мы не понимали / Путей судьбы, ее добро и зло» , но это сказал в 1965 году мой учитель Аркадий Штейнберг, имея в виду «День победы», отпразднованный в 1945 году в пересыльной тюрьме во Львове. Через добрых три четврти века онять пришлось: «Вот наша жизнь прошла, / А это не пройдет» (Георгий Иванов). В эмиграции люди понимали прошлое и будущее раньше, чем в метрополии. Письма Хаиндровой у меня уцелели, видимо, по теории вероятности – о них почти никто не знал. 24 мая того же 1969 года Хаиндрова писала мне: «Удалось отыскать брата и мать Валерия Перелешина». Младший брат Перелешина, Виктор Салатко, в молодости тоже писавший стихи под псевдонимом «Виктор Ветлугин»… Да, это был след. О нем в воспоминаниях о поздних годах Перелешина пишет Ян Паул Хинрихс, не хочу ничего добавлять, как любил говорить Валерий, «был бы труп, а стервятники слетятся». Не знаю, простил ли его Перелешин. Я простил всем и всё. И вот – «отыскался след Тарасов». В письме от 12 июня 1969 года Хаиндрова пишет: «Спешу Вам сообщить, что я 10 июня получила письмо от Валерия Перелешина <…>. Вскрывая письмо, я думала, что оно от его брата или матери, и вдруг читаю: «Золотая Лидо…» (так звали меня в литературных кругах, а в письмах так писал только Валерий и еще один товарищ писатель, который находится здесь), никаких сомнений не было, от кого это письмо. В большом письме напишу его адрес и все остальное». Сопоставим даты. Мне не было и девятнадцати, Перелешину шел пятьдесят восьмой. Как я узнал позже, после долгого периода молчания (1957-1967) Перелешин только что вернулся к русской поэзии (его нашла и растормошила Юстина Крузенштерн-Петерец!). Китай давно был в прошлом, Перелешин свободно говорил и писал стихи на этом языке (а также на английском), но… «Я до костного мозга русский / Заблудившийся аргонавт»: эти его слова надо бы и написать на его могиле на кладбище в Рио-де-Жанейро. Надо бы – да только не надо. Кириллица в Бразилии не в ходу. Об этом у Перелешина позже не единожды возникали поэтические строки. Из «длинного письма» Хаиндровой от 13 июня 1969, пожалуй, придется привести отрывок побольше. «…Придя откуда-то домой 10 июня на столе увидала конверт с знакомым почерком И, глядя на конверт, подумала, как удивительно похож почерк Виктора на почерк Валерия, и распечатав убедилась к своей большой радости, что оно от самого Валерия. Он в Бразилии с матерью с 1953 года. А брат приехал к ним после. Сначала он тоже бросил писать, так как не удавалось попасть ни в какие русские толстые журналы, так “прожил на бразильских каникулах до весны 1967 года, тогда меня разыскала милая Мери <Ю. Крузенштерн – прим. Л. Хаиндровой> убедила вернуться 204 в литературу”. Стали появляться его статьи и стихи в газетах Нью-Йорка. Был напечатан венок сонетов «Крестный путь» в журнале «Возрождение» в Париже. В июле 1967 года вышел пятый сборник его стихотворений «Южный дом». Готовы к изданию шестой сборник «Качель», седьмой «Заповедник». Готовы к изданию поэма («Ли Сао» Цюй Юаня – Е.В.) и два сборника китайской антологии. Работает в полную силу и не только над стихами, но и над статьями, пишет многочисленные рецензии на книги поэтов и на наши книги. Написал воспоминания «Два полустанка» о литературной жизни. Во второй части воспоминаний будет о шанхайском периоде. Пишет очень много о себе, но когда я дам Вам его адрес, то он сам Вам напишет все, что вам будет интересно». Дальше переписка у нас с Лидией Юлиановной была обширная… и странная: я учился в МГУ, моих занятий эмиграцией боялась моя мать и непрерывно писала моим адресатам – что им делать, чего не делать, да к тому же немало писем в архиве, почему-то обращено не ко мне, а то к моей матери, то к моей жене. Из письма Перелешина ко мне следует: «Надеюсь, что Вы уже получили открытку с адресом Валерия Перелешина, а это означает, что Ваша бандероль удачно приземлилась у меня». Открытка не сохранилась, но 15 июля 1970 года я написал первое письмо Перелешину; ответа на него не последовало, тогда 26 августа того же года я написал ему еще одно. На эти письма он не только не ответил – он никогда не упоминал о том, что вообще их получил. Лишь в 1997 году, работая с архивом Перелешина в Лейдене, их обнаружила там Ли Мэн. Могу лишь догадываться – отчего такое случилось. Может быть, Перелешин выяснял у Хаиндровой, что я такое и откуда взялся? … Спросить теперь не у кого. Однако на третье мое письмо от 17 февраля 1971 года он все-таки ответил. До самого недавнего времени я считал, что первые два письма вообще пропали в недрах советской почты. Загадка эта из числа тех, которые можно и не разгадывать: в любом случае общение началось у нас с поэтом лишь в 1971 году. Примерно тогда, в январе 1971 года, я ушел из МГУ «в академический отпуск с правом на восстановление» (вот уже и на пенсию вышел, а все храню это право: как писал мой учитель Аркадий Штейнберг «…А если подумать здраво – / На кой нам черт это право?») Короче, адрес я выпросил все-таки не зря и хоть на третье мое письмо Перелешин все-таки ответил. Повторяю: 17 февраля 1971 года я отправил Перелешину письмо, которое наконец-то заинтересовало адресата. 21 марта он отослал мне ответ, и ответ против ожидания я нашел у себя в почтовом ящике. «Ваше письмо получил только вчера. Разорванный конверт был тщательно заклеен официальной этикеткой бразильской почты» <…> Такое было начало у нашей переписки, а конец ей наступил в начале осени 1990 года, когда к поэту пришла предсмертная болезнь и он уже никого не узнавал. Были еще открытки весной 1991 года, но это были не письма: только втерев в царапины, оставленные шариковой ручкой, порошок графита, можно было разобрать: «Эта ручка совсем не пишет. Надо взять другую». Такие же открытки приходили в Верхнюю Пышму на Урал, дочери Арсения Несмелова, Наталии Арсеньевне Митропольской… но в целом – это был конец. Однако двадцать лет с небольшими перерывами я пробыл жизни Перелешина «Ариэлем». Однако «Ариэль» ушел в лучший мир вместе с Перелешиным, а прототип все еще длит свое земное существование. Я не «Ариэль» (как Тень Отца Гамлета – не Шекспир). Но без меня этот персонаж едва ли появился бы на свет. Дальше мне придется приводить цитаты из этих писем. Их копии хранятся в Москве в ИМЛИ, мои ответы – в Лейденском архиве Перелешина. Это, кажется, единственная часть его архива, закрытая для читателей (но не для моих соавторов, конечно). Многое в этих письмах уже непонятно через сорок лет, а многое не нужно даже историкам. Я попробую держаться того, что касалось в наших отношениях основного: нам было интересно друг с другом, для меня Перелешин был самой верной ниточкой к сбору распыленного по всему миру наследия «главного поэта русского Китая» Арсения Несмелова, к тому же оба мы – случись же такая оказия – все-таки были поэтами-переводчиками. А помимо этого, надо помнить, Валерий Францевич весьма быстро… влюбился в меня. Не совсем, конечно, в меня, а в созданного его воображением Ариэля, но довольно долго эти образы были неразделимы. По крайней мере – пока из писем ко мне складывалась его лучшая прижизненная книга, девятая по счету – «Ариэль» (1976). В письме от 21 марта 1971 года достоин внимания такой абзац: «Моя милая Золотая Лидó (Лидия Юлиановна) часто упоминает Ваше имя («Женя»), так что мы давно заочно знакомы. Очень меня тронули два обстоятельства: первое – то, что Вам знакомо обращение «многоуважаемый» (ибо теперь чаще приходится встречать форму «уважаемый», которая значит меньше, чем уважаемый), и второе, что Вы решительно ни о чем не просите. Ничего «прикладного» в Вашем письме нет. Именно поэтому я отвечаю на него без промедления». <…> «Мое “возвращение в литературу” в 1967 году после длительных “вакаций” огорчило многих “товарищей по несчастью” – других поэтов. Особенно сéрдит их, что я стал одним из рецензентов журнала “Грани” и газеты “Новое Русское Слово”, так что зажать мне рот трудно. Из недавнего номера католического бюллетеня, издаваемого в Сан Пауло, узнал, что там есть литературно-художественный кружок, но все названные имена оказались мне незнакомыми. Из чего заключаю, что я – единственный бразильский поэт, пишущий по-русски. Живу под стеклянным 205 колпаком, о стихах могу поговорить только с мамой и двумя-тремя знакомыми дамами. Недостаток живого общения и атмосферы частично возмещается огромной перепиской». <…> «В том же Франкфурте печатается моя шестая книга лирики “Качель”. Это будет книга исключительно религиозных поэм и стихов (96 страниц). Жаль, что <…> “Качели” Вы не увидите, но проси́те Золотую Лидó переписать для Вас эту книгу (почти все книги у нее уже есть, дело только в их порядке». Странное это было десятилетие – 1957–1967 годы, мне ли о нем судить теперь? Именно тогда, в 1959 году в Рио-де-Жанейро Марсель Камю заканчивал съемки величайшего из бразильских фильмов «Чёрный Орфей» по пьесе Винисиуса Мораэса, драматурга и поэта (1913–1980) – по иронии судьбы, год в год ровесника Перелешина. В этом фильме идет почти непрерывный – и насквозь трагичный – карнавал, только Копакабана видна не «анфас», а с вершин окружающих гор, не только Корковадо (Горбун-гора, – кстати, она часто видна на горизонте по другую сторону залива). Захочется ли вам в этот райский город? Сомневаюсь. Но для Перелешина это была «третья и последняя родина», где меньше чем через десять лет вернулось к нему поэтические дыхание. Даже и не знаю, видел ли Перелешин «оскароносный» «Черный Орфей». Но мне в понимании души Валерия Францевича этот фильм дал весьма много. Кстати, присмотритесь – как красивы бразильцы. Для Перелешина это значило много, это послужило дополнительным импульсом его поэзии. Но – сильно позже. А нам-то в СССР кто бы тогда «Черный Орфей» показал?.. Да, время делало из нас самиздатчиков – вне зависимости от того, жили мы в Рио-деЖанейро или в Краснодаре. Позже, когда в середине 70-х годов цензура писем на какое-то время несколько ослабела, Перелешин проделал трюк, равного которого не упомню в своей жизни, ни в чьей-либо еще. Дело в том, что по всей вероятности – последней из вышедших на русском языке авторской книгой стихотворений был четвертый поэтический сборник Перелешина – "Жертва". Для обложки книги уже не было никакой бумаги, кроме папирусно-желтой, а для надписи на ней – никакой краски, кроме зеленой («Вышла яичница с луком» – шутил автор, и не он один). Сам Перелешин давно уже находился в Пекине, заботы об издании легли на его мать, Е. А. Сентянину. И… случилось так, что изрядная часть тиража книги перебралась сперва к автору в Шанхай, затем в Гонконг, а затем дождалась 1970-х годов в Рио-де-Жанейро. Перелешин разрезал книгу по корешку, и стал, складывая пополам, пересылать мне по страничке эту книгу: чудо случилось: по одной страничке книга собралась у меня вся. Я отдал ее великому библиографу (а в те времена еще и великому мастеру переплетного дела) Льву Михайловичу Турчинскому. Он согнул обложку на миллиметр или два, и авиационным клеем ввел в образовавшийся блок все 54 страницы книги. Она и сейчас на моем столе: Валерий Перелешин. Жертва. Четвертая книга стихотворений. Харбин 1944. И уже рукой автора на титульном листе книги приписано: «Дорогому Жене на память о том, чего не было, но что – было. Валерий Перелешин, Рио де Жанейро, 16 сентября 1974 года». И страницы и обложка книги хранят след легкого сгиба пополам – чтобы в конверт вложить можно было. Чем не памятник эпохе?.. Мы много говорили с Перелешиным в письмах о переводах: с его легкой руки я даже португальский язык выучил, но… никогда не переводил бразильских поэтов: только «главных по эту сторону Атлантики» – Камоэнса, Бокажа, Пессоа, ну, и тех, что разрядом поменьше, однако никогда не выходил за пределы Португалии. Перелешин всегда помог бы, проконсультировал все непонятные реалии… но мне не хотелось лезть в то, что он заведомо знает лучше меня. А континентальная Португалия была для нас чем-то вроде «оффшорной зоны»: теперь, когда очередной раз издаются стихи великого Пессоа, которого я перевел больше двух тысяч строк, я стараюсь в состав хотя бы десяток переводов Перелешина подложить. Наши школы – «советская» и «эмигрантская» давно перестали существовать как раздельные, так отчего бы и не печататься вместе? Издатели не возражают (особенно потому, что у Перелешина нет наследников и платить никому не надо). Однако в нашем Собрании сочинений понадобился бы еще немалый том для переложений Перелешина с китайского и португальского, с английского и французского – так что без крайней необходимости постараюсь сейчас этой темы не касаться. Надеюсь, что переводы Перелешины еще выйдут отдельной книгой. Эдаким четвертым томом собрания сочинений, протом немалым. Иной раз в его письмах можно найти такие вот краткие и не требующие комментария отзывы о современниках: «Несмелова я ставлю очень высоко. Дал я разъяснения Глебу Петровичу <Струве – Е.В.>, что на Маяковского он слегка похож (мажорностью большинства вещей), но с Северяниным не имеет ничего общего» «Елагин не ломается и вообще очень сильный и своеобразный поэт. <…> Моя переписка с ним расстроилась после того, как я доказал ему, что его строки о “переплывающих Кассет / на переполненных по горло суднах” – имеют смысл, которого он не предусмотрел: коли “на кораблях”, так “на судах”, а на “суднах” – ну, на больничных посудинах…». <Елагин в присланной мне ксерокопии книги «По дороге оттуда» эти строки в 1976 году тем не менее ИСПРАВИЛ! – Е.В.> «Мишка Волин когда-то еще в Шанхае устроил вечер для того, чтобы выпустить книгу своих стихов. Мы все откликнулись, составили ему программу. Сбор был недурной. А потом я 206 встретил его на улице и спросил о книге. – Знаете, Валерий, я подумал-подумал и решил вместо книги заказать себе костюмчик» <О реакции Волина на мемуары Перелешина «Два полустанка» подробно пишет нидерландский славист Ян Паул Хинрихс– Е.В.> «Лидия Алексеева грамотная, но не очень сильная поэтесса». «На Терапиано я пишу эпиграммы приблизительно дважды в месяц. Очень злые». Попутно придется развеять еще один невольно возникший миф. Создал его, ничего дурного не замышляя, мой большой друг Василий Павлович Бетаки (1930-2013), которого и процитирую по сетевой публикации (В. Бетаки, «Снова Казанова», часть третья – действие происходит в 1972 году, в доме моих больших друзей, поэтессы Ирины Озеровой и ее мужа Олега Пучкова – в «ближнем Подмосковье», городе Бабушкине, – теперь это просто Москва): «По разным делам, связанным с отъездом, я поехал в Москву. Зашел попрощаться с Ирой Озеровой и её мужем Олегом Пучковым. Он хоть и состоял на партийной работе, но был совершенно своим, надёжным человеком. У Иры с Олегом я, в то мое «прощальное» посещение, познакомился с Женей Витковским. Он работал тогда на радио, вещал на эмигрантов. Передачи эти всегда начинались словами: «Здравствуйте, дорогие соотечественники!». Женя знал десятки адресов эмигрантских литераторов во всех странах мира, по должности открыто переписывался с некоторыми из них. Так что он оказал мне неоценимую услугу, снабдив меня адресами в самых разных странах». Василий Павлович, для меня так просто Васька, был мною видан «до отъезда» лишь один раз – его он и описывает. Когда, спустя десятилетия, он вошел в мой дом на Садовой Каретной в Москве – наш разговор буквально начался там, где оборвался в семьдесят втором. И длился до самой его смерти, спасибо интернету, телефону, скайпу. Чудесный поэт, переводчик и человек – вот и тебя нет. Ничего. Увидимся. Только одна ошибка в его воспоминаниях есть: никогда я не работал на радио и тем более не вещал на эмигрантов, мое откровенно подпольное общение с ними я не рекламировал – ну, Вася и предположил «примерное такую ситуацию», при которой я мог общаться с эмигрантами и… никуда не уезжать. Меня всего-то выручало наличие реальной родни в Германии, с которой в эти годы (да и до сих пор) у меня не рвались связи. Однако это не совсем «эмигранты»: родившихся в Москве в начале ХХ века немцев даже в ОВИРе так, думаю, никто не зовет. А «работал» я – точнее, числился, – литературным секретарем члена СП СССР, незабвенного моего учителя Аркадия Штейнберга. Кем я на самом деле «работал»? Лучше уж помолчу. Однако память вовсе не подвела Василия Павловича. Несколько адресов, а среди них – адрес Валерия Францевича Салатко-Петрище в Рио-де-Жанейро, заметим – адрес на португальском языке, не самом простом для тех, кто его не знает, – я Бетаки продиктовал. И он запоминал адреса, не записывая! Уже через несколько месяцев Перелешин расспрашивал меня в письме – «кто такой Бетаки». Я рассказал, что знал, отношения между ними, насколько мне известно, сложились неплохие, где-то должна храниться их переписка. Только, потомки, учтите: никогда не произносил я в эфир слов: «Здравствуйте, дорогие соотечественники!» Перепутал Василий Павлович какие-то мои слова со знаменитой радио-фразой Александра Галича: «Здравствуйте, мои знакомые и незнакомые сограждане!» Книга эта – памятник не только Галичу, но и ее составителю – Василию Бетаки. А мне почетно – и все же неловко. Переписываться нам с Бразилией, конечно, было трудно: каждое второе письмо Перелешина пропадало в желудке «советской почты» (теперь не уверен даже в этом – едва ли бразильская почта работала на высшем уровне). Но терпение у нас было у обоих: меня интересовал прежде всего «бразильский» период жизни Перелешина и то, что написал он в этой стране по-русски между 1952 и 1957 годом, а также с 1967 – по тогдашнее «настоящее время». Это было не очень много, но вернувшийся в литературу поэт стихами буквально фонтанировал. Помимо этого, важнейшим делом считали мы сбор полного, насколько это возможно, наследия Арсения Несмелова (1889-1945): поначалу мы не знали точно ни года рождения его, ни года смерти, да и книги Несмелова у нас составляли полный комплект только один на двоих. Не книги, а больше копии… но нас тогда это не тревожило. Был бы текст. Я переписывал то, что было у меня, он – то, что было у него; попутно мы искали по всему миру – что у кого осталось «помимо сборников». История этих поисков потянула бы на от отдельную монографию, но один эпизод в ней настолько колоритен, что рассказать о нем нужно отдельно. Ради экономии места Перелешин записывал стихи в строку, давая лишь указания на отбивки. А чуть ли не лучшего сборника Несмелова – «Без России», Харбин, 1931 – в СССР я найти не мог. У Перелешина же сборник был, притом подаренный самим автором. Ну, и заработала обычная самиздатская машина: исписанный с двух сторон лист вкладывался в конверт, и «via maritima» – то бишь морем, не авиапочтой, чтобы деньги сэкономить – отправлялся в Москву. Страница могла оборваться на полуслове – я знал, что в следующем письме будет продолжение. И однажды продолжение взяло да и не пришло. Разрезано на половине оказалось знаменитое ныне стихотворение Несмелова «Агония», о последних днях царской семьи в Тобольске, с изумительным по силе вставным монологом императрицы. Воспроизвожу конец полученного мной письма (собственно, не письма, а пакета со стихами Несмелова – дело было уже в 1972 году). 207 …. Думала: склонятся снова лбы, / Звон колокольный прогонит полночь, /Только пока разрешили бы /Мужу в Ливадии посадовничать! // Так бы и было, к тому и шло. / Трепет изменников быстро пронял бы, / И тут текст обрывался. Нам не привыкать: Перелешин послал письмо второй раз – оно явно пропало. Пропало и третье. И четвертое. Я понял, что письма с продолжением определенно попали под выборочную проверку и отчего-то намеренно конфискуются. Ну, «als sie so, so ich so» (прошу прощения, в романе Набокова Пнин на вот таком невозможном немецком изъясняется профессор Пнин, предполагая, что сказал «Раз вы так, то я так»). Так и поступим. Но придется сделать небольшое отступление. Еще в письме (от 23 мая 1971 года) у Перелешина была фраза-оговорка: «Сегодня надо бы съездить в марочный клуб (благо писем сегодня не было…)». В письме от 27 мая Перелешин дополнил: «Марки я собираю с одиннадцатилетнего возраста. Собираю не весь мир, а избранные континенты и страны, среди которых Россия и СССР. Обрадовался, увидев «картинки» на конверте. Буду радоваться каждый раз». Радость была вынужденная – на письмо в Бразилию приходилось клеить довольно много марок, а уж клеить – так красивое что-нибудь. Я ходил на Центральный Почтамт, подбирал марки, сам клеил, сам отдавал письмо в окошко. То, что филателисту всегда приятно получить вот такой конверт, я знал не понаслышке: мой отец, Владимир Генрихович Витковский (1903-1991) собирал марки с юности, со времен работы у Маяковского в «Окнах РОСТА». Однако война 1914-1920 семью сильно разделила. Большинство членов клана Витковских, Мычко-Мегриных и Райнбахов откочевала через Ригу в Германию, а мой отец вместе со своей матерью остался в РСФСР: женился, завел сына Александра Витковского (1924-1943, погиб под Старой Руссой), занялся «хранением яблок и винограда» (даже книгу на эту тему издал)… и на всю жизнь придумал себе занятие для досуга – стал собирать марки. Что именно он собирал – я понять так и не смог, но альбомов с марками был полон дом. Отец воевал на фронте с советской стороны, таскал раненых из-под огня с передовой (медалей «За отвагу» у него было то ли три, то ли четыре), аккуратно скрыв свое немецкое происхождение. Он знал немецкий, а это ценилось. Никому и в голову не приходило, что «За Родину! За Сталина!» воюет натуральный московский немец. Отца не спрашивали – а он лишнего умел не говорить. Но об этом, думаю, в другой раз. И жену Марию (умерла от дистрофии году в 1942 году), и сына отец потерял. В уже занятом советскими войсками Крыму ему в приказном порядке «сунули дембель»: он оказался чуть ли не единственным, кто помнил расположение царских винных погребов в Ореанде и вокруг. Такой «санитар» ведомству Берии со товарищи даром был не нужен, ему была нужна «царская выпивка». А отец мог ее обеспечить. Отец получил место в «Особторге» (стыдливое послевоенное название Торгсина), прописку в Москве… но, как библейский Иов, остался без жены, без матери, без сына. Ближе «двоюродных» у него родственников не было никого. Отец поступил в точности как Иов: вновь женился на Тамаре Михайловне Сергеевой (1923-1993), как и он, москвичке, но – на двадцать лет моложе него. Сын от этого брака пишет сейчас строки, которые Вы читаете. Правда, в шестилетнем возрасте мать прихватила меня и укатила в Томск к другому человеку, к воспитавшему меня «отчиму» Андрею Владимировичу Гербурт-Гейбовичу (1909–1993), так что отец меня в общем-то не воспитывал. Но когда отец в 1968 году отбыл свои четыре в лагере под Ярославлем (за «экономическое преступление, выразившееся во взятках общей суммой на 230 рублей… в пять приемов – чисто хрущевская выдумка), я уже учился в МГУ и жил более-менее один, так уж мне повезло. Со всеми – с отчимом, с матерью и с родным отцом я сохранял лучшие отношения до самой их смерти. Это длинное отступление «о себе» приходится сделать, потому как к Перелешину оно имеет прямое отношение. В начале 1970-х годов в квартиру на Большой Дмитровке, тогда – улицу Пушкина, где еще жили кое-какие наши троюродные родичи, внезапно пришло письмо из Германии, из города Ханау-на-Майне (кто ж не вспомнит строк моего любимого Н. М. Языкова из «Послания Гоголю»: «А я по-прежнему в Ганау / Сижу, мне скука и тоска…») пришло письмо: «Сообщите о судьбе семьи Витковских, Марии и Владимира, по адресу…» Письмо было не совсем на «деревню дедушке»: в этой квартире Витковские в начале 1920-х как раз и жили. А вот подпись под письмом напугала остававшуюся на Дмитровке родню до полусмерти: Рудольф Райнбах. О том, что всё семейство Райнбахов отбыло в Ригу в 1918 году, мы знали. Родня перезвонила отцу (все-таки вопрос впрямую их не касался) и отдала письмо (наверняка после этого все перекрестились и руки вымыли). А отец только что вышел из лагеря. У отца только и было всей семьи, что его третья жена, урожденная Антонина Бухрот, да я – уже вполне независимый, мне было года 22 или около того. Отец перезвонил мне, пересказал все происшедшее и сказал: «Будем отвечать?» Мне и так было ясно, что, простите, «если нельзя спрятать, то надо высунуть». Куда денешь двоюродного брата отца и друга его детства, крупного ученого-химика Рудольфа Райнбаха (1907-1985). «Органы» все равно разберутся и найдут нас, а мы не единственные в СССР, у кого есть родня за границей, тем более – обе семьи от одного корня, только одна ветвь обрусела, друга онемечилась. Пропущу подробности: короче, дядя Руди стал в Москве постоянным гостем, когда ежегодно, а когда и два раза в год он приезжал в Москву почти до самой смерти. И постоянно переписывался с моим 208 отцом. Что самое для нас сейчас важное – «Рудольф Альбертович» оказался пламенным филателистом. На этой почве я подсунул ему при первой же встрече адрес Перелешина: лишний контакт никогда не помешает (о другом таком случае рассказывает в своих воспоминаниях Ян Паул Хинрихс, а сколько их было всего – мне и не вспомнить). Кстати, менялись марками Перелешин и мой дядя до конца жизни дяди, а Перелешин слал ему иной раз и пакет всякой экзотики – в подарок моему отцу. Этот контакт был прочным, надежным, долговременным: родня как-никак. А уж филателисты найдут общий язык сами: к слову: «Рудольфом Альбертовичем» называл моего «дядю Руди» только Перелешин, у нас отчества и вовсе не очень в ходу были (имена старших и следующих сыновей были определены традицией): отец мой тоже был вообще-то не Владимир, а Вольдемар (+ еще четыре имени, и порядок их мне точно не вспомнить), да и сам я «Евгений» лишь потому, что называть сына Генрихом в Москве в 1950 году было самоубийством: вот и передал отец матери записку в роддом: выбирай: «ЕвГЕНий» или «ГЕНнадий». Мать выбрала. Но и брата поэта Валерия Францевича Перелешина (урожденного Салатко-Петрище) тоже по документам звали «Виктор Салатко». Так ли важно имя? («был бы человек хороший», как сказал в известном анекдоте один кирпич другому). «Als sie so, so ich so»: этим я и воспользовался. Меня любил дядя Руди, а Перелешин, кажется, к этому времени уже даже более чем просто «любил». И я попросил отослать недостающие страницы сборника «Без России» не мне, а в Германию, дяде Руди. Тот переписал в три письма нужные стихотворения от руки (он вообще писал от руки) внутрь своих писем моему отцу – и отправил их в три приема простой почтой. Чем мельче сеть, тем легче она рвется. Вот и проскользнули китайско-бразильские рыбки от Перелешина дяде Руди, от него – моему отцу, а мне оставалось забрать письма. Вот только теперь и стало ясно, отчего четыре письма Перелешина пропали. Еще бы им не пропасть! Предлагаю вниманию читателей то самое, с чего начинался «оборванный текст» очередной страницы Несмелова: …/ Если бы нечисть не принесло, /Запломбированную в вагоне. // Вот на балконе он (из газет / Ведомы речи), калмыцки щурясь... / И потерялся к возврату след /В заклокотавшей окрепшей буре. // Враг! Не Родзянко, не Милюков // И не иная столицы челядь. / Горло сжимает – захват каков! – / Истинно волчья стальная челюсть.<…> Короче, сборник «Без России» оказался у меня собран целиком, Счастлив был я, счастлив Перелешин, а мой отец и дядя Руди были довольны, что на старости лет и они, филателисты, на что-то годятся. Не знаю, цела ли переписка Рудольфа Райнбаха и Перелешина (разве что в Лейдене). Но если цела – лежит она у дочери Рудольфа, Глории, скульптора-керамиста, которая поныне живет в Дармштадте. (Ян Паул, ау!) А мы с Перелешиным в итоге собрали полный комплект сборников Несмелова. Позже, на протяжении многих десятилетий, шло собирание его «невошедшего» по всему миру: огромный вклад сделала наш соавтор из Чикаго, Ли Мэн, а в конце концов Владислав Резвый отыскал более сотни стихотворений, опубликованных в 1912-1917 годах в Москве и Петербурге – под собственной фамилией, под множеством псевдонимов, но до «Несмелова» было еще далеко – тот «родился» лишь во Владивостоке весной 1920 года. Этих стихотворений, да и многих более поздних (более 150!) нет даже в капитальном двухтомнике Несмелова, выпущенном в 2006 году во Владивостоке. Надо бы Несмелова издать заново – но сейчас не его очередь. Сейчас пора издать самого Перелешина. Если в Китае – по мнению самого Перелешина – первым поэтом был Несмелов, а вторым – Перелешин, то в Бразилии первым поэтом (возможно, даже более крупным, чем Несмелов) стал Перелешин. И вовсе не только в Бразилии. Он стал – и по сей день остается – самым значительным русским поэтом Южного Полушария планеты Земля. Есть слух, что сделала его таковым книга сонетов «Ариэль» (1976)… но не мне тут судить. Эти сонеты создавались по мере нашей переписки в 1971-1975 годах, и я вовсе не думал, что из них сложится «книга». Словом, мое дело рассказывать, что знаю, а судит и оценивает пусть кто-нибудь другой. Вернемся к первому году нашего письменно общения с Перелешиным, благо письма целы и разобраны – к 1971-1972. Первое его стихотворение («Перед зеркалом), посвященное мне, вписано в письмо от 27 мая 1971 года. В сборники оно не вошло, так ищите во втором томе, дата под ним – 26.V.1971. Автору, заметим, не было и пятидесяти восьми. А мне, напоминаю сейчас куда больше. «Бывают странными пророками /поэты иногда…» . Трудно сказать с уверенностью¸ но не этим ли числом нужно считать день рождения Ариэля? «Женей» он впервые назвал меня в письме 1 июля того же года. В 1973 года (22 февраля обращение уже иное: «Мой любимый Женя», через полгода (30 октября) мы находим обращение меняется вновь: «Мой родной…» И все время сбивался с «Вы» на «ты». Я, однако, памятую о разнице в нашем возрасте (37 лет) «ты» принял бы спокойно. Но – одностороннее. Я на «ты» не обращаюсь почти ни к кому, памятуя шуточку: «мы с ним на “ты” и на “сволочь”»… 209 Осенью 1974 года в нашей переписке вынужденно наступил перерыв: письма не шли ни в ту сторону, ни в другую: Перелешин впал в обиду, а в какую и за что – я узнал через четыре года – и прямо от Перелешина. Однако через два года первое, что сделал мой дорогой дядя Руди прямо в коридоре ныне разобранной гостиницы «Интурист» (возле «Националя») – это вынул из внутреннего кармана пиджака и вручил мюнхенский том – «Ариэль». Как я понял в дальнейшем, Валерий (уж буду и я называть его просто по имени) сильно осерчал на меня, что я оставил первую семью и ушел к поэтессе Надежде Мальцевой, которой ныне гордится русская литература (и о которой все, что надо, можно прочесть в русской Википедии). Однако Надежда, увидев мою растерянность по поводу принесенного домой «Ариэля», копнула наш несметный архив, нашла нужный адрес – и написала Перелешину сама. Поэтому вернулась к жизни наша переписка с Рио-де-Жанейро лишь в 1977 году, и первое письмо Валерия от 17 августа обращено только к Надежде. 4-го октября того же года очередное письмо из Рио-де-Жанейро (девятое за два неполных месяца!) начиналось обращением «Дорогие Надя и Женя». А следующее, от 9 октября – привычным «Дорогой Женя». Надежда наши отношения восстановила и… пошла писать стихи. Те самые, которые изданы лишь в XXI веке и составили ее сборник «Дым отечества». Хотя мы с Надеждой расстались в 2002 году, но остаемся лучшими друзьями и она ждет собрания сочинений не меньше, чем все, кто так или иначе оказался задействован в общении между Москвой и Рио-деЖанейро: тем более, что именно в конце 1970-х годов у нас появилась на короткое время возможность общаться с Валерием без посредства «советской почты». В 1978 году обращения стали прежними, а 6-м апреля датировано письмо, начало которого стоит процитировать: «Мой дорогой друг, Совершенно неожиданно получил сегодня из Кембриджа в Англии письмо Ариэля…» Тут нет ничего странного: по поручению Ю. П. Иваска в моем доме появился мой дорогой и ныне, увы, покойный друг, Александр Николаевич Богословский, специалист по творчеству Бориса Поплавского, заплативший за эту свою «специальность» тремя годами ГУЛАГа (меня не притянули к его процессу по случайности: моего телефона не было в записной книжке Богословского; зачем записывать то, что знаешь наизусть как молитву?..) Через Сашу я мог передавать письма на Запад, получать их с Запада, да и книги можно было в небольшом количестве передать. Два года мы жили в этом смысле как у Христа за пазухой, диппочта некоторых (точнее, трех) посольств готова была нам помочь максимально насолить советской власти. Ну, а мы, само собой, готовы были этому желанию соответствовать. Я был защищен лучше Саши: и член Союза Писателей, и… эпилептик, да еще и – не падайте в обморок – специалист по ленинской теме в мировой поэзии. Ничего особенного: в 70-е годы я собирал (но сам не переводил) псалмы, которые писали Ленину во всем мире. Но у монеты, кроме аверса, есть и реверс. Кончилась советская власть, а я вовсе не перестал быть специалистом в этой области. В России, США и Израиле очень охотно печатают мои переводы стихотворений о Ленине, созданные в 1938-1954 году лучшим канадским поэтом, «Киплингом холодной страны», Робертом Сервисом (1874-1958). Вот за эти переводы мне при советской власти дали бы не три года, а куда больше. Но я – филолог, я всего лишь продолжаю изучать начатую тему. Псалмы больше никому не интересны, зато стихи Сервиса о ругани теней Ленина и Сталина в ставшем коммуналкой мавзолее многим очень по сердцу (Наверное, есть и те, которым «не по душе», только вот есть ли у них душа, или давно продана?). Словом, связываться с эпилептиком-лениноведом аж до 1986 года не рисковали. А когда на допросы все-таки стали вызывать – оказалось поздно. Потому как тем, кто вел допросы, очень скоро стало пора спасать собственную… ну, шкуру, шкуру, ничего другого я в виду не имел. Только Саша Богословский тихо угас, ушел из жизни, успев подготовить к печати трехтомник любимого Поплавского. Он и сейчас у меня на стеллаже возле стола – как память о Валерии, о Саше. И – о связавшем нас «через свои каналы» Юрии Павловиче Иваске, чья поэзия все не дождется никак нормального издания в России. Однако письмо от 6-го апреля 1978 года наконец-то было расковано, наконец-то лишено тошнотных эвфемизмов. Может быть, и нет это важно теперь, на два абзаца процитирую. «О статье “Скрытый шедевр” С. А. Карлинского я Вам писал (и статью посылал). Статья на шести неполных страницах журнала “Улица Христофора” (gay). Есть в ней ссылки на Георгия Шувалова (вероятно, Геннадия Шмакова), но не в этом дело, а в том, что о моем Ариэле С. А. К. написал опрометчиво, сделав из него левшу, в чем я далеко не уверен. Спорить уже поздно: статья напечатана. Другая копия послана дяде Р. А. А получена ли?» [Кстати: статью мне дядя Руди так и не переслал, считал, что она может «повредить племяннику». Ошибался дядя Рудольф, чудесный человек… но быстро старел. Рад бы о нем десяток страниц написать, да где место взять?..] «Левша» – постоянный эвфемизм Перелешина (и не только его) для того самого, что давно уже называется по-русски «гей». Но отвечу: я-то ведь не Ариэль. Мне нужно представить, что о своем Ариэле думал Перелешин. Тот Ариэль, конечно, был гей, да еще и вечно в кого-нибудь (своего пола) влюбленный. Совесть велит и мне прикинуться геем, подыграть партнеру… но я же не «Доктор Кто» из знаменитого английского телесериала, переродиться не могу. Ариэль исчез с тех пор, как в начале 1990-х Валерий перестал узнавать окружающих. Кем ни прикидывайся, а в храме, в исповедальне все равно скажешь правду. Правда же проста: если бы я родился геем, я был 210 бы в точности тот самый Ариэль, какого придумал Перелешин. Только я-то родился собой. В любом случае – как пела некогда моя почти ровесница Глория Гейнор, “I am what I am”. (Правда, кто бы мне самому на седьмом десятке объяснил – каков же я есть? Как-то по сей день все не было времени задуматься). От себя лишь печально добавлю, что с замечательным переводчиком Геннадием Шмаковым знаком не был: мы жили в разных городах. Сколько же «невстреч» оставляет нам уходящая жизнь. Но… напоминаю, мой стакан всегда наполовину полон, никак не иначе. Так останется до конца дней моих, а дальше не мне решать. Но вернусь к тому же письму: «Мой брат однажды опять бранил книгу «Ариэль» – «Порнография!» Вспоминал переполох (слова Т<амары> М<ихайловны> [т.е. моей матери] и Аллы <Шараповой, моей первой жены>): «Скажите ему (мне, то-есть), чтобы таких стихов не писал». А я слушал – и жалел его (вместе с его викторианством). Сколько воды утекло с тех пор под мельничные колеса. И смотрел я на ворох книг, полученных от моего Ариэля (и с какими надписями!» По мне – Перелешин все понял правильно. И причину, по которой я сбежал из первой семьи (не хочу о ней ничего плохого писать, ибо если о мертвых – только правду, то о живых – или хорошо, или ничего: такой вариант древней формулы я выбрал для себя). И понял, что надписи мои очень большому поэту Валерию Перелешину были совершенно искренними. Дело никак не в сексуальной ориентации, дело в поэзии, а она инструкциям о том, как писать, как не писать, не подчиняется. Куда более неловко читать теперь в письмах Перелешина упоминание о том, как в середине 1930-х он пытался «лечить себя женщиной», Е. А. Генкель, которая была старше него на тринадцать лет, – что там у них вышло, знать не знаю, но в итоге поэт пошел в монахи. Впрочем, как пошел, так и ушел: «голубой монах» не столько противоестествен, сколько не имеет права на уважение. Этого поэт не хотел. Перелешин все больше «открывался», как говорят геи, «готовился выйти из чулана». Он это и сделал после смерти матери в 1980 году, но до тех пор у нас с ним оставалось два года свободной от цензуры и «зоркого ока» переписки. Перелешин поставил задачу: переслать мне ВСЕ свои стихи и переводы, в том числе и такие, от которых отрекался начисто и не желал их печатать никогда (даже написанные в детстве, даже совершенно непристойные, написанные в период «молчания» по-английски, словом – все). У меня и впрямь оказалось такое, чего здесь нам печатать не захотелось, стихотворения, написанные Валерием в детстве. Пусть лежат в архиве. Зато Валерий непременно передавал приветы Надежде Мальцевой, моему учителю Аркадию Штейнбергу, моей приятельнице, поэтессе Ирине Озеровой, вернувшейся в Питер (Боже, какой ценой!..), Марии Веге, конечно, Саше Богословскому, а также пражско-парижскому поэту Алексею Эйснеру, с которым в эти годы мне не без труда удалось познакомиться в Москве, чьим «Человек начинается с горя» Перелешин бредил еще в Харбине. Написал Эйснер, к сожалению, очень мало, едва хватило на небольшую книжку, которую мы в «Водолее» в 2005 году выпустили. Потом еще стихи нашлись, надо бы переиздать книгу в расширенном виде – да только вот слишком много всего надо – а нас с годами все меньше. И все меньше живых свидетелей ушедшей эпохи. Сыну я всегда повторяю: если надо идти по литературным делам к десятку стариков, выбирай сперва того кто, старше. А то опоздаешь. Надо сказать, совет помогает. Всего, увы, не перескажешь. Моя переписка с Перелешиным даже с пробелами, лакунами и изъятыми повторами составила бы целую книгу. А мне ведь надо рассказать о многом. Чего другие не знают – или не рискуют писать: о Перелешине последних 10-12 лет, когда – благодаря свалившейся с неба американской «благотворительной пенсии» он вдруг стал финансово независим от брата. И о шоке, который испытал брат, когда Перелешина стали печатать в СССР, в 1988-1990-х годах. Но буду писать, пока силы есть, и пока редактор не скажет «брек». А ведь скажет! Наконец, 21 мая 1978 года, посоветовавшись с Хаиндровой, Перелешин заложил мне самого себя на 100% (и очень облегчил наши дальнейшие отношения). И тут цитата необходима. Наперед скажу: под псевдонимом «Александр Каюрин» Перелешина очень хотел печатать пресловутый «Комитет по связям с связям с зарубежными соотечественниками (Б. Харитоньевский, 10). А я, юный поэт-переводчик, сдуру попался на этот крючок – и по их «просьбе» должен был уговорить Перелешина дать для их изданий – ну, хотя бы переводы из Камоэнса и Ли Бо. А там уж они сами его обработают не хуже, чем бедную Марию Вегу. (Кстати, также ловили и Лариссу Андерсен, но она, по словам Перелешина, «прикинулась дурочкой»). Я жил в Москве, комитет находился в Москве, и за мной явно прислеживали. Вероятно, только моя эпилепсия и отвела от меня их интерес. Но Перелешин был далеко, и продолжал, видимо, думать – а не держу ли я за пазухой все ту же идею «каюринизации». К 1978 году, признаться, я о ней основательно позабыл. Итак, вот цитата из упомянутого письма: «Наш “разрыв” в 1974 году только теперь понятен до конца. Именно такое предположение (в связи с Каюриным) я и высказывал тогда в письмах Л. Ю., но она это предположение решительно отвела: нет, Ариэль сам не пишет по лени или небрежности <…не писал-то я вообще никому, знаю, что за мною следят довольно зорко, я ждал, что «подполковники из комитета проворуются, на их место 211 придут другие, – собственно, так оно и случилось; не зря меня учили зеки Штейнберг и Петров: “Обожди, чтобы следователя убрали – следующему будет не до тебя, – да так и случилось – Е. В.”>. Когда в первые дни ноября я получил сообщение о переменах в Вашей жизни, сложил два и два, и сделал совершенно ошибочный вывод. Горьких стихов, заканчивающих книгу “Ариэль”, не возникло бы, если бы тогда Каюрин не воскрес, получилось бы очень хорошо, но “разрыв”я переживал мучительно. То, что этот разрыв не был окончательным, подтверждает мою гипотезу, высказанную в “Звене” и многих других сонетах»… О мертвых – см. выше, но лучше уж – ничего. Как раз моя первая семья любой ценой хотела моего разрыва с Перелешиным (даже перечислять не хочу, что именно я теперь отыскал в старых бумагах). Но результат получился обратный – я порвал с первой семьей и занялся литературой русского зарубежья, при случае помогая друзьям: передавал на запад то «Хронику текущих событий», то… кому надо, тот знает, что именно. Но это история обо мне, а не о Перелешине. Так или иначе, приблизительно в седьмую годовщину «рождения» Ариэля я помирился с Перелешиным, он помирился со мной, и ссор больше не было. Был лишь перерыв в общении в андроповские времена, но уж больно густой тогда над страной висел запах лесоповала. Лучше было отсидеться в своем углу. А моим углом в СССР был поэтический перевод, да к тому же (в стол) я написал два первых тома своего первого романа «Павел II». Роман вышел в 2000 году в АСТ, о советской власти тогда уже стали забывать. Но и Перелешина, кроме как по антологиям, печатать мне было пока что негде. В поздних письмах он обращался ко мне даже «Мой дорогой Женя-Ариэль». Или над «Мой бесконечно любимый», возле даты приписывал: «Под созвездием Ариэля». Я в его сознании окончательно слился с тем образом, который приходил к нему ночами. Я мог лишь молчать. Если от такой ситуации возникали его стихи – остальное меня не касалось. Я все принимал как факт. Единственное, что я – в отличие от моих друзей и близких – точно чувствовал, что советской власти недолго осталось. Единственный, кто говорил о том, что предчувствует свое возвращение в Россию – притом не книгами, а при жизни – был Александр Солженицын. Его слушали – и ему не верили. А я молчал, и осторожно готовился к переменам. Не зря, как жизнь показала. Перелешин считал, что советской власти придет конец к 2040 году. Он ошибся на полвека, но, к счастью, в лучшую сторону. Перелешин питал клиническую нелюбовь одновременно к Евтушенко и к Бродскому. Но ответили они ему принципиально по-разному. Все, что надо, о «невстрече» Перелешина и Бродского (хоть и сидели рядом) в своих воспоминаниях рассказывает Ян Паул Хинрихс, а вот Евтушенко, плюнув на все оскорбления, и любил стихи Перелешина, и любит их по сей день: я имел возможность долго поговорить об этом с Евгением Александровичем в 1993-1994 году, когда редактировал его огромную антологию русской поэзии ХХ века «Строфы века» (вышла в 1995 году… четырьмя тиражами). После всех моих рассказов Е. А. просто взял да своей составительской волей увеличил подборку Перелешина минимум вдвое. Свидетельствую под присягой: он о бразильском отшельнике никогда слова худого не сказал. Кое-что пишу об этом в примечаниях к конкретным стихотворениям: так справедливей. Кстати, занимаясь всю жизнь Бодлером и рассмотрев некую аналогию между цельностью «Цветов зла» и «Ариэля» я предложил Перелешину собрать воедино сонеты, чисто по нумерологическим соображениям в книгу не попавшие. В конце концов, если у Бодлера были «Осколки Цветов Зла», почему не составить хотя бы в рукописи «Осколки Ариэля?» Ответ Перелешина был довольно бледным: для него эта книга определенно стала прошлым. 9 июля 1978 года он писал мне: «Хорошо ли – “Осколки Ариэля”? Многие сонеты относятся к тому периоду, когда страсть стихотворца была в разгаре. Осколки – хорошо для последней фазы. Как хотите, впрочем. Уверен, что эти “не включенные” сонеты Вы узнаете без труда». Короче говоря, из затеи ничего не вышло. Компьютеров в ту пору не было, работали клеем, белилами и бритвой – до составления ли такой вот книги мне было, когда на собирание основных книг и стихотворений чуть ли не всех попавших под мою опеку эмигрантов уходило до 16 часов в сутки? Впрочем, в письме от 22 февраля 1980 года, перед долгим перерывом в общении, Перелешин мельком подбросил фразу: «А второй том “Ариэля” надо назвать “Недосказанное”». Составить такую книгу не составило бы сложностей, только издавать ее, при наличии нынешнего относительно полного собрания в трех томах, пожалуй, незачем. С середины июня 1978 года Перелешин стал писать о своих сексуальных влечениях сперва прямым, а позднее даже избыточно прямым текстом. Из письма от 10 июня 1978 года: «Засматриваюсь на одного служащего ближайшей забегаловки («ботекина»). Такую красоту редко приходится видеть даже в Бразилии – стране очень красивых людей. Не знаю о нем ничего, даже двумя-тремя словами с ним не обменялся, хотя он всегда на меня смотрит, когда я прохожу мимо. Красота в малой дозе привлекает, но когда красота в избытке, желание сменяется благоговением. Тем не менее, сегодня я встретил на улице почтальона мулата (по прозвищу “Bonitão” – Красавец) – тоже поразительно красивого, но красотой смешанной крови, зато улыбчивого и очень приветливого: и уже вторично пригласил его к себе – познакомиться. Культурой можно 212 произвести впечатление на культурных или хотя бы ищущих культуры, а людям этого класса нужны достоинства другого рода: вот, если бы у меня был собственный автомобиль или возможность пригласить такого Красавца куда-нибудь в Ламбари или хотя бы Терезополис…» И это всего лишь абзац. В дальнейших письмах, практически в каждом – хотя бы одна фраза да найдется: «Сегодня под вечер позвонился прехорошенький рабочий при доме, Raimundo, и вручил мне Ваше письмо…» «Раймундо пришлось прогнать, хотя он очень красив. Потом был еще Антонио – “Крещеный Антиной”. Красивый, женственный, ласковый. Я ждал его долго, но он не пришел второй раз»… И так далее. Боюсь, поставь я целью выбрать монологи Перелешина на эту тему из его писем, мне бы и на двадцати страницах не уместиться. Не знаю, писал ли такое Перелешин кому-нибудь еще, но к этому времени точно знал: левша или не левша, гей или не гей его Ариэль (тот, что письма ему пишет), но уж точно – не осудит. Я не сообщал ему, что в моем романе «Павел II» описан довольно большой притон «голубых», и хотя места этому сюжету уделено немного, но знать предмет автору положено. Что я только не изучал для своей прозы – от выделки кож до плетения рогож, от залегания марциальных вод, до способов излечения от похмелья в различных странах. А тут – материал валил ко мне сам по себе, читай да усваивай. Да и не прочтешь о Бразилии такого ни в котором романе Жоржи Амаду. Хочу напомнить, что все-таки начальной основой нашей с Перелешиным эпистолярной дружбы была другая моя цель: максимально полно собрать поэтическое (а затем и прозаическое) наследие Арсения Несмелова, и доказать таким образом несомненную для меня антитезу: в эмиграции была не только «парижская», аполитично-лиричная тема смерти, она же «парижская нота» (или, по выражению Перелешина, возникшему куда позже, «парижская коммуна») – но как минимум и «харбинская нота», поэзия, выросшая из глубин офицерской чести отступившей на Дальней Восток армии Колчака и Каппеля. Термин «харбинская нота», кстати, в XXI веке уже прижился в литературоведении; но ведь была и «американская нота» Ильяшенко и Голохвастова (в Европе 30-х годов о ней вообще никто не слыхал), были свои «ноты» в Белграде, Таллинне, Риме – теперь уже и не берусь все сосчитать, моим делом стал русский Китай, а значит – Арсений Несмелов и Валерий Перелешин. И первый истратил почти два десятилетия на то, чтобы помочь мне собрать стихи и поэмы Несмелова; первым итогом этой работы была, кстати, вышедшая еще в СССР, еще несовершенная книга стихов и прозы Несмелова – «Без Москвы, без России» (М., «Московский рабочий», 1990) – тираж составил 50 тысяч экземпляров и, как ни странно, распродался. Соавтором моим был живший в те годы в Сочи «дальневосточник» Анатолий Ревоненко; некоторые стихотворения пришлось публиковать записанными по чьей-то памяти, вклад Перелешина в эту книгу и вовсе было не измерить никакими мерками. Но все-таки, это был первый черновик издания, как и владивостокский двухтомник 2006 года кажется мне таким же черновиком. Утешает то, что буквально все, некогда печатавшееся «по памяти», через 16 лет уже нашлось в редких публикациях. Однако все это отступление сделано не потому, что Перелешин, наш помощник № 1, так уж боготворил своего учителя, Несмелова (учителем он ему был в очень малой степени: стиль поэзии совсем иной), а потому – он честно признавался в письмах, и даже не раз – что «чего не сделаешь ради любимых». А его Ариэль ничего не просил. Вот разве что еще поискать Несмелова… «Ариэль» подсказывал: зачем писать столько сонетов пятистопным ямбом, ведь шестистопный так красив! Потом подсказывал: а как же «перевернутые» сонеты, в которых терцеты стоят выше катренов? Исследователь может убедиться, что Перелешин пользовался огромным разнообразием форм «внутри» сонетного канона. Пожалуй, в этом была какая-то заслуга Ариэля. Потому как тот Ариэль, которым (по совместительству) был поэтом-переводчиком, вынужденно располагал избыточным запасом стиховедческих знаний. Мне они не пригодились, поэт (оригинальный) из меня едва ли вышел. Вышел поэт-переводчик, а это не одно и то же. Зато многое из этих познаний пригодилось Валерию Перелешину, и тому есть десятки свидетельств в нашей переписке. Перелешина избыток «переводческой темы» в моих письмах печалил (см. сонет «Возмездие» от 13 февраля 1979 года). Но он никогда не поверил бы, что я «для него же стараюсь»: менее чем через десятилетие он вернулся в Россию – для начала именно переводами. Перелешин хоть раз на письмо да вставлял такое (от 7 июля 1978 года): «Думаю я о Вас всегда на “ты” (смешно было бы “выкать”, постоянно чувствуя Вас рядом с собою: даже голову поворачивать не нужно). Люблю Вас многоярусно. Едва ли “как сына”: из любви к сыну книга “Ариэль” не могла бы возникнуть <…> Ваша нежность вернула мне смысл жизни». По счастью, эти его письма ко мне если кто и читал, то только теперь и только с моего разрешения. Полагаю, это хорошо, что мы никогда не виделись. Будь я даже тем, что он насочинял – не годился бы ему в друзья тот литературный трудоголик, каким я был и навсегда останусь. Короче, не вышел бы из меня тот верленовский Люсьен Летинуа, памяти которого он демонстративно посвятил стихотворение еще в самом первом своем, харбинском сборнике. «Знающие» по этому имени должны были понять – кто и автору близок душой и телом. Но я-то был знающим по другой причине – я французский учил по биографии Верлена (правда, еще по Дюма, но… mea culpa, так быстрее и проще). Однако цитат о любви к «Ариэлю» можно привести десятки, и многие из них будут далеко не столь благочестивы. Но лучше воздержусь: как сказал Овидий по другому поводу в «Науке любви»: «Прочее знает любой» (перевод С. Шервинского). А если не знает, пусть вообразит. 213 1978 год все-таки изменил положение Перелешина в собственно бразильской литературе, куда он и не чаял попасть. Издание антологии бразильской поэзии «Южный крест» было все-таки первым изданием бразильской антологии на русском языке (хотя именно такой рекламой пользовалась весьма убогая, вышедшая в Москве 1982 году антология, от которой нынче в литературе и памяти не осталось). Посвящена антология была «Памяти Евгении Фаддеевны Дубянской» - как писал Перелешин, некая дама умерла в Бразилии и, желая сделать доброе дело, завещала Перелешину «некую сумму» на издание любой его книги. «Сумма» известна довольно точно: «Южный Крест» обошелся переводчику в две тысячи долларов (видимо, канадских – счет поэт обычно вел в них и лишь недавно я понял, что канадская валюта в Западном Полушарии – вещь уважаемая. Друг Перелешина, все тот же «левша» Умберто (с которым роман, похоже, так и не состоялся), как пишет Перелешин 8 июля 1978 года «…хочет разослать по всей Бразилии свою заметку о выходе первой на русском языке антологии бразильской поэзии (Вашего покорного слуги). Написана заметка превосходно – и столько же откровенно: переводчик – бывший священник, переводчик – «левша» (и этого не скрывает), а книгу можно купить у него лично (следуют адрес и цена). В общем-то от Умберто некоторая польза и бразильско-русским связям, и русской литературе оказалась: ему принадлежит наиболее известный из рисованных портретов Перелешина (тот, где поэт держит в руке сигарету – я поместил его в «Огоньке» при первой же публикации там стихотворений (№ 6 за 1989 год); совместно с ним перевел на португальский «Александрийские песни» М. А. Кузмина, Умберто же посвящены многие стихотворения в двух последних прижизненных сборниках Перелешина, вышедших в США. Едва ли Бразилия вспомнит добрым словом человека по имени Умберто Маркес Пассос. Россия все-таки не так неблагодарна. Крайне редко описывал Перелешин свой домашний быт. Однако в эти годы мы ловили крохи счастья бесцензурной почты, и одно такое описание приведу. День рождения Перелешина – 20 июля, а цитируемое письмо датируемо: «21-го июля 1978 года. Без четверти восемь утра». Накануне, следовательно, имела место «полукруглая дата»: поэту исполнилось шестьдесят пять. «В двух словах о вчерашнем “высокоторжественном” (скорее траурном) дне. Стряпать мама уже не может; купили мы в кондитерской килограмм пирога с творогом (это здесь новинка), бутылку вермута “Синзано”, килограмм яблок, немного “салгадиньос” к вину. Днем забежал Умберто (неизменно целует маме руку, а потом с нею целуется). А потом под дверь просунули нам поздравительную карточку от Тедди фон Ульрих, извещение с почты о прибытии посылки из Франции и – важнейшее из всего – Ваше письмо от 8-го июля <…>. Как видите, хотя рассчитать было совершенно невозможно, Вы угадали: и письмо, и книги (оказавшиеся “Седой музой” <копия ходившего в московском самиздате самодельного сборника самых поздних стихотворений Софии Парнок – Е. В. >, моим “однофамильцем” <невероятная история: мне попал в руки сборник поэта Бориса Перелешина “Бельма Салара”, Стихи. М. Тип. ГПУ, 1923, 20 с. – я решил, что книга этого не очень одаренного “фуиста” будет развлечением хотя бы для Валерия – и отослал – Е. В. >, графом Комаровским <самиздатской копией сборника графа Вас. Комаровского “Первая пристань” – Е. В. > и Т. Ефименко <также копией единственного сборника Татьяны Ефименко “Жадное сердце” – Е. В. > волшебным и непостижимым образом доплыли “как по часам”. Вечером зашел Виктор, принес еще две бутылки “Синзано” и двадцать пачек сигарет “Континенталь” – впрочем, без мягкого знака и не двадцать, а десять. Был вполне миролюбив. Пили мы “Синзано” и белое вино “Пресиозо”, которое принесла в подарок соседка Ольга Владимировна Рачинская, внучка последнего графа Воронцова. Тедди помнит мою дату, ибо я всегда посылаю ей карточку к 13-му июля (день ее рождения), а Ольга Владимировна помнит ее потому, что через четыре дня празднуется день святой Ольги. Виктор ушел в десять часов, а затем снова пришел милый Умберто и принес свой подарок – две майки. Вина он не пьет, но чай любит чрезвычайно. И творожный пирог имеет у него успех». Это то немногое, что можно узнать о последних годах мирной жизни поэта недалеко от Копакабаны, о жизни поэта-эмигранта в Бразилии в русской, лишь слегка латинизированной среде, – до переезда в Дом Престарелых Артистов в далеком (хотя зеленом) предместье города. Но дальше, буквально на той же странице, мы находим рассказ все о том же, о «самом главном» для поэта (что, как он полагал из русских поэтов его в первую очередь и выделяло). Возник приводимый ниже абзац потому, что в своем письме и высказался более чем положительно по поводу написанного еще в середине 30-х годов стихотворении Перелешина «К Люсьену Летинуа». Мне не хотелось объяснять ему, что вполне спортивный исторический Люсьен (умерший от тифа) имел мало общего с возникшим у Перелешина образом. Но стихи-то вышли прекрасные, что я прямо и написал. Рассказ о «харбинском скандале» вокруг этого стихотворения достоин быть процитирован: поэт, кажется, решил, что я понял его ориентацию с самого начало (это было вовсе не так, но… выдумка тут, пожалуй, важней истины, ибо именно она стала достоянием искусства. «Мою “левшизну” многие в Китае понимали (Ачаир часа полтора читал мне лекцию о том, что, совокупляясь с женщиной, можно молиться, а если вместо женщины юноша, то… и т.д.: по поводу моего “К Люсьену Летинуа”, которое по недосмотру Кауфмана проскочило в “Рубеже”, после чего Евгений Самойлович обвинял в этом Рокотова, а Рокотов возражал, что весь материал что весь материал для очередного номера представил Е. С. и получил его, как утвержденный). Уже в Шанхае Н. В. Петерец говорил мне, что “К Люсьену” – едва ли не лучшее стихотворение, кем- 214 либо написанное на Дальнем Востоке. Шанхайские “островитяне” вообще были умнее, чем харбинцы, и смотрели на вещи шире: меня всюду приглашали вместе с Тан Дун-тянем (о котором прочтете в одной из последних песен “Поэмы без предмета”». Но об этом в письмах ко мне – едва ли не сотни абзацев, а вот про пирог с творогом (какой-то совершенно василье-розановский) и про «Синзано» (как читатель понял, у нас этот вермут называют «Чинзано») – считанные строки. Поэт – все-таки живой человек, не сексом насущным и даже не только поэзией он живет, нужен и кусок пирога, да только «сандуиш американо», в девичестве гамбургер, в Рио-де-Жанейро и в московском Макдональдсе – совсем не одно и то же. Да и помнить о том – плюс сорок за окном у поэта или минус сорок (было почти такое в Москве на моей памяти, было) – тоже надо. Кто привык к одной температуре, в другой жить не может, даже вороны и галки в большинстве стран – разные. А ведь поэзия строится из всего этого материала. Кто знает почему, – не из-за искреннего ли сонета, посвяшщенного Александру Солженицыну? – но в том же году четыре сонета Перелешина (в № XVI) напечатал и «Континент», со старой эмиграцией никогда особо не церемонившийся. Эта публикация поэта, которому почти негде было печататься, конечно, радовала, но зато брат стал все чаще отравлять жизнь и собственной умиравшей матери, и – само собой – жившему с ней старшему брату. Жизнь, конечно, посмеялась над ним самим: его водохранилища высохли в Бразилии как голые сковородки, всего десять лет прошло – а старшего брата уже вовсю печатали в СССР (еще не в России, но так для брата было даже обиднее), да и от самого Виктора Салатко осталось упоминание в справочниках – справка о том, чей он брат, да несколько юношеских, написанных по-русски стихотворений, попавших в 2001 году в московскую антологию «Русская поэзия Китая» (еще при жизни самого Виктора Салатко). Но в августе 1978 года он был еще ого-го. Этим временем датировано письмо Валерия ко мне, из которого извлекаю несколько фраз: «Позавчера был у нас мой брат – и устроил настоящий бенефис. Опять издевался над тем, что я “ничего не делаю” (что пишу по-русски – это не только не в счет, но даже в минус), что должен платить все налоги по квартире и даже страховку (на что я резонно ответил, что в случае пожара страховку получит он, а я просто потеряю и книги, и рукописи, и одежду, и марки). Короче говоря, не только выживает маму и меня из квартиры, но и вообще со света сживает (главные доводы исходят, несомненно, от Лидии <жена Виктора Салатко, однажды, – помнится, летом 1972 года – даже завалившаяся ко мне в Москве в гости без звонка – по счастью, я догадался “не сразу вспомнить”, что у Перелешина еще и родственники какие-то есть – Е.В.>). А вчера поздно вечером (около десяти) забежал милый Умберто. Заставил меня перевести ему прозой напечатанные в “Континенте” сонеты, восхитился их тонким рисунком – и обещал узнать о существующих в Рио-де-Жанейро убежищах для престарелых. Я готов пойти на все, лишь бы избавиться от милого брата, от его насмешек, от его ненависти к России, ко всему русскому, к маме и ко мне. <…> Сам он отупел (от “дринков” и прочего) и оскотинился». Можно бы процитировать и вчетверо больше, да только надо ли? Лучше приведу фразу из письма куда более позднего, от 28 августа 1989 года: «На брата, который обычно меня презирает, как горького неудачника, напечатание стихов <в СССР – Е. В.> в двух журналах с портретом произвело впечатление». Только и можно сделать для бедного Виктора Салатко… что простить его. Уж за одно то, что, когда осенью 1989 года понадобилось оплатить дорогую операцию по удалению катаракт, образовавшихся у старшего брата на обоих глазах, то, как писал Перелешин 3 ноября 1989 года, «Зрение важнее денег. И брат сразу выписал довольно веский чек на эту операцию». Все-таки нет в мире ничего совсем черного, а есть ли совсем белое – лишь Господь ведает. Надо заметить, что меня всегда занимало – почему Перелешин пишет «Ариэль» через «э»? У меня и рука-то с трудом такое выводит. Но Перелешин дал разъяснение (7 октября 1978 года): «“Ариэль” или “Ариель”? Правильнее всего – “Ариил” по аналогии с именами архангелов, Самуила, Мисаила, Гамалиила. Но заглавие моей книги взято не из Библии, а скорее из астрономии (один из спутников Урана, кажется) <открывший в 1851 году этот спутник астроном У. Лассел взял имя из поэмы английского поэта А. Поупа “Похищение локона” – Е. В.> и еще больше – из “Бури” Шекспира, которую я читал по-русски и затем по-английски. Как было написано по-русски, не помню». Короче, из подсознания у Перелешина вновь выплыл «Уран», а с ним, боюсь, и забытое ныне слово «уранизм», благородный термин викторианских времен, извлеченный из диалогов Платона. Но это мои догадки. Как обозвали, так и приходиться принять. Перелешин псевдоним себе тоже не сам придумал. Писем в 1979 году, а тем паче в 1980-м становилось все меньше: у Перелешина рушилась жизнь: брат переселил их с матерью на свою «дачу» довольно далеко от города, в местечко под названием Мур , европейской осенью следующего года Евгения Александровна Сентянина умерла, и ни о чем, кроме ее смерти, Валерий писать не мог (да и жизнь в деревне без единого русского голоса была ему тяжела. В СССР становилось тоже не сладко: последовательно и я, и Саша Богословский потеряли связи во всех трех посольствах, соглашавшихся помогать нам дипломатической почтой. Оставался «открытый путь», но чем ближе была смерть Брежнева и чем страшнее поднимались над страной фарфоровые челюсти чудовищного Андропова, по сути прекратившего выезд из страны даже по израильскому каналу с первых дней своего воцарения в 1982 году – тем 215 осторожней нужно было себя вести, чтобы не угодить в быстро растущий ГУЛАГ. Попала туда моя приятельница, поэтесса Ирина Ратушинская. Попал и мой напарник, Саша Богословский. Но меня воспитывали зеки: «Придурись и вались в припадок!» Я и валился. Только, к сожалению, припадок был самым настоящим: вальпролиевая кислота, известная еще с 1880-х годов, была в виде множества препаратов испробована на людях более чем через девяносто лет, а широко стала применяться лишь еще лет через двадцать, до России же дошла как вполне рядовое и эффективное противоэпилептическое средство лишь на грани миллениума; от эпилепсии эффективно помогла мне именно она, а в 1980-е – только и оставалось, что валяться в припадках каждые две недели, с трудом добывая не очень-то надежные, но хотя бы доступные европейские препараты. До литературы ли тут? Тут скорей к священнику идти надо. Я и ходил – в чудесную церковь довольно далеко от Москвы, где служил отец Александр Мень. Ходил, пока его не убили. Теперь я хожу в другую церковь, в огромный храм на Малой Грузинской. Надеюсь, Валерий не осудил бы меня. Однако прежде, чем началась эта «черная полоса», мы еще успели обменяться с Валерием дюжиной писем: восемь писем, полученных от Перелешина, осталось у меня от 1979 года (между 1 января и 6 июля, видимо, еще до изгнания братом из Рио в Мур , близ города Нова Фрибурго) и всего четыре от 1980 года: первое от 2 февраля, последнее от 13 марта. Эти письма явно пришли уже из Мур , и они полны депрессии. Мать Перелешина умерла 11 октября… о годах Перелешина, прожитых им на окраине Рио-де-Жанейро до тех пор, пока мне удалось «проломить стену» и начать печатать Перелешина в СССР, оставалось долгих восемь лет, и Ян Паул Хинрихс знает о них больше, чем я, а его воспоминания читатель может прочесть здесь же, на страницах нашего Собрания сочинений. Однако кое-что на излете «второго периода» нашей переписки мы друг другу сказать успели. Основное, чем занимался в это время Валерий – спешно, ежедневно и подолгу копировал для меня свои стихи и переводы, справедливо полагая, что в Москве им, как рано ли, поздно ли, «…как благородным винам / Настанет свой черед». Полагал он так совершенно правильно, но едва ли помыслить мог – как скоро это произойдет. Из писем этого периода трудно даже цитаты выбрать: это сплошные перечни того, что – послано, что – не послано, а что – вовсе неизвестно куда делось. Но, теряя последнее зрение и силы, он терзал свою «Машу» (пишущую машинку) – и верил в свою звезду. Я аккуратно и в первую очередь следил, чтобы ко мне максимально полно попали его переводы. Тут не было предвидения, я знал, что в нашу печать оригинальное нахрапом его творчество не протащить, а вот с переводами дело могло пойти иначе. Удалось же мне протащить еще в 1974 году в книгу Райнера-Марии Рильке (изд. «Молодая Гвардия») переводы, выполненные в эмиграции Александром Биском (1873-1973), с которым я даже успел списаться в последний год его жизни. А ведь Биск вовсе не вернулся. Так же печатали и переводы В. Ходасевича из К. Тетмайера и Мицкевича, да и многое другое: за переводчиками почти невозможно было уследить. Кто такие? Ни одно агентство не знает, а фамилий в содержании тридцать или сорок – иди знай, кто есть… кто. К этому сюжету мы вернемся, и довольно скоро. Кстати, на мой вопрос – каким образом отбирались сонеты для «Ариэля» есть точный ответ Перелешина в письме от 6 марта 1979 года: «Необязательное в нем есть, но где его нет? А единством всё это оправдывается. Ведь это всё-таки дневник». Перелешин и сам не заметил, как проговорился о самом главном: принесшая ему едва ли не мировую славу поэтическая книга была не «сборником», как остальные – она была цельным гармонически и единым произведением – поэтическим дневником. Возникла она без первоначального замысла, стихи расположены по хронологии, но сюжетом в ней стала наша жизнь, вместе с ошибками, наветами, вкраплениями чего-то «вставного», без чего жизнь тоже не существует. В письме к кому-то третьему в середине 1970-х Перелешин писал (пересказываю по памяти), что «Ариэль и всё, что к нему относится – это теперь для него совсем чужое и отдаленное». Однако ветер неизбежно возвращался на круги, и на кругах этих опять возникал вымышленный, хотя отчасти и реальный, Ариэль, шекспировский дух воздуха и астрономический спутник планеты Уран. С русским языком у него были отношения твердокаменные. Много лет подряд он твердил мне, что слова «глухомань» не существует, ибо никого там никто «не манит». И клялся, что такого слова нет ни в одном словаре. То, что оно есть в любом словаре (у Ожегова, у Ушакова, у Зализняка, в обоих Академических и т.д.), примеры из довольно старой литературы он игнорировал: это все была «советская самодельщина». Я мог бы и доказать ему, что он ошибается, да только… зачем? Обижу старика, он замкнется. Лучше уж перейти на другую тему. И я использовал рецепт Дизраэли: «Говорите с человеком о нем самом, и он будет слушать вас часами». Теперь я рад этому: было меньше споров, а я получал больше фактов. Летом 1979 года в письмах Перелешина, кстати, все чаще упоминается переписка с Яном Паулом Хинрихсом: судьба словно передавала Перелешина из моих рук в руки Яна Паула, благодаря чему нынче едва ли не основная часть архива Перелешина собрана именно в Лейдене, и лишь в Голландии Перелешин вкусил маленький кусочек того, что можно назвать «славой при жизни». К тому же летом того же года, увлекшись молодым соседом по этажу в своем же доме («…тут и красота, и приветливость, и много других привлекательных качеств…») Валерий все чаще стал писать стихи по-португальски. Забегая вперед, в период, когда мы были отрезаны друг от друга не то, что железным занавесом, а готовыми 216 вот-вот клацнуть челюстями Андропова (Господь, однако, не допустил), к собственному семидесятилетию Перелешин выпустил книгу оригинальных португальских стихотворений, автопереводов, а также переводов на китайский с русского и китайского – «Nos odres velhos» («В ветхие мехи», португ. – Е. В.) Вторая книга португальских стихотворений Перелешина так и осталась в виде разрозненной рукописи («Охотник за тенями»), но составляют ее почти исключительно автопереводы, и «переводить их обратно – дело совсем неблагодарное. Лишь в письме от 2 февраля 1980 года Перелешин очень окольным путем – через осевшего навсегда в Калифорнии поэта Николая Моршена (Марченко), моего большого друга, узнал о причине – почему я не пишу ему ни закрытой почтой, ни открытой почтой. Начиналась наша с Богословским (других не назову) побежка от «органов». В 1984 году Саша был приговорен Мосгорсудом (по статье 190-1 УК РСФСР: распространение клеветнических измышлений, порочащих советский строй) к трем годам лагерей строгого режима. Я уцелел, но довольно дорогóй для души ценой: эмигрантской литературой нельзя было заниматься вовсе никак. Лишь с Моршеном, у которого была нераспознаваемая по фамилии национальность, иной раз я позволял себе обменяться открытками. А Николай Николаевич, тертый калач второй волны эмиграции, умел понимать не то, что эвфемизмы – он понимал и то, что не было написано вовсе. Горестны эти письма от 1980-го. Брат выселил Валерия и мать в Мур . У Валерия на обоих глазах росли катаракты (он писал «катаракт»). Перелешин понял, что я уже попал «под колпак», но знал мои хитрости: если с чужого имени отправить письмо на другой адрес – оно дойдет; в письме от 22 февраля 1980 года: «Если неудобно писать сюда, пишите через Р. А., Ю. П. или Н. Н.)» <т.е. через моего дядю Руди, через Юрия Иваска или Николая Моршена – Е. В.> Письмо пришло через десятые руки – сперва попало к Ю.П. Иваску, потом в Европу, потом ксерокопию с него мне попросту привезли – уж и не вспомню, откуда. Можно было бы написать письмо в ответ. Но я, к сожалению, знал: такое письмо дойдет, но в нем можно было разве что попрощаться. А я не хотел прощаться, я отчего-то твердо знал, что от советской власти скоро памяти не будет, молился и хотел непременно дождаться дня, когда Перелешин будет печататься в Москве. В конце концов, еще в мае 1973 года сам Перелешин закончил сонет «В 2040-м году»: «Отверженный, заранее утешен, / Грядущее предвижу торжество: / Московский том «Валерий Перелешин». (К слову сказать, в издательстве «Современник» на 1991 год было анонсировано и подробно аннотировано такое издание: Валерий Перелешин. Южный дом. Избранные стихотворения и поэмы. Однако «Современник» скоро «накрылся». И, по счастью, не только «Современник». Все равно книга была бы неполная и дурная, вспоминаю о ней лишь исторической справедливости ради). К тому же наверняка пришлось бы брать стихи в основном из прижизненных сборников Перелешина, – между тем его по тем временеам «несобранное» наследие оказалось втрое больше; в нем и теперь непросто разобраться. Посмотрите, к примеру, сколько раз и в самых разных вариантах обыгрывал Перелешин евангельскую строку – «Марiя же благую часть избра.» Даже теперь не скажешь – какая из разработок этой тему у Перелешина получилась лучше других. Ибо в поэзии совершенно неясно – что такое «лучше». Последним тогда оказалось длинное письмо от 13 марта (ответ на мое от 24-го февраля), – Перелелешин догадался послать его вообще не мне, а моему дяде. Вот в последний приезд дяди Руди в Москву я его и получил. С опозданием эдак на полгода. Природного немца Рудольфа Райнбаха тоже, видимо, не очень хотели пускать в Москву, но фамилии у него с братом были разные, да еще такая незадача: Рудольф имел счастье родиться в Москве в 1907 году, здесь похоронены его предки… а вот это уже скандал. Поди не пусти. Конечно, советская власть ждала его смерти. Но и сама пережила его не особо надолго. Конечно, это было не то, чем дышали письма времен «трех посольств». Перелешин рассказывал о текущих делах, но заканчивал на грустной ноте: «В субботу (послезавтра) поеду с Умберто и его родными в Вале дас Видейрас (“Долина Виноградников”), где я лет двадцать тому назад купил участок земли (две тысячи квадратных метров). Мать Умберто не прочь этот участок купить. И есть еще один знакомый Умберто (и мой – немного), некий Жозе Низио, который может “клюнуть”. Если не будет дождя, то поездка будет милая: по дороге красивейшие виды, будут остановки у баров, “кафезиньо” и прочее» <…> “ В общем, уже рассказал всё, что рассказать стоило. Живое общение у нас давно не получается: конечно, и то хорошо, что можно хотя бы изредка “менять обрывки на обрывки”. На такой печальной ноте прервалось мое и Перелешина общение на восемь лет. Правда, в эти годы – пусть только на них – Перелешин неожиданно обрел «четвертую родину» – Голландию. Но об этом не мне рассказывать. … Принято считать, что началом «Перестройки» (т.е. «началом конца» для СССР) можно считать январь 1987 года, когда очередной пленум КПСС решил считать (не помню что) подлинным продолжением (уж не помню, чего – скорее всего, ленинского курса, но слова тогда роли не играли). Играло роль то, что на глазах рушилась цензура, выходили из лагерей и тюрем, возвращались из ссылок «политические». Что-то происходило раньше, что-то позже: в 1986 году «Огонек» уже печатал Николая Гумилева, но некоторое время положение было как в абсолютной формуле Александра Галича «То ли гений он, а то ли нет еще». Однако 1988 год точки над i расставил: 217 в журналах потоком появилясь «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, «Доктор Живаго» Пастернака, «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, а прочего не перечесть. Еще в 1986 году меня таскали на допросы (все-таки добрались какими-то путями), но уже через считаные месяцы я рассказывал об этих допросах в интервью «Московскому комсомольцу». Я временно отложил в сторону амбиции прозаика, да и как поэт-переводчик стал работать поменьше – требовались мои знания литературоведа, сколь бы ни казались они мне теперь несовершенны – но другие-то не знали вовсе ничего. И как раз тогда, летом 1988 года, Перелешин наконец-то вернулся «в Россию стихами» . Правда, поначалу, как я и предвидел – переводами. Но почему-то не теми, которых я ожидал. Здесь мне придется процитировать не письмо Перелешина, а оставшуюся у меня копию моего собственного: возможно, многое станет ясно уже из этого «изложения фактов». Мое письмо датировано 26 августа 1988 года. Прошу прощения за кое-какую формальную правку текста, – но письмо мое, и если я немного контаминировал его со следующим (своим же, от 2 октября) – так на то мое авторское право; фактов я не искажаю. «Дорогой Валерий Францевич, Бог даст, письмо ляжет в Ваши ладони и Вы его прочтете. Не писал Вам с 1980 года: жизнь моя была такая, что не только что письма писать, а и дышать было невмоготу. Кое-что, пожалуй, знаете через Париж и Амстердам. Только и гордости мне за все эти годы, что привезенная Иоанном Павлом Хинрихсом в Москву книга “Два полустанка”: всетаки выдал Вам замуж за Голландию лично я. 17 июня 1988 года газета “Московский литератор” (безгонорарная; “Орган правления Московской организации Союза писателей РСФСР”), пятница, двойной номер 25-26), текст на стр. 4, столбец 3, опубликовала “проспект-проект” переводческого журнала “ПРЕОБРАЖЕНИЯ” (как бы “дайджест” будущего журнала по рубрикам; все это заняло три газетных полосы. В том числе в “Литературном отделе”, рубрика 5Е, “подсказанная Романом Тименчиком” <…> раздел: “ПЕРЕВОДЫ НА РУССКИЙ ЯЗЫК, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ЗА РУБЕЖОМ”. Поскольку весь номер готовили испанисты, то и кусок должен был быть зарубежно-испанским. Задолго до выхода номера был мне звонок от одного из наших испанистов, притом такого, на которого я все больше эпиграммы сочинял. С вопросом: что переведено с испанского в зарубежье. <…> я вспомнил про бессмертное “шило в мешке”… и вот результат – выписываю буквально, потому что даже своего номера газеты нет, ксерокс по почте скорее всего не дойдет, так что просто выписываю. …………………….. Совершенно фантастическая судьба выпала на долю Валерия Перелешина (псевдоним В. Ф. Салатко-Петрище), который родился в 1913 году в Иркутске, но уже в 1920 году оказался в Харбине, где издал первые четыре книги стихов тиражами от 200 до 500 экземпляров, а также перевод «Сказания о старом мореходе» С. Т. Кольриджа и многочисленные переводы из старинной китайской поэзии. С начала 1953 года Перелешин живет в Рио-де-Жанейро, где, после долгого молчания, начиная с 1967 года, издает одну за другой шесть поэтических книг <на самом деле больше, но я этого тогда не знал – Е.В.> , две книги переводов с китайского и, что наиболее для нас интересно, первую на русском языке антологию бразильской поэзии «Южный Крест» (1978), многие переводы которой хотелось бы видеть переизданными в СССР. Переводит он и с испанского: «Духовную песнь» Сан Хуана де ла Крус (1542-1591), опубликованную в Париже, сонеты Боскана, Гарсиласо де ла Веги, Гонгоры, Лопе де Веги, – большая часть их не издана. Сейчас поэт, почти потерявший зрение, живет в доме для престарелых в одном из пригородов Рио-де-Жанейро, продолжая, однако, писать стихи и заниматься поэтическим переводом. Один из таких неизданных переводов мы и приводим. ХУАН БОСКАН-И-АЛЬМОГАВЕР (1495-1542) * Пустынником я прожил нелюдимым, Но в мой мирок, чужой пирам и войнам, Явился друг, что слыл уже покойным, А мне навек запомнился любимым. Его приезд я счел необъяснимым, Но вскоре вновь признал его достойным, И прошлое ручьем бесперебойным Затеплилось, назло минувшим зимам. Когда же в путь пришлось пуститься другу — Ведь у него своих забот немало, Я ощутил заброшенности меру. 218 Я ни холмам уже не рад, ни лугу, Мне нравится безлюдье перестало, И я дрожу, входя в мою пещеру. Переведено 13 мая 1973 года Остальное можно не цитировать, однако считаю себя в обязанности привести эту цитату целиком. Как-никак, это была не только первая публикация в Москве, в открытой печати – это ведь была еще и моя самодеятельность. Я опубликовал сонет без разрешения Перелешина, а чего от него ждать, какой реакции – не имел представления. Кстати, номер газеты все-таки попал к Перелешину 5 ноября 1988 года. Интересно, сохранился ли он? Архив Перелешина по большей части цел, но слишком распылен по всему миру. Дальше начался последний этап нашей переписки. Многое в нем сейчас не имеет никакой ценности: то одно издательства просило у меня стихи Перелешина, то один журнал, то другой, и по большей части кончалось это все ничем. Но у этой переписки есть строгие границы во времени: ответ на мое, процитированное выше письмо, датирован 11-м сентября 1988 года, последнее же письмо, вполне оптимистичное и спокойное – 18-м октября 1990-го года. По данным Ли Мэн, в ИМЛИ хранится и мой ответ на это последнее письмо… но что-то, видимо, случилось у поэта со здоровьем, и контакт оборвался. Уже навсегда – если не считать слепых открыток, которые Перелешин (уже с бессмысленными текстами) посылал на Урал дочери Арсения Несмелова, Н. А. Митропольской. Перелешин, против моего ожидания, вообще воспринял всё как должное – больше печалился о том, что мы почти десять лет были лишены общения, что по слепоте не может вправить в пишущую машинку новую ленту, что не все из уже тринадцати его поэтических сборников стоят у меня на полке, и лишь в конце добавлял: «Сведения, сообщенные обо мне тобою, вполне правильны, не в пример тому, что в Париже написал обо мне Вася Бетаки (“Русская литература за тридцать лет”). По его домыслам, я родился в Белоруссии, учился в Шанхае и т.п. Родился я в Иркутске, учился в Харбине и Шанхае, а не только в последнем». <Где это написал и напечатал только что ушедший от нас Василий Павлович?.. Память его подвела, вот и все грехи. Спи спокойно, друг наш новопреставленный. Е.В., 25 марта 2013> (Как справедливо замечает Ли Мэн, в Шанхае Перелешин уже не учился, а только собирался писать диссертацию; однако не исключаю, что словом «учился» Перелешин хотел сказать, что он в Шанхае «занимался самообразованием») Дальше Перелешин писал уже далеко не так спокойно. Отношения с Голландией, видимо, складывались неровно, – хотя через год я получил из Лейдена том «Русский поэт в гостях у Китая», а от Перелешина, разумеется, список опечаток, которые в своем экземпляре исправил по его инструкции от 25 ноября 1989 года; Перелешин ворчал даже на давно погибшего Несмелова: «Работать (напрягая остатки зрения) для того, чтобы упрочить славу А. Н. – жертва слишком большая. Ведь А. Н. ничего подобного для меня не сделал бы. Когда он временно редактировал «Рубеж», он вовсе не пропускал не только моих стихов, но и переводных рассказов моей матери, которая этими заработками жила и с которой А. Н. дружил». Досталось, к сожалению, и несчастному Умберто Маркес Пассосу (уж не знаю, за дело или нет): «В конце семидесятых годов случайная встреча в мастерской ксерокопий скоро превратилась во всеобъемлющую страсть, мучившую, но и питавшую меня творчески до прошлого года. Говорю об Умберто Маркес Пассосе, которым полны мои сборники «Двое – и снова один?» и «Вдогонку». Хотел он от меня только денег – и выжал их далеко за две тысячи долларов. <…> С Умберто я давно не встречаюсь и понемногу перестаю о нем думать. Ему сорок один год. Жадный, до мозга костей себялюбивый, бессовестный, но – что еще опаснее – очаровательный. Живет он отдельно на подачки от богатой матери, которую не любит (“Больше десяти минут в ее обществе не выдерживаю”). По слепоте я сделал когда-то завещание в его пользу, но на днях сделал другое, где его имя даже не упомянуто». Полагаю, что каждому из тех, с кем общался Перелешин в жизни, однажды доставалась одна их филиппик в письме к кому-нибудь третьему. Но время уносит грязный песок в море забвения, а золото поэзии остается. В письмах этих двух лет, разумеется, вновь очень много о поэтических переводах – Перелешина, моих и всех на свете… но надо же и совесть иметь. Скажем, для меня куда важней было уже в XXI веке обнаружить, что «специалисты» по литературе русского Китая сплошь и рядом делают из Валерия Перелишина, притом едва ли эта опечатка восходит к одной из моих первых публикаций поэта, к трагическому номеру «Литературной Армении» за 1989, № 5, весь гонорар за публикации в котором все авторы пожертвовали жертвам страшного землетрясения в Спитаке. Но фамилию-то именно там на моей памяти переврали впервые – там печатался поэт Валерий Перелишин… ладно, пусть хотя бы стихи не перевирают, а фамилий у человека может быть много. Третье письмо этого периода, датированное 18 октября 1988 года начиналось обращением: «Мой дорогой, по-старому любимый Ариэль…». Ветер вновь принес духа воздуха к поэту. Мне, жившему в распадавшейся на куски стране было это и радостно – и кружило голову. Ясно было, что пока можно – нужно напечатать в Москве (а хоть бы и не в Москве) как можно больше поэтов-эмигрантов. За один лишь следующий, 1989 год, удалось тиснуть хорошую подборку Пе- 219 релешина в «Огоньке» (№ 6, а ведь журнал был еженедельным!), в «Новом мире» (№ 9 – в составе подборки «Дань живым», вместе с Чинновым и Моршеном, – заметим, никаких стихов в этом номере больше не было), в «Литературной учебе» № 6 (любимая автором гностическая «Поэма о Мироздании» – и там же примерно половина его книги воспоминаний, «Два полустанка», та, где речь шла о литературной жизни именно русского Харбина; Перелешин был потрясен: именно эта публикация не содержала ни единой опечатки!), и это не считая как мелких, так и «пиратских» перепечаток. Однако у меня на руках была заверенная в советском консульстве (в конце августа 1989 года) доверенность от Перелешина, гонорары получал я, и при чудовищной инфляции их хватало мне хотя бы на почту. Перелешин хотел, чтобы половина гонораров шла Аните Адамовне Гинценберг в Латвию… но она не хотела брать денег; об этой истории подробно рассказано в воспоминаниях Яна Паула Хинрихса. Осенью 1989 года Перелешина прямо в его коттедже посетила заехавшая в Бразилию к друзьям московская поэтесса Тамара Жирмунская, – адрес, понятно, дал ей я. В своей книге воспоминаний [«Мы — счастливые люди. Воспоминания» (Москва, 1995)] она оставила оставила очень теплую главу, посвященную Перелешину – «Раненый жемчуг». Печально описывает она внешний вид «Руа Ретиро дос Артистос»: «Престарелых артистов поселили позади нарядного фасада, в одноэтажных фанерных домиках. Без приусадебного участка, без зелени. Перелешинская хибарка значилась под номером пять». Встречу свою с Перелешиным Жирмунская (ныне живущая в Германии) описывает подробно, но, похоже, стареющий поэт был отчего-то сильно не в духе в этот день – ругал Гумилева, да и вообще неясно – хвалил ли хоть кого-то. А ведь его уже печатали в России, и «Закат печальный» оборачивался для Перелешина все более растущей известностью. Теперь, когда поэтическое, да и переводческое наследие Перелешина в целом собрано, да и научному его изучению начало положено, должен с грустью заметить: я помню строки из стихотворений (притом сонетов), которые мы найти все-таки не смогли. Частично, это, возможно, результат переработки текстов. Но не надо удивляться, если найдутся и такие стихи, которые у нас почему-либо пропущены. Кто знает, какакая судьба постигла за сорок с лишним лет хрупкие листочки папиросной бумаги. Думаю, что-нибудь еще найдется. Могу лишь завидовать тому, кто их найдет – и, надеюсь, опубликует. …Довольно легко удавалось проводить (и с большим успехом!) авторские вечера Перелешина – в библиотеке Союза Театральных работников, в Центральном Литературном Музее и еще много где, – увы. Перелешину я мог посылать лишь пригласительные билеты, но они, кажется, радовали его не меньше самого факта. На Žвечере в Литературном музее, кстати, имел место похабный казус: немолодая дама в шляпке подплыла ко мне и стала расхваливать меня на все тридцать две стороны компаса за занятия эмиграцией, конечно, она соглашалась, что Перелешин большой поэт, но может ли быть приемлема такая оголтелая пропаганда гомосЭксуализма… Я сперва и слова-то не понял (очень не скоро я сообразил, что это – искаженная форма английского homosexualism, где ударение и вправду стоит на третьем слоге). Зал основательно заржал. Позже я выяснил, что дама эта довольно знаменита – тем, что, рассказывая о том, как расцвела русская поэзия в Харбине после вступления в него советских войск в 1945 году, в предисловии к очередной самопроцензуренной антологии, умудрилась написать слово «родина» с большой буквы… двадцать два раза (причем во всех случаях она имела в виду только СССР). Даму, честно говоря, мои друзья чуть не побили. А заслужила ли она даже зуботычину, жалкая щепка советской эпохи? Правда, половину того, что я рассказал на том вечере о Перелешине, она позже опубликовала за своей подписью. Но, как любил говорить Валерий, «был бы труп, а стервятники слетятся». Кстати, дама в шляпке числилась и среди корреспонденток поэта. Он брезгливо именовал ее не не иначе как «завзятой феминисткой». Мне кажется, он этой даме несправедливо льстил. О продвижении в печать переводов Валерия я уже не заботился – ясно было, что все и так будет. Впрочем, журнал «Проблемы Дальнего Востока» в 1990-м году (№ 3) с уважительнейшим предисловием Г. В. Мелихова напечатал «Дао Дэ Цзин»; в 1994 году та же философская поэма сумасшедшим тиражом (но не без моего ведома) была тиснута эфемерным издательством «Конёк», а в 2000-м подарочным, дорогим, но все равно тут же разошедшимся изданием в издательстве «Время», в серии «Триумфы» – правда, в это я время я случайно… работал главным редактором этого издательства. О посмертных публикациях, об антологиях уже не хочется рассказывать. Кстати, именно в последнем письме ко мне (от 18 октября 1990 года) Перелешин благодарил за «Дао Дэ Цзин». И добавлял: «Мой экземпляр журнала дан на прочтение А. Г. Лермонтову». Значит, судьбе было так угодно: последней серьезной публикацией, попавшей в руки еще относительно здорового Перелешина – притом из Москвы – была книга о Дао. Не символично ли? Еще – Перелешина заинтересовало: не родственник ли «бразильский» Александр Григорьевич Лермонтов (1907-2000) великому Михаилу Юрьевичу? Жаль, тогда я еще не увлекся кельтологией и не мог (не успел) сказать ему: безусловно родственник, – можно бы и вычислить – в котором колене. В Шотландии, откуда происходит род Лермонтов(ых), нет однофамильцев – есть только родственники, члены одного клана. Но – жизни всегда не хватает. Перелешин верил во «второе рождение», – я не верю, но верю в то, что встреча наша где-то и когда-то все-таки неизбежна. 220 Правда, и в доверенностях, и в письмах Перелешина есть недвусмысленное указание на то, что «Читатель, на которого я держу прицел – в России, как бы она ни называлась. Больше того: авторские права в России сейчас осуществляются через Вас, а после моего неизбежного ухода переходят к Вам (надо бы написать – к тебе». Формально наследником Перелешина мог бы числиться его брат Виктор, но и он умер бездетным в США в 2005 году. Кстати, Нина Мокринская (Фушье) об этих поздних месяцах жизни Перелешина рассказала подробно в статье «Последние дни русского поэта» (газета «Русская жизнь», Сан-Франциско, 11 февраля 1996 года): «Я заметила, что письма от Валерия стали приходить все реже и реже, а потом и совсем прекратились. Обеспокоившись, я разыскала его брата (который из Бразилии успел перебраться в Америку). Виктор мне сообщил, что Валерий болен и находится в бразильском госпитале. Физически не страдает, но уже плохо что понимает. Все мысли и воспоминания его “кружатся” около харбинской Чураевки юношеского времени. Валерий был оперирован, но появилось другое недомогание: склероз и чтото вроде болезни Паркинсона. Ходил очень плохо ― упал и сломал бедро. Еще одна операция. На этот раз слабый организм не выдержал. Поэт умер 7-го ноября 1992 года». Этот день был отмечен неким вовсе неожиданным событием. Днем мне позвонил Ян Паул Хинрихс и сообщил о смерти Перелешина. А следом – я еще и молитвенник не открыл – позвонила из Мюнхена чудесная поэтесса Ирина Николаевна Бушман, сообщила, что второй день стихи пишет без остановки, и ей с кем-то надо ими поделиться. Я стал слушать, но на первом же оцепенел: такие совпадения совпадениями, на мой взгляд, считаться не могут. Первое же стихотворение процитирую целиком: РАЗДРОБЛЕННЫЙ СОНЕТ В. Перелешину В эпоху без природы без искусств, когда нет в музыке мелодии, нет позы в скульптуре и когда уж по полям – навозу и ни быка – коровам не до чувств! Лишь, на конвеере лысея, дуры ни пуху, ни пера! Несутся куры, намереваясь высидеть цыплят… В действительности – всмятку иль в мешочек и без кукареку, затем, что кочет уже давно остыл, с вертела снят, и даже вовсе не в эпоху – в это безвременье, межвременье, иль вне? Один, как перст… что пишет по стене огнем слова последнего сонета… 7 ноября 1992 года. Я выждал и спросил – знает ли Ирина Николаевна, что Перелешин буквально сегодня умер? Она не знала. Но в письме ко мне от 14 февраля 1992 года приписала: «Спешу отправить Вам сонет. Теперь, переписав его, даже удивляюсь, как сразу не сообразила, что это уже памяти поэта… А тогда только подумала: “Что это я написала в день юбилея революции?..” А то я бы не 221 запомнила даты». Сонет был с этой припиской опубликован Валентиной Синкевич в филадельфийском альманахе «Встречи» за 1993 год. (Тогда еще говорили «юбилей революции». Теперь прижилось – «годовщина переворота». Потому как ближе к истине). Архив Перелешина благополучно попал в Москву в ИМЛИ, о чем подробно рассказал проф. Александр Жебит в статье «Бразильский архив “Сеньора Валерио”» в журнале «Наше Наследие», 1998, № 46. Само имя Перелешина А. Жебит впервые услышал лишь в 1991 году, а встретился с ним лишь единожды: только в мае 1992 г. Но, как пишет автор статьи, «…разговор получился не таким, как я его мысленно представлял. Перелешин уже не выходил из госпиталя, передвигался на костылях и не без посторонней помощи. Его единственный зрячий глаз видел совсем плохо. Разговор об архиве был немногословный: он подтвердил согласие на передачу архива России, поблагодарил за фрукты и после прощания со мной побрел в палату, поддерживаемый медсестрой» (с. 108). С помощью директора ИМЛИ Ф. Ф. Кузнецова, давшего после смерти Перелешина согласие на размещение его архива в фондах института, с помощью душеприказчика поэта Александра Борисовича Кириллова (друга поэта еще по Китаю) и с помощью усилий самого А. Жебита архив попал в Москву. Вторая его часть находится в Лейдене (в том числе огромный корпус неизданных «Писем к матери»), третья собрана у меня, и еще сотни, если не тысячи писем распылены по архивам едва ли не всех частей света. Теперь, через двадцать лет после смерти Перелешина, даже имея в принципе все документы на то, чтобы считаться наследником Перелешина, я считаю себя не только вправе, но числю своей обязанностью считать все авторские права на творчество Валерия Перелешина общественным достоянием, или, говоря языком международного права, объявить его наследство public domain. Авторское право при отсутствии заслуживших это право наследников – безусловное зло. А я и мои коллеги если что и заслужили, так право составить и издать собрание сочинение большого русского поэта Валерия Перелешина. Ну, авось дадут нам по пачке-другой этого «Собрания». Сорок лет мне надобилось, чтобы пройти этот путь. Я не жалею об потраченном времени. Лучший русский поэт Южного Полушария оплатил мое время и душевные силы очень дорогой валютой – русскими стихами. Едва ли я Ариэль. Скорее мне, как артисту, довелось сыграть роль Ариэля. Но какой артист не помнит аплодисментов зала, когда по окончании пьесы, еще в костюме и гриме, не выходя из роли, приближается к рампе? Сегодня ты Сирано у Ростана, завтра Рюи Блаз у Гюго, послезавтра Тень Отца Гамлета у Шекспира… Да, читатель, ты догадался. Прими поклон от артиста, сыгравшего столь долгую роль Ариэля на сцене жизни и поэзии Валерия Перелешина. 222 РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ Барна Владимир родился 2 июня 1953 года в поселке Товстэ Залищицкого района Тернопольской области. Окончил факультет журналистики Львовского государственного университета им. И.Франко. Поэт, литературовед, публицист. Член Национальных Союзов писателей и журналистов Украины. Публикации – в газетах, журналах и альманахах Украины, Польши, Словакии, США, Аргентины, России, Белоруссии. Автор нескольких книг (поэзия, проза, публицистика). Произведения Владимира Барны переведены на английский, польский, белорусский, русский, испанский языки и эсперанто. Безем Нафтали, выдающийся израильский художник и скульптор, родился в 1924г. в г.Эссен (Германия) в семье еврейских эмигрантов из Польши. С 1939г. живет в Израиле. Выпускник Национальной Академии искусств «Бецалель» (ученик Мордехая Ардона). Лауреат Премии Дизенгофа (1957г.) за достижения в изобразительном искусстве. Долгие годы по личным обстоятельствам жил в Швейцарии и Франции, вернулся в Израль и в настоящее время проживает в Тель-Авиве. Берфорд Татьяна – переводчик, по специальности музыковед, кандидат искусствоведения, автор сотни научных статей, опубликованных в России и за рубежом. Её монографию о творчестве Н. Паганини авторитетная газета «Музыкальное обозрение» назвала лучшей книгойисследованием за 2011 г. Заниматься поэтическим переводом Т. Берфорд, по её словам, начала случайно, наблюдая за работой будущих коллег в Интернете. Помимо французского, переводит с итальянского, английского, немецкого и испанского языков. Бетаки Василий (29.09.1930, Ленинград – 23.03.2013, Осер, Франция) Василий Павлович Бетаки – поэт, переводчик, историк архитектуры, радиожурналист – родился в 1930 г. в Ростове на Дону. Жил в Ленинграде. Учился на Восточном факультете ЛГУ (иранистика). Окончил заочно Педагогический институт в 1953 г (психология и методика). В 1960 г. окончил заочно Литературный Институт (Москва). Ученик Павла Антокольского и Татьяны Гнедич. Работал учителем, режиссёром самодеятельных театров, инструктором верховой езды, главным методистом Павловского Дворца-музея. Публиковаться начал в 1956 году. С 1963 года перешел на профессиональную литературную работу. Первая книга стихов вышла в 1965 г. в Ленинграде. С 1965 по 1972 был членом Союза писателей. Переводил поэзию с английского и немецкого, писал литературные передачи для радио, руководил литобъединением Невского района в Ленинграде. В 1971 г. он стал победителем конкурса перевода трех «главных» стихотворений Эдгара По («Ворон», «Колокола», «Улалюм»), которые были опубликованы в двухтомнике Э. По 1972 года, изд. «Художественная литература» (Это было последней публикацией В. Бетаки перед эмиграцией). С 1973 года жил в Париже. Восемнадцать лет работал одновременно на радио «Свобода» и в журнале «Континент». Был одним из организаторов переправки в СССР запрещённых там книг, издававшихся на Западе. За время жизни во Франции у него вышло четырнадцать книг стихов, книга статей о современных русских поэтах и девять книг переводов. С 1989 года Василий Бетаки снова публикуется в России, а в последние годы - ещё и в Одессе. Болдырев Николай – поэт, эссеист, переводчик. Автор двенадцати опубликованных книг, в том числе пяти поэтических. Помимо эссеистических и прозаических книг («Ностальгия по пейзажу», «Пушкин и джаз», «Упавшее небо», «Лес Фонтенбло») выпустил в свет книги о В.В. Розанове («Семя Озириса, или Василий Розанов как последний ветхозаветный пророк»») и об Андрее Тарковском («Сталкер, или Труды и дни Андрея Тарковского», «Жертвоприношение Андрея Тарковского»). Переводчик Р.-М. Рильке, Тракля, Целана, М. Хайдеггера, Л. Стаффа. Переводчик и комментатор биографий Рильке и Киркегора. Бородин Василий родился в 1982 г. в Москве. Стихотворения, эссе и графика публиковались в журналах «Reflect», «Рец», «TextOnly», «Воздух», «Новый ДРАГОМАНЪ ПЕТРОВЪ», «Другое полушарие», в альманахе Новой Камеры Хранения, на сайтах «Полутона», «Библиотека Трамп» и «Новая Литературная Карта России». Автор книг стихов «Луч. Парус», «P.S. Москва – городжираф», «Цирк “Ветер”» и «Дождь-письмо». В 2013 году в издательстве «Евдокия» вышел альбом графики художника. Боченкова Ольга – переводчик с немецкого и шведского языков.. Окончила Литературный институт им. Горького. Кандидат филологических наук. Преподаватель немецкого языка. Живет в Калуге. 224 Буковски Чарльз (1920 – 1994) – американский писатель немецкого происхождения. Является автором шести романов, более чем тридцати сборников поэзии, шестнадцати сборников рассказов и одного сценария для фильма. Валек Мирослав (1927-1991) стихи начал писать ещё гимназистом, во время войны, в 60-е был главным редактором литературного журнала «Ромбоид», председателем Союза словацких писателей, затем министром культуры Словакии. Как ему удалось, став партийным функционером, остаться тем не менее поэтом, загадка – но факт. Его весьма непростые, ассоциативные тексты порой очень близки к сюрреалистическим, но в них можно найти и романтизм, и символизм, и многое другое, это синтез различных форм. Он, несомненно, один из самых интересных поэтов своего поколения. Лучшие книги поэта: «Притяжение», «Беспокойство», «Любовь в гусиной коже», «Из воды». Его переводили на русский А. Ахматова, Ю. Левитанский, Б.Окуджава, П. Вегин, Р. Сеф и другие, но многое осталось непереведенным, да и тексты эти с трудом поддавались переводу, слишком непривычным были они для советского редактора и советского читателя – как по форме (белый стих с неожиданными вкраплениями рифмованных фрагментов), так и по содержанию. Сквозные гипнотизирующие символы пронизывают эти стихи и, однажды захватив, уже не отпускают. От переводчика: Рафаэль Левчин Верников Александр (р.1962) – поэт, прозаик, эссеист и переводчик, автор многочисленных публикаций в российских периодических изданиях, трех книг прозы и четырех книг стихов, вышедших на Урале и в Москве. Витковский Евгений. Лауреат международных премий, эксперт Союза Переводчиков России. Родился в 1950 году. С начала семидесятых годов активно занимался диссидентской деятельностью. Выдающийся поэт, романист и литературовед, создатель блестящей школы поэтического перевода, по мнению академика Михаила Леоновича Гаспарова– лучший российский поэтпереводчик. Я позволю себе привести цитату из частного письма, в котором четко сформулировано, чем обязан Витковскому русскоязычный читатель: «Евгений, зная Ваше трепетное отношение к оригиналу и в силу безъязыкости не имея никакой возможности судить о близости к нему, я просто не сомневаюсь в максимально возможных близости и буквальности, но не об этом сказать хочу. Потрясающие ритмика и мелодика, которые холодным рассудком не сделать – их нужно прожить и взять в себя, чтобы они зазвучали в другом языке. Тонкая и точная передача разлёта времён через старую русскую речь. Редкая в переводах звукопись. ...И в целом, не translation с языка на язык, не interpretation через себя (как кто-то в своё время о поэтах в переводе Пастернака: «Поэты, все вы одинаковы – похожи все на Пастернака вы»), а перевод через пространство-время культур – из одной в другую так, что, вот, могу читать сегодня на своём языке, становясь при этом Маклином, переживая его переживания. Из тех переводов, что не только открывают русскому читателю поэзию других времени-места-культуры, но и становятся достоянием русской поэзии. Спасибо». В дополнение к вышесказанному можно привести слова самого Витковского: «Если в XIX веке, чтобы быть культурным человеком, нужно было знать французский язык, то сейчас, чтобы вписаться в современный мир, нужно быть знакомым с тридцатью культурами. Ведь лучших писателей ХХ века можно найти в совершенно неожиданных странах – грек Кавафис, португалец Пессоа, выходец из Никарагуа Рубен Дарио, корсиканец Поль Валери». Мы обязаны Евгению Владимировичу Витковскому не только шедеврами переводной поэзии, но и тем, что он вернул русскому читателю Георгия Иванова и Ивана Елагина, Арсения Несмелова и Валерия Перелешина, Игоря Чиннова и других великих поэтов эмиграции. От составителя: Вадим Молодый Геллер Дмитрий. Российский мультипликатор. Родился в 1970 в Свердловске. В 1986–1990 – свободный художник. Участвовал в выставках в гг.Свердловск, Ленинград, Москва, Копенгаген, Вашингтон. Художник на студии «А-Фильм» (1990 – 1995). В 1995 – 1997 слушатель ВКСР. Москва (Руководитель отделения: И. Я. Боярский. Мастерская: Ф. С. Хитрука, Ю. Б. Норштейна, Э. В. Назарова, А. Ю. Хржановского). Избранная фильмография: 2001 «Привет из Кисловодска» Гран-При. Фестиваль «Таруса» 2001. Гран-При. МКФ «КРОК» 2001. Украина Гран-При. МКФ "Cinanima" 2002. Португалия Приз за лучший дебют. МКФ Анси 2001. Франция Приз за лучший дебют. МКФ "SICAF" 2001. Южная Корея Специальный приз. МКФ Штутгард 2002. Германия 225 2003 «Маленькая Ночная Симфония». Гран-При. Фестиваль «Суздаль» 2004. Гран-При. МКФ «КРОК» 2004. Украина Приз "Лучший эксперементальный фильм". «Анимаевка» 2004. Беларусь Приз "Лучший звук". МКФ «Fantoche» 2005. Швейцария 2006 «Признание в любви» Приз Гильдии кинокритиков и киноведов. РКФ «Суздаль» 2006 2 место. Профессиональный рейтинг. РКФ «Суздаль» 2006 2 место. МКФ "Мультивидение". Санкт-Петербург. 2006 Специальный приз жюри «За оригинальность киноязыка и изображения». МКФ «КРОК» 2007. Украина 2010 «Воробей, который умел держать слово» Лучший фильм для детей. РКФ «Суздаль» 2011 Лучший анимационный фильм для детей. МФ «Золотая рыбка» 2011 Лучший анимационный фильм. МКФ «Лучезарный ангел» 2011 Лучший анимационный фильм. МКФ «Сияжар» 2011 2 место. Приз профессионального жюри «АНИМА МУНДИ. ВЕБ & СЕЛЛ» 2011. Бразилия «Мальчик» Гран-При. Лучший анимационный фильм. "КИНОФЕСТ" 2008. Румыния Гран-При. Лучший анимационный фильм. Фестиваль "Окно в Европу" 2008 Приз Гильдии киноведов и кинокритиков Росии «Белый слон» за "Лучший анимационный фильм года" 2008 2011 «Я видел, как мыши кота хоронили» Гран-При. "ХИРОСИМА" Япония. 2012 Гран-При. "АНИМАТОР" Польша. 2012 Приз за лучший фильм в категории фильмы до 5 минут. КРОК. 2013 Лучший короткометражный фильм года. Национальная премия Китайской Анимационной Ассоциации "ЗОЛОТАЯ ОБЕЗЬЯНА" Китай 2011 Гинзберг Аллен – американский поэт. Родился в 1926 году. Поэмы «Вопль» (1956) и «Кэддиш» (1961) – программные для «битников». Культ стихийного, спонтанного в социальной и индивидуальной жизни как альтернатива «роботизации сознания» и «обесчувствованию», интерес к мудрости Востока в сборниках «Дыхание души» (1977) и «Плутониева ода» (1982). В поэтике – прихотливый синтез репортажности и безудержного воображения. Гордейчук Анна – переводчик. Родилась в Киеве в 1982 году, с 1996 года живет в Нью-Йорке, где получила филологическое образование в Хантер колледже. Литературным переводом начала заниматься в студенческие годы. Работает переводчиком в медицинской и юридической сферах, а также танцует аргентинское танго. Увлеченность этим танцем привела к вовлечению в латиноамериканскую культуру и к изучению испанского языка. В настоящее время занимается изучением творчества поэтов Латинской Америки и Испании, а также переводами испанской поэзии на русский язык. Дарио Рубен (1867 – 1916) – первый всемирно известный латиноамериканский поэт, один из ярчайших представителей модернизма в испаноязычной литературе. Джайе Пьеро (1884 – 1966). Сын протестантского пастора из Пьемонта, покончившего жизнь самоубийством, когда он был подростком. После нескольких лет обучения теологии отошел от формальной религиозности, бросив семинарию вальденсов, стал работать кондуктором на железной дороге. Поэтическая активность этого самобытного автора была очень недолгой – не более десятилетия. В этот срок входит первая мировая война, годы которой он провел на фронте. Онито и явились для Джайе самыми плодоносными в творческом отношении. «Матерь». Стихотворение написано просторечным деревенским языком, частью на диалекте области Венето, где Джайе находился во время войны со своим горнострелковым полком. В переводе, сохраняющем ритм оригинала, сделана попытка по возможности передать его языковые и стилистические особенности. Джорджио ди Мароса (1932 – 2004) – уругвайская поэтесса и прозаик. Дикинсон Эмили (1830 –1886) – американская поэтесса-лирик. Пик творческой активности Дикинсон – около 800 стихотворений – пришелся на годы Гражданской войны. 226 Дучич Йован (1874 – 1943) – сербский поэт-символист. Окончил Педагогическую школу в Сомборе. Автор сборников «Стихи», «Стихотворения в прозе. Голубые легенды», путевых очерков («Города и химеры»), эссе на философские, моральные, эстетические темы («Сокровище царя Радована») и литературно-критических статей… Лирика Дучича отмечена утончённым восприятием природы, изяществом формы, экспрессивностью поэтической речи. Емелин Валентин – переводчик. Родился в Москве (1956), кандидат химических наук (Ленинградский технологический институт, 1983 г.), магистр общественного управления (Гарвардский университет, 1997 г.). С 2001 г. – за границей, в настоящее время живет и работает в Арендале (Норвегия) в Центре сотрудничества с Программой ООН по окружающей среде ГРИД-Арендал, начальник отдела. Публикует стихи и переводы с английского, шведского и норвежского. Переводы Денниса Нурксе опубликованы в журнале «Вышгород» (Эстония), в №5 за 2012 г., стихи и переводы – в сборнике «Эмигрантская Лира-2013» (второе место в конкурсе поэтов-переводчиков «Свеча толмача» Пятого Всемирного поэтического фестиваля «Эмигрантская лира-2013»), переводы в журнале «Интерпоэзия» (№3, 2013). Епифанов Петр – поэт, прозаик, переводчик. Родился в 1963. Окончил исторический факультет Московского университета. Автор двух книг прозы и ряда публикаций в журналах «Звезда», «Знамя», «Русская провинция», «Континент» и других. Переводит с итальянского, французского, древнегреческого языков. Главные темы интереса – труды и жизнь Симоны Вейль (1909 - 1943), поэзия итальянского Новеченто (Дж. Унгаретти, Д. Кампана, А. Поцци, П. Пазолини, А. Мерини и др.); литература и фольклор Неаполя от Ренессанса до наших дней. Ермак Денис – переводчик. Родился в 1970 году в Москве. С раннего детства интересовался живой природой. Окончил Педагогический институт в Москве (биолог) и Northeastern Illinois University в Чикаго, где получил степень магистра биологии. С 1996 г. постоянно живет в Чикаго. Начал переводить английские стихи в 1992 г. Переводил стихи Толкина, Киплинга, Уайльда, Кэмпбелла. Активно занимается волонтерством в Обществе рассеянного склероза. Публикуется в русской периодике США, хотя на нашем сайте в его переводах мы можем представить довольно большую подборку классика канадской поэзии У. У. Кэмпбелла. Зельдович Геннадий родился в Харькове в 1964 году и жил там до 35 лет; в 1999 году переехал в Польшу. Лингвист с мировым именем, доктор филологических наук, профессор Варшавского университета, автор монографий «Русские временные квантификаторы. Вена, 1998», «Русский вид. Семантика и прагматика. Торунь, 2002», «Русское предикативное имя. Торунь, 2005», «Прагматика грамматики, Москва 2012». Кроме научной работы занимается поэтическим переводом с английского, польского, испанского, португальского и французского языков. Главные публикации: Б. Лесьмян. Зеленый жбан. Избранные стихи в переводе Геннадия Зельдовича, с предисловием Андрея Богуславского (Торунь, 2004); Последняя каравелла. Антология поэтических переводов (Москва, 2006). Ильин Владимир – поэт и переводчик. Родился в Чернигове, еще в предвоенном и майском 39ом. Родители – молодые, красивые, светлые люди; старшая сестра, бабушка Саша. Их всех уже нет, но ближе – не было, нет никого… Два года – в Киеве, на Дмитриевской, затем – эвакуация, небольшой авиазаводской городок Управленческ, на Волге, недалеко от Самары… С мая 1946-го – снова и только Киев: ул. Глебова, Татарка, с конца 47-го и до сегодня – ул. Артема, 10, кв. 2 в столетнем доме на углу Артема и Вознесенского спуска, почти над аптекой… Учеба – средняя школа, Политехнический институт (химико-технологический ф-т) и только одна работа – академический Институт физической химии им. Л.В. Писаржевского (зав.отделом, д.х.н., профессор; специализация – молекулярные сита, адсорбция). Март-апрель 1987-го – месячная вахта в Чернобыле, Припяти… Жена, дети, внучки и внук, и даже правнучка Соня – урожденная Билаш, София Денисовна, первоклассница... Еще было одно родное существо – английский спаниель Кузя, почти 15 лет прожили вместе… Публикации (стихотворения, сказки, проза, переводы) – в нескольких сборниках, альманахах, поэтической антологии «Украина. Русская поэзия XX века», в газетах, журналах «Радуга», «Всесвит», «Неман». 12 книг лирики и переводов. Принят в Союз писателей Украины. Казарин Юрий (р.1955) – поэт, доктор филологических наук, доцент, профессор Уральского государственного университета, автор десяти книг стихов, трех книг очерковоавтобиографической прозы, составитель поэтических антологий, множества литературоведческих 227 и филологических трудов, публиковавшихся на Урале и в Москве, лауреат нескольких региональных премий в области литературы. Стихи переведены на ряд европейских языков. В настоящее время заведует отделом поэзии журнала «Урал». Ким Бен Хак – поэт, переводчик, эссеист. Родился в 1965 году в уезде Шинан, в провинции Чолла-намдо. Переводил стихи С.Есенина, Абая и др. Автор поэтических сборников и эссе. Лауреат литературного конкурса Фонда зарубежных корейцев. С 1992 года живет в Казахстане, преподавал корейский язык, работал в газете «Коре Ильбо». Живет в Алматы. Комков Олег – культуролог, герменевт, переводчик. Родился в 1977 году в Павловском Посаде Московской области. Доцент кафедры сравнительного изучения национальных литератур и культур факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова. Поэтическим переводом занимается с 2008 года. Коппе Франсуа (1842-1908) занимает далеко не последнее место в более чем насыщенной литературной панораме Франции второй половины XIX в. Поэт, драматург, прозаик и публицист, представитель младшего поколения парнасцев, член Французской академии с 1884 г., кавалер Ордена Почётного легиона и один из первых номинантов на Нобелевскую премию, при жизни он пользовался широкой известностью как на родине, так и за её пределами. В России конца XIXначала XX вв. его стихи переводили А. Барыкова, Б. Бубнов, П. Вейнберг, Ф. КасаткинРостовский, П. Кичеев, И. Кондратьев, Пл. Краснов, А. Кублицкая-Пиоттух, А. Кудиш, Н. Курочкин, В. Ладыженский, А. Линдегрен, В. Лихачёв, А. Милорадович, В. Мятлев, Н. Позняков, Н. Хвостов, А. Шеллер-Михайлов и др. Однако почти сразу после своей смерти Коппе был прочно забыт. Причины этого кроются вовсе не в консервативности его политических взглядов и тем более не в качестве его поэтического наследия, а в изменившихся художественных вкусах: французский авангард поспешил вычеркнуть из поэзии немало не резонировавших с его эстетикой имён, что нашло законченное воплощение в антологии А. Жида, составленной им для издательства Г. Галлимара (1949). В СССР о Коппе также старались не вспоминать, несмотря на его репутацию певца простого народа. Странная забывчивость (стихи Коппе отсутствуют во всех основных поэтических антологиях советского периода, а случаи обращения переводчиков к его творчеству в это время единичны) объясняется просто: Коппе принадлежат приветственные строфы, посвящённые первому визиту во Францию Николая II с супругой (1896), заслужившие высочайшее одобрение российского императора. Меж тем Коппе не сводим ни к одному из навешиваемых на него ярлыков. Последователь Т. Готье, Ш. Леконта де Лиля, Т. де Банвиля, он откликался и на новейшие веяния. В своих стихах Коппе мог быть, в соответствии с заветами парнасцев, объективным наблюдателем, но мог и чародействовать, как заправский символист. Подобно П. Верлену, он не чуждался метроритмических экспериментов, а его поэтические образы и работа со словом порой близки А. Рембо или раннему С. Малларме. Вместе с тем это поэт, обладающий собственным голосом, тонкий стилист, владеющий всем арсеналом поэтических средств, творивший практически во всех современных ему стихотворных жанрах и формах – от интимнейшей лирики до поэмы на социальные или гражданские темы, от бытовой зарисовки до изысканной стилизации, от сонета до баллады. Особое место в поэтическом наследии Коппе занимают десятистишия, ставшие его визитной карточкой и послужившие объектом подражания-пародирования для Верлена и Рембо, а также для Нины де Вийар и поэтов её кружка – Ш. и А. Кро, Ж. Нуво, Ж. Ришпена, М. Роллина, Ш. Фремина и др. Идею стихотворной миниатюры в десять строк Коппе, по-видимому, позаимствовал у Ш. Бодлера (см. его «Je t’adore à l’égal de la voûte nocturne» и «Je n’ai pas oublié, voisine de la ville», опубликованные в первом издании «Цветов зла», 1857), однако развил её вполне самостоятельно. Цикл «На воздухе и в комнатах», увидевший свет в 1872 г. в издательстве А. Лемерра, целиком состоит из десятистиший и представляет собой своеобразный стихотворный дневник, куда вошли, помимо лирических излияний автора, бытовые зарисовки, относящиеся к рубежу 1860-70-х гг. Необычность, даже экспериментальность этого творения Коппе состоит в попытке соединить эстетику парнасцев с достижениями уходящего романтизма и нарождающегося символизма. От парнасцев здесь – едва ли не фотографическая изобразительность, а также мастеровитость, воплотившаяся в изобретательных рифмах и в тщательно соблюдаемом единообразии формы; от романтиков (притом более немецких, чем французских) – фрагментарность драматургии, уравновешивающая ригоризм структуры, присутствие авторского «я» и интерес к жизни простых людей; от символистов – способность увидеть необычные стороны привычных предметов и явлений. Тематика миниатюр разнообразна: это и сиюминутные впечатлениясамонаблюдения, и воспоминания (с почти прустовским уклоном в их психологию), и типично романтическая реверитивность – несколько десятистиший представляют собой вариации на тему 228 альтернативного бытия («хотел бы я быть...»); Коппе показывает себя мастером пейзажной лирики, обращаясь вслед за своим старшим коллегой, парнасцем А. Лемуаном к зимней природе; посвоему развивает он и традиционную для французской поэзии тему запахов, которая оказывается неожиданно близкой синестетическим соответствиям Бодлера. Однако бóльшую часть цикла составляют зарисовки жизни Парижа и его предместий. В них нашли отражение как типичные ситуации и герои (бал девиц на выданье, отдых за городом, субботние свадьбы простонародья, новобранцы, старый солдат-инвалид), так и новые социальные реалии (обучение девочек из бедных семей, женская эмансипация и т. п.). В некоторых миниатюрах слышны отголоски только что завершившейся Франко-прусской войны и приметы первых мирных месяцев. Многие темы и сюжеты Коппе вводит в поэзию впервые. Наконец, неожиданно созвучными современным тенденциям в исторической науке предстают у него три миниатюры, посвященные прошлому Франции, где происходящее подаётся в актуальном ключе «истории повседневности». Особый модус авторским высказываниям придаёт добродушный юмор, временами переходящий в лёгкую иронию. Цикл «На воздухе и в комнатах» привлекал внимание отечественных переводчиков неоднократно. Попытки перевести отдельные его части предпринимались в конце XIX в. С. Андреевским (1878, «На воздухе и в комнатах»), Б. Левиным (1886, «Дома и на улице»), О. Чюминой (1895, 1897), В. Ладыженским (1895), И. Буниным (1898), А. Фёдоровым (1900). Наибольшую известность под неаутентичным названием «Смерть птиц» получило у нас пятое десятистишие в бунинском переводе. Из современных поэтов-переводчиков к циклу Коппе обращался А. Кротков, переведший оттуда полтора десятка фрагментов. Полностью же весь тридцатидевятичастный цикл на русском языке представлен читателю впервые. Автор статьи о поэте и комментариев к тексту – переводчик Татьяна Берфорд Ф. Коппе. На воздухе и в комнатах. Полю Даллозу. Даллоз, Шарль Поль Алексис (1829-1887) – французский издатель, редактор нескольких влиятельных периодических изданий, среди которых журнал «Le Monde illustré» и газета «Le Moniteur universel» (в последней он опубликовал неоконченный роман «Шевалье де Сент-Эрмин» А. Дюма-отца); состоял в переписке с Ш. Бодлером. И рыбные места на острове Гренель… Старое название Лебяжьего острова в Париже. Властитель их умов – нескромный Поль де Кок… Кок, Шарль Поль де (1793-1871) – французский романист и драматург, имевший в XIX в. репутацию фривольного писателя. Всё это написал великий мэтр Жерар… Жерар, Франсуа Паскаль Симон (1770-1837), барон – французский живописец эпохи Первой Империи; учился у Л. Давида, получил известность как портретист (его кисти принадлежат портреты Наполеона I и членов его семьи, мадам Рекамье и др.). А в стороне – рояль, изысканный «Эрар»… «Эрар» – французская фирма по производству клавишных инструментов и арф, основанная в Париже ок. 1780 г. Себастьеном Эраром (1752-1831) при поддержке его брата Жана-Батиста. Беседам трепетным Алонсо с Иможеной… Алонсо и Иможена – герои баллады «Алонсо Смелый и Прекрасная Иможена» английского писателя Мэтью Грегори Льюиса (1775-1818). В начале XIX в. во Франции был популярен романс об Алонсо и Иможене, начинавшийся словами Il le faut disait un guerrier A la belle et tendre Imogine Il le faut, je suis chevalier Et je pars pour la Palestine. (В переводе В. Левика: Так надо, – рыцарь говорил / Прекрасной, нежной Иможине. / Так надо, – рыцарь повторил, – / Я уезжаю в Палестину). Романс упоминает В. Гюго (Гюго В. Собрание сочинений в 15 т. Т. 6: Отверженные. Ч. 1-2. М.: Гослитиздат, 1954. С. 175, 178, 181). Под вечер повернёт обратно в Гран-Монруж… Городок недалеко от Парижа. Благословенна будь промежду жён других!.. Аллюзия на слова benedicta tu in mulieribus («благословенна ты между жёнами») из католической молитвы «Ave Maria». Играет Гайдна, где сплошные задержанья… Пик популярности венского композитора-классициста Йозефа Гайдна (1732-1809) во Франции пришёлся на самый конец правления австриячки Марии-Антуанетты. За картами в углу: играет на мелок… «Играть на мелок» среди картёжников означает играть в долг. Кумиры – Эсменар, Лебрен, Шенедолле… Жозеф Альфонс Эсменар (1770-1811), Пьер Антуан Лебрен (1785-1873), Шарль Жюльен Шенедолле (1769-1833) – французские поэты-романтики второго ряда. Сраженье при Исли рисует на песке… Сражение при реке Исли (14 августа 1844 г.) – главная битва Марокканского похода французов, закончившаяся их победой над войсками султана Абд-ар-Рахмана ибн Хишама. Что дед ученика был Генрихов миньон… Миньонами (фр. mignon – любимец) во Франции с XVI в. называли королевских фаворитов. Скандальную известность миньонам Генриха III, последнего короля из династии Валуа, снискали не только их экстравагантные выходки при дворе и вызывающая манера одеваться, но и слухи об их любовной связи с королём. Генрих всячески баловал своих любимцев, одаривая их титулами и землями, что вызывало недовольство во всех слоях французского общества. Воспоминаньем полн о голубом барвинке… Имеется в виду следующий фрагмент «Исповеди»: «Приведу из этих воспоминаний один пример, по которому можно судить о их силе и правде. Когда мы в первый раз отправились ночевать в Шарметты, маменька села в носилки, а я сопровождал её пешком. Дорога шла в го- 229 ру. Маменька была нелёгкая, и, боясь слишком утомить носильщиков, она приблизительно на полдороге решила сойти, чтобы остальную часть подъёма пройти пешком. Вдруг она видит за изгородью что-то голубое и говорит мне: "Вот барвинок ещё в цвету!" Я никогда не видал барвинка, но не нагнулся, чтобы разглядеть его, а без этого, по близорукости, никогда я не мог узнать, какое растение передо мной. Я только бросил на него беглый взгляд; после этого прошло около тридцати лет, прежде чем я снова увидел барвинок и обратил на него внимание. В 1764 году, гуляя в Крессье со своим другом [Пьером Александром] дю Пейру, я поднялся с ним на небольшую гору, на вершине которой был маленький павильон, который он справедливо называл "Бельвю". В ту пору я уже начинал немного гербаризировать. Подымаясь на гору и заглядывая в кустарники, я вдруг испускаю радостный крик: "Ах, вот барвинок!" И действительно, это был он. Дю Пейру заметил мой восторг, но не понял его причины. Он поймет её, надеюсь, если когда-нибудь прочтет эти строки. По впечатлению, произведённому на меня подобной мелочью, можно судить о том, как глубоко запало мне в душу все, что относится к тому времени» (Руссо Ж. Ж. Избранные сочинения в 3 т. Т. 3: Исповедь. Прогулки мечтателя. М.: Гослитиздат, 1961. С. 201-202. Перевод М. Н. Розанова). Ко Ын – корейский поэт. Родился в 1933 году в г. Гунсан, в провинции Чолла-букдо. Литературный дебют состоялся в 1958 году в журнале «Современные стихи», где было напечатано его стихотворение «Чахотка». Автор многочисленных поэтических сборников: «Север и Юг», «Родословная десяти тысяч людей», «Горы Пэктусан» и.т.д. Книги переведены на многие языки мира,в том числе на английский, немецкий, франзуский, русский, испанский и др. Лауреат литературной премии Ман Хэ, лауреат премий писателей Кореи, Большой Литературной премии и др. Кортсар Хулио (Хулес Флоренсио Кортасар, 1914 – 1984) – аргентинский писатель и поэт, живший и работавший преимущественно в Париже. Автор рассказов с элементами бытовой фантастики и магического реализма, а также двух сложно организованных, экспериментальных романов – «Игра в классики» и «62. Модель для сборки». Коуит Стив – американский поэт, эссеист, педагог. Родился в Бруклине в 1938 году. Автор нескольких книг стихов. Составитель Антологии американской поэзии, популярной в 1980-е имеет степень Магистра гуманитарных наук San Francisco State College, степень магистра изобразительных искусств Warren Wilson College. Преподает в Юго-Западном колледже в Чула Виста. Кро́тков Андрей – журналист, прозаик, поэт, переводчик поэзии с английского и французского языков. Родился, живет и работает в Москве. Переводил стихи Роберта Сервиса, Редьярда Киплинга, Джона Мейзфилда, Льюиса Кэрролла, Кларенса Денниса, Эндрю Бартона Патерсона, Артюра Рембо, Стефана Малларме, Шарля Бодлера, Франсуа Коппе и Жоржа Роденбаха. Переведенный Кротковым «Пьяный корабль» Рембо, по мнению Евгения Витковского, – лучший из переводов, появившихся в постсоветское время. В эту подборку включены практически неизвестного русскоязычному читателю австралийца Эндрю Бартона «Банджо» Патерсона (1864-1941). О жизни Патерсона и о том, почему к его имени прибавилось слово «Банджо», вы можете прочитать в интернете, я же ограничусь одной фразой: он был юристом, журналистом, лектором, редактором и писателем, но в первую очередь был и остается самым известным и самым читаемым поэтом Австралии. От составителя: Вадим Молодый Лавкрафт, Говард Филлипс (1890 – 1937) – американский писатель, создатель оригинального жанра, совмещающего мистику, ужасы и фэнтези. «Дерево» (перевод и примечания Д. Ермака). Аркадия – горная область на полуострове Пелопоннес на юге Греции. Пан – бог, защитник пастухов и скота; получеловек с ногами козла и рогами, лесной демон. Насылал на путников панический ужас. Гермес – бог, покровитель странников, вестник богов. Тегея – город в Аркадии. Дриады – нимфы, живущие в деревьях. Фавны – лесные духи. Сиракузы – государство-город на востоке Сицилии. Тиран – единоличный правитель. Тихе – богиня судьбы, случая, счастливого и злого рока. Мавзол – персидский сатрап (наместник царя), гробница которого (Мавзолей) считалась одним из семи чудес света. Эол – бог, повелитель ветров. Левчин Рафаэль (1946 – 2013). Рафаэль Залманович Левчин родился в 1946 году в Крыму. Написано о нем и на бумаге, и в Интернете достаточно, так что всех, кого интересует его биография, образование, участие в творческих группах, его книги, картины, скульптуры, публикации в журналах и антологиях, я отсылаю к печатным изданиям и интернету – там все это есть. Для меня важны не внешние события жизни художника, а то непостижимое кипение духа, которое возносит его над миром обыденности. Поэтому я очень хорошо понимаю, что имеет в виду Левчин, говоря: «...Почему вообще до сих пор существуют поэты? Не переводятся ведь, хотя их истребляют порой не менее последовательно, чем евреев! Почему, несмотря на регулярные программные заявления о полном и окончательном ис- 230 чезновении поэзии, она отнюдь не исчезает и, строго говоря, остаётся тем же странным внелогическим делом, что и тысячи лет тому назад? Каким образом невероятная стойкость поэзии сочетается с периодами явного её упадка?... Когда-то один друг автора этих строк заявил: "Молитва совершеннее любого стихотворения!" Через несколько лет другой друг возразил: "Смотря какое стихотворение. Иное стихотворение становится молитвой! "…» Настоящее искусство всегда элитарно. Настоящее искусство всегда трагично. Художник, творец никогда не бывает понят толпой, восхищающейся залетным ряженым, гримасничающим на выстроенном сворой ничтожеств пьедестале, и не замечающей того, кто вопреки пошлости и безвкусице черни, работает для вечности. От составителя: Вадим Молодый. Лесьман Болеслав (1877 – 1937). Настоящая фамилия – Лесман. Великий, возможно величайший польский поэт, писавший на польском и русском языках. Еврей по национальности, он имел счастье умереть своей смертью в 1937 году и не видел, как угоняли в Маутхаузен его семью. Лесьмян – поэт того света, пророк потустороннего мира, в который погрузился еще при жизни. Выдающийся переводчик Анатолий Гелескул, один из тех, кто донес Лесьмяна до русскоязычного читателя, заметил однажды: «Считается, что настойчивые мысли о смерти вредны и вообще признак душевного нездоровья. В таком случае человечество, начиная с первобытных мифотворцев, неизлечимо. Смерть – это стержень человеческих раздумий, гордиев узел мыслителей, поэтов и вероучителей, и раздумья о ней – скорей лекарство, чем болезнь». От переводчика. Я долго не хотел переводить Лесьмяна. Сужу даже не по своим ощущениям, а по простым фактам. Еще в конце 80-х годов Галина Михайловна Гелескул, сестра Анатолия Михайловича, втолковывала мне, почему Лесьмян главный польский поэт: тогда еще надо было втолковывать. И я начал читать его попольски – и прекратил. В 1991 это же мне объясняла моя замечательная познанская знакомая, полонист Ася Обрембская. Тут уже я полюбил Лесьмяна безоглядно – и вновь предоставил этой любви пребывать там, где, по выражению одного литературного героя, ей пребыть надлежит, то есть в душе. И только в 1997 году я получил последний толчок: я поехал стажироваться в Варшаву, и мне дали за лекции в тамошнем университете такой царский гонорар, что нельзя было не купить за безумные для меня тогда деньги своего «собственного» Лесьмяна, а купив, не сесть за переводы, которые полились сперва Ниагарой, потом рекой, потом уже не так щедро, но до конца этот поток уже никогда не иссякал. Мне кажется, и вопрос, почему я так старательно пытался уклониться, и вопрос, почему же Лесьмян меня в конце концов настиг, имеют один и тот же ответ. Лесьмян вообще никого не отпускает, поэтому боязно, поэтому не отвертишься. Много писали о взаимопроникновении и взаимослиянности всего и вся в его поэзии. Это не только встречи жизни со смертью, ангелов, загробных странников и просто всякой нечисти с посюсторонним наблюдателем-автором и с его обычно ледащенькими героями, уродства с красотой, это еще и схождение в одном слове не слишком сродственных друг с другом корней, либо корня и приставки или корня и суффикса (имею в виду всепроникающую лесьмяновскую неологизацию), схождение грамматических, как будто уже не слишком зависимых от «мира сего» или «мира не сего» феноменов: прошедшего времени с настоящим и будущим, первого лица со вторым и третьим, сослагательного наклонения с изъявительным, существительного, которое в принципе предназначено относить нас к предмету, к устойчивой, не текучей во времени сущности, – с именно такую сущность обычно описывающим глаголом. Эта взаимослиянность – от, как выразился Довлатов о Пушкине, сочувствия к не отдельным сторонам жизни, но к самому ее движению, от неустанного бдения, от страха в душевном смысле упустить что-либо из мира и из его бессчетных замирий. Редко в чьей поэзии столь сильно чувство неразрешенности, или, если воспользоваться удивительно подходящей здесь калькой с польского языка, неразгрешенности, неотвратимости наших попыток разрешить и разгрешить. Даже у таких трагических поэтов, как, например, О. Мандельштам или Ф. Пессоа, всегда остается хотя бы малое пространство для отступления: из трагизма (а может быть, и прежде трагизма?) рождается катарсис, а потом – хотя бы на мгновение – «выпрямительный вздох», возможность, перифразируя все того же О. Мандельштама, пожить от себя вдалеке. Лесьмян как будто и не помнит, что бывают выпрямительные вздохи: у него каждое задыхание – прелюдия к другому задыханию, всякая безысходность – только поблажливое подобие той последней безысходности, которая невыразима, но ради которой говорится все, что удается сказать. Каким бы «крайним» ни казался надрыв у М. Цветаевой, он скорее эмоциональный, а значит, заведомо преходящий. Лесьмян интеллектуальнее, отстраненнее, у него конечное по природе чувство вливается в бесконечную по природе мысль и оттого обретает особую, одновременно ему и иноприродную, и созидающую его неизбывность. Такую, уйти из которой можно лишь туда, где вообще нет и не может быть этих стихов. А пока не решишься порвать с ними бесповоротно, ты обречен безоглядно вживаться в те первые судьбосотворяющие движения души, точнее даже в далекие и как будто не способные существовать «мимо слов» их предвозвестия, – в открытости которым, быть может и коренится наше божеское начало. Ли Мэн – американский филолог, профессор. Преподает в одном из лучших университетов Америки – University of Chicago, является ведущим специалистом по русской эмигрантской литературе Харбина. Ей, наряду с Евгением Витковским и Владиславом Резвым, мы обязаны готовящимся к выпуску трехтомником Валерия Перелешина. Кроме того, благодаря подвижническому труду госпожи Ли Мэн и Евгения Витковского, достойное место на Олимпе русской поэзии занял Арсений Иванович Митропольский (Арсений Несмелов). 231 Ли Станислав родился в Целинограде (Астане), в 1959 году. Окончил Алматинский Технологический институт. Профессия – переводчик. Стихи печатались в журналах «Простор», «Московском Вестник», «Москва», «Юность», «Братина», «Лампа и дымоход», «Азия» (Сеул), «Корейская Литература» (США) и др. Стихи включены в антологию «Современное русское зарубежье» (М., 2002). Переводит древнюю, средневековую и современную корейскую поэзию. В его переводе вышла книга современного корейского поэта Ко Ына «И черный журавль спускался с небес» (М., 2010. Художественная Литература». Участник Всемирного фестиваля поэзий (Сеул, 2005), его стихи включены в книгу «Мир это» в числе поэтов из 30 стран мира участников фестиваля. Автор нескольких поэтических сборников. Переводился на корейский и английский языки. Победитель 8-го Московского Международного фестиваля «Золотое перо-11», Лауреат премий « Ариран». Живет в РК, г. Алматы. Лиснянский Илья родился в 1957г. в г. Уфе. Закончил Башкирский Государственный медицинский институт и аспирантуру в ВОНЦ АМН СССР (Москва). С 1990 года живет в Израиле и работает врачом-отоларингологом. Активно занимается журналистикой: сфера интересов-история медицины и история древнейшего в мире города-порта Яффо. Сотрудничает со многими печатными изданиями на русском языку и иврите. Персональный сайт: http://i-drlis.livejournal.com/ Мичковский Олег – переводчик. Родился в г. Свердловск в семье служащих. В 1984 г. окончил факультет иностранных языков Свердловского пединститута. Работал переводчиком на комбинате «Электромедь» (1985—86), затем в Свердловском технологическом институте (1986—88), в Областной детской больнице № 1 (с 1992) Переводит прозу с англ., нем., франц. языков: Г. Лавкрафт, Л. Перуц, Я. Лаврин, Д. Сагден, А. Кубин и др. Живет в Екатеринбурге. Маркелова Ольга – переводчик. Родилась в Москве в 1980 г. В 1996 г. поступила в МГУ на романо-германское отделение, в группу изучения датского языка. Самой большой любовью во время учебы в университете стала Исландия. Многолетнее участие в семинарах О.А.Смирницкой по исторической поэтике древнеисландской литературы, первые встречи с носителями исландского языка во время студенческой стажировке в г. Оденсе (Дания) в 1998 г., прослушивание исландских народных песен пробудили интерес к этой стране и её современной культуре. В это время Маркелова изучает современный исландский язык на кафедре германской филологии в МГУ и затем продолжает уже в Рейкьявике, где стажируется с 2002 г. Диплом и кандидатская диссертация (защищена на кафедре зарубежной литературы МГУ в 2005 г.) были посвящены фарерским писателям. Работа над диссертацией проводилась в Рейкьявике и Торсхавне. Прожила в Исландии около 5 лет. Переводила тексты художественных произведений и кинофильмов. Автор филологических работ и публицистических статей на исландском языке (их значительная часть была посвящена анализу исландской литературы ХХ века). Автор русских текстов рок-группы «Пятая колонна» (Fimmta herdeildin). Молóдый Вадим – поэт, эссеист, родился, жил и работал в Москве. По образованию врачпсихиатр. Совмещал лечебную, научную и литературную деятельность, занимался психопатологией художественного творчества, был сотрудником и автором ежемесячника «Совершенно секретно», вел на московском телевидении передачи «Из мастерской художника». Печатался в СССР и на Западе. С 1990 года живет в Чикаго. Член Парламента сайта «Век перевода» (vekperevoda.com), ответственный за связи с авторами Западного полушария, директор американского отделения Международного института социального и психологического здоровья. Публикуется в американской периодике (альманах «Побережье», журнал «Время и место», журнал «Чайка», еженедельник «Reklama»), ведет на чикагском радио «Народная Волна» (http://www.radionvc.com/ ) еженедельную авторскую программу. В 2010 году в чикагском издательстве «Art 40» вышла книга стихов Вадима Молóдого с иллюстрациями Бориса Заборова. В 2013 году в московском издательстве «Водолей» вышла его новая книга «Споры с Мнемозиной. Мюллер Лисел – американская поэтесса и переводчик. Родилась в Гамбурге, Германия в 1924 году. Дочь учителей, ее семья была вынуждена бежать от нацистского режима, когда Мюллер было 15 лет. Они эмигрировали в США и поселились на Средний Запад . Мюллер посещала университет Эвансвилля, где ее отец был профессором. Книги Мюллер также получил высокую оценку в англоязычном мире. 232 Никулина Майя (р.1937) – поэт, прозаик, автор семи поэтических сборников и трех книг прозы, выходивших в Свердловске-Екатеринбурге и в Москве, одна из влиятельнейших фигур в литературе и культуре Урала рубежа 20-го-21-го веков, лауреат двух региональных и одной всероссийской премии в области литературы. Стихи переводились на ряд европейских языков. Оден Уистен Хью (1907, Йорк, Великобритания – 1973, Вена), англо-американский поэт. Учился в Оксфорде, специализируясь на англосаксонской литературе. В Оксфорде вышел первый рукописный сборник стихов Одена. Признание широкого читателя он завоевал книгой «Стихотворения» (1930). Принадлежал к т. н. Оксфордской группе поэтов, декларировавшей разрыв с буржуазным обществом и признававшей будущее за коммунизмом. Некоторые поэты из этой группы в 1936 г. отправились в Испанию и служили в санитарных отрядах республиканцев. В 1937 г. Оден пишет поэму «Испания», привлёкшую внимание читателей. В 1930-е гг. он работает школьным учителем и много издаётся (один и в соавторстве со своим другом К. Ишервудом). В пьесе «Пёс под шкурой» (1933) фашистская Германия представлена в виде сумасшедшего дома. В 1939 г. Оден поселился в США. В 1940-х гг. его поэзия потеряла былую радикальность. Он публикует сборник «До поры до времени» (1945), в который вошли две поэмы, одна – вариация на тему пьесы У. Шекспира «Буря», а вторая – рождественская оратория. К этому же периоду относится его сборник «Век тревоги» (1947). В 1950—60-е гг. появляются два крупных поэтических сборника: «Щит Ахилла» (1955) и «Дань Клио» (1960), автобиографические сборники «Ближе к дому» (1966) и «Город без стен» (1970). Оден также пишет много критических статей, оперные либретто. Его считают одним из самых плодовитых и разносторонних поэтов, пишущих на английском языке в 20 в. Характерной особенностью стиля поэзии Одена, так же как и представителей Оксфордской группы поэтов, является использование технических терминов в передаче лирических чувств и переживаний, а также обилие субъективных ассоциаций и символов. Павлов Александр родился на Урале в 1961 г., закончил переводческий факультет Нижегородского Лингвистического Университета, работал переводчиком, кореспондентом и заведующим отделом газеты, рекламным агентом, менеджером и руководителем коммерческой фирмы. Публиковался в журналах «Волга», «Василиск», «Бельские просторы», сетевых литературных ресурсах, автор стихов, переводов и прозы. В 2012 г. вышла книга стихов «ОСЕНИВЕСНЫ», М. «Ателье Вентура». Проживаю в г. Армавире Краснодарского края. Парра Хосефа, современная испанская поэтесса. Родилась в 1965 в Хересе де ла Фронтера, Андалусия. Переведенное стихотворение из ее последней книги, «Спальня Воды», изданной в 2002 году. Патерсон «Банджо» Эндрю Бартон (1864 – 1941) – австралийский поэт, автор баллад и стихотворений, действие которых происходит в сельской Австралии. Наиболее известное произведение Патерсона – «Танцующая Матильда» – часто рассматривается как неофициальный гимн Австралии. Портрет Патерсона изображён на купюре в 10 австралийский долларов. На русский язык переведено лишь небольшое количество стихотворений Патерсона. Паунд Эзра Лумис (1885 – 1972), американский поэт, историк и теоретик искусства. Учился в Пенсильванском университете. В 1908 уехал в Европу, с 1924 жил в Италии. Изучал и пропагандировал средневековую поэзию романских стран; в его переложениях англоязычный читатель впервые познакомился с поэзией Китая и Японии. Во время 2-й мировой войны 1939-1945 выступал в Италии в передачах фашистского радио на войска союзников. В 1945 осужден в США по обвинению в государственной измене. Смертный приговор был заменен Паунда пожизненным заключением в лечебнице для душевнобольных. После освобождения (1958) вернулся в Италию. Как поэт П. дебютировал в 1909 (сборник «Угасший свет»). Один из теоретиков имажизма. В творчестве Паунда (сборники «Выпады в ответ», 1912, «Маски», 1912, «Старый Китай», 1915) уже в 1910-е гг. отразились настроения анархического характера, позднее толкнувшие его к союзу с правооппозиционными силами (поэма «Хью Селвин Моберли», 1920). П. расширил тематический диапазон англоязычной поэзии, обогатил арсенал её художественных средств, однако крайняя формальная усложнённость сделала его основное произведение «Cantos» («Песни», 1917≈68, неоконченное) характерным образцом модернистской поэзии, порывающей все связи с читателем. Последнее тридцатилетие жизни Паунда в творческом отношении бесплодно. 233 Перелешин Валерий (настоящие имя и фамилия – Валерий Францевич Сала́тко-Петри́ще; 1913–1992). Происходил из старинного польско-белорусского рода. Родился в Иркутске. В 1920 г. вместе с матерью, журналисткой и переводчицей Е. А. Сентяниной, эмигрировал в Харбин, где окончил гимназию и юридический факультет (1935), изучал китайский язык и китайское право. С 1928 г. публиковался как поэт, с конца 1930-х гг. – как переводчик с английского и китайского. Входил в литературное объединение «Чураевка». В 1938 г. принял монашеский постриг под именем Герман, в 1939 г. начал работать в русской духовной миссии в Пекине. С 1943 г. жил в Шанхае, работал переводчиком в отделении ТАСС. В 1946 г. снял с себя сан. В 1950 г. решил переехать на постоянное жительство в США, но был выслан оттуда за попытку «создания китайской коммунистической партии». В 1953 г. переселился в Бразилию, оставшуюся жизнь провел в Рио-деЖанейро, где преподавал русский язык, работал продавцом в ювелирной лавке, писал статьи и рецензии для русских зарубежных газет и журналов. Автор 14-ти книг стихотворений, большой автобиографической «Поэмы без предмета», мемуаров о жизни русской литературной жизни в Харбине «Два полустанка», множества переводов, в т. ч. трактата «Дао-дэ-цзин» и антологий китайской и бразильской поэзии. Значительная часть поэтического наследия Перелешина по сей день остается неизданной. В настоящее время готовится к изданию трехтомное собрание поэтических произведений. Пессоа Фернанду Антониу Нугейра (1888 – 1935) – португальский поэт, прозаик, драматург, мыслитель-эссеист, лидер и неоспоримый авторитет в кружках столичного художественного авангарда эпохи, с годами из непризнанного одиночки ставший символом португальской словесности нового времени. Фернанду Пессоа родился 13 июня 1888 года в Лиссабоне. Его отец Жуакин де Сеабра Пессоа, уроженец Лиссабона, служил в Министерстве Юстиции и также был музыкальным критиком в газете «Diário de Notícias». Детство и отрочество Пессоа были ознаменованы событиями, которые впоследствии повлияли на его жизнь. В 1893 его отец умер от туберкулёза в возрасте 43 лет, маленькому Фернандо едва исполнилось пять лет. Мать Песоа была вынуждена продать с молотка часть мебели и переехать с детьми в более скромный дом. В этот период появляется первый гетероним Пессоа, Шевалье де Па, об этом Пессоа спустя много лет напишет своему другу Адолфу Казаиш Монтейру. В этот же год Пессоа создал своё первое поэтическое произведение — короткое стихотворение с детским эпиграфом: Моя любимая мама. Его мать выходит замуж второй раз в 1895-м за Жуана Мигела Розу, консула Португалии в Дурбане (Южная Африка), куда и переезжает с детьми. В Дурбане Пессоа проведёт детство и часть юности. Мать с головой уходит в заботы о муже и детях от второго брака, и Фернанду остаётся предоставленным самому себе. Мальчик много времени проводит в одиночестве и размышлениях. У мальчика с детства обнаруживаются большие способности к литературному творчеству. В Дурбане он получает доступ к английской литературе и таким авторам как Шекспир, Эдгар По, Джон Мильтон, Лорд Байрон, Джон Китс, Перси Шелли, Альфред Теннисон. Английский язык сыграл огромную роль в жизни Пессоа, на английском написана часть его поэтического наследия, Пессоа также переводил англоязычных поэтов, кроме того при жизни поэта был напечатан лишь один португалоязычный сборник «Послание» («Mensagem»), два других сборника составляла его поэзия на английском, написанная между 1918 и 1921 годами. В младшей школе Пессоа учится очень хорошо и проходит пятилетний курс за три года, в 1899-м он поступает в среднюю школу в Дурбане, где он проучится три года. Пессоа был одним из лучших учеников в группе. В эти годы он берёт псевдоним Alexander Search, от имени которого пишет письма самому себе. В 1901-м Пессоа пишет свои первые стихотворения на английском языке и совершает путешествие со своей семьёй в Португалию, где живут его родственники. В это время он пытается написать роман на английском языке и по возвращении в Африку поступает в Школу Коммерции. Учёба проходит по вечерам, а днём Пессоа изучает гуманитарные дисциплины. В 1903 году он получает почётную премию королевы Виктории за лучшее эссе. Пессоа много читает классиков английской и латинской литературы, пишет стихи и прозу на английском, появляются его гетеронимы Чарльз Роберт Анон и Г. М. Ф. Лечер. В 1905 году Пессоа окончательно возвращается в Лиссабон один (его родители и сёстры остаются в Дурбане). Он живёт вместе со своей бабушкой Дионизией, продолжает писать стихи на английском и в 1906-м поступает на высшие филологические курсы (в настоящее время Филологический факультет Лиссабонского Университета), которые он бросает, не закончив первый курс. Он знакомится с творчеством крупнейших португалоязычных писателей, в частности его увлекают произведения Сезарио Верде и проповеди Падре Антонио Виейры. Вскоре умирает его бабушка, оставив ему небольшое наследство. На эти деньги Песоа открывает маленькую типографию, которая быстро прогорела. После этого Пессоа берётся за перевод коммерческой корреспонденции. На этой должности он будет работать всю жизнь. Поэт скончался в возрасте 47 лет в 234 Лиссабоне. Последнее, что он написал перед смертью, – фраза на английском языке: «I know not what tomorrow will bring…» (Я не знаю, что принесёт завтрашний день…). Пизарник Алехандра (урождённая Флора Пизарник, 1936-1972) — аргентинская поэтесса, прозаик, переводчик. Младшая дочь еврейских выходцев из Ровно Эли Пизарника и Рейзл Бромкер, в 1934 году приехавших в Аргентину. Стихи и лирическая проза Пизарник с их поэтикой безумия, доводящей до предела саморазрушительный поиск Лотреамона, Рембо, Арто, пронизаны мотивами смертной тоски, несбыточной надежды найти себя в смене социальных и эротических масок, непреодолимой тяги к забытью и небытию. Плат Сильвия (1932 – 1963) – американская поэтесса и писательница. Известная в основном благодаря своей поэзии, Сильвия Плат также написала основанную на событиях собственной жизни повесть «Под стеклянным колпаком». Ребора Клементе (1885 – 1957) Клементе Ребора, в отличие от большинства молодых интеллигентов, воодушевленных патриотическим порывом, шел на войну без иллюзий и шумного энтузиазма. Уже на само вступление Италии в мировую бойню (оно не было спровоцированным: на Италию никто не нападал) он отозвался горькими стихами. Впрочем, вскоре после первых боев его, сержанта кавалерии, за проявленную доблесть представляют к офицерскому званию. В декабре 1915 года осколок снаряда пробивает ему голову. Поэт чудом остается жив, последствия раны будут мучить его всю оставшуюся жизнь. Одно из них – острое психическое расстройство. После госпиталей и психиатрической больницы Клементе возвращают на фронт. При этом он решительно отказывается от погон офицера: у него нет душевных сил посылать солдат на смерть. Тяжелый разговор с командованием кончается тем, что Ребора бросает чернильницу в лицо полковнику. По счастью, до военного трибунала дело не доводят. Потери в войсках огромны; лучше отправить бойца на передовую, чем под расстрел или в тюрьму. Поэт снова в строю; от ужаса и отвращения, непрерывно преследующих его всё последующее время войны, он освобождается в стихах... Возвращение домой оказывается очередным испытанием: почти сразу рушится его долгая любовная связь с Лидией Натус. Лидия, известная пианистка, по происхождению русская еврейка, была спутницей и музой Реборы с 1914 года. Ей посвящен цикл его стихов «К светлячку». Возможно, обстоятельства разрыва нашли отражение в «Голосе мертвого дозора». Решетов Алексей (1937-2002) – жил в г. Березники Пермского края, затем в Перми и Свердловске-Екатеринбурге, автор многих прижизненных и посмертных поэтических сборников и одной книги прозы, выходивших на Урале и в Москве, Лауреат нескольких литературных премий и наград. Еще при жизни снискал как поэт такой авторитет, что в Березниках проводились поэтические чтения его имени, а после смерти была учреждена Решетовская премия. В Березниках поэту установлен памятник. Рильке Райнер Мария (1975 – 1926) – немецкий поэт, один из самых влиятельных модернистов ХХ века. Письма из Мюзот. (перевод и примечания О. Мичковского) Письмо 1. Княгине Марии фон Турн-унд-Таксис Гогенлоэ. Chateau de Muzot замок Мюзот «très légèrement habillée» очень легко одетая (франц.) D.S. – сокр. от Doctor Seraphicum, «серафический доктор» (лат.) Письмо 3. Рабочему И. Х. métier ремесло (франц.) Письмо 5. Норе Пурчер-Виденбрук. Tour de Muzot башню Мюзот (франц.) En fin de compte в конечном счете (франц.) moyen-age средневековый (франц.) Dixhuitieme восемнадцатого века (франц.) Salle a manger столовая (франц.) Письмо 9. Франциске Штеклин. retraite прибежища (франц.) Письмо 10. Гертруде Оукама-Кнооп. «Eupalinos ou l`Architecte» «Эвпалин, или Архитектор», сократический диалог Поля Валери Письмо 11. Графине М. Un apaisement, une calme nouveau plus grand que jamais, l`heureux moment du renouveau, l`aurore d`un commencement pur et universel Умиротворение, новый покой, более великий, чем когда-либо прежде, счастливый момент обновления, заря начала, чистого и всеобъемлющего (франц.) Письмо 12. Ксаверу фон Моосу. Villes tentaculaires Города-спруты (франц.) Multiple Splendeur Многоцветное сияние (франц.) Письмо 14. Доктору Хейгродту. milieu среду (франц.) Письмо 16. Ильзе Блументаль-Вайс. usuriers ростовщики (франц.) manoir здесь: замке (франц.) 235 Письмо 18. Лу Андреас-Саломе. «Le Cimetière marin» «Морское кладбище» (франц.) L`Introduction à la Méthode de Leonard de Vinci Введение к методу Леонардо да Винчи (франц.) dans un silence d`Art très pur в безмолвие очень чистого Искусства (франц.) «préface» предисловие (франц.) Письмо 22. Норе Пурчер-Виденбрук. aventure приключение (франц.) grandeur nature ou même plus que в натуральную величину или даже больше (франц.) Письмо 23. Доктору Хейгродту. «moi – ? j'étais quelqu`un; ce n`est que plus tard que l`on commence à comprendre» здесь: я – ? я кое-что собой представлял; правда, понимание приходит позднее (франц.) Письмо 26. Барону фон Унгерн-Штернбергу. номер N. R. F. сокр. от Nouvelle Revue Francaise, французский журнал «Cimetière marin» Морское кладбище (франц.) Письмо 27. Лотти фон Ведель. Torre de las Danas башне де лас Данас (исп.) «Museo» Museo Nazionale – Национальный музей Письмо 29. Гертруде Оукама Кнооп. в качестве pendant парного предмета; дополнения (франц.) Письмо 31. Лу Андреас-Саломе. «Ex-voto» по обету (лат.) И Твой муж тоже. И Баба… В оригинале слово «Баба» написано по-русски Прощай… В оригинале слово «Прощай» написано по-русски Письмо 32. Лу Андреас-Саломе. Saltimbanques «Бродячие акробаты» (франц.) Письмо 33. Лу Андреас-Саломе. Прощай… В оригинале слово «Прощай» написано по-русски. оправдывало свое название «дня солнца» Немецкое слово Sonntag, «воскресенье», дословно переводится как «день солнца». Письмо 34. Ксаверу фон Моосу. conférence лекция (франц.) «Ça sort de la création» «Это восходит к дням творения» (франц.) Телль-Атлас. Ряд горных хребтов, входящих в систему североафриканских Атласских гор. Письмо 35. Дори фон дер Мюлль. А теперь вспомните наше солнце на террасе Бельвю. Подразумевается отель «Шато Бельвю», см. письмо 1. ambition амбиция (франц.) «Le Ballet au XIXième siècle» «Балет в XIX веке» (франц.) `Маланские выжимки` По названию швейцарского города Маланс. по-итальянски «Grappa» – граппа (итал.) не слишком докучала Вам в Вевее Город в Швейцарии Письмо 38. tant bien que mal с грехом пополам; кое-как (франц.) metier ремеслу; профессии (франц.) «accord» согласие, соглашение, договор (франц.) Письмо 40. Ильзе Блументаль-Вайс. Fioretti – цветочки (итал.); в переносном смысле: сборник, антология avantages преимуществами (франц.) Письмо 42. Рудольфу Касснеру. Инзель Подразумевается немецкое издательство «Insel Verlag». Письмо 43. Лотти фон Ведель. dîner званого обеда, званого ужина (франц.) детство Юнг-Штиллинга Имеется в виду 1-й том, «Детство Генриха Штиллинга» 1777, автобиографии немецкого писателя Иоганна Генриха Юнга, прозванного Юнг-Штиллингом (1740–1817) Письмо 44. Дори фон дер Мюлль. «Chanson de Roland» «Песнь о Роланде» (франц.) par procuration по доверенности (франц.) над Пезаро Город в Средней Италии на побережье Адриатического моря. tout simplement здесь: только и всего (франц.) essence de menthe мятную эссенцию (франц.) pour apéritif в качестве аперитива; для аппетита (франц.) Письмо 45. Норе Пурчер-Виденбрук. manoir небольшой замок (франц.) Сонеты к Орфею. Примечания Р.-М. Рильке (перевод Н. Болдырева) Примечания к Первой части. Сонет Х. Во второй строфе подразумеваются гробницы знаменитого древнего кладбища «Елисейские поля» под Арлем, о котором идет речь и в романе «Записки Мальте Лауридс Бригге». Сонет ХVI. Этот сонет обращен к Собаке. Под «meines Herrn Hand» («рука моего Господина, Господа») подразумевается устанавливаемая связь с Орфеем, который выступает здесь как “господин” Поэта. Поэт хочет повести эту руку (руку Орфея. – Н.Б.), чтобы и она тоже, во имя своего бесконечного милосердия и сочувствия, благословила Собаку, которая, почти как Исав (см. Иаков I. Моисея, 27), накинула на себя свою шкуру лишь для того, чтобы приобщиться в своем сердце к не причитающемуся ей наследству: к человеку в его нужде и счастье. (Думается, здесь у Рильке оговорка либо ошибка памяти: в тексте Ветхого Завета не Исав, а его младший брат Иаков имитирует природную мохнатость Исава, дабы завладеть не причитающимися ему благословением и завещанием отца. – Н.Б.) Сонет XXI. Эта весенняя песенка явилась мне подобно “комментарию” к одной удивительной танцевальной музыке, которую я однажды услышал в исполнении детского монастырского хора на утренней мессе в маленькой церкви женского монастыря в Ронде (Южная Испания). Дети, непрерывно отбивая танцевальный ритм, пели неизвестный мне текст под треугольник и тамбурин. Сонет XXV. К Вере. (Имеется в виду Вера Оукама-Кнооп, юная танцовщица, умершая от лейкемии в 19 лет, которой и посвящен весь корпус “Сонетов к Орфею”. – Н.Б.) Примечания ко Второй части. Сонет IV. Единорог имеет древнее, в Средние века постоянно прославляемое значение девственности и целомудрия: потому утверждалось, что он, будучи не существующим для профанов, существует, как только появляется в “серебряном зеркале”, которое держит перед ним девственница (смотри гобелены пятнадцатого столетия), равно появляясь и “в ней” как в некоем втором, в той же мере чистом, сколь и тайном зеркале. Сонет VI. Античная роза была простым “Eglantine” (цветком шиповника. - фр. – Н.Б.), красным и желтым; оттенки, встречающиеся в пламени. Здесь, в Валлисе (швейцарский кантон. – Н.Б.), она еще цветет кое-где в садах. Сонет VIII. Четвертая строка: ягнята (на картинках), разговаривающие лишь с помощью рисованных эмблем-транспарантов. Сонет XI. Имею в виду способ, каким, согласно старинному охотничьему обычаю, в некоторых карстовых местностях своеобразно белесых гротовых голубей изгоняют из их подземных убежищ с помощью осторожно всунутых в гротовые полости платков, которые затем внезапно особым образом 236 кружат, чтобы, вспугнув голубей, убить их во время их панического вылета. Сонет XXIII. Обращен к читателю. Сонет XXV. Отклик на весеннюю песенку детей в Первой части сонетов (XXI). Сонет XXVIII. Обращен к Вере. Сонет XXIX. К другу Веры. Примечания переводчика. Первая часть. Сонет I. «И вот ты в слухе им построил, Боже храм!»: Здесь и далее Рильке под словами «Бог», «Господь» подразумевает Орфея. Сонет XI. «Выйди в небо! Разве не найдешь созвездья Всадник?»: Рильке, конечно, знал, что на “научных” астрономических картах нет созвездия с таким названием. Однако оно есть на “орфической” и значит и на его собственной астрономической карте, на небе его личного внутреннего-мирового-пространства (Weltinnenraum), где этот мир и мир тот существуют в целостной нераздельности. См. в десятой Дуинской элегии: вопленица Желя показывает вновь умершему звезды и созвездия Страны Боли – Всадник, Посох, Колыбель, Кукла, Окно, Горящая Книга и т. д. Не забудем, что весь цикл сонетов написан изнутри того целостного универсума, где два мира, равно как жизнь и смерть, бытийствуют в нерасторжимой слитности, питая и взаимообъясняя друг друга. Рыжий Борис (1974-2001) – рано ушедший из жизни поэт, живший в Екатеринбурге и стяжавший громкую всероссийскую славу и европейскую известность. При жизни увидел свет единственный сборник его стихов «И все такое», выпущенный в 2000-м году издательством «Пушкинский фонд» г. С-Петербурга. Стихи переводились на голландский и ряд других европейских языков. В 2008 году в Нидерландах о Б. Рыжем был создан документальный фильм. Севостьянова (Полякова) Ирина. Родилась в 1959 году в одном из городов бывшей «империи Берия» – Красноярске-45, называвшийся тогда Заозерным-13, а теперь – Зеленогорском. Родители попали туда по распределению. Потом были Сосновый Бор, затем засекреченный Снежинск, он же Челябинск-70, потом опять Сосновый Бор, который я и считаю своим родным городом. Сосны, дюны, залив – да и история хороша, со времен Новгородской республики до строительства замещающих мощностей Ленинградской атомной станции. Закончила истфак пединститута имени Герцена. Где только не работала: в геодезии на стройке, в детском саду, в доме пионеров, в местной газете – в ней и сейчас.Этому кошмарному занятию – авторская песня – посвятила почти три десятилетия. Вышивка-вязание-черепахи-кактусы – разных видов, целая коллекция. Любимое занятие – бродить по берегу и кататься на лодке по заливу. Впрочем, последнее удается нечасто, так что остается берег с соснами. Еще одно любимое занятие – бессистемное чтение на первом попавшемся европейском языке. Язык становится интересен и сам по себе, безотносительно сюжета. Сент Винсент Миллей Эдна (1892 – 1950), американская поэтесса. Тонкий лирик, продолжила традиционные формы романтической поэзии (баллады, сонеты); сборники «Возрождение» (1917), «Вино из того винограда» (1934), «Полуночные разговоры» (1937). Антифашистская поэма «Убийство Лидице» (1942). Сервис Роберт Вильям (1874 – 1958) – канадский поэт и романист, часто именуемый «Бардом Юкона». Родился в шотландской семье банковского клерка в городке Престон в Англии. В 15 лет он, как и его отец, занялся банковским бизнесом, но в 21 год уехал в Канаду, бросив свою работу в банке Глазго, и отправился на остров Ванкувер, мечтая стать ковбоем. Шесть лет странствий по побережью Калифорнии не принесли Сервису удачи. Он устроился на работу в канадский Коммерческий банк, и был направлен в его филиал в Уайтхорсе, территория Юкон. Здесь он жил приграничной жизнью среди северных лесов. Там же он впервые знакомится с работой старателей. Вдохновленный красотой диких просторов Юкона, Сервис начал сочинять стихи. Первые его пробы, такие как «Выстрел Дэна Макгрю» и «Кремация Сэма Макги» сделали его известным поэтом. Чуть позже Сервис захотел издать свои стихи и даже был готов заплатить за это100 долларов. Однако издатель, поверив в потенциал произведений молодого поэта, вернул ему деньги и предложил Сервису заключить контракт. Вскоре после того, как в 1907 вышли «Песни Старателя» (названные после «Чары Юкона»), поэт получил возможность оставить службу в банке и поехать в Париж, посетить французскую Ривьеру и Голливуд, ведя богемную жизнь. Вскоре вышли новые сборники стихов: «Баллады чечако» и «Кабацкие баллады». В годы Первой мировой войны Сервис работал водителем в американском Полевом Госпитале, потом военным корреспондентом канадского правительства. Будучи в Париже, Сервис женился на француженке, и они поселились в собственном доме в Бретани. В 1930-х посетил СССР, после чего написал ярко-сатирическое стихотворение «Баллада о гробнице Ленина». Из-за этого в СССР Сервиса не только не переводили, но даже не упоминали в энциклопедиях. Во время Второй мировой войны Сервис находился в 237 Польше, но вернулся в Калифорнию, где и оставался до конца войны, лишь на время возвращаясь в свой дом в Бретани. Поэт умер в Лансье, Кот-д'Армор, Бретань, и похоронен там на местном кладбище. Сервис выпустил 13 сборников стихотворений, изображающих жизнь людей разных профессий, их нелёгкие судьбы. Сервиса еще при жизни называли «канадским Киплингом», а Арчибальд МакМекэн (Archibald MacMechan), профессор англистики в канадском Dalhousie University, объявил юконские книги Сервиса истоком канадской литературы. Слепухин Сергей – художник, поэт и эссеист, родился в 1961 г. в городе Асбесте Свердловской области, живет в Екатеринбурге. Автор семи сборников стихов и двух книг эссе, написанных совместно с Марией Огарковой. Главный редактор альманаха «Белый Ворон». Слепухина Евдокия – художник. Родилась в 1991 году, живет в Екатеринбурге. Иллюстрировала стихи Даниила Андреева, Александра Левина, Владимира Гандельсмана, Алексея Цветкова, Сергея Комлева, Михаила Квадратова, Василия Бородина, Игоря Рымарука, Ива Мазагра, прозу Элисео Диего, Татьяны Красновой, Евгении Перовой, Татьяны Окоменюк. Член редколлегии альманаха «Белый Ворон». Смирнов-Садовский Дмитрий – композитор, поэт, переводчик. Родился в 1948 году в Минске. Окончил Московскую консерваторию в 1972. Среди его учителей Эдисон Денисов, Николай Сидельников, Юрий Холопов, Филипп Гершкович. С 1973 по 1980 год работал редактором в издательстве «Советский композитор». Член Союза композиторов с 1974 года. В 1979 году на VI съезде композиторов в докладе Тихона Хренникова его музыка подверглась жёсткой критике, и Смирнов попал в так называемую «хренниковскую семёрку» — «чёрный список» семи отечественных композиторов. Смирнов был один из инициаторов и организаторов второго АСМа — Ассоциации современной музыки, основанной в Москве 1990 году. С 1991 года живёт в Англии. Сторни Альфонсина (1892 – 1938) латиноамериканская поэтесса и писательница, одна из наиболее значимых фигур латиноамериканской литературы. Стус Василь – украинский поэт , литературовед , правозащитник. Родился 6 января 1938 . в селе Рахновка на Винниччине. Окончил филологический факультет Донецкого пединститута, учительствовал, работал в газете. 1963г. поступил в аспирантуру Института литературы им. Т. Г. Шевченко АН УССР в Киеве, откуда он был отчислен за протесты против арестов в среде украинской интеллигенции. Принадлежал к т. н. «шестидесятникам» – оппозиционно настроенным представителям творческой молодежи, которые активно боролись за возрождение национальной культуры, протестовали против реставрации сталинизма. В 1972 г. В. Стуса арестованы вместе с другими украинскими правозащитниками и приговорили к пяти годам лагерей и трем годам ссылки. Находился в заключении в Мордовии. В 1979г. вернулся в Киев, но через 8 месяцев был снова арестован и осужден на 15 лет. Умер во время голодания в карцере 3 сентября 1985 года. 19 ноября 1989г. состоялось перезахоронение праха Василия Стуса в Киеве на Байковом кладбище. Первый поэтический сборник «Зимние деревья» еще продолжал поэтическую традицию «шестидесятников». Здесь преобладала гражданская лирика с ее страстными раздумьями о судьбе украинской культуры, протестом против атмосферы угнетения, несвободы , которая царила в обществе («Дума Сковороды », « Последнее письмо Довженко», «Зверем выть, водку пить»). Лишенный возможности печататься на родине , издает ряд поэтических сборников за рубежом (« Зимние деревья » (Брюссель , 1970) , «Свеча в светильнике» (Современность, 1977)).Выдающимся достижением Стуса поэта стал сборник «Палимпсесты» (1986). Глубинное проникновение во внутренний мир человека, совершенство художественной формы характеризуют эту книгу стихов , одной из вершин украинской поэзии XX в. Стус известен также и как литературовед. Его перу принадлежат статьи о творчестве В. Свидзинского, Б. Брехта, Г. Белля, основательная разведка о поэзии П. Тычины «Феномен доби». Тисдэйл Сара (1884 – 1933) – американская поэтесса поэтесса. Родилась в семье, принадлежавшей к обеспеченному среднему классу. Впервые издала книгу стихов в 1907 году. Жила в СентЛуисе, последние годы жизни провела в Нью-Йорке. В 1918 году стала лауреатом Пулитцеровской премии за сборник стихотворений «Love Songs». В 1933 году выпустила последний сборник «Странная победа». Покончила жизнь самоубийством. 238 Унгаретти Джузеппе (1885 – 1970). Родившийся в семье итальянских эмигрантов в Египте, Джузеппе Унгаретти переселился в Италию почти тридцатилетним. Укоренение на исторической родине было для него травматическим; он долго не мог осознать себя одним целым с землей своих предков и ее народом. Именно за этим – за чувством Родины – и пошел он на войну, записавшись добровольцем в пехоту. Второй внутренней проблемой, разрешения которой искал поэт, был вопрос о вере в христианского Бога, унаследованной им от матери, ревностной католички, и утраченной в юношеские годы. Сборники «Порт погребенный» и «Веселье кораблекрушений», стихи которых записаны непосредственно в окопах, в форме дневника, отражают не внешние события войны, а упорный экзистенциальный поиск. Неожиданно для самого поэта, в Италии, стране традиционного, но неглубокого католичества, стране, из которой в предвоенный период ежегодно эмигрировало по миллиону человек, обе темы – обретения утраченной Родины и обретения утраченной веры – оказались насущными, горячо востребованными. Унгаретти, еще вчера никому не известный, на рубеже 1920-х годов занял одну из первых позиций в национальной поэзии. «Зачем?» Сердце подняв с окопного дна… В оригинале дважды упомянуты артиллерийские каверны – искусственные глубокие пещеры для укрытия одного или нескольких орудий, применявшиеся на итальянском фронте. Именно ими, а не воронками (как у меня), изрыт горизонт. На фотографиях боевых позиций они издали выглядят будто норы, которыми местность буквально испещрена. Не знаю, как назвать их порусски, чтобы можно было легко понять и представить. В отмеченном месте в подлиннике образ такой: сердце выкатывается как пушка из темноты каверны и стреляет по врагу, но при этом само летит словно снаряд и разрывается с грохотом. А в последнем стихе оно вновь изображается живым, но оглохшим и ошалелым, как контуженный. «Пустынный Линдоро». Линдоро – типический персонаж старинной венецианской комедии, образ влюбленного юноши. Это прозвище означает «Чистое Золото». Солдат, встречая утро на огневой позиции, наслаждается лучами рассвета, бросающего золотистый отблеск на предгорные селенья, разрушенные войной, и на его униформу, покрытую окопной грязью. Прилагая к лирическому герою красивое и в то же время комедийное прозвище, Унгаретти подчеркивает контраст между дарами ласкового солнца и горем, которое сеет на земле война. Здесь, возможно, скрывается и еще одна ассоциация. При виде рассвета поэт мысленно переносится в край египетских пустынь, где, в семье рабочего-эмигранта, прошло его детство. И тогда имя Линдоро может быть связано с оперой Пуччини «Итальянка в Алжире». Один из ее персонажей носит имя Линдоро: юный итальянец, захваченный в плен арабскими пиратами и проданный в рабство в пустыню, мечтающий снова обрести родину и любовь. «Реки» Изонцо – река на территории Италии и Словении (по-словенски: Соча), ставшая в 1916-1917 гг. ареной жестоких боев между итальянской и австро-венгерской армиями. В ходе одиннадцати сражений при Изонцо итальянская армия, потеряв до 800 тысяч убитыми, ранеными и пленными, так и не сумела прорвать оборону австро-венгров, которые, в свою очередь, в октябре 1917 г. перешли в решительное наступление при поддержке германских частей, с использованием авиации и отравляющих газов. Серкьо – река в Тоскане, на родине отца и матери поэта. Нил, что видел мое рожденье… Унгаретти родился на берегах Нила, в Александрии. Его отец трудился землекопом на строительстве Суэцкого канала и умер, надорвавшись, когда сыну было всего два года. Сена, в чем мутном течении себя познав, перебродив… В Париже в 1913-1914 гг. Унгаретти, значительно продвинувшись в своем образовании (занятия в Сорбонне, лекции А. Бергсона) и художественном развитии (знакомства с Аполлинером, Пикассо, Браком, Модильяни, Де Кирико и др.), испытал и тяжелый жизненный кризис, едва не кончившийся для него трагически. «Расставание». «Distacco» (название стихотворения в оригинале) – многозначное слово: расставание, отчуждение, холодность, отрыв, разрыв. Практически каждое из этих значений можно подставить в переводе, но одного будет мало. Это и отчуждение от жизни, одухотворенной деятельным добром, и атомизация человеческих отношений, и исчезновение добрых порывов в душе человека, подхваченного течением единообразной толпы. Кроме того, заглавие соответствует композиции сборника «Порт погребенный» (1916), где стихотворение впервые увидело свет: «Distacco» поставлено почти в самом его конце, а последнее, соответственно, озаглавлено «Commiato» («Прощание»). Вот вам человек рядовой… В оригинале: un uomo uniforme, «человек единообразный», как бы пародия на «человека разумного». Само слово uniforme сразу, конечно, заставляет вспомнить и солдатскую униформу. «Вот вам человек-униформа» – представляется поэт читателю, чтобы читатель в поэтическом портрете, как в «бесстрастном зеркале», увидел и себя самого. «Vanita» Основное значение слова vanità – суета, тщета, тщеславие, приверженность к преходящему и внешнему. Но оно же дало название целому жанру в итальянской (и вообще европейской) барочной живописи. Название vanità, или еще чаще в латинском варианте – vanitas (ср. библейское vanitas vanitatum, суета сует) давалось натюрмортам, составленным из разнообразных предметов роскоши и досуга. Непременной – или даже центральной – частью таких натюрмортов было зеркало. Кажется, именно это привело к тому, что туалетное зеркало тоже стали подчас называть vanità. Вероятно, здесь обыгрываются разные значения этого слова. Уолкотт Дерек – тринидадский поэт. Родился в 1930 году. Пишет на английском языке. Поэзию Уолкотта отличает эпическое видение современности как напластования ушедших культур (сборники «Потерпевший кораблекрушение», 1965, «Гроздья моря», 1976, «Середина лета», 1984). Ведущий герой Уолкотта – бард Гомер: поэма «Новый Омир» (1990) – путешествие по временам и пространствам, своего рода лирическое обозрение цивилизации. Пьесы («Сон на обезьяньей горе», 1967; «О, Вавилон», 1976, и др.). Нобелевская премия (1992). 239 Хайнесен Вильям (Виллиам) (1900 – 1991) – фарерский поэт и писатель, пишущий по-датски. Если всю Данию – в смысле ее литературной жизни — можно несколько условно назвать «европейской глубинкой», то Фарерские острова, расположенные между Великобританией и Исландией, принадлежащие Дании, но сохраняющие некоторую автономию, с их малочисленным населением, скудной почвой и суровым климатом,— глубинка датская. Хайнесен, однако, писатель отнюдь не провинциальный, наоборот, в современной датской литературе он фигура первого плана с заслуженной европейской известностью. Проза Хайнесена, занимающая в его творчестве, пожалуй, главное место, сопоставима во многих отношениях с романами его знаменитого северного соседа — исландца Халлдоса Лакснесса. Для обоих писателей местная экзотика служит фоном, на котором разворачивается действие эпических, широкомасштабных полотен с психологически точными и символически обобщенными центральными персонажами и во всех смыслах убедительно решенными фигурами второго ряда. Таковы романы Хайнесена «Черный котел» (1949), «Пропащие музыканты» (1950) —эти два романа были изданы в 1974 г. в русском переводе издательством «Прогресс» в серии «Мастера современной прозы»,—«Мать семи звезд» (1952). Главная тема романа «Добрая надежда» (1964)—взаимоотношения между Данией и Фарерами, рассмотренные в историческом и современном аспектах. В поэтическом творчестве, сопутствующем Хайнесену на протяжении всей жизни, писатель разрабатывает те же мотивы и темы, что и в прозе, но, пожалуй, с еще большим вниманием к злобе дня. Проблемы войны и мира, свободы и порабощения, культуры и псевдокультуры не оставляют Хайнесена равнодушным; его позиция — активный гуманизм и антимилитаризм, хотя порой и отягощенные сомнениями в способности человечества предотвратить самое худшее: Ничего, ничего не останется, может быть, ничего в этом мире вскипающей злобы звериной и набравшего скорость военно-технического прогресса. (Перевод Е. Витковского) «Мухи» Рассказ в переводе О. Маркеловой из книги новелл «Изгнание злых духов» (Kur mod onde ånder, 1967) Хейденстам фон Карл Густав Вернер (1859 – 1940) – шведский писатель, лауреат Нобелевской премии за 1916 год. Исследователи причисляют его, наряду с Э. Карлфельдом, С. Лагерлёф, Г. Фрёдингом и О. Левертином, к направлению шведского неоромантизма. Это поколение называло себя «писателями 1890-х» (nittiotalister) и противопоставляло реалистической и социально направленной традиции 1880-х (åttitalister – Г. Гейерстам, Т. Хедберг, В. Бенедиктсон и другие). Хейденстама, как автора литературного манифеста этого движения — трактата «Ренессанс. Несколько слов о наступлении переломного этапа в литературе» («Renässans: några ord om en annalkande ny brytningstid inom litteraturen», 1889), можно назвать его лидером. В этом трактате Хейденстам объявлял конец эпохи мрачного «реализма башмачников» (skomakerrealism), право писателя на художественный вымысел, самоценность красоты в искусстве, индивидуализм, асоциальность. И сам он, пожалуй, наиболее последовательно реализовывал эти установки. В первом поэтическом сборнике «Паломничество и годы странствий» («Vallfart och vandringsår», 1888) он обратился к характерной для романтиков теме Востока. В первом романе «Ханс Алиенус» («Hans Alienus», 1892) рассказал о фантастическом путешествии молодого шведского дворянина в Царство мертвых, к ассирийскому царю Сарданапалу. Значительное место в творчестве Хейденстама занимает тема национальной истории. Это цикл рассказов «Каролины» о Северной войне и воинах Карла XII («Karolinerna», 1897-98), рассказ «Святой Георгий и дракон» («Sankt Göran och draken», 1900), повесть «Паломничество святой Бригитты» («Heliga Birgittas pilgrimsfärd», 1901) и роман «Дерево Фолькунгов» («Folkungaträdet», 1905-07). Последний посвящен истории гётландской династии Фолькунгов, представители которой в XII-XIV веках были королями и ярлами Швеции (а затем и Дании, и Норвегии). Роман состоит из двух не связанных общим сюжетом частей. Герой первой («Фольке Фильбютер», «Folke Filbyter», 1905) — легендарный основатель рода. Вторая часть («Наследие Бьельбу», «Bjälboarvet», 1907) посвящена его потомкам, сыновьям Ярла Биргера Вальдемару I Биргерссону и Магнусу Ладулосу (Магнусу Амбарный Замок). Первый изображен Хейденстамом как король-рыцарь, второй — как хитрый политик и интриган, который в конце концов свергает брата и становится королем вместо него. Планировалась и третья часть, «Нючёпингский пир», о кровавых событиях в Нючёпингском замке в декабре 1317 года, однако она так и не была написана. 240