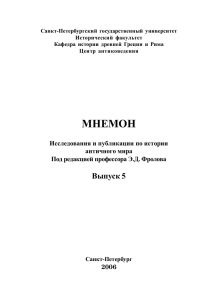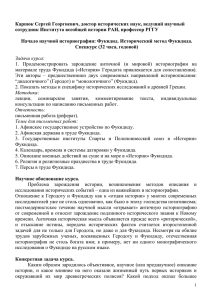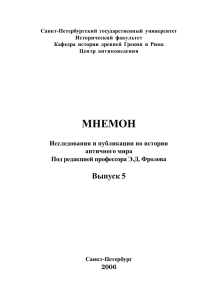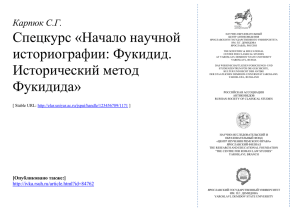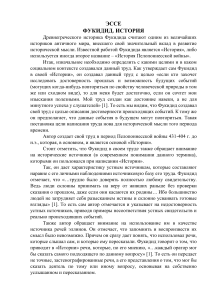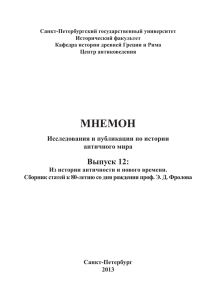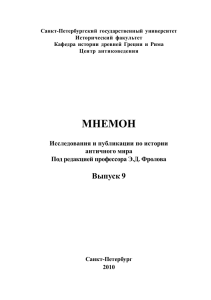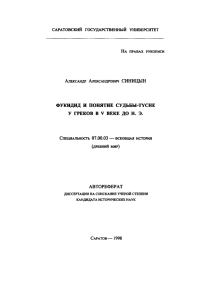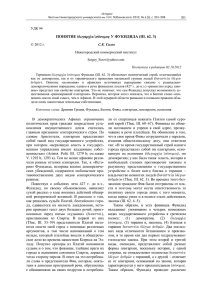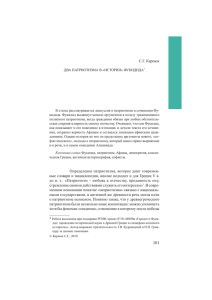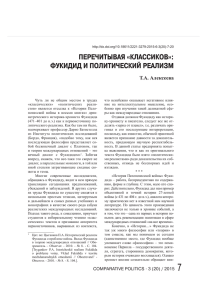М.С. АБАИМОВ ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД ФУКИДИДА И НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ ПЕРИКЛА
реклама
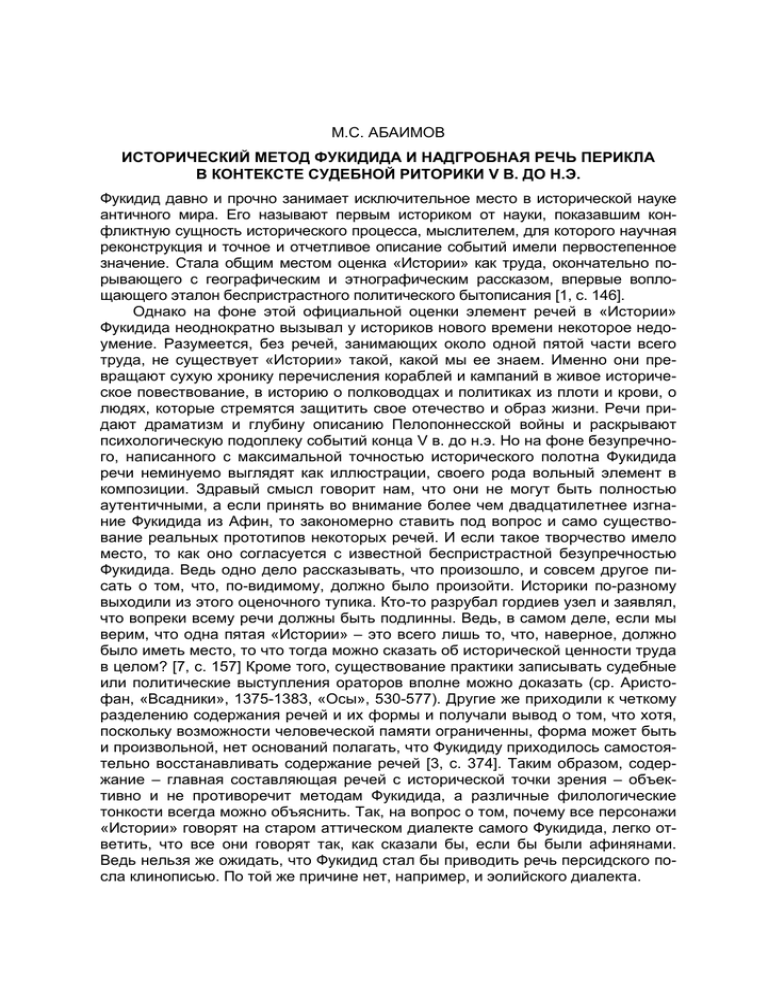
М.С. АБАИМОВ ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД ФУКИДИДА И НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ ПЕРИКЛА В КОНТЕКСТЕ СУДЕБНОЙ РИТОРИКИ V В. ДО Н.Э. Фукидид давно и прочно занимает исключительное место в исторической науке античного мира. Его называют первым историком от науки, показавшим конфликтную сущность исторического процесса, мыслителем, для которого научная реконструкция и точное и отчетливое описание событий имели первостепенное значение. Стала общим местом оценка «Истории» как труда, окончательно порывающего с географическим и этнографическим рассказом, впервые воплощающего эталон беспристрастного политического бытописания [1, с. 146]. Однако на фоне этой официальной оценки элемент речей в «Истории» Фукидида неоднократно вызывал у историков нового времени некоторое недоумение. Разумеется, без речей, занимающих около одной пятой части всего труда, не существует «Истории» такой, какой мы ее знаем. Именно они превращают сухую хронику перечисления кораблей и кампаний в живое историческое повествование, в историю о полководцах и политиках из плоти и крови, о людях, которые стремятся защитить свое отечество и образ жизни. Речи придают драматизм и глубину описанию Пелопоннесской войны и раскрывают психологическую подоплеку событий конца V в. до н.э. Но на фоне безупречного, написанного с максимальной точностью исторического полотна Фукидида речи неминуемо выглядят как иллюстрации, своего рода вольный элемент в композиции. Здравый смысл говорит нам, что они не могут быть полностью аутентичными, а если принять во внимание более чем двадцатилетнее изгнание Фукидида из Афин, то закономерно ставить под вопрос и само существование реальных прототипов некоторых речей. И если такое творчество имело место, то как оно согласуется с известной беспристрастной безупречностью Фукидида. Ведь одно дело рассказывать, что произошло, и совсем другое писать о том, что, по-видимому, должно было произойти. Историки по-разному выходили из этого оценочного тупика. Кто-то разрубал гордиев узел и заявлял, что вопреки всему речи должны быть подлинны. Ведь, в самом деле, если мы верим, что одна пятая «Истории» – это всего лишь то, что, наверное, должно было иметь место, то что тогда можно сказать об исторической ценности труда в целом? [7, с. 157] Кроме того, существование практики записывать судебные или политические выступления ораторов вполне можно доказать (ср. Аристофан, «Всадники», 1375-1383, «Осы», 530-577). Другие же приходили к четкому разделению содержания речей и их формы и получали вывод о том, что хотя, поскольку возможности человеческой памяти ограниченны, форма может быть и произвольной, нет оснований полагать, что Фукидиду приходилось самостоятельно восстанавливать содержание речей [3, с. 374]. Таким образом, содержание – главная составляющая речей с исторической точки зрения – объективно и не противоречит методам Фукидида, а различные филологические тонкости всегда можно объяснить. Так, на вопрос о том, почему все персонажи «Истории» говорят на старом аттическом диалекте самого Фукидида, легко ответить, что все они говорят так, как сказали бы, если бы были афинянами. Ведь нельзя же ожидать, что Фукидид стал бы приводить речь персидского посла клинописью. По той же причине нет, например, и эолийского диалекта. Программные заявления Фукидида в 22 главе первой книги в силу своей неоднозначности только еще больше запутывают картину. В этой главе Фукидид сам отвечает на вопрос историков и указывает на то, как надо воспринимать речи, включенные в текст. Но интерпретировать это указание не так просто. Не один десяток статей посвящен рассмотрению, в основном с точки зрения грамматики и синтаксиса, положений этой методологии [3, с. 364; 6, с. 216]. Однако скрупулезный лингвистический анализ фразы «ὡς δ᾽ἂν ἐδόκουν ἐμοὶ ... οὕτως εἴρηται» каждый раз приводит к новым результатам, и мнения исследователей зачастую остаются прямо противоположными. Но 22 главу, как, впрочем, и всю методологическую программу Фукидида, можно увидеть и в другом свете, если взглянуть на нее в перспективе культурно-политического контекста того времени. Изысканная риторика «Истории» не могла быть создана Фукидидом в изоляции. Влияние софистов, в первую очередь Горгия и Антифона, на Фукидида общепризнано. Если рассматривать «Историю» как одно риторическое целое, например, как философское сочинение, то начальная часть – методологические установки и «археология» – как раз и станут тем самым проэмием, который так часто используется древнегреческими философами и ораторами для того, чтобы направить читателя (или слушателя), помочь ему понять последующее изложение в необходимом автору ключе, поверить в приводимые аргументы. В этом месте можно провести ряд формальных параллелей между текстом Фукидида и тренировочными судебными речами софистов (τέχναι). Сходство начинается уже с того, что и Фукидид, и софисты сознательно отдают себе отчет в используемых методах достижения цели, о чем прямо и заявляют (ср. Антифон, «Хоревт», 31; Горгий, «Елена», 2). Далее, осознание трудности получения достоверных сведений об исторических событиях также является важным элементом подхода Фукидида. Разъясняя читателю, как много работы необходимо проделать, чтобы написать историю Пелопоннесской войны, автор автоматически повышает доверие к своему труду. Так и софист Антифон в начале одной из защитных речей упоминает о сложности выяснения всех деталей дела. (Ср. «πραγμάτων ... ὧν ἐγὼ χαλεπῶς μὲν τὴν ἀκρίβειαν ἔγνων», «Вторая тетралогия», 2.1, и «χαλεπὸν τὴν ἀκρίβειαν αὐτὴν ... διαμνημονεῦσαι», «История», 1.22.1). Следующим элементом убеждения у Фукидида является указание на изъяны других методологий. В 20 и 21 главах он утверждает, что люди без проверки верят слухам и преданиям, они не утруждают себя критикой и любят преувеличения и украшательства, свойственные поэтическому изложению событий и сочинениям логографов. Обычно в этом месте видят скрытую полемику с Геродотом, так как Фукидид указывает на ошибки, допущенные в его сочинении. Однако здесь, в предисловии к своему труду, Фукидид не использует конкретных имен, как он это сделал, например, в главе 97 первой книги, прямо назвав ошибки Гелланика. Здесь его критика имеет намеренно общий характер. Вместо того чтобы устраивать полемику с каким-либо одним соперником, он выгодно противопоставляет свой метод и свою «Историю» сразу всем. Так же и у Антифона, оратор, подчеркивая свои старания в деле поиска истины, указывает на недостаточную усидчивость своего оппонента («οὐκ ἄδηλον ὅτι αὐτοὶ ἔφευγον τῶν πραχθέντων τὴν σαφήνειαν πυθέσθαι», «Об отравлении», 13). В судебной риторике утверждение о том, что оратор говорит правду, а его оппонент, по меньшей мере, лукавит, было крайне важным элементом (ср. «Хоревт», 9; Горгий, «Паламед», 5). Фукидид прибегает и к другим методам убеждения судебного красноречия. Уделяя большое внимание сбору сведений и свидетельств, он утверждает, что ни одно свидетельство ввиду большого количества возможных ошибок и неточностей не может приниматься на веру и сразу использоваться. Любая информация нуждается в тщательнейшей проверке. Он также приводит необходимые примеры для иллюстрации своего положения (ср. «История», 20.1.3). Логографов и поэтов он критикует именно за то, что их работы содержат сведения, которые нельзя проверить (ἀνεξέλεγκτα), и, следовательно, они не могут иметь исторической ценности. Параллель этому мы находим в «Первой тетралогии» Антифона: «οἵ τε γὰρ ἐπιβουλεύοντες ἀνεξέλεγκτοι ἂν εἶεν, εἰ μήθ' ὑπὸ τῶν παραγενομένων μήθ' ὑπὸ τῶν εἰκότων ἐξελέγχονται» («Первая тетралогия», 1.10; ср. тж. «Первая тетралогия», 1.9, «Хоревт», 7). Что касается самого положения о сути и месте речей, то фразу «τὰ δέοντα μάλιστ' εἰπεῖν» можно трактовать как принцип софистической риторики, означающий сочинение речи, которая и по форме, и по содержанию соответствует задаче оратора. В различных вариациях это понятие можно найти в «Эпитафии» и «Елене» Горгия, упоминает об этом и Платон («Федр», 234e6). Сам язык, используемый Фукидидом при описании своего метода, является языком судебного монолога. Такие слова, как «τεκμήριον», «σημεῖον», «μαρτύριον» и им подобные, встречаются десять раз только в одном предисловии [4, с. 100-107]. Итак, при внимательном взгляде на язык Фукидида формальные соответствия с судебной риторикой очевидны. Но при схожей форме таковы ли цели Фукидида? Другими словами, имеются ли функциональные параллели между методологическим манифестом «Истории» и судебными речами софистов? Для ответа на этот вопрос достаточно взглянуть на упомянутую в начале этой статьи общепринятую точку зрения на личность Фукидида и его труд. Даже спустя два тысячелетия ему вполне удалось убедить читателей в своей правоте и объективности. Если же в свете этих соображений рассмотреть наиболее часто упоминаемую из всех речей – надгробную речь Перикла («История», 2.35 – 46), восхваляющую афинский образ жизни и афинскую демократию, – и поставить ее в исторический контекст самой книги, то она приобретает несколько новое звучание и занимает совершенно особое место в рамках исторической концепции Фукидида. Чем же была надгробная речь Перикла для действительного читателя «Истории» – грека, пережившего катастрофу и отчаяние 404 г. до н.э.? После сокрушительного разгрома Афин олигархия была единственно мыслимой формой государственной власти, а на демократию, институт, приведший как к началу Пелопоннесской войны, так и к поражению в ней, давший дорогу всем ужасам и зверствам афинян и сделавший неотвратимым справедливое возмездие за них, заслуженно смотрели со страхом и ненавистью. В такой ситуации не так важно, насколько точно переданы слова Перикла и подлинна ли речь вообще. Ведь, если верить Диодоту («История», 3.37.5), оратор, даже располагая убедительной речью и руководствуясь самыми лучшими намерениями, все равно должен доказывать свою правоту и благие цели аудитории, которая настроена скептически и с настороженностью относится к любой иной точке зрения. Сам Перикл говорит в речи, что люди не верят в то, что выше, лучше того, что они знают на личном опыте. А золотой век Афин, без сомнения, во всех отношениях выигрывает у того времени, когда Длинные стены были срыты, а морской державе дозволено иметь всего 20 кораблей. Только прибегнув к уловкам софистов, мог Фукидид заставить читателя конца V в. до н.э. поверить в реальность прошлого Афин и увидеть все достоинства демократического правления. Именно сочетание непререкаемой объективности, заявленной в самом начале «Истории», с ораторским талантом надгробной речи Перикла, патриотический пафос которой выглядит несколько избыточно на первом году войны, когда у афинян еще нет повода сомневаться в могуществе своей империи, позволяет признать былое величие государства. Так, в ситуации, когда полис почти сровняли с землей, а граждане остались живы только милостью лакедемонян, Фукидид, не доживший до восстановления прежнего статуса родного города и не надеющийся на это, сохраняет живую память об Афинах. В случае с надгробной речью Перикла его задача – пронести через поколения образ Афин, которые он знал, вопреки тому, что у него есть все основания верить, что в сложившейся обстановке само воспоминание о городе вскоре исчезнет. Рассмотрение методологической программы Фукидида в культурном контексте судебной риторики V в. до н.э. позволяет получить новую концепцию его исторического метода, что, в свою очередь, приводит к пониманию надгробной речи Перикла как средства убедить читателя в высокой исторической значимости афинской демократической формы правления. Литература 1. Фролов Э.Д. Факел Прометея / Э.Д. Фролов. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2004. 244 с. 2. Bosworth A.B. The Historical Context of Thucydides' Funeral Oration / A.B. Bosworth // The Journal of Hellenic Studies. 2000. Vol. 120. P. 1-16. 3. Garrity T.F. Thucydides 1.22.1: Content and Form in the Speeches / T.F. Garrity // The American Journal of Philology. 1998. Vol. 119, No. 3. P. 361-384. 4. Hornblower S. A Commentary on Thucydides / S. Hornblower. Oxford: Clarendon Press, 1996. 520 P. 5. Maidment K.J. Minor Attic Orators vol. I / K.J. Maidment. Cambridge: MA, 1941. 338 P. 6. Marincola J.M. Thucydides 1. 22. 2 / J.M. Marincola // Classical Philology. 1989. Vol. 84, No. 3. P. 216-223. 7. Munn M. The Speeches in Thucydides / M. Munn // American Philological Association Annual Meeting. 2002. P. 154-161. 8. Plant I.M. The Influence of Forensic Oratory on Thucydides' Principles of Method / I.M. Plant // The Classical Quarterly. 1999. Vol. 49, No. 1. P. 62-73. 9. Thucydides. Historiae in two volumes / Thucydides. Oxford: Oxford University Press, 1942. 734 P. 10. Yunis H. How do the People Decide? Thucydides on Periclean Rhetoric and Civic Instruction / H. Yunis // The American Journal of Philology. 1991. Vol. 112, No. 2. P. 179-200. АБАИМОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ родился в 1984 г. Окончил Нижегородский государственный лингвистический университет. Аспирант кафедры культурологии, истории, русской литературы и древних языков. Область научных интересов – политическая история Древней Греции, теория и практика перевода древнегреческих и латинских авторов на новые языки. Автор 2 научных работ в области переводоведения и 3 работ в области истории Древней Греции.