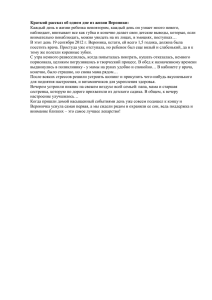ЛЕНИНГРАДЦЫ ГРИГОРЬЕВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА (род. в
реклама

ЛЕНИНГРАДЦЫ ГРИГОРЬЕВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА (род. в 1925 г., г. Ленинград) Мой папа 22 июня 1941 года был призван и до конца войны был в армии, мама сразу пошла работать, а мне пришлось сидеть с братом. Я очень хотела идти работать, но мама считала, что я еще мала для этого. Вскоре из Ленинграда стали увозить детей. Был приказ тогда детей до 10 лет увезти, а Шурке, моему брату, было 4 годика. Мама его спрятала и не отдала. Я выводила его ночью гулять, а днем он сидел под кроватью. Милиция знала об этом, сколько раз они грозили маме, что она будет отвечать, но мы так и не отдали его. Мама мне не велела, но я ходила с ним по очередям, а когда вышел этот приказ, то вынуждена была дома сидеть, да и днем спали и я, и он. В это время крупу уже не давали, а давали или чечевицу, или бобы. Бабаевские склады горели, и было плохо с продуктами. И однажды я пошла с Шуркой за какими-то продуктами. Вы понимаете, если детей вывезли, детей нет в городе, город делается мертвым. И когда я с Шуркой подошла к очереди, то женщины бросились к нему, потому что все отправили своих детей. Стали его целовать, смотреть, стали его от меня отводить, не специально, а просто брали и передавали друг другу. Я испугалась, схватила его, прижала к себе, и уж никакая очередь мне была не нужна. …Зима 1941 года была ужасной, морозы были 41–42 градуса. И каждое утро – мама перестала ходить на работу, она не могла ходить – я ходила в детский сад брать для брата обед. Это единственное, чем он поддерживался, потому что и я, и он получали по 125 грамм хлеба, а мама по рабочей карточке 250 грамм. У нас дома был перец, корица, и потом мама, как только началась война, помня уроки гражданской войны, которую она пережила, закупила сразу много соли. У нас были 2 железных банки соли, и мы кипятили воду, бросали туда перец, лавровый лист, и такой кипяток мы ели со 125 граммами хлеба. Помню, однажды Шурка стоит на кровати, и я с ужасом вижу, что это скелетик, обтянутый кожей. И каждое утро я отправлялась за обедом для него, и каждое утро по городу шли грузовики, наполненные доверху трупами умерших за ночь, замерзших. Однажды вижу – на тротуаре лежит женщина, на ней еще шевелится ребенок, почему-то он был еще живой, и они лежат, уже запорошенные утренним снежком. …Раза 2 или 3 нам давали на карточки вино и даже водку. Мама ходила менять это в воинскую часть на кожуру от картошки. А тут она вино взяла и понесла на рынок около завода «Светлана», но не дошла до него. Около поликлиники к ней подходит мужчина и говорит: «Вы не хотите купить у меня мясо или поменять?». Мама, конечно, отдала ему бутылку, он ей большой бидон дал. Она принесла его домой, а когда стала вынимать оттуда, говорит: «Это, по-моему, послед от роженицы». Вы поймите наши чувства: мясо перед тобой, которое мы даже не ожидали увидеть. Мы знали, что мы умрем, и спокойно относились к этому, подчинялись обстоятельствам. Она вынула все там слипшееся, но я, ничего не понимая, говорю: «Мам, ну ты проверни, может быть, котлетки сделаешь». Мы с ней вдвоем проворачивали, сил-то не было повернуть ручку мясорубки, тем более что здесь были пленки, и мы часа 2 проворачивали. В конце концов сделала она какие-то котлеты, без хлеба. Проходит минут 20, она мне говорит: «Посмотри», – а от каждой котлетки струится кровь, ручеек такой. Она говорит: «Это человеческое мясо». И вот, вы даже не представляете, в этот момент надо было решить, есть это или не есть, поджаривать или не поджаривать. Все-таки что-то человеческое в человеке сохраняется, хотя мы одну воду ели изо дня в день. И мы не стали есть, но мама не смогла это выбросить, она пошла к соседу, рассказала ему, а он говорит: «Если вы не будете есть, давайте мне». И он забрал, и они, видимо, съели. …Когда нас вывезли из Ленинграда после блокады, то высадили на платформу, эшелон ушел, мы сидим и не знаем, куда идти, потому что нас просто высадили. А у меня была дизентерия, подозревали тиф. И вдруг идет женщина – до сих пор я благословляю ее, и мама благословляла всегда – подходит и говорит: «Ну, вы чего?» – «Мы из Ленинграда, дочка больна». Она говорит: «Пошли ко мне». Привела в свою избу, отделила нам угол и говорит: «Клавдия, идите в баню, вам в баню надо». Она видела, что у нас вши, и не побрезговала. Сначала в баню мама с Шуркой пошла. Приходит и говорит: «Ляль, иди в баню, только будь там осторожна». Вот она мне так сказала, а я не поняла, в чем дело. Я прихожу, разделась, вхожу в мыльную, и вдруг все женщины отшатнулись, побежали в сторону, а я стою. Потом такая пожилая женщина подходит медленно, на меня смотрит и говорит: «Доченька, откуда же ты такая?». Их испугал мой вид – я как скелет вошла, и они ужаснулись. Я ничего не поняла, говорю: «Я из Ленинграда». – «Ой, мы слышали, там тяжело ведь». Они всего не знали, все это скрывалось. Я говорю: «Да, там очень много умирает людей». – «Ой, а как же вы?» – «Мы эвакуировались». Тут они все подошли и, боже мой, как они стали меня мыть, чуть не замыли насмерть. Они от доброты душевной меня и мыли, и терли, в общем, оттерли моих вшей, принесли квас в баню и поили меня, еще что-то давали. Мне там даже нехорошо сделалось. То ли банщица, то ли еще кто-то кричит: «Да вы девчонку совсем доведете, что вы делаете с ней». В общем, кое-как я отошла, они меня одели, обули. Я пришла и говорю: «Мама, я там чуть не умерла». Она говорит: «То же самое и с нами было. Когда они увидели Шурку, схватили его от меня, а я испугалась, что вообще унесут мальчишку». После блокады мы с мамой полностью облысели, у нас 2 года не было волос, и мама особенно за меня переживала… Записала Анна Слободская,