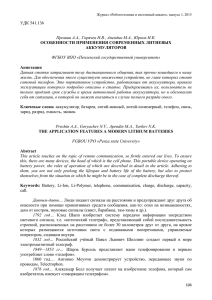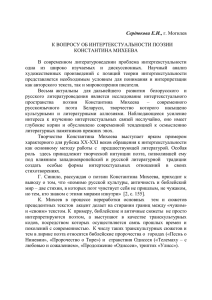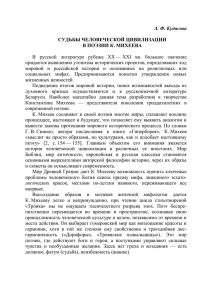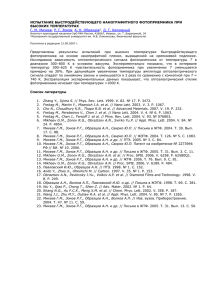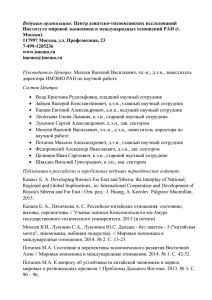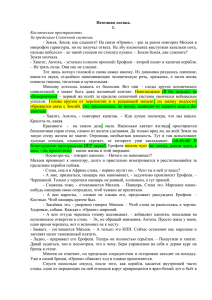Кудасова А. Ф. Образ россии в поэзии Константина Михееваx
реклама
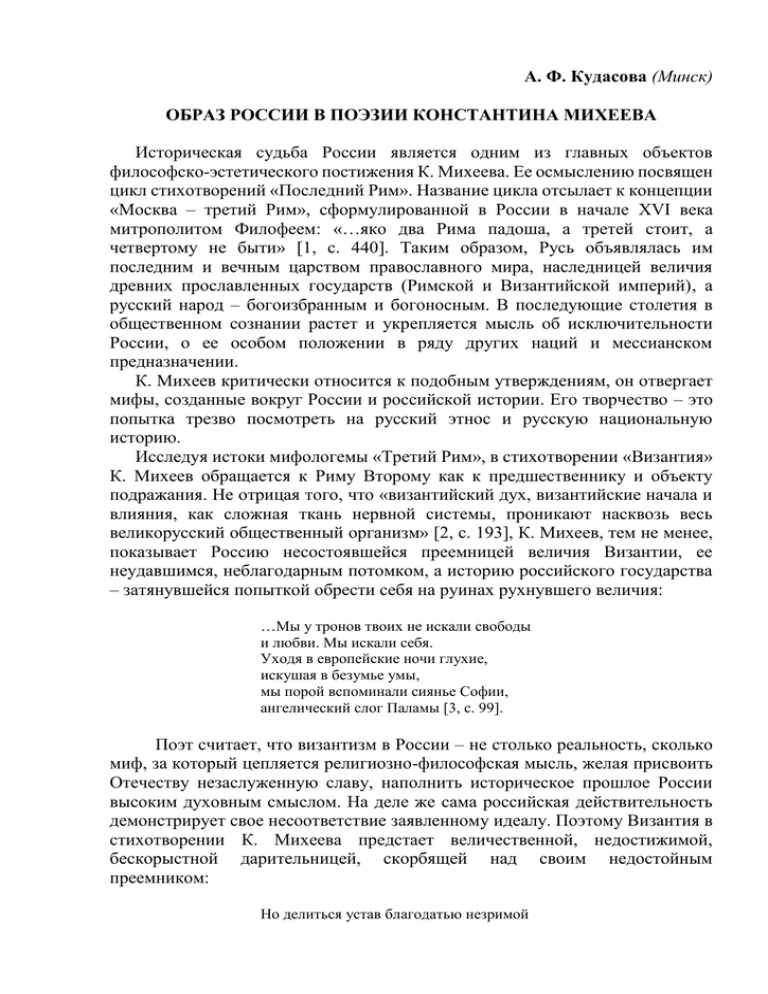
А. Ф. Кудасова (Минск) ОБРАЗ РОССИИ В ПОЭЗИИ КОНСТАНТИНА МИХЕЕВА Историческая судьба России является одним из главных объектов философско-эстетического постижения К. Михеева. Ее осмыслению посвящен цикл стихотворений «Последний Рим». Название цикла отсылает к концепции «Москва – третий Рим», сформулированной в России в начале XVI века митрополитом Филофеем: «…яко два Рима падоша, а третей стоит, а четвертому не быти» [1, с. 440]. Таким образом, Русь объявлялась им последним и вечным царством православного мира, наследницей величия древних прославленных государств (Римской и Византийской империй), а русский народ – богоизбранным и богоносным. В последующие столетия в общественном сознании растет и укрепляется мысль об исключительности России, о ее особом положении в ряду других наций и мессианском предназначении. К. Михеев критически относится к подобным утверждениям, он отвергает мифы, созданные вокруг России и российской истории. Его творчество – это попытка трезво посмотреть на русский этнос и русскую национальную историю. Исследуя истоки мифологемы «Третий Рим», в стихотворении «Византия» К. Михеев обращается к Риму Второму как к предшественнику и объекту подражания. Не отрицая того, что «византийский дух, византийские начала и влияния, как сложная ткань нервной системы, проникают насквозь весь великорусский общественный организм» [2, с. 193], К. Михеев, тем не менее, показывает Россию несостоявшейся преемницей величия Византии, ее неудавшимся, неблагодарным потомком, а историю российского государства – затянувшейся попыткой обрести себя на руинах рухнувшего величия: …Мы у тронов твоих не искали свободы и любви. Мы искали себя. Уходя в европейские ночи глухие, искушая в безумье умы, мы порой вспоминали сиянье Софии, ангелический слог Паламы [3, с. 99]. Поэт считает, что византизм в России – не столько реальность, сколько миф, за который цепляется религиозно-философская мысль, желая присвоить Отечеству незаслуженную славу, наполнить историческое прошлое России высоким духовным смыслом. На деле же сама российская действительность демонстрирует свое несоответствие заявленному идеалу. Поэтому Византия в стихотворении К. Михеева предстает величественной, недостижимой, бескорыстной дарительницей, скорбящей над своим недостойным преемником: Но делиться устав благодатью незримой и ярмом вековечных обид, на развалинах памяти Третьего Рима Рим Второй неутешно скорбит [3:100]. Поседевшая матерь-Россия влево-вправо вагоны бросает. «Мама, мама, мне больно, мама!» [3, с. 112] Так, используя аллегорию жизни как поезда, в стихотворении «Скорый поезд» К. Михеев передает ощущение беззащитности и страха перед слепой властью «машиниста», неуютности и необустроенности железной махины с разболтанными вагонами, мчащейся неизвестно куда: Дым гуляет в охрипших вагонах, дым гуляет на серых равнинах, а в глазах – изумрудные пятна. Больно, страшно и неуютно[3, с. 112]. В этом контексте Россия – не страна-мессия, несущая миру спасение и озаряющая все вокруг идеалом Богочеловечества, не гоголевская Русь-тройка, перед которой в изумлении расступаются другие народы, а страна, так и не определившаяся в своем историческом выборе, доныне не имеющая неутопической национальной идеи, сама не знающая, куда движется. Отнюдь не «сладок» и не «приятен» поэту «дым отечества», принесенный многовековыми раздорами и лихолетьями. Но лирический герой не столько обвиняет страну во всех бедах, сколько болеет душой за нее и жалеет о невозможности переиначить существующее. В стихотворении «Богородица ходила по России» автор через намек на памятник древнерусской литературы представляет Россию воплощенным страданием. Как по мукам, ходит Богоматерь по разоренной (и материально, и духовно) русской земле, «в черном нимбе меткого прицела» [3, с. 113], роняя слезы от увиденного, скорбя душой, и бродить здесь она может бесконечно, пока «пулеметной лентою дороги опоясан край наш православный» [3, с. 113]. Обращаясь к древнерусскому тексту, автор гиперболически делает родную землю средоточием всех бед, так как, чтобы увидеть муки человеческие, Богоматерь спускается не в ад, а в Россию. В «Последнем Риме» история Российского государства часто представляется как жестокое повторение одного и того же, что роднит этот цикл стихотворений с циклами «Паралипоменон» и «Solvet Seclum», где ощущение кровожадности исторического процесса и обезбоженности мира также передаётся через акцент неизменяемости жизни, «вечного возвращения». Быть может, время – только повторенье, И ничего переменить нельзя [3, с. 102], – задумывается поэт, ведь Россия уже много столетий бродит одними и теми же тропами раздора, «то ли целковыми, то ли оковами в неразберихе звеня» [3, с. 123]. И этому блужданию автор не видит конца; по его мнению, исторический путь России замкнулся в своей греховности. Кочевание по кругу сопровождается усилиями России присвоить некое высшее благо, «достать до вершин» [3, с. 124], стать последним Римом или Новым Иерусалимом. Но осуществима ли эта мечта, – задается вопросом К. Михеев, – пока на спине опоенного брата брат топором выводит постылый псалом? [3, с. 122] Благо не может утверждаться насилием, а святые цели – враждой и убийством; это только множит зло, создает предпосылки для бесчисленных трагедий. Следование по братоубийственному, «каинскому» пути антигуманно и саморазрушительно, – считает поэт, – оно обескровливает страну, ведет в исторический тупик: В слепом братоубийственном раздоре наперекор предсказанной судьбе, нацелясь в змия, конный наш Егорий себя копьем пронзает на гербе [3, с. 102]. Культивируемый же миф о национальном превосходстве России мешает увидеть правду, увлеченность утопиями побуждает пренебрегать реальностью. «Правит» Россией коллективное бессознательное, отчего она пребывает то в религиозном, то в идеологическом трансе, не отдавая отчета, что творит на самом деле. Для К. Михеева несомненно, что путь исторического насилия губителен, иллюзии же не спасут. Выступая с позиций исторического скептицизма, поэт не ждет близких перемен, безболезненного разрешения проблем. Его гнетет бесплодность и бесполезность любых государственных начинаний. Все они идут «сверху», а социум – пассивен; он словно ничего не хочет – так устала и выдохлась к концу XX в. от самоистязания Россия. К. Михеев стремится помочь ей снять пелену с глаз, воскресить ценности, благодатные для жизни: Да, можно поквитаться с этим веком, но вечности – не лги и не перечь. Промолвлю слово – и ответит эхом родная изувеченная речь. И горло изорвав бесплодным криком, с рожденья не умея выбирать, веду я, словно Игорь в Поле Диком, в Тьмутаракань ямбическую рать. [3, с. 102] Поэтическое слово, должно, по мысли автора, стать проводником высших идей, стимулировать волю к жизни и отстаиванию добра. Поэтому, вопреки «изувеченной речи», стихотворения данного цикла выражают чаяния национального духа, черпающего силы в накоплениях культуры, и отсылают на аллюзивно-реминисцентном уровне к русской классике (Пушкин, Тютчев, Серебряный век) и текстам древнерусской литературы. Преобладание исконно русских слов и широкое употребление архаизмов и устаревших грамматических форм (очи, стезя, помочь, длань, Чермное море) помогает К. Михееву создать образ России без нароста идеализирующих мифов – в ее самобытной неповторимости и творческой силе – залоге грядущего преображения, на которое все-таки надеется поэт. _______________________________ 1. Памятники литературы Древней Руси. Конец XV – первая половина XVI века. – М.,1984. 2. Россия глазами русского: Чаадаев, Леонтьев, Соловьев. – СПб., 1991. 3. Михеев К. Н. Стихи Мнемозине: Избр. Стихотворения / К. Михеев. – М., 2002.