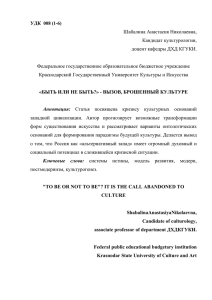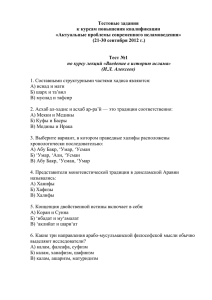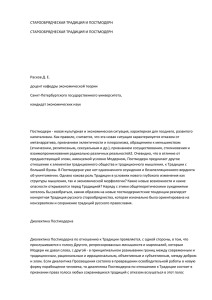В начале XIX века Гегель в своей Эстетике заговорил о конце
реклама
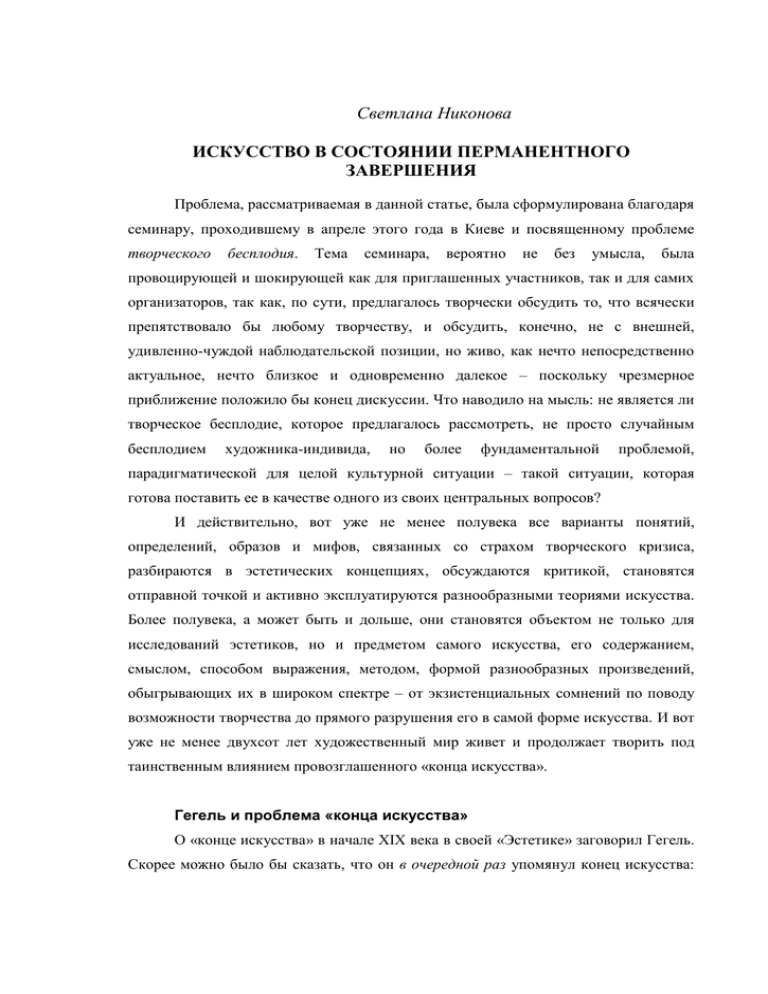
Светлана Никонова ИСКУССТВО В СОСТОЯНИИ ПЕРМАНЕНТНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ Проблема, рассматриваемая в данной статье, была сформулирована благодаря семинару, проходившему в апреле этого года в Киеве и посвященному проблеме творческого бесплодия. Тема семинара, вероятно не без умысла, была провоцирующей и шокирующей как для приглашенных участников, так и для самих организаторов, так как, по сути, предлагалось творчески обсудить то, что всячески препятствовало бы любому творчеству, и обсудить, конечно, не с внешней, удивленно-чуждой наблюдательской позиции, но живо, как нечто непосредственно актуальное, нечто близкое и одновременно далекое – поскольку чрезмерное приближение положило бы конец дискуссии. Что наводило на мысль: не является ли творческое бесплодие, которое предлагалось рассмотреть, не просто случайным бесплодием художника-индивида, но более фундаментальной проблемой, парадигматической для целой культурной ситуации – такой ситуации, которая готова поставить ее в качестве одного из своих центральных вопросов? И действительно, вот уже не менее полувека все варианты понятий, определений, образов и мифов, связанных со страхом творческого кризиса, разбираются в эстетических концепциях, обсуждаются критикой, становятся отправной точкой и активно эксплуатируются разнообразными теориями искусства. Более полувека, а может быть и дольше, они становятся объектом не только для исследований эстетиков, но и предметом самого искусства, его содержанием, смыслом, способом выражения, методом, формой разнообразных произведений, обыгрывающих их в широком спектре – от экзистенциальных сомнений по поводу возможности творчества до прямого разрушения его в самой форме искусства. И вот уже не менее двухсот лет художественный мир живет и продолжает творить под таинственным влиянием провозглашенного «конца искусства». Гегель и проблема «конца искусства» О «конце искусства» в начале XIX века в своей «Эстетике» заговорил Гегель. Скорее можно было бы сказать, что он в очередной раз упомянул конец искусства: по меткой мысли А.Данто «нарративы конца искусства» – регулярно повторяющийся мыслительный ход, имеющий отношение более к концептуальной сфере, чем к сфере самого искусства[4]. Действительно, всякий раз мы наблюдаем лишь какой-то условный конец – конец эпохи, стиля, способа видеть и мыслить, и можем сказать, что этот ушедший способ никогда уже не вернется – однако искусство, сам творческий порыв, продолжает жить и порождать все новые восхитительные и оригинальные формы. Так некоторая рефлексия, осмысление помысленного и прожитого, сама является источником для нового действия и новой мысли. Впрочем, и высказывание Гегеля: «Искусство со стороны его высших возможностей остается для нас чем-то отошедшим в прошлое»[11, 88], – не говорит напрямую о конце. Оно говорит о чем-то ином, о «прошедшем» характере – о некоей сути искусства скорее, чем об исторической вехе. И хотя это высказывание много раз подвергалось отчаянной критике со стороны приверженцев новых художественных форм, мы можем увидеть, что и сам Гегель не отрицал возможности дальнейшего этих форм развития. Он говорил о современном ему немецком искусстве как о становящемся и относил возможность высших его достижений в будущее. Конец искусства, согласно Гегелю, был лишь обозначением возможности развития философии искусства, эстетики, рефлексии об искусстве, в тот момент когда само искусство – не перестало существовать, нет! – но лишь перестало являться высшим, на что способен человеческий дух. Потому что тогда, когда оно было высшим, оно не осознавалось как искусство: оно вызывало божественный трепет, поклонение, идолопоклонство. Теперь лишь, когда дух продвинулся вперед, мы можем отстраниться от искусства так, чтобы отнестись к нему именно как к искусству, эстетически, осознать его как искусство[11, 87-90; 170-172]. Но наступившее осознание, движение вперед, по мысли Гегеля, не могло не вести все же к некоему распаду, некоему перманентному кризису, отныне встроенному в суть искусства, в котором содержание начинает превалировать над формой, а внутренний мир предельно сложного субъекта-художника не способен больше найти адекватное выражение в грубой материи. Здесь, возможно, кроется причина произведенного этим тезисом эффекта, его отчаянно отвергаемого и все же неустранимого влияния, повторения из раза в раз, и ставшей навязчивой для последующих двух столетий идеи о завершении, о конце: конце искусства, конце истории. Тезис не был лишь частью философской модели, он отражал внутреннее состояние самого искусства, как и, шире, внутреннее состояние мышления на данном этапе развития. Можно сказать, что мышление новоевропейского типа дошло в этот момент до того пункта своего «саморазвертывания», когда, при непрерывном движении, любой шаг вперед есть завершение, и любой проходимый пункт есть конечный. Бесконечно критическая мысль: непрерывное завершение без возможности завершиться. Три ступени «перманентного кризиса» От романтизма к модерну Как известно, конечную, разрушающую себя и выходящую за свои пределы форму искусства Гегель назвал романтической. И, как известно, беда ее в том, что Идея, самосознание, внутренняя сложность, развились в ней уже до такой степени, что простой материальной формы не хватает для их выражения. Материя груба, материя слишком абстрактна. Форма не способна адекватно передать содержание. «Мысль изреченная есть ложь» – постоянная, четко обозначенная в этой формуле Тютчева, жалоба романтиков. Таким образом, проблема романтизма – кризис выражения. Выражение многообразия и многогранности внутреннего содержания, поставленное во главу угла романтическим искусством, сталкиваясь с формализмом художественной техники, терпело крах. Можно заметить, что начиная с эпохи романтизма происходит постепенная концептуализация искусства. Причем интересно, что эта концептуализация продвигается параллельно со все большим ростом интереса к формальной составляющей, осознанием работы с формой как подлинной специфики искусства. Можно сказать даже, что именно концептуализация, погруженность в тщетные попытки выразить все большее содержание, формализует искусство, и в конечном счете, на исходе XIX – в начале XX веков порождает подлинно формалистическое искусство. Художник-романтик, художник-модернист активно работают с формой, пытаясь развить в ней способность выражения индивидуального. Стандартные технические приемы, которые в более давние, классические времена, использовались для обозначения тех или иных более-менее общих идей, больше не устраивают художников. Этот процесс «индивидуализации» можно начать уже с Шекспира, в знаменитом сонете настаивающего: «Ее глаза на звезды не похожи…» – и тем самым декларирующего превосходство выражения индивидуальной особенности над стандартным приемом – на самой заре Нового времени. Итак, стремление ко все более сложному выражению ведет к повышению внимания к форме, а вслед за тем – к разложению формы, к отказу от всех стандартов, к бунту против условностей, резкому и активному реформированию всех художественных традиций. В эпоху модерна, в начале XX века, происходит усложнение формальной составляющей до степени принципиальной «непопулярности», непонятности искусства, о которых так ярко говорил, и которые активно приветствовал Х.Ортега-и-Гассет в своей «Дегуманизации искусства». Причину непопулярности Ортега-и-Гассет видит в отказе от выражения «мелодраматического», «интересного» сюжета во имя предельного внимания к форме[16]. Но и сюжет есть также стандартная, формальная деталь, отвлекающая от предельной конкретики, оригинальности выражаемого содержания, которое уже не может быть сведено к более-менее четко описанной структуре, которое, по сути своей, становится все более невыразимо. И наконец, это усложнение формы доходит до полного ее исчезновения – в экспериментах дадаистов, превращающих в произведения искусства предметы окружающего мира, или в знаменитом «4.33» Дж.Кейджа, 4 минутах 33 секундах тишины, где формальная, техническая сторона буквально отсутствует, и произведение может быть сведено к чистой концепции – или же к чистому событию. Формализация вплоть до полного разрушения формы и концептуализация вплоть до полной невыразимости концепции – вот те черты, которыми можно было бы охарактеризовать первую ступень искусства в состоянии «перманентного кризиса». Постмодерн Кризис того свободного творчества, к какому всеми силами стремился модерн, четко определяется эпохой, получившей название постмодерна (середина – вторая половина ХХ века) – с каковым определением и связан, по видимому, переход к ней, изменивший принципы модерна. Как можно было бы охарактеризовать наметившийся переход в избранных терминах? Кризисное отношение к выражению в неутолимом стремлении к нему сменяется кризисным отношением к форме. Модерн, по сути, доводит «художественное» дело до конца. Разрушает все, что можно было разрушить. Постмодерн, как бы странно это ни звучало, глядя на его пестроту, часто китчевость, на размывание границ «высоких» и «низких» жанров, на его эклектику – постмодерн по природе апофатичен. Он не говорит о высшем – о бесконечно сложном, о том, невыразимость чего уже была ясно осознана модерном. Он не тщится выразить невыразимое. Его подход всегда отрицателен к возможности выражения. Содержание не является проблемой, поскольку это содержание всегда одно и то же: это то, что никогда не может стать содержанием, поскольку всегда отсутствует. Так Ж.Ф.Лиотар, один из главных теоретиков постмодерна, пишет: «Эстетика модерна есть эстетика возвышенного, но это печальная, тоскующая эстетика. Она позволяет прикоснуться к невоплотимому только как к отсутствующему, опущенному содержанию; но форма, в своей предсказуемости, продолжает утешать и радовать зрителя… Постмодерном будет то, …что занято поиском новых репрезентаций не с тем, чтобы ими насладиться, а чтобы яснее сообщить чувство невоплотимого»[13, 256]. Но на деле это приводит к более радикальному кризису формы, чем мог быть представлен до сих пор. Этот «поиск новых репрезентаций» при отсутствующем содержании работает как бы вхолостую. Собирание вокруг отсутствующего центра сообщает опасное ощущение полной произвольности, текучести и несерьезности происходящего. Выразить невыразимое – что было для модерна столь серьезной задачей – невозможно. Остается только играть с ничем и вокруг ничего. Итак, наше предположение: критическим моментом постмодернистского искусства становится форма. В прежние времена, времена господства, пользуясь выражением немецкого философа Б.Хюбнера, «искусства Истины»[6], когда наличие внятной и обширной Идеи, надежно обосновывавшей любое творчество и представление изначально, в качестве заведомой данности, позволяло художникам мирно заниматься, в свете ее, решением своей формалистической задачи – в те времена художники были не прочь повторять старые образцы, подражать друг другу, следовать канону скорее, чем стремиться к его преодолению. Но начиная с эпохи романтизма нарастает бум стремления к оригинальности. По мнению американского исследователя Л.Д.Мартина, сознательно художник всегда склонен к подражанию, а все нововведения происходят бессознательно, на уровне изменения языковой структуры[7]. Однако в новейшую эпоху мы сталкиваемся с кризисным осознанием и парадоксальным нарушением этой схемы: художник сознательно жаждет оригинальности, которую если и может получить в итоге – то лишь помимо своей воли, сам же всегда находит себя скованным языковой структурой, вынуждающей повторять, или, словами Р.Барта, в «тюрьме языка», где что бы ни было произнесено, даже самое интимное и самое индивидуальное – оно уже произнесено в форме готового штампа. Если модерн стремился к разрушению формы во имя все более точного, все более интимного выражения, то постмодерн вынужден отказаться от этого стремления. В старые классические времена наличие Истины, одной на всех, где-то позади, где-то в основаниях, позволяло художнику повторять образец и не чувствовать беспокойства. Теперь отсутствие Истины, ничего не обещающей где-то впереди, также равное для всех, вызывает отчаянное чувство запоздалости, неспособности сказать что-то новое, вынужденности повторять, чувство, что все уже сказано и все формы выражения уже испробованы. Это находит отражение в новых постмодернистских жанрах искусства – в коллаже, стилизации, активном использовании цитирования, в отчаянной, вседеконструирующей иронической игре со старыми формами. Это же проявляется и в теории, и в критике. Немаловажным становится анализ проблемы влияния в искусстве, где страх влияния рассматривается как основной творческий стимул, но преодоление его происходит лишь на уровне изменения риторической структуры текста. Так один из ведущих литературоведов-постструктуралистов, теоретик влияния Х.Блум, задаваясь вопросом: «как производится значение в литературе?» – отвечает на него: значение производится через отклонение в употреблении фигур речи[2]. Итак на выходе мы получаем не новый законченный смысл, но новую риторическую структуру, и борьба с влиянием терпит крах: литература, ее создание и ее прочтение, есть лишь вечный процесс борьбы, без надежды на успех[1]. Язык есть не надежный способ говорить, но лишь вечная попытка нечто сказать. «Текстов нет, – говорит Блум, критически дополняя знаменитый тезис Деррида, – есть лишь отношения между текстами»[2, 3]. При этом тема свободы творчества отнюдь не угасает, она даже сильнее звучит теперь, распространяясь далеко за пределы искусства. Критика, которую еще Р.Барт определял как вторичное письмо, на следующем этапе постструктуралистской рефлексии (Ж.Деррида, Йельская школа литературоведения, С.Фиш и т.д.) осознается как равноценный творческий акт. Другое дело, что это происходит за счет того, что и художник осознается, а также, судя по всему, и сам осознает себя не более чем интерпретатором предшественников, критиком. Творчество понимается как интерпретация, что, собственно, и позволяет в самой интерпретации увидеть творчество. Так еще один американский литературовед Дж.Хартман в книге, озаглавленной, с аллюзией на библейскую легенду, «Критика в Пустыне» говорит о том, что возможно лучше, чтобы «пустыня» критики сама оказалась «Землей Обетованной» литературы , чем наоборот[5, 10]. Точно так же и ученый, философ, политик могут быть поняты как свободные художники, научный, философский, политический текст – как литературный, а их деятельность может быть уподоблена искусству за счет признания за ней свойственной искусству фиктивности, иллюзорности ее созданий, отказа этой деятельности и этим текстам в возможности какого-либо приближения к истине. Или критического осознания невозможности для каких-либо текстов выйти за рамки языка, знаковой системы, порождающей иллюзии, всегда фиктивной, художественной. Неслучайно Лиотар, фактически, определяет постмодерн как рефлексию модерна. Причем в этой рефлексии оптимистически видит условие для возникновения нового творческого порыва, нового творчества как бы «с чистого листа», и называет постмодерн преддверием модерна[13, 256]. Аналогичный ход совершает и Блум, переходя от акцентирования трактовки творчества как интерпретации в своих ранних работах к акцентированию трактовки интерпретации как творчества. Он отвергает тезис Барта о «смерти Автора», воспевая его новую жизнь, новую значимость, новую ценность для искусства[3]. Новая наивная эпоха? И действительно, новое творчество не заставляет себя ждать. На исходе ХХ столетия мы сталкиваемся с тем, что можно обозначить как новую наивную эпоху. Простейший жест нового художника призван выражать простейшую идею, так, как если бы предшествующих веков искусства, предшествующей рефлексии никогда не существовало. Освобождение от традиции на сознательном уровне не так-то просто, поскольку она включена в память, однако, процесс изменения происходит скорее бессознательно: художник не заинтересован больше в предшествующем, но только в себе самом и самовыражении любыми средствами. Здесь мы имеем протест против ассоциирующейся с постмодерном (хотя он далеко не сводился к этому и сам дал толчок к последующему процессу) знаковости, текстуальности. Возникает стремление к возрождению чувственного, внетекстуального, сенсорного, к культуре «присутствия»[12], к эстетике события, к доверию – против былой критики, к забвению – против былой запоздалости, к созданию «новой мифологии». Если для классических времен искусства было характерно сознание выражения в нем некой внешней истины, а по мере движения в сторону модерна эта истина понималась как все более невыразимая, неуловимая, недостижимая, нефиксируемая ни в какой форме, так что главной целью искусства оказалось разрушение любых форм, сметение любых традиций – для того лишь, чтобы представить воочию эту невыразимость, затронуть нечто в спокойном и умиротворенном сознании зрителя, заставить его очнуться, в конечном счете, просто взбудоражиться и развлечься – мы получаем приблизительную схему развития в сторону современного состояния искусства. Тщетные попытки выражения истины, в конце концов, обращаются в простое желание самовыражения. В современном искусстве ясно выделяются два назначения: назначение развлечения, направленное на зрителя, и самовыражения, исходящее от художника. По этой грани, до определенного момента, должно быть, разделялись, искусство массовое и искусство элитарное – однако эта грань все более стирается. Попытки выражения и связанные с ними разрушение, эпатаж, скандал, некогда вызывавшие возвышенный трепет, ужас, шок, сами все больше используется как простое развлечение, а направленность на развлечение все более понимается как средство самовыражения, так что о шоуменах заходит речь как о художниках, а об их деятельности – как о творчестве. Не случайно, говоря о современном искусстве, Ж.Бодрийяр называет его «ничтожным», поясняя, что хотя для него это слово могло бы иметь более сакральный смысл, однако на деле вместо искусства мы имеем «автоматически функционирующую рефракцию банальности»[9, 165]. То, что некогда понималось как раскрытие истины, как сокрытие ее, и даже как сокрытие/раскрытие отсутствия истины, более вообще не функционирует в этой сфере, создавая многократно повторяющий себя знак без означаемого, образ без оригинала[8]. Это резко снижает будоражащий, беспокоящий, выводящий за пределы или даже просто развлекающий элемент искусства. По выражению Б.Хюбнера, «сегодня скандалы больше не шокируют, мы к ним привыкли. И, возможно, это и есть главный скандал: искусство, чья легитимация отчасти заключалась в его способности к провокации, оставляет нас в покое и мире»[6, 170]. Когда все границы оказались сметены, а «невыразимое» так и не оказалось ни открыто, ни скрыто (поскольку его больше не за чем скрывать), искусству стало позволенным делать практически все, что каким-то образом еще запрещено вне сферы искусства, вызывая лишь легкое недоумение, иногда этическое раздражение, иногда небольшое развлечение – и постепенно распространяя эту более-менее равнодушную сферу вседозволенности на все прочие, внехудожественные проявления жизни (политика как искусство, экономика как искусство, искусство рекламы, искусство новостного репортажа, террор как искусство, наконец). Любопытно, как прорывающий границы, эпатирующий элемент исчезает в сознании многих художников, по форме своего искусства все еще нацеленных на эпатаж. Этическое раздражение или любые политические репрессии, вызываемые особо резкими художественными акциями вызывают крайнее недоумение художников, желающих после совершения акции остаться спокойными, комфортно обустроенными членами общества и продолжать пользоваться всеми его благами. Возникающий в данном случае модернистский вопрос: «Как же можно препятствовать свободе искусства, свободе личности, свободе самовыражения?» в условиях такого падения революционного пыла низводится действительно до крайней ничтожного состояния. Здесь мы видим новую грань кризиса творчества, в отличие от его прежних видов, когда художник-романтик или художник-модернист жаловались на недостаточность материи для выражения своего содержания (истины) и бросали тщетные попытки эту истину выразить, или когда художник-постмодернист отчаянно играл с прежними формами, издеваясь над ними и разрушая их в полном сознании смехотворности попыток произвести нечто новое поверх гигантских пластов истории искусства. Новая форма «творческого бесплодия» плодит мириады произведений, бесконечно похожих друг на друга и не вызывающих никакого чувства в зрителе, по крайней мере такого, которое продлилось бы дольше нескольких секунд. «Пятнадцать секунд славы» – вот то, что может быть уготовано практически каждому современному человеку в условиях нынешней «тирании момента» – так говорит Т.Х.Эриксен[17, 139], видоизменяя формулу Энди Уорхолла о пятнадцати минутах славы. Можно сказать, что это измельчение, изничтожение масштаба связано не только с нарастанием требования скорости, о котором говорит Эриксен, но и с падением интенсивности переживания, значимости отдельного творения или действия. Этот процесс происходит параллельно с формированием довольно удивительного в контексте радикального критицизма предшествующих времен явления, которое можно назвать «доверием несмотря ни на что»[15]. Если, к примеру, Дж.Ваттимо, описывая новейшее состояние, приветствует нарастание фиктивности и видит возможности нового прорыва в устранении всех удерживающихся еще (в основном экономических) отсылок к «реальности», и в создании, таким образом, новой мифологии, т.е. радостного и свободного погружения тотальную виртуальность, иллюзорность[10], то, с другой стороны, скорее, эта «новая мифология», как и всякая мифология, едва ли может удержать себя в таком предельно критическом, ницшеанском сознании собственной иллюзорности. В современном мире мы можем часто наблюдать удивительное явление, когда рациональное сознание фиктивности, условности любых ценностей и убеждений спокойно соседствует с беспрекословной, почти магической уверенностью в их же абсолютности. На эмоциональном уровне убежденность значительно превышает рациональные критические сомнения, оставляющие равнодушными. Человек способен верить теперь не потому, что он свято верит, а потому что «нужно же во что-то верить». Таким образом, эта «новая мифология» обходится без какой-либо опоры, и представляет собой, чистейшую симуляцию, однако в то же самое время противостоит и чувству фиктивности, вымышленности: вполне удовлетворяется симулякром. В этом контексте искусство как сфера вымысла, специальная сфера создания фикций, собственно говоря, имеет все шансы прекратить существовать, сохранив себя только для производства развлечений. Если постмодерн в своем критическом порыве пришел к утверждению, что нет ничего реального, но все – лишь создание фикций (и все, таким образом, – искусство), то теперь на той же основе всеобщей фиктивности мы можем прийти к ощущению, что ничто не фиктивно, и потому искусства нет вообще, но все заслуживает полного и безоговорочного доверия. Если искусство желает сохранить за собой какую-то серьезную возможность существования, возможно, согласно предположению О.Маркварда, ему следует стать радикальной анти-фикцией [14] – а в этом смысле, поскольку фиктивность, став тотальной, редуцируется, оставляя за собой «реальный» остаток, также и анти«реальностью». Заключение Непосредственно на исходе, а можно сказать, и на пике рационалистического энтузиазма, порожденного эпохой Просвещения, Гегель предполагал после «конца истории», который вот-вот должен был наступить (когда человеческий разум достигнет полного и абсолютного самопознания), некое мерное, вечное, никуда уже более не развивающееся, но в своем роде совершенное бытие, феноменологическое созерцание сознанием самого себя – бытие, подобное описанному так еще античностью бытию Бога. Во второй половине ХХ века пессимистичный Э.Чоран в работе с говорящим названием «После конца истории», описывая наступающее состояние, видел его в бесконечном, однообразном, все более скучающем и затухающем перебирании старых форм, вплоть до полного замирания. «После конца истории» – когда ничего уже не осталось для действия, и вся энергия жизни исчерпана. Однако глядя вокруг мы можем заметить, что ситуация вновь изменяется. И тогда, если подмеченные изменения действительно имеют место – о чем они свидетельствуют? О некоем новом витке этого бесконечного завершения или о переходе к радикально новым формам культуры? Истоки и корни глубоко скрыты от глаз человеческих. Пока перспективы столь туманны, есть смысл говорить скорее о конце. Прогрессистская модель истории, столь оптимистичная на первый взгляд, опасна тем, что едва будучи помысленной, приводит себя в состояние завершения: мало кто готов, располагая события линейно, думать о себе как о начале процесса, а не как о его конечной цели, или хотя бы ее непосредственном преддверии. Однако, поскольку творческий порыв, вероятно, неустраним, само завершение может быть бесконечно разнообразным. И если ситуация еще способна развиваться, хотя бы даже, как нам может казаться, к худшему – это не может не вселять некоторой надежды. Литература 1. Bloom H. The Anxiety of Influence. A Theory of Poetry. N.Y. 1973. 2. Bloom H. A Map of Misreading. N.Y.: Oxford Univ. Press, 1975. 3. Bloom H. The Life of the Author // Black American Prose Writers before the Harlem Renaissance. Bloom H., ed. N.Y., 1994. 4. Danto A. Narratives of the End of Art // Danto A. Encounters & Reflections: Art in the Historical Present. Univ. of California Press, 1997. 5. Hartman G. Criticism in the Wilderness. Yale Univ. Press, 1980. 6. Hübner B. WAHRHEITS-Kunst und/oder Faszinations-Ästhetik // Menschen, lasst endlich die GÖTTER in Ruhe. Wien, 2004. 7. Martin L.D. Literary Invention: The Illusion of the Individual Talent // Critical Inquiry, V. 6, № 4. 1980. 8. Бодрийяр Ж. Симуляция и симулякры // Современная литературная теория. Антология. М., 2004. 9. Бодрийяр Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту Екатеринбург, 2006. 10. Ваттимо Дж. Прозрачное общество. М., 2003. 11. Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике. Т.I. СПб, 1999. 12. Гумбрехт Х.У. Производство присутствия: Чего не может передать значение. М., 2006. 13. Лиотар Ж.Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? //Современная литературная теория. Антология / сост., перев. И.В.Кабановой. М., 2004. 14. Марквард О. Искусство как антификция – опыт о превращении реального в фиктивное // Немецкое философское литературоведение наших дней. Антология. СПб., 2001. 15. Марквард О. Эпоха чуждости миру? // http://www.strana-oz.ru/?numid=15&article=711 16. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991. 17. Эриксен Т.Х. Тирания момента. Время в эпоху информации. М., 2003.