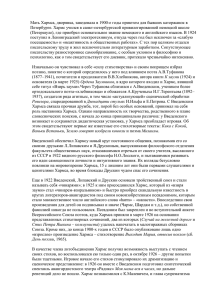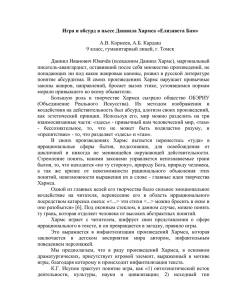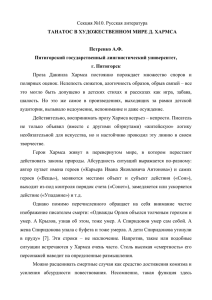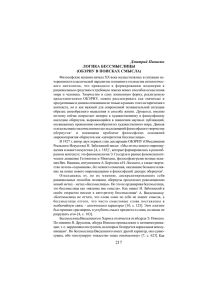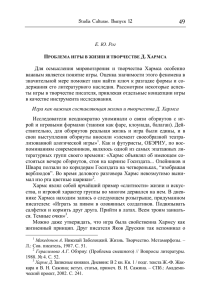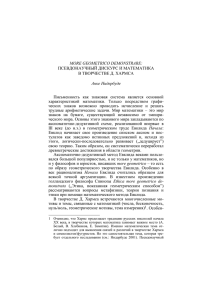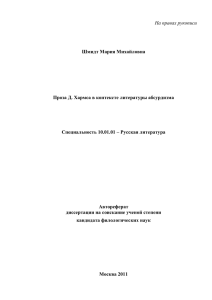Иной жизни» С. Довлатоваx
реклама
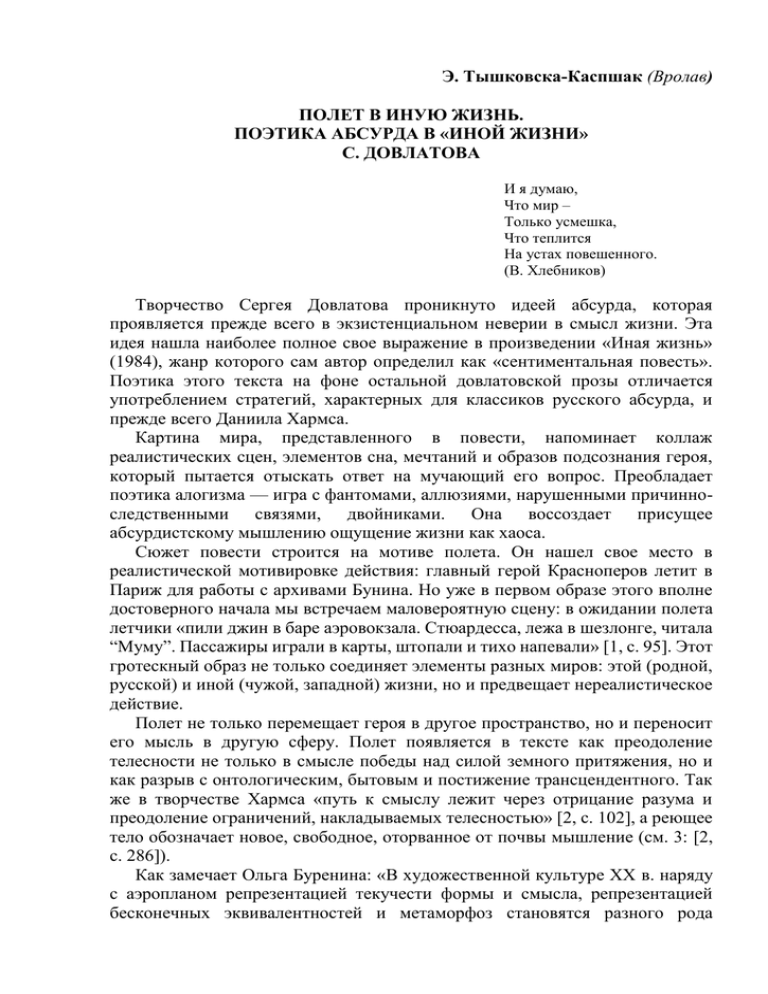
Э. Тышковска-Каспшак (Вролав) ПОЛЕТ В ИНУЮ ЖИЗНЬ. ПОЭТИКА АБСУРДА В «ИНОЙ ЖИЗНИ» С. ДОВЛАТОВА И я думаю, Что мир – Только усмешка, Что теплится На устах повешенного. (В. Хлебников) Творчество Сергея Довлатова проникнуто идеей абсурда, которая проявляется прежде всего в экзистенциальном неверии в смысл жизни. Эта идея нашла наиболее полное свое выражение в произведении «Иная жизнь» (1984), жанр которого сам автор определил как «сентиментальная повесть». Поэтика этого текста на фоне остальной довлатовской прозы отличается употреблением стратегий, характерных для классиков русского абсурда, и прежде всего Даниила Хармса. Картина мира, представленного в повести, напоминает коллаж реалистических сцен, элементов сна, мечтаний и образов подсознания героя, который пытается отыскать ответ на мучающий его вопрос. Преобладает поэтика алогизма — игра с фантомами, аллюзиями, нарушенными причинноследственными связями, двойниками. Она воссоздает присущее абсурдистскому мышлению ощущение жизни как хаоса. Сюжет повести строится на мотиве полета. Он нашел свое место в реалистической мотивировке действия: главный герой Красноперов летит в Париж для работы с архивами Бунина. Но уже в первом образе этого вполне достоверного начала мы встречаем маловероятную сцену: в ожидании полета летчики «пили джин в баре аэровокзала. Стюардесса, лежа в шезлонге, читала “Муму”. Пассажиры играли в карты, штопали и тихо напевали» [1, с. 95]. Этот гротескный образ не только соединяет элементы разных миров: этой (родной, русской) и иной (чужой, западной) жизни, но и предвещает нереалистическое действие. Полет не только перемещает героя в другое пространство, но и переносит его мысль в другую сферу. Полет появляется в тексте как преодоление телесности не только в смысле победы над силой земного притяжения, но и как разрыв с онтологическим, бытовым и постижение трансцендентного. Так же в творчестве Хармса «путь к смыслу лежит через отрицание разума и преодоление ограничений, накладываемых телесностью» [2, с. 102], а реющее тело обозначает новое, свободное, оторванное от почвы мышление (см. 3: [2, с. 286]). Как замечает Ольга Буренина: «В художественной культуре XX в. наряду с аэропланом репрезентацией текучести формы и смысла, репрезентацией бесконечных эквивалентностей и метаморфоз становятся разного рода реющие предметы или явления» [4, с. 289]. Реющее начало «открывает возможности перехода от кодифицированного пространства к некодифицированному, от земного к небесному, от мира неорганического к миру органическому, от неживого к живому» [4, с. 290]. Довлатовский герой, измученный жизнью, полный горечи, не понимающий окружающего его мира, ищет обоснования смысла жизни как в плане индивидуальном, так и в перспективе существования сверхличного. Самым сильным импульсом к размышлениям о сути жизни является близость смерти, которая заостряет сознание бренности. Герой Довлатова является свидетелем серии смертей: девушка с цветами бросается с моста в реку, прилично одетый мужчина, докурив сигарету, «умело» вешается на ветке клена, а юноша спортивного телосложения падает с балкона, так и не успев дочитать книгу. Все эти истории происходят в рамках одной единственной главы: «Что бы это значило?» Серийность смертей напоминает второй из «Случаев» Хармса: «Однажды Орлов объелся толченым горохом и умер. А Крылов, узнав об этом, тоже умер. А Спиридонов умер сам собой. А жена Спиридонова упала с буфета и тоже умерла. А дети Спиридонова утонули в пруду» (3: [2, 309]). Смерть как явление регулярное появляется также в третьем микрорассказе цикла — «Вываливающиеся старухи», а также в произведении «Я поднял пыль...», в котором «Старики и старухи падали с крыш» (3: [2, 112]). В текстах этих повторность и регулярность события падения и смерти не прекращается. Конец этого случая — это конец наблюдения за ним [5, c. 187]. Случаи, которые особенно интересуют Хармса, — это падение и смерть. Они не уникальные, но непредсказуемые. Разница между ними заключается в том, что падение необязятельно, а смерть неизбежна, она является «целью» жизни, но поскольку причины ее разные, она является случайной реализацией неизбежного [5, с. 98]. В произведении Довлатова, как и у Хармса, случаи (как события неординарные), кончающиеся смертью, становятся закономерными, как закономерна сама смерть. В микрорассказах Хармса смерть вызывает даже если не сочувствие, ужас, то хотя бы некую заинтересованность свидетелей: сбегается толпа, милиционер списывает протокол происшествий, и лишь после короткого времени все возвращается в свои русла. В тексте Довлатова случайные смерти изумляют только главного героя: «Красноперов хотел закричать, вызвать полицию» [1, с. 98]. Кроме него, никто не обращает внимания на факт ухода из жизни — настолько он натуральный, обыденный: «Машины тесным потоком катились вперед, огибая несчастного» [1, с. 98]; «Мимо ехал полицейский на велосипеде. Он резко затормозил. Потом зашнуровал ботинок и умчался» [1, с. 97]. Красноперова волнует проблема сущности жизни и мира. Он отчаянно ищет ответ на вопрос, которая жизнь настоящая, который мир вечный — реальный или существующий лишь в его воображении: «Как странно, — думал он, — чужая жизнь, а я здесь только гость! Уеду — все исчезнет. [...] А может быть, что-то останется? Все останется, а меня как раз не будет? Останется мостовая, припадет к иным незнакомым ботинкам. Стекла забудут мое отражение. И в голубом красивом небе бесследно растает дымок сигареты «Памир»... Иная жизнь, чужие люди, тайна...» [1, с. 96] Субъективное восприятие мира человеком, субъективное видение вещей интересовало также обэриутов, особенно Хармса. Он обращался к этой проблеме как к вопросу о ненадежности восприятия мира. В его «Оптическом обмане» герой видит мужика только через очки, а персонаж «Утра» видит с закрытыми глазами. Видение — невидение, сон и бодрствование чередуются [5, с. 161 — 175]. В произведении же Довлатова именно полет — свободный полет мысли — позволяет осознать относительность всех ощущений и недоступность единой истины. Хотя и поиски эти ведутся как будто наощупь, не целеустремленно, ибо на самом деле никто не знает правильного пути, а, может быть, его вообще нет: «В этот момент пилот обернулся и спросил: — Налево? Направо?» [1, с. 102] «— Куда ехать, мсье? — спросил шофер. — В Париж, — ответил Дебоширин. — А где это? — спросил шофер. — Налево? Направо?» [1, с. 103] На этом пути все ориентиры обманчивы, поскольку они воспринимаются субъективно: «— Вон Эйфелева башня, — закричал Красноперов, — я ее сразу узнал. Прекрасный ориентир! — Какая еще Эйфелева башня, — возразил шофер, — да ничего подобного. Это станина для американской баллистической ракеты» [1, с. 103]. Одним из способов (если не единственным) познания сущности жизни является познание себя самого. В ситуации полета заключено подлинное существование человека, полет освобождает скованное подсознание. Вырываются на волю подсознательные чувства Красноперова, который как «человек умеренный и тихий» — завидовал решительности, фантазии, отваге в отношениях с женщинами, которых сам боялся. Поэтому из его подсознания всплывают странные персонажи с не менее странными, но характерными для состояния его психики, фамилиями: Малафеев, Дебоширин. Скрытые мысли Красноперова выявляют его комплекс неполноценности, ничтожества: «Кто я такой? — вскричал филолог. — Захламленный пустырь? Обломок граммофонного диска? Ржавый велосипедный насос с помойки? Бутылочка из-под микстуры? Окаменевший башмак, который зиму пролежал во рву? Березовый лист, прилипший к ягодице инвалида? Инвентарный жетон на спинке кресла в партере Мариинского театра? Бывший в употреблении пластырь?..» [1, с. 118] Эти вопросы свидетельствуют как о непознанной природе человека, так и о тяготящей его материальности. Именно материальность, телесность не позволяет ему постичь трансцендентное. Для этого он должен понять нематериальное, лишенное трехмерности: «Может быть, реальная жизнь именно там? В джазовом омуте? В сверкающей путанице неоновых огней? [...] А все остальное — миф и химера?..» [1, с. 115] Для абсурдистского сознания характерно понимание лишенной материального измерения музыки. «Природа музыки, собственно, сама по себе наполнена абсурдом, поскольку строится на отражении мира в звуковых образах» [4, с. 112]. Хармс толковал музыку как «атемпоральное идеальное бытие, в котором преодолевается любое разделение и происходит максимальное расширение индивидуальности, которая при этом не утрачивает своей конкретности, определенности». Для него музыка «свидетельствует о бытии сверхчеловеческом, божественном, алогическом» [2, с. 175]. Однако как Довлатов, так и Хармс не отрицают вещественного в процессе познания. В хармсовском стихотворении «Звонитьлететь» материальные предметы взлетают и одновременно звенят. Звук «определяет природу звенящих объектов, объектов материальных, конкретных в своей физической реальности» [2, с. 142]. С мотивом полета связан также сон героя, который представляет собой парафраз «Песни о Соколе» М. Горького. Уж в сновидении Красноперова не хочет летать — у него своя правда; свое сибаритство он оправдывает громкими словами и не обращая внимания, на упреки и презрение прохожих, ползет, весело напевая. В то же время полицейские ведут скованного наручиками Сокола в красную машину с решетками на окнах. «— Какая разница — где твое место? В небе или среди холодных камней!» [1, с. 106], — утверждает Уж в сновидении. Так же герой Довлатова возвращается на свои «камни» — в материальный, вещественный мир, который является его натуральной средой: «И сразу же ощущение покоя возникло у Красноперова. Все показалось ему мучительно дорогим и близким. Забулдыга в дорогом, испачканном сметаной пальто. Трещины на асфальте. Эмалированная табличка над подъездом. [...] Заваленная книгами берлога. Все то, что было. И все то, что будет. Все это составляло единственную, нужную, знакомую жизнь...» [1, с. 128]. Мысль героя возвращается к исходной точке его экзистенциальной рефлексии. Возможность открытия смысла жизни оказалась иллюзорной: «Мы не постигнем тайны бытия вне опыта законченной игры. Иная жизнь, далекие миры — все это бред. Разгадка в нас самих. Ее узнаешь ты в последний миг. В последнюю минуту рвется нить. Но поздно, поздно что-то изменить...» [1, с. 130]. _____________________ 1. Довлатов С. Иная жизнь / С. Довлатов // Собр. соч.: В 4 т. Т.1 — СПб., 2002. 2. Токарев Д. В. Курс на худшее. Абсурд как категория текста у Д. Хармса и С. Беккета / Д. В. Токарев. — М., 2002. 3. Хармс Д. Собр. соч. В 3 т. Т. 2. / Д. Хармс. — СПб., 2000. 4. Буренина О. Д. Символистский абсурд и его традиции в русской литературе и культуре первой половины XX века / О. Д. Буренина. — СПб., 2005. 5. Ямпольский М. Беспамятство как исток / М. Ямпольский. — М., 1998.