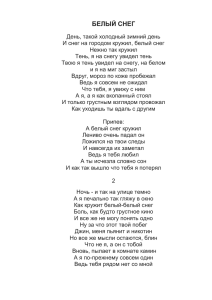Алексей Алёхин
реклама
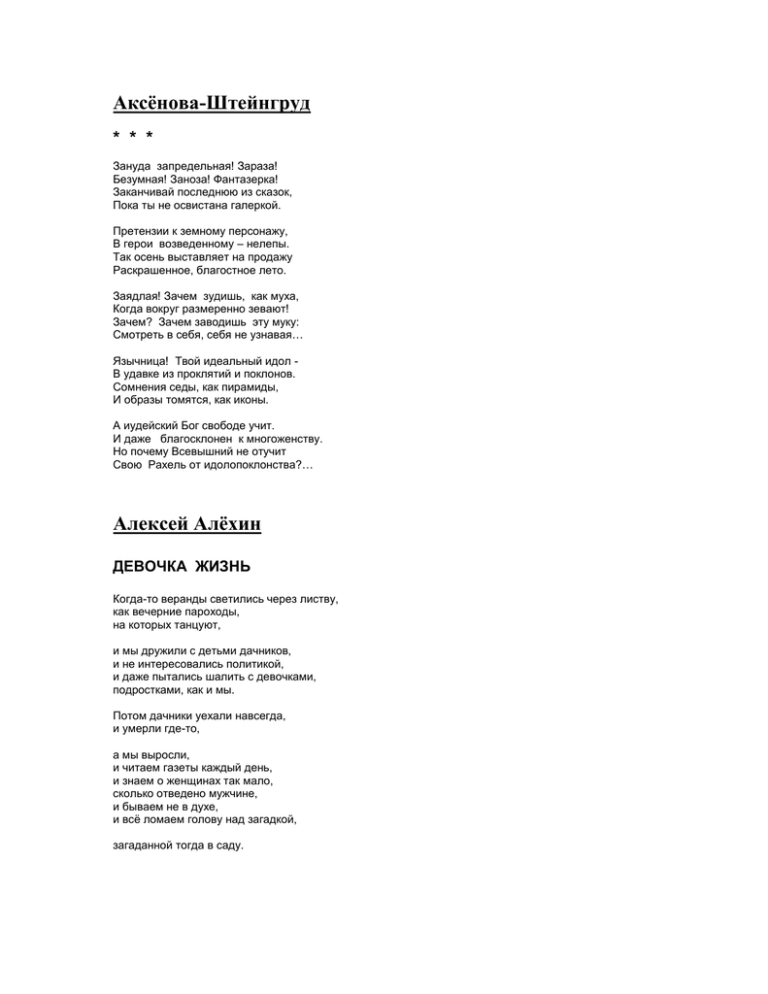
Аксёнова-Штейнгруд * * * Зануда запредельная! Зараза! Безумная! Заноза! Фантазерка! Заканчивай последнюю из сказок, Пока ты не освистана галеркой. Претензии к земному персонажу, В герои возведенному – нелепы. Так осень выставляет на продажу Раскрашенное, благостное лето. Заядлая! Зачем зудишь, как муха, Когда вокруг размеренно зевают! Зачем? Зачем заводишь эту муку: Смотреть в себя, себя не узнавая… Язычница! Твой идеальный идол В удавке из проклятий и поклонов. Сомнения седы, как пирамиды, И образы томятся, как иконы. А иудейский Бог свободе учит. И даже благосклонен к многоженству. Но почему Всевышний не отучит Свою Рахель от идолопоклонства?… Алексей Алёхин ДЕВОЧКА ЖИЗНЬ Когда-то веранды светились через листву, как вечерние пароходы, на которых танцуют, и мы дружили с детьми дачников, и не интересовались политикой, и даже пытались шалить с девочками, подростками, как и мы. Потом дачники уехали навсегда, и умерли где-то, а мы выросли, и читаем газеты каждый день, и знаем о женщинах так мало, сколько отведено мужчине, и бываем не в духе, и всё ломаем голову над загадкой, загаданной тогда в саду. Максим Амелин FRANKFURT AM MAIN Пробил девятый час на франкфуртских воротах, что местным жителям пора ложиться спать и бремя точности до тысячных и сотых, сваливши, бережно задвинуть под кровать. Часы, «глагол времен, металла звон» надгробный (так сузил Вяземский Державина, вобрав), незаменимы здесь. – С войной междоусобной, чумою, перхотью, защитой равных прав, увы, покончено, – ни шума, ни заразы: духовной жажды нет, утих телесный глад. А там, в России, смерть секретные приказы строчит без отдыха, как триста лет назад. Здесь тихо и тепло, – там сыплет снег и вьюга вершит кружение надрывное свое, клянут политики бессовестно друг друга и проливают свет на грязное белье. Пусть лысые придут на смену волосатым, вслед полутьме одной другая полутьма, – все к лучшему, но как не выругаться матом, зря здесь без горя ум, там – горе без ума. Отсюда глядючи, охотникам до пенок известна красная и твердая цена... Хотел бы родину продать, хоть за бесценок, – да кто ее возьмет? кому она нужна? Сергей Артуганов * * * Туман полями к травам ластится, Петляет голая дорога, Земля чиста, как первоклассница На самом первом из уроков. И облака от белокаменной Луну несут на полотенце. Нежны они, как руки мамины Над мягким теменем младенца. Простор вокруг как том нечитанный… А я иду себе за пивом, И путь мой, росами пропитанный, В том томе выведен курсивом. Иван Ахметьев выход конечно всегда есть но надоело его всегда искать Дмитрий Банников * * * В тебе – изящество и грация, Дарованные высшим мастером, А я – простая аппликация, Раскрашенная фломастером – Вишу наклеенныой афишей, Ободранной бродячей кошкой, И ничего уже не вижу, За исключением окошка. А ты, как будто изваяние, Окаменевшее за шторой, Воспринимаешь покаяние Как еле уловимый шорох, И ничего уже не видишь, Не слышишь злобные куранты. И я молчу с тобой на Идиш, А ты со мной – на эсперанто. И только ветер, ветер, ветер, Свою разыгрывая фишку, Срывает, наполняя светом, Неактуальную афишку. … Мои надежда и утопия вольются в городскую серость. Прощай, цветная ксерокопия. Господь, прости меня за ксерокс… Наум Басовский * * * Шломо Эвен-Шошану Язык – могучий образ правоты, с которой мыслят целые народы. В иврите нет ни неба, ни воды, а только небеса и только воды. Нам не дано осмыслить до конца, когда всего лишь погруженье длится, что нет в иврите слова для лицa, а есть одно-единственное – лица. Не оттого ли каменный кумир не мог ужиться с племенем дотошным, давно понявшим, как изменчив мир и только с виду кажется несложным? Язык с печатью тайны на челе! В нём даже Бог, единый несомненно, во множественном пишется числе – поскольку Он везде одновременно. Лев Болдов * * * А.Р. Пойдём гулять по ноябрю, Где дерева черны, как спички. К Донскому ли монастырю, В Нескучный, к чёрту на кулички! Не всё ль равно, где пить до дна, Где выпивать горчащий вечер, Который оплатить нам нечем (А всё ж оплатим, и сполна!) Пойдём гулять по ноябрю, По топким тропкам неприметным, И я с тобой заговорю О самом главном, самом тщетном. И прошлое обступит нас, Скрутив, как щупальцами спрута. И будет вечностью минута, И жалкою минутой час. И нам не хватит сотни лет, Чтоб отдохнуть от посторонних. И светлячки двух сигарет Затеплятся у нас в ладонях. И наше тайное храня, Пропахнув им, родным и странным, Ты будешь прятать от меня Кольцо на пальце безымянном. Игорь Болычев * * * И – никогда... И больше – никогда... Ладонь царапнув, вспархивает птица. И в собственных объятиях вода Бессмысленно под берегом кружится. Вернуть? Догнать? Вопрос стоит не так. Жизнь только в том, чего не быть не может. И это вечно юное “тик-так”, Боюсь, уже небытие итожит. Они сошлись – начала и концы. И на столе меж скомканных бумажек – Четыре жёлтых лужицы пыльцы От некогда стоявших здесь ромашек. Ещё тепло словам в твоих руках. Ещё дождит над пятой частью суши. Ещё звучит, но где-то там, в веках, – Нежнее, безнадёжнее и глуше. Евгений Бунимович * * * Уже не страшно понимать, зачем твердят о Боге. Приходит время убывать и нашего полку. Продукт страны, продукт семьи, продукт своей эпохи, стою – завернут в целлофан с ценою на боку... Ну что, кладбищенский алкаш, глядишь, орел-стервятник? Как я расту в твоих глазах... и дом мой... и друзья... и этот плащ – нельзя глупей, и пруд – нельзя квадратней, и эта жизнь – нельзя длинней... нельзя длинней... нельзя. Людмила Вагурина * * * Нет, ни роща, ни лес, Запах терпкого поля, Просторы. Быстрый маленькой речки бег, Одинокий неровный крест, Звоны. На высоком отвесном краю Храм заброшенный, Светлый луч, Сильный ветер, Приволье. Одинокого странника путь По тяжелой разбитой дороге С этим ветром и запахом горьким — Светлой радостью напоенный. Наталья Ванханен * * * Чужую боль перенимая, слова вытягивая в нить, пиши, покуда листья мая не научились говорить. Пиши о вечном и случайном, пока прохладно во дворе. Пиши о явном и о тайном, о меди и о серебре, пока в своём победном кличе не грянут птицы в перехлёст, пока не станешь ты добычей огромных жадных летних звёзд; покуда жизнь твою, как небыль, тебе знакомую едва, не втянет августовское небо в свои крутые жернова. И вот, пронзая тьму ночную, повиснешь, как бумажный змей. Увидишь красоту земную, бессильно ужаснёшься ей. Внизу – знакомый луг и ельник, у горизонта, вдалеке, сам август, как огромный мельник, по локоть в звёздной шелухе. Как всё прекрасно, как всё поздно! Какой росой мерцает луг! А ты распался пылью звёздной, и слово выпало из рук. Ирина Василькова * * * Дискретен мир. На частности разъят. Его единство неподвластно глазу. Так рассыпают жемчуг.Так дробят на буквы крепко слаженную фразу. Несовершенство нашего ума – как безупречно боги расчитали! – не видя, в чём гармония сама, улавливать мельчайшие детали. А мир лукав: нас настигает вдруг внезапная любовь к зелёной ветке, к воде, к звезде, к касаньям чьих-то рук и к стансам, сочинённым в прошлом веке, к заречным купам встрёпанных ракит, к траве, к рисунку на античной вазе… Всё дразнит и возможностью томит – увидеть токи тех неявных связей, скрепляющих, сливающих в одно сто частностей, конкретных и неверных, включающих, как малое звено, меня и вас в свой хоровод безмерный. И тот из нас блаженней, кто постиг сокрытый смысл гармонии великой – не тысячу оттенков, граней, ликов, а вечность, отразившуюся в них. Анна Васяева * * * Пока царили сумерки, пока Строка не запросила многоточья, Снег падал на пол прямо с потолка Иль из окна? - теперь не помню точно. И кто-то перед тем меня спросил: “Когда же снег? И выйдет ли награда За ожиданье, за растрату сил? Иль праздник будет только “для парада”?” ... Вот - напролом - навылет - напролёт! Лепи его, рифмуй! - чего же ради?.. Да, снег идёт. Но света не прольёт На наши лица, судьбы и тетради. Тяжёлый снег... Свечением витрин Окрашенный - он стал мне ненавистен: Не для любви явился - для смотрин! Так пусть за то и будет он освистан! За то, что чист, как звук - и вдруг расцвёл, Ещё за то, что слишком долго медлил, И ослепил, и вглубь судьбы завёл, И след замёл, И прямо в сердце метил! А главное - за то, что нас любви Он так учил: любить - стрелять из лука. А мы пред ним - ну, точно воробьи Беспомощны, щебечем: снег... разлука... ... А в сущности, оправданный финал: Бесснежья ад сменился снежным адом. И тот блажен, кто ничего не знал, И всё назвал зимой и снегопадом. Вальдемар Вебер *** Чёрный ворон приехал, шептались ночью мои родители, когда забирали соседа... Я лежал в темноте и не мог понять, почему приехал, а не прилетел. Наверное, это ворон, разучившийся летать… Нарушая запрет, я пробирался к окну, вставал на цыпочки, глядел и глядел в ночную воронью тьму, и не мог ничего разглядеть. Дмитрий Веденяпин * * * Как будто рай, а приглядишься – ад. Вокзал – и тот похож на одиночку. А, между тем, никто не виноват, Что жизнь умеет съёживаться в точку. Не можете служить двум господам... Дремучий лес – не то же, что столица; Роднит их лишь одно: и тут, и там, При случае, нетрудно заблудиться. Метро гудит, как море-океан; В прострации ты едешь на работу, Уставившись в окно, как тот баран – Вот именно – на новые ворота. И можно на ходу перебирать (Так в спешке ищут метку на постели): Буфет, букет, браслет, портплед, кровать, Отель, мотель, бордель, дуэль, качели, Трофей, шалфей, хорей, пырей, плебей – Перечисленью ни конца, ни края... Проделай сокращение дробей, Увидишь, что внутри – одна вторая. Идёт война, и, сдерживая дрожь, Солдат уходит в ночь походным шагом... Так вот, пора понять, под чьим ты флагом, Кому ты служишь и за что умрёшь. Иван Волков И смерть – уже не таинство, и секс – Заученный обряд провинциальный. Религия – тем более рефлекс (Условный, и от этого печальный). И смех, и самолюбие, и страх – Всего лишь отправленья организма. Но все же есть во всех этих вещах Какая-то особая харизма: Они – как деньги. Знак, ориентир, Известный код в обменной круговерти. Мы просто упорядочили мир, Договорившись о любви и смерти. Виктория Волченко * * * Узнали меня? Это я! Это я, Та самая дочь отставного майора, по воле которой большая семья рассыпалась в прах от стыда и позора. С большим напряжением мне удалось остаться собою и выйти из тела. Я вижу себя. Я лечу, я сумела себя обглодать, как берцовую кость. Не вижу причин для принятия сна, к заутрене чтоб – на последние силы. Вот Церковь летит. Научилась она себя, наконец, отделять от России. И плавно и плотно крест-накрест с моей плывёт её плоскость для пересеченья... Навылет! Навылет! А следом за ней летят Синагога, Мечеть, Мавзолей и рой золотистый партийных ячеек. Друзья мои, мы научились летать! Мы все отделились – я вас обожаю, и не успеваю вас всех обожать, и сверхсветовою слезой провожаю. Простите меня! – из бараков кричу. Они пролетают, а я на сближенье к такому усатому френчу лечу, что впору остыть и пойти на сниженье. Но страх невесом, и Земля далеко, и – слава те, Господи! – утро нескоро, когда, пробудившись – о, как высоко! – расплачется жизнь отставного майора. Галина Воропаева Чернокудрая доярка, молодая Сулико, у коровы ежедневно конфискует молоко. Нежна кожа, белы зубы, губы – чисто киноварь, и корова ей покорна, бессловесна эта тварь. Продразвёрстка – 100%, и изъятье без хлопот: застывает монументом микромолокозавод. Мозг окутывает плёнка кормо-тепло-бычьих благ, нерождённого телёнка ожидает коровлаг. Жизнь коровья... Ну, да бог с ней! Сулико спешит домой. Ой, лукавите, домой ли? Ей бы выйти за порог... Ждёт её Георгий с бойни у скрещенья двух дорог. Что толкает их друг к другу? Провидения рука? С ликвидатором баранов Конфискатор молока. Александр Вулых ДАЧНЫЙ ЭТЮД Пыльная поленница в доме под столицей... Это память пленница на крыльце пылится. Намотавшись по свету, в темноте кромешной кто-то чиркнет сослепу спичкой отсыревшей, и мгновенно на небе, как в буржуйке ржавой, вспыхнет синим пламенем зарево пожара. Вспыхнет над террасою небосвод пустынный, отнесёт в Тарасовку ветер воздух дымный. Всполошатся в панике спящие скворечники... Не храните в памяти спички отсыревшие. Сергей Гандлевский * * * Не сменить ли пластинку? Но родина снится опять. Отираясь от нечего делать в вокзальном народе, Жду своей электрички, поскольку намерен сажать То ли яблоню, то ли крыжовник. Сентябрь на исходе. Снится мне, что мне снится, как еду по длинной стране Приспособить какую-то важную доску к сараю. Перспектива из снов – сон во сне, сон во сне, сон во сне. И курю в огороде на корточках, время теряю. И по скверной дороге иду восвояси с шести Узаконенных соток на жалобный крик электрички. Вот ведь спички забыл, а вернёшься – не будет пути, И стучусь наобум, чтобы вынесли – как его – спички. И чужая старуха выходит на низкий порог, И моргает и шамкает, будто она виновата, Что в округе ненастье и нету проезжих дорог, А в субботу в Покровском у клуба сцепились ребята, В том, что я ошиваюсь на свете дурак дураком На осеннем ветру с не зажжённой своей сигаретой, Будто только она виновата и в том и в другом, И во всём остальном, и в несчастиях родины этой. Анна Гедымин * * * Грузинский храм, как перевод подстрочный, Понятен слабо, глубь его тиха. Но ясно, что он тоже добр – восточный Чернявый бог, зачатый без греха. Средь стариков спокойных, бурокожих, Запрятанных в молитву далеко, Один стоит – намного всех моложе И на икону смотрит нелегко. Он не урод и не последний в стае, Его невеста в гулком доме ждет... Но что же он так яростно желает Чужой жены? И так легко крадет? “О Господи, – он думает, – я грешен! Ведь коль меня посмеют оскорбить, Я не стерплю, не выдержу насмешек, Я просто не сумею не убить!” Он замирает, на коленях стоя: “Мне радостен пожар чужих дворцов!..” И обращает бог к нему сухое Прощенье. И – разбойничье лицо. Александр Големба ДРУЗЬЯ МЕНЯ ЛЮБИЛИ Друзья меня любили и я любил друзей, друзья меня забыли и я забыл друзей. А под быками моста ещё текла вода, и было очень просто сломить полоску льда. И было небо в звёздах различных величин, и был прозрачный воздух, и не было причин для радости и грусти, для опустевших гнёзд, для смерти в захолустье и для померкших звёзд. А звёзды всё несметней, и я друзей простил, и ни о чём на свете я больше не грустил. Гарри Гордон * * * Приходит время – бес в ребро Колотится. И рвёт на части Желанье выместить добро, Сорвать на ком-нибудь участье. И вот я завожу кота, И он, гостям на удивленье, Ко всем садится на колени, Поёт, не раскрывая рта. Он уволок моё перо, С утра шуршит черновиками, И я в сердцах творю добро, В окне высматривая камень. А он ворует между тем Селёдку. Морщится от соли, И скалит зубы в темноте, И размножается в неволе. Александр Грабарь * * * Дома из снега, трубы из фольги, Из ваты люди, голуби из жести, Любовь из ситца, скованные жесты Попавшейся в пожатие руки. Ни слова о зиме, её закон Как белый дромадер в игольном ушке, И гипсовые белые старушки Свисают из распахнутых окон. Машины из бумаги, фонари Из мемуаров бывшего генсека, И дева, как вчерашняя газета, С начинкой непонятною внутри. И вечер, сохраняющий тепло, Как губы сахар, молодой еврейки, И леденцовый праздник не навеки, И пятаки на веки под стекло. Леонид Григорьян ЗАМЫСЕЛ Под конец расхотелось хотеть Ликовать, воевать, не сдаваться, Непрерывно о чём-то радеть, Вовлекать, окликать, отзываться, Предаваться бесчинной гульбе, Слыть любимцем, ходить в супостатах. Всё иссякло само по себе, Не заботясь о вехах и датах. Расхотелось безумно хватать Сласти, радости, хронос и мелос, Расхотелось запойно читать, Говорить и писать расхотелось, Бить поклоны у всех образов И незнамо куда торопиться... Да застряла живая крупица В перешейке песочных часов. А внизу-то крупинок не счесть Пирамидка готова к пределу. Но у Промысла замысел есть Недоступный скудельному телу. Александр Даневич * * * один человек поверил моему сумасшествию и когда в меня бросали камни он подбирал их и прятал в деревянный шкаф приговаривая: верные доказательства надёжные залоги как-то случился в его доме пожар и деревянный шкаф сгорел осталась груда камней почерневших от копоти человек поверивший моему сумасшествию бегал по городу выкрикивая: всё дело в деревянном шкафе всё дело в деревянном… некто поверивший его сумасшествию стал собирать железные шкафы Григорий Дашевский * * * Ничему не нужен навсегда, но на время годен человек. Он не дом, а временный ночлег, место встреч румянца и стыда, голода с едой, тоски с Москвой, или с ты – ночным, ночной, дневной, или просто с оборотом век, эту ты рисующим точь-в-точь. Он синоним точный слова тут, место, где бывают, не живут: кто зайдёт на время, кто на ночь, все, однако, по своим делам, не по нашим, и уходят прочь по небесным и земным углам видимых-невидимых квартир. Так что если говорить про вид, он у нас всегды необжитой. Ты, похоже, всех пересидит как в метро уснувший пассажир, но ему когда-нибудь домой. Андрей Дмитриев 7 СЕНТЯБРЯ 1996 ГОДА Из сентябрём просеянных небес дождь сыплется лениво, и впервые за этот год заметен перевес осенних дней над летними. Кривые подмокших улиц, скверов, площадей с трудом, но терпят жёлтый свет трамваев, внутри которых всё-таки теплей, и лица — чуть приветливей. Кто знает зачем я здесь? Зачем я жду тепла под ледяными брызгами фонтана? Он солидарен с изморосью. Мгла над площадью. Уже темнеет рано. Лишь вместо звёзд — слепые фонари поддельной дрожью нагоняют стужу, и пустота, заполнив всё внутри, послушно, тихо капает наружу. Александр Ерёменко НОЧНАЯ ПРОГУЛКА Мы поедем с тобою на А и на Б мимо цирка и речки, завёрнутой в медь, где на трубной, вернее сказать, на Трубе, кто упал, кто пропал, кто остался сидеть. Мимо тёмной “России”, дизайна, такси, мимо мрачных “Известий”, где воздух речист, мимо вялотекущей бегущей строки, как предсказанный некогда ленточный глист, разворочена осень торпедами фар, пограничный музей до рассвета не спит. Лепестковыми минами взорван асфальт, и земля до утра под ногами горит. Мимо Герцена – кругом идёт голова, мимо Гоголя – встанешь – и некуда сесть. Мимо чаек лихих на Грановского, 2, Огарёва, не видно, по-моему – шесть. Мимо всех декабристов, их не сосчитать, мимо народовольцев - и вовсе не счесть. Часто пишется “мост”, а читается – “месть”, и летит филология к чёрту с моста. Мимо Пушкина, мимо... куда нас несёт? Мимо “Тайных доктрин”, мимо крымских татар, Белорусский, Казанский, “Славянский базар”... Вон уже еле слышно сказал комиссар: “Мы ещё поглядим, кто скорее умрёт...” На вершинах поэзии, словно сугроб, наметает метафора пристальный склон. Интервентская пуля, летящая в лоб, из затылка выходит, как спутник-шпион! Мимо Белых столбов, мимо Красных ворот. Мимо дымных столбов, мимо траурных труб. “Мы ещё поглядим, кто скорее умрёт.” – “А чего там глядеть, если ты уже труп?” Часто пишется “труп”, а читается “труд”, где один человек разгребает завал, и вчерашнее солнце в носилках несут из подвала в подвал... И вчерашнее солнце в носилках несут. И сегодняшний бред обнажает клыки. Только ты в этом тёмном раскладе – не туз. Рифмы сбились с пути или вспять потекли. Мимо Трубной и речки, завёрнутой в медь. Кто упал, кто пропал, кто остался сидеть. Вдоль железной резьбы по железной резьбе мы поедем на А и на Б. Артём Ермаков * * * Всё будет. Скоро снова будет. Всё снова повторится вновь. Пойдут по всем дорогам люди‚ В мешках - заплечная любовь. Земля, сама себе не рада, Родит изящных мастеров. Они нас вызовут из ряда‚ Они заполнят нами ров. И скольким стать вороньей пищей‚ И скольким ждать на берегу‚ И от удара кнутовищем Тебя закрыть я не смогу. Я буду там‚ за неба краем‚ Когда они объявят суд И назовут свой погреб раем‚ И страшно клятвенно солгут. У многих клятвы этой привкус Зашевелится на губах‚ Но‚ кто пройдет последний искус‚ Восстанут сущие в гробах. Из- под нетканого покрова Во славу верных небесам Придут и будут слышать Слово‚ И каждый Словом будет сам. Полина Иванова * * * Мундиры выходные, насупленные брови, – бессонные, чудные солдатики любови... Мятутся, как живые. Небесного желают. Но сказки нежилые, и в них не выживают. К тому же, не бывает печальнее сраженья немого обожанья с беспечностью круженья. Где в эпилоге – печка, фарфоровая крошка, угасшее сердечко да крохотная брошка. – Эдем, обетованный мерцающей вещице... Солдатик оловянный! Забудь о танцовщице. Аркадий Илин * * * Пиши роман в начале мая – в конце получишь гонорар, уже резвяся и играя, как стадо бешеных гусар. Пиши, поэт, свои сонеты, летай, как фурия, в ночи, замки срывая и запреты, срывая с писем сургучи. Пиши послание потомкам и предкам что-нибудь пиши, блуждая вечером в потёмках своей таинственной души. Елена Исаева * * * Перехватывало дыханье, Мир качался и плыл в глазах. Что ты скажешь-то в оправданье? Вот ведь... нечего и сказать. Виновата. В частушке, что ли, Это слово по-русски зло. Быть хорошей – учили в школе. Не послушалась – повезло! И шарахнулась от трамвая: “Виновата!” – ревёт, как зверь. Вот такая я, вот такая! Ну, убейте меня теперь! Раньше в воду бросались бабы. Ничего не отдам воде. А слабо тебе?! А смогла бы?! Утки плавают... Это где? Это Яуза, это речка По Москве бежит, по Руси. Заступися за человечка, Матерь Божья на небеси. НИНА ИСКРЕНКО ГИМН ПОЛИСТИЛИСТИКЕ Полистилистика это когда средневековый рыцарь в шортах штурмует винный отдел гастронома № 13 по улице Декабристов и куртуазно ругаясь роняет на мраморный пол “Квантовую механику” Ландау и Лифшица Полистилистика это когда одна часть платья из голландского полотна соединяется с двумя частями из пластилина А остальные части вообще отсутствуют или тащатся где-то в хвосте пока часы бьют и хрипят а мужики смотрят. Полистилистика это когда все девушки красивы как буквы в армянском алфавите Месропа Маштоца а расколотое яблоко не более других планет и детские ноты стоят вверх ногами как будто на небе легче дышать и что-то всё время жужжит и жужжит над самым ухом Полистилистика это звёздная аэробика наблюдаемая в заднюю дверцу в разорванном рюкзаке это закон космического непостоянства и простое пижонство на букву икс Полистилистика это когда я хочу петь а ты хочешь со мной спать и оба мы хотим жить вечно Елена Кацюба РИМ Небесными знаками пишется слава Риму, сходящимися в середину: AMORE E ROMA любовь и Рим Восток Индии воздвигается из-за востока арабов, призывая AMARE RAMA Раму любить Рама – рама в небо небытия Рим – мир бытия без неба Когорту штурмовиков вывел Рем, и в последних Романовых умер Ремул Но волчица-кормилица вращает глаз РАДАР её вой переводится на язык зоопарка. Яростнее, ЧЕМ РИМ, МИР-МЕЧ Вибрирует антенной на острие, рукоять ласкает ладонь. Ещё не зная номера рока близнецы глядят друг на друга, но каждый видит себя в другом. И когда наконец трубы прохрипели своё: «РЕМ УМЕР», – в точке стечения звука, деловито, дико. Как робот, Ромул начинает возводить Рим. Константин Кедров Влияние света на совесть мысли влияние мысли на конец света въехал Енох в сердечную балку отвалилась ось основного зренья сразу увидел я голенькую бабочку и она прикрываясь крыльями отлетела Две колеи орбит слились и распались из середины вылетела пролётка пролетела завязла в небе и заколесила Вынул я зрачок из середины вложил его в землю земля прозрела пока зрело зрение и обволакивался глаз вышиной я лилию лелеял и текла река красота шире естества мир озарён а душа удушена поглощая грядущее шёл паровоз он вёз разум но муза роза не ум за разум такого единения ещё не знала история стал казах казаком а казак Казановой выруливая я едва не опрокинулся но вовремя предостерёгся Карательное нательное бельё надевая снимаю обувь вечную ношу на ступнях невечных подаю нищему три копейки зарплаты милосердия рыбий жир принимаю кроме совести нет во мне никакой корысти авиаматка снуёт по чреву Даруй мне Господи динозавра даруй мне горизонт мировых событий Иван Клиновой * * * Ещё не всё наречено, И бродят вещи без названий, И бродит в амфорах вино, И сердце требует признаний… Стрела, забитая в песок, Уже давно пустила корни, И вот шумит, довольно спорный, Но всё же лиственный лесок. В тебе два сердца-близнеца, Но ведь одно из них чужое, И, если б не она, не Зоя, Давно бы умерли сердца. Ещё не найдено руно, Ещё трава растёт упрямо, Ещё не всё наречено – Всё в ожидании Адама… Анатолий Кобенков * * * Вы скажете: темно, темнее не бывает, при том, что ни вино, ни жизнь не убывает. Вы скажете: пора – и не пойдете дальше. Но долог бег пера, а крови – ещё дольше. Вы скажете, что нет и не бывало Бога, тогда – откуда свет, к кому – тогда – дорога? Александра Козырева * * * Памяти Надежды Ах, в чеченском селеньи Шали не шали журналист, не шали... (В Оренбург поезжай, где есть шали, а не горечи крестной – печали). Здесь в шакальей своей слепоте разорвут тебя страшные, те, ошалевшие в дикой резне по второй смертоносной весне. Ну а коли ты женщиной вышла, не ступай по земле еле слышно, завернувшись в чеченский платок – здесь бессилен наш северный Бог. Он от слез нынче, видно, ослеп, и тебя мусульманкою в склеп, спеленав простыней, запакуют, вдруг – податливую такую... Ну, а после, в пасхальной столице над тобой - беззаконные птицы пропоют без оттенка печали – может, душу на царство венчая?.. Валерий Кравец * * * Когда уходит август прочь, Приходит в сентябре начальном Варфоломеевская ночь Цветам прекрасным и печальным. Приветствуя учебный год, Традиционная секира Их поражает каждый год Во дни языческого пира. И дети в ангельской поре Грядущего мирознакомства На школьном праздничном дворе Свершают идолопоклонство… Сергей Кромин ГУЛ БОГА внезапно он всё нарастает с мешком а страшно пойти-посмотреть-встать-подняться-спать-пойти-посмотреть гул глыбой гул Бога? смолкло ллкло лк алк паллкла зачем убиваете зачем вам это не старуха семнадцати лет в низи не зима найдётся ли гнездо для чувств а для крика дыра камушек а мыша боится т выроет ямку а и не сможет скататься шуршат што-ли? пойти посмотреть хо тябы бе да! им не перечь-ловко-чьрьпок то как хрусткнул шатается-шатается мук обрывист конечен а тряпку то дай руки стереть голуби а об угол смешно или стружка был след большой собаки глубок как тот снег был снег клубок собаки большой как тот след быка Елизавета Кулиева СТАРОСТЬ Э тоякогда ма-ма мы-ла ра-му И. Оганджанов Когда ты стар как самый старый сыр и сух... слух?.. как сук тогда о как это остро это просто есть такое место где ты всегда один... А? Ну да пригласить друга однако это трудно он не знает как пахнет твоя любимая книга а это важно потому что как раз сейчас ты учишься читать и мог бы похвастать. Именно друга ты чей мальчик? а сколько лет? как есть кто-то опять напутал так оно и бывает и чтобы потом он понял ты рисовал... рисковал?.. на полосатых обоях это твой друг и если вдруг военный переворот извержение вулкана мор... морг?.. и если земля разверзнется он не сойдёт с места это такое место оно как любимая книга всегда под рукой. Именно так это такое место пальцы помнят картина корзина картонка... касторка?.. и ты да да ТЫ ДИТЯ ЭТО ТЫ НО – А КТО ЭТО ТЫ НИКТО НЕ ЗНАЕТ КТО ТЫ. Игорь Куницын * * * Темнеют дорога и поле, Морщинится водная гладь. Сгоняем чайковского, что ли. Сгоняем, чего ж не сгонять. Огонь пожимает плечами, И чахнет в молчании густом, И млеет от крепкого чая Нутро, обливаясь теплом. Со дна металлической кружки Глядит голубая звезда, И крошки пшеничной горбушки, При всплеске, всплывают со дна. Ты тоже при розовом свете Ещё не погасших углей, Заметив подробности эти, Над кружкой склонилась своей. Мы выпили целое небо Глотками, звезда за звездой, С чаинками, с крошками хлеба, С речной кипячёной водой. Евгения Лавут * * * расти мой лес хотя бы стану почкой, жучком бегущим резво по коре сухого дерева; не матерью но дочкой в заученной как азбука игре расти мой лес расти неумолимо как строй не мной измышленных вещей с пути сойти - отрада пилигрима уставшего искать святых мощей расти мой снег съедая повороты бинтуй ушибы и пробелы множь расти мой Бог и я свои заботы сложу под твой животворящий нож Михаил Лаптев * * * ...И я открыл вам бездны духа, где над ущельями паря, пасла огромная старуха семью последнего царя. И мрачно скалы нависали, металось эхо взад-вперёд, и пучились горизонтали с начала сотворенья вод. Аскольд обманно убиенный и все царевичи твои... Какою русскою геенной окутать вечный мрак любви? Какой молитвою утешить, Какою клятвой отмолить?.. О, камо, камо же грядеши! Не быть. Конечно же, не быть. Елена Лапшина * * * И будет, как прошу – спина крылата, Любовь чиста, а чаша испита. Но эта боль – она ещё расплата, Она ещё не царские врата. И будет слово солоно в гортани, Но ласковы железо и свинец. Но эта боль – она сродни гордыне – Как первенец носима, как венец. Но вслед за ней – иная – как лавина, Идёт – неотразима, неземна. И разница ещё неуловима, Но матрица уже изменена. Сергей Лейбград * * * Расстанемся – прощай, эпоха – с концептами и образами, довольно, ни пера ни пуха... Но и в глазах и за глазами круги полярные, предметы астральные, как из коллекции, у каждого свои секреты на почве внутренней секреции. Отчаливай, нет больше гида, похоронили, исполать. Но геноцид от стрептоцида ты сам не должен отличать. Прочь, прочь и химию и схиму, и угль в кромешной темноте, соседку помню Серафиму, она была на высоте у незнакомого посёлка в тьму-таракани, не бегах, автопробегах, детских ёлках. Жизнь получилась впопыхах. А может быть, не так уж плохо, что жизнь свою застав врасплох, я говорю: прощай, эпоха, к чертям, – и рву чертополох в музее фауны и “ой да не вечер” на твоих губах, обветренных, как соль и сода, алмаз и пепел, трепет, страх... Иван Макаров * * * Мчится тройка полями-лугами С колокольчиком из-под дуги. Письма ходят большими кругами, Почтальоны гоняют круги. Этих писем не ждут, не читают, Все они никому не нужны, Их пускают, и письма летают, Легковесны, прозрачны, нежны. Стаи снов наливаются светом, Строки писем летят и горят... Ничего почтальонам об этом, Разумеется, не говорят. Надежда Мальцева МОСТ Нет счастья для меня и нет меня для счастья, – и формула проста, и замысел непрост. Что мыкать счастье мне, когда могу упасть я Невемо где и тем явить собою мост меж завтра и вчера, меж веком и судьбою, меж тем, что будет жить и тем, что не живёт, разбиться и срастись, но быть самой собою, и собственный вести с нелепой жизнью счёт. Затем и бездна мне в круговороте снится, что мне висеть над ней сияющим мостом, – не бойся же, иди. Дойдёшь ли? Всё кружится. А что потом? Пойми, нет твоего потом. Потом – оно моё – твой шаг, и страх, и мука, Уклончивая тьма и бездна под стопой. Не думай ни о чём, идти – уже наука, когда тебя в кругу гоняет мир слепой. Ты только начал путь – я вздрагиваю, – ну же, я мост, я жду, скорей! Куда тебе, скажи? И в детство отведу, где спит кораблик в луже, и на вершины гор, где нету ни души, а хочешь – в давний сон свернёт, смеясь, дорога... Куда тебе, чужак, куда тебе, родной? Но если – никуда, прошу, хотя немного над бездною своей побудь ещё со мной. Останься на мосту, и вниз смотреть не надо, гляди, как в бездне бездн сияет бездна звёзд – не отводи от них слезящегося взгляда, не думай ни о чём. Тебя удержит мост. Борис Марковский Осень, отстань! Сатанинская щедрость листвы, Мне враждебны твои бесшабашные узкие ласки. Не сносить головы! Я от лиц и от улиц отвык, И от птиц, и от веток, и от ветра, что скомкал все краски. Над коляской – волхвы. Снизошла на тебя благодать. Мать, что небом прикинулась. Небо, коляска, дорога... Не поднять головы! Я не стану по птицам гадать, Отшатнусь от зрачков сумасшедшего этого Бога. Нас листва оплела вперемежку с огнями реклам, Время корчит нам рожи, мы – тоже, отважные маски. То ли я не живу, то ли время мне не по зубам, То ли замерло всё в ожидании близкой развязки. Эта осень меня, как по лестнице, сводит с ума. Ах, отстань, отстрани, отодвинь свои тайные знаки. Это – светлая осень!.. За осенью хлынет зима, Приготовьтесь к её молчаливой и страшной атаке! Вадим Месяц НА СТАНЦИИ Ты спи, пока жива. Всю зиму – а смогли. Шатает дерева Вода из-под земли. Или гуденье вен Уносит забытьё, По разбуханью стен Измерено житьё. Ах, Ленка, не тебя Полюбит генерал И, в тамбуре шутя, Поедет за Урал. И только пресных уст Всё тот же детский страх И только мокрый хруст Саранок на зубах. И я, сбиваясь с ног, Пока луна горит, В платке несу творог И синий антрацит. Алла Михалевич * * * Мы все там прожарились - в Новом Афоне, на мысе Пицунда - в застойном июле, где вечером золото в золоте тонет и льётся прозрачное киндзмараули, нам стоит увидеть знакомые кадры, где в пальмах петляет опасная трасса, услышать привычное: Адлер и Гагры, чтоб снова почувствовать прочность каркаса, в который мы впаяны все от рожденья и все от рождения сёстры и братья, не смогут расторгнуть и три поколенья имперские, жаркие эти объятья. И к терпкой земле, где проходит граница, где нас оглушительно солнцем бомбило, где Поти, Сухуми и озеро Рица, нас пламенем этим прижгло, пригвоздило. Александр Москаленко Плеск озябшей Невы о гранит берегов. С неба сыпется сонная, стылая слизь. Здесь хранятся ключи от чугунных оков. Здесь в провалах домов замедляется жизнь. Посмотри, Петербург, – я, почти не дыша, липкий воздух выцеживаю, как ликёр. Хорошо в шалаше – жаль, что нет шалаша… Лишь имперский орёл надо мной распростёр обветшалые крылья. Сегодня уснуть не придётся. Мосты развели навсегда. Не пройти до конца этот проклятый путь – настигают меня у воды холода. Скрип уключин. Забытая лодка. Ау! Где хозяин? Его, видно, звали Харон. Летаргический Стикс стал похож на Неву. Крики чаек я путаю с граем ворон. Вот и осень кончается. Медленный дождь, не спеша, размывает державную спесь. А в столице Московии – серенький вождь и такая же серая влажная взвесь. Галина Нерпина * * * Ничего… Просто в горле саднит. Просто голос твой будет отныне Безучастным, как голос судьбы, Не моё называющий имя. Мы узнаем случайный ответ И себе на скрижалях запишем. Он сбывается, сумрачный бред, И разрыв подступает всё ближе. Мы опять оборвём разговор – И молчим, не скрывая испуга. Так два зеркала смотрят в упор, Пустотой проникая друг в друга. Андрей Нитченко * * * После Пушкина все уроды – Как заметил Корней Чуковский, Он был умный, но беспощадный: Мойдодыром пугал детишек. Пушкин тоже был очень страшный, И не нравился многим дамам, А Чуковский хотел, конечно, Пожалеть его и утешить. Эй, поэты! Вот вы, хотя бы! Умоляю вас – соберитесь, Напишите опроверженье. Вы же можете! Вас же много… Илья Оганджанов ИГРА В ПРЯТКИ ...я не знаю, что было, когда не было дерева. Е. Кулиева ты говоришь мне: я тебя вижу: ты стоишь за деревом: твои плечи видны из-за ствола: дерево ýже тебя в плечах, поэтому я тебя вижу, и ещё я знаю, что за словом “дерево” стоит вот это дерево, за которым стоишь ты, а что стояло за словом, когда ещё не выросло дерево и ты не стоял за ним, я не знаю. теперь мой черёд: ты стоишь за деревом, и пусть я тебя не вижу, но я точно знаю, что ты там, потому что, когда ты пряталась, я подглядывал, а за словом “дерево” стоит не только это дерево, но и много других деревьев, за которыми мы могли бы спрятаться, и тех, за которыми мы никогда не спрячемся, – я это знаю не потому, что видел все деревья на свете, а потому, что читал об этом в книгах, – а когда не было этого дерева и никакого другого тоже не было, за словом стоял Бог, как он сейчас стоит за нашим деревом, мальчик, приехавший из чужого города, с ним никто не хочет водиться, и он играет в прятки сам с собой, я давно за ним подглядываю. Вера Павлова ЭСКАМИЛЬО Я их не помню. Я не помню рук, которые с меня срывали платья. А платья - помню. Помню, скольких мук мне стоили забытые объятья, как не пускала мама, как дитя трагически глядело из манежа, как падала, набойками частя, в объятья вечера, и был он свежезаваренным настоем из дождя вчерашнего и липовых липучек, которые пятнали, не щадя, наряд парадный, сексапильный, лучший и ту скамью, где, истово скребя ошметки краски, мокрая, шальная, я говорила: Я люблю тебя. Кому – не помню. Для чего – не знаю. Виктор Павлов * * * И город точно встал из-под земли: шумят листвой поблёкшие деревья; не слышно птиц: их песни утекли куда-то прочь за это семидневье; пройдёт прохожий, – тяжек его путь, и скроется на первом перекрёстке; брехнёт собака (как ей не брехнуть?), когда и для неё день кажется громоздким; и тихо вновь, лишь кроны шелестят; от пыли всё пергаментней, грузнее… чтоб не смотреть на этот тихий ад, пойду к реке по липовой аллее. Анна Павловская * * * Вот так и доходят до ручки, И я опустилась почти. Бездельница я, белоручка – Работы в Москве не найти. Скитаюсь по улицам пыльным, Читаю «Записки жильца». Везет деловитым и сильным, Румяным на четверть лица. О, что за субтильная бледность? О, что за мечтательный взор? Я верила в честную бедность, Я думала – деньги позор. Я мыслила – правильно, дескать, Самой оставаться собой. Во всем виноват Достоевский, И даже, отчасти, Толстой. Слепая! и то еще будет, Когда со страниц семеня, Богатые бедные люди Ногами затопчут меня. Галина Погожева ПОЧТОВЫЕ ГОЛУБИ Во временах, в огнях, В сизых туманах, водах – Об именах, о днях, Правдах, годах, невзгодах. Пишет ли царь к царю Или жених к невесте – Вверены почтарю, В небе несутся вести. Прямо, не вкривь, не вбок – Правдою всей и верой Трудится голубок. Глупая птица, серый. Чтобы имелась связь Между людьми. Усталость – Пусть! Лишь бы слова вязь, Только б она осталась. С письмами, налегке, Синью речной и вечной. Точкою вдалеке, Глядь, замаячит встречный. Птицы мы, связь времён, Целящихся смеркаться. От родовых имён Незачем отрекаться. Юлия Покровская * * * А мне и горя было мало. Шуршал песок, текла вода. Я платье чуть приподнимала и шла по берегу пруда. Продолговаты и лиловы, Витали тучи над водой. И в воздухе носилось слово, ещё не сказанное мной. И всё, чему потом случиться, уже стояло на пути. Не угадать, не уклониться, не обмануть, не обойти. Владимир Полетаев * * * Кружился снег, стократ воспетый, кружился медленно и строго, и под полозьями рассвета плыла январская дорога. Неприбранная мостовая лежала в белом беспорядке, мучительно напоминая об ученической тетрадке. Ах, сколько снега, сколько снега, какая чистая страница – пройти, не оставляя следа, и в пустоту не оступиться. Ах, детство, детство, мое детство, мое фарфоровое блюдце, мне на тебя не наглядеться, мне до тебя не дотянуться. Над розовыми фонарями, над фонарями голубыми кружился снег, и губы сами произносили чье-то имя. Ольга Постникова * * * Всюду символы, напоминанья, Буквы огненной хищной весны. И везут, как ягнят на закланье, Новобранцев для тайной войны. И облезлая птица стенает, Расшвыряв по асфальту галчат. Хорошо тому жить, кто не знает, Что горящие в танке – кричат. Сталь охрупла, и мрамор нестоек, И от света болит голова. Почему на стенах новостроек Валтасарова пира слова? Снова женщины вышли до света, Чтоб расспрашивать военкомат, Почему неохватная эта, Неподъемная родина-мать Подневольных сынов ненавидит, Полпланеты вгоняя в психоз. Восемнадцатилетнего видеть Почему невозможно без слез? Сергей Преображенский * * * За рыбий хребет небоскрёба Цепляется рваный туман. И цепь городского озноба Сковала наш долгий роман. Мы живы (мы, видимо, живы) – Мы видим размытый восход И слышим, как взлётные взрывы Толкают в эфир самолет. И стены вибрируют тихо, Пока шелестит в небесах И будит стальная шутиха Наш незасыпающий страх. За сизый излом небоскрёба Цепляется рваный туман. Как долго мы прячемся оба В глухой затверженный роман. И видим, покуда мы живы, Как солнечный зайчик ползёт По скулам японки смазливой, Шагнувшей с плаката вперёд. И видим, покуда мы живы, Как чай, остывая, дрожит, Как клочья тумана красивы, Как солнечный очерк размыт. Николай Ребер * * * Как подземному флоту и сдохшей в груди канарейке, Не могу пожелать поскорей быть любимой другим. “Навсегда” и “Прощай”, как швейцарским ножом по скамейке, Мне на коже и под процарапал пошляк-пилигрим. В утюги, бороздящие море, не хочется верить. Как в слова и флажки, и победу ручного труда. Я полдня расшифровывал дождь, его дроби и трели. И опять получилось “Прощай” и потом “Навсегда”. Как ямщик-патриот, я давно аморально устойчив. Там, где стукну копытом – забьёт неживая вода. У меня под дугой однозначно звучит колокольчик Про дорогу и пыль, и ещё про “Прощай навсегда”. Отвалить и уйти, но как якорь цепляет сноровка. Захмелеть без вина – но, увы, не могу без вина. Как фантомная боль и сведённая татуировка, Не дают мне уснуть и мешают очнуться от сна. Впереди только дым. Позади только мели и мины. И локальный конфликт с лексиконом на глади пруда. Погибаю, но не... И враждебную мне субмарину “Навсегда и прощай” отправляю на дно навсегда. Александр Ревич ПЕРЕДЕЛКИНО Здесь в подмосковном сосновом посёлке, в кряжистых стенах бревенчатых дач жили бараны и серые волки, рыцари бед, джентльмены удач. Здесь, как повсюду, в те дни был обычай: камень за пазухой, ложь про запас, кто-то был хищником, кто-то добычей, кто-то... но это особый рассказ. Где же всё это? И где же все эти лица и роли? Исчезли, как дым. Только надгробья в полуденном свете спят меж стволов под навесом густым. Сосны всё те же и дачи всё те же, новые лица, повадки и быт, новые дыры в заборах и свежи новые ссадины тех же обид. Этих уж нет, а иные далече, но почему-то, как в давнем году, небо ложится деревьям на плечи и перевёрнуты сосны в пруду. Борис Рыжий * * * На окошке на фоне заката дрянь какая-то жёлтым цвела. В общежитии жиркомбината некто Н., кроме прочих, жила. И в легчайшем подпитьи являясь, я ей всякие розы дарил. Раздеваясь, но не разуваясь, несмешно о смешном говорил. Трепетала надменная бровка, матерок с алой губки слетал. Говорить мне об этом неловко, но я точно стихи ей читал. Я читал ей о жизни поэта, чётко к смерти поэта клоня. И за это, за это, за это эта Н. целовала меня. Целовала меня и любила. Разливала по кружкам вино. О печальном смешно говорила. Михалкова ценила кино. Выходил я один на дорогу, чуть шатаясь мотор тормозил. Мимо кладбища, цирка, острога вёз меня молчаливый дебил. И грустил я, спросив сигарету, что, какая б любовь ни была, я однажды сюда не приеду. А она меня очень ждала. Евгений Саенко * * * тебе ли пенять на природу на грязь и на месть и на масть в такую плохую погоду не нам пол-России украсть в такую ужасную бурю доверься коварным ветрам на собственной чувствуя шкуре всю свежесть и ужас и срам побродишь в родимых пенатах узнаешь родную юдоль меняться – так атом на атом глаз на глаз мозоль на мозоль А то получается стужа блокада утрата души мы, скажем, играем не хуже чем рядом сосед в расшиши чем, скажем, лицейская братья клико пьёт, целуясь взасос, и кажется другом приятель а дальше – Сибирь и погост Виктор Санчук * * * Глухая, как по комнате ходьба, – о четырёх стенах, но путь неведом – то над прошедшим кружится судьба, то тянется, как вечер за обедом. Под фонарями вертится метель, словно в стаканах юности гранёных, где время, как ревеневый кисель со сгустками смертей нерастворённых. Живёт в глазах игрушечный мирок. Осколки собирает роговица. Танцует среди кубиков волчок и не умеет сам остановиться. Мой сын – смышлёный мальчик – хмурит лоб, когда растут минуты и дробятся, – в строении так прост калейдоскоп: и нужно разобрать, чтоб разобраться. Александр Свиридов Завтра вечер и всё, – Колокольчиком в уши – последний звонок, Дёгтем тележное колесо Мажет отец - скоро в город меня повезёт. Десять лет тополями За окном отшумели – крошится мел... – До свидания, Таня, Твои пальцы в чернилах снега белей... Ах, как пахнет сирень На губах одноклассниц за школьным двором ! И чуть выше колен Их юбки на вечере, на выпускном. Белой водки налей ! Бутербродики с сыром на школьных страницах, То ли пух тополей, То ли слёзы у Тани на серых ресницах... Ольга Седакова ПОСЛЕДНИЙ ЧИТАТЕЛЬ Саше ...И в эту погоду, когда, как вину, мы рады тому, что ни слуху, ни глазу нельзя погрузиться в одну глубину, коснуться её – и опомниться сразу (и что этот образ? – не явь и не сон, не заболеванье и не исцеленье, а с криком летящая над колесом мгновенная ласточка одушевленья), тогда он и скажет себе: – Чудеса! Не я ли раздвинул тяжёлые вещи, чтоб это дышало и было как сад, как музыка около смысла и речи, и было псалтырью, толкующей мне о том, что никто, как она, не свободен, – словами, которых не ищут в уме, делами, которых нигде не находят. Но, Господи, где же надежда Твоя? Ты видишь – я вижу одними глазами. И ветер вернется на круги своя. Я знаю, я чудом задуман, и я, как чудо, уже не вернусь с чудесами. – Он встанет, и сядет, и встанет опять, и в темные окна глядит, холодея. А сад будет литься, скрипеть, лепетать и жить как одно приключенье Психеи. Ольга Татаринова * * * Да будет бутылка на светлом окне, Да будет ребёнок в зелёной кроватке, Да будут листочки блестящи и гладки, Как это однажды представилось мне. И пусть облака тут всегда проплывают И машут платочком свой белый привет, Березы стрекочут, и клёны вздыхают, И млечной невинностью дышит обед. Какого рожна мне от жизни солёной, Раз солнце умеет в окошко блистать, Раз мудрый ребенок в кроватке зелёной Меня обучает бутылкой играть. Да будет и мне это пятнышко света, Прощенье, улыбка зелёных щедрот, Созвездие Будды, Христа, Магомета Во взгляде с лукавым оттенком ответа, Который, как бульканье в соске, прост. Александр Тимофеевский * * * Уже мне реки те видны С их неземной голубизной. Три молчаливые жены Прядут и путь решают мой. О, пряхи вещие судьбы, Ведь я у берега реки, – А воды Стикса голубы, А воды Леты глубоки. А дни уплыли, как лини, Как стая резвая линей… Скажите, пряхи, где они, Мои шестнадцать тысяч дней? Где кровь моя, где мозг, где мощь, – Спрошу божественных я прях, – Как будто я играл всю ночь И проигрался в пух и прах. Что делал я, что натворил? Я проиграл что только мог – Я проигрался, как Андрий, Как Достоевского игрок. Как я успел, когда и где… Шестнадцать тысяч в ночь одну! О, дайте на кон бросить день, И я их все назад верну! И оправдаю жизнь и страсть, И то, зачем я был зачат… А пряхи продолжают прясть, А пряхи вечные молчат. О, дайте мне ещё хоть раз Сыграть и миг игры продлить… Прядут, не подымая глаз, И перекусывают нить. Вячеслав Тюрин * * * Куда бы время, чёрт возьми, ни шло, я до конца любви не позабуду, как самолёт ложится на крыло, зане полёт машины равен чуду. Так ангел набирает высоту и делается точкою для взгляда в пространстве, где на каждую версту дыханием расплачиваться надо. Пускай пространство наше только вещь и нежные созвездья стали текстом, но существует эхо, значит весь не сгинет голос в эпосе житейском. И встанет мачта поперёк волны в солёной битве паруса с пучиной, и на полях запомнят валуны, чем кончилось у следствия с причиной. Илья Тюрин ПОХОРОНЫ БРОДСКОГО Мне самозванство запретило Делить с чужими власть мою, И венецийскую могилу Я издали осознаю. Воссоздаю печальный опыт На лицах дворни записной И снизу доносимый ропот Бредущей обуви земной. И в шествии фаланги стройной Своих и зрительских цепей, И в блеске урны неспокойной, И в тучном ходе голубей, И в глухоте окружных башен, И в сотрясении воды – Встаёт Орфей, велик и страшен, Идёт и пробует лады. Он шёл, одет случайным шумом, В другую сторону, один, Навстречу однозвучным думам И гулу движимых картин. Как много шло в потоке мимо И ложных, и прекрасных сил! Но он борьбу и гибель мира, Невидимый, не ощутил. И был он большему созвучен: Не различая свет и тьму И равенством нежданным мучим, Он молча следовал ему. Андрей Хамхидько Ветер, наконец, переменился, Спутав путеводные карты, Спутав бесконечные карты, Спутав корабельные снасти. Так и начинается счастье. Плач сирен. Вяжите мне руки. Плачь, сирень ещё не в полёте, Я тебе ещё не попался. Гибкие, как лошади, пальцы Губ моих ещё не узнали. Я ещё привязанный к мачте... Но узлы уже ненадёжны. Заревели трубы тревожно, Эй, вы! Развяжите мне руки. Ущипните, вот моя кожа. Научите спрыгнуть на берег. Словно в ночь безлунную Терек, Словно в Тверь вошедшая Волга, Скрипнули узлами запястья. И на волю. Солнечно. Долго. Так и начинается счастье С точного сплетения пальцев, Рассыпанья света на части Самого прозрачного танца. Алексей Цветков сарафан на девке вышит мужики сдают рубли пушкин в ссылке пьёт и пишет всё что чувствует внутри из кухонного горнила не заморское суфле родионовна арина щей несёт ему в судке вот слетает точно кречет на добычу певчий бард щи заведомые мечет меж курчавых бакенбард знает бдительная няня пунш у пушкина в чести причитает саня саня стаканищем не части век у пушкина с ариной при закуске и еде длится спор славян старинный четверть выпить или две девка чаю схлопотала мужики пахать ушли глупой девке сарафана не сносить теперь увы с этой девкой с пуншем в чаше с бенкендорфом во вражде пушкин будущее наше наше всё что есть вообще Павел Чечёткин * * * С клыкастой, вечно трезвой рожей, Повсюду видимой окрест, Сформировался я похожим На скошенный солярный крест. Я шёл на зов третейских судей, Но там, чешуями звеня, Седые старцы, как не люди, Под мышки жалили меня. Я шёл, рыдая, в наши храмы – Там в упокой моей души Нечаровательные дамы Метали в стены голыши. Я одевался в тучи пыли, Я брёл на лобные места, Но палачи себя белили Широким знаменем креста. Так целым миром неприкаян, Я возвращался, сделав круг, И там не брат мой – некто Каин Кормил меня с костлявых рук. Алла Шарапова КОСТРОМА Спой мне, матерь моя Кострома, Как сводили строптивых с ума, Как их бедность вела под венцы, Как дарили им кольца купцы Да просили сыграть что-нибудь... Как с обиды им целились в грудь, Как с обрыва толкали их в пруд, – Не утонут, от ран не умрут, Ведь не тело, а кровь да эфир У Ларис, у Анфис, у Глафир... Из эфира и крови луна. Монастырская в поле стена. За стеной, за излучиной – Плес. Два пригорка в венцах из берез, Как жених с нареченной, стоят. Белый катер летит на закат. Марк Шатуновский муха все нитяное туловище мухи нанизано на нервную систему с моточком мышц, наверченных на брюхе, и на подвесках лап поставлено на стену. она несет свои простые мысли и, может быть, свои большие чувства так, если бы ее сомненья грызли о смысле жизни, сложной и невкусной. забравшись к мухе в ворсовые поры, на ней живет микроб дизентерии, он сам с собой ведет подолгу споры о мерах пищевой санитарии. а мы живем с тобою по соседству от нежной мухи, мудрого микроба, но как-то так нас приучили с детства, что мы умней и сделаны особо. и как бы ни была ты грандиозна, почти трансцендентальна и прекрасна, на эту муху смотришь ты нервозно, хотя она нисколько не опасна. и ты берешь вчерашнюю газету с трухою освещенных в ней событий, и убиваешь ею муху эту, лишив ее предчувствий и наитий. и сразу в комнату ворвался скорый поезд, на стыке рельсов грохоча железно... а можно было жить, не беспокоясь, и жить себе легко и бесполезно. Екатерина Шевченко * * * Теперь в лесу туман и ветер, И месяц в реках колет лёд. И если смерть кого заметит, Того к себе и приберёт. Вчера я с книгою сидела На плохоньком крыльце весны И птица пела то и дело, Что мы с тобой разлучены. Мне было пасмурно и сладко, Как будто кто меня позвал. Мне вечер положил закладку, Мне дождь страницы целовал. Леонид Шевченко * * * Мне больно ждать пустынное метро. В моей земле о кости ударяясь, живая кровь клокочет. Всё равно смотреть на небо, в корни удаляясь. Я славно жил в отравленном дыму среди цепей и омута больного мне пить вино в медлительном дому дано навек от празднества былого. Крестообразно пламенные льды легли на сон и тёплые решётки. Забвение – как тяжкий вздох воды – на трёх мирах. Я собираю шмотки, беру билет, нетающий билет. Когда зима. Но снег идёт на убыль, почти на смерть. Январский мой скелет сломался вмиг, на стёклах виден Врубель. Сюжет весны, которой не бывать. На этажах обугленной державы Один ковыль способен умирать. Берёшь билет до Леты до Варшавы, И свет погас, но лампочка горит, В твоих устах и голос на Венеру. Придёт весна и снег заговорит, Разъятый вмиг на траур и холеру. Михаил Щербина ОСЕНЬ Возьми пучок лучей. Они – из пенопласта. Не пробуй их пустить сквозь выпитый графин. Они в руке – скользят. Их медленная паста напоминает мне про скучный город Клин. Без мысленной борьбы за правильные всходы далёкий поля край в расчёте на закат особо в этот день отчётливой свободы мне высветил пути в прозрачный интернат. Ветшающий чердак. Сгоревший склад наклонный. Подкупленный мираж. Никчёмной сказки власть. Гремят в грузовике тяжёлые баллоны. Добавлен воздух грёз. Брезент решил упасть. Надменная пора осеннего распада! Не знаю, как разжечь твой грустный небосклон, не знаю, сколько ждать до главного парада, но всё-таки везде возможен полигон для знатных снов. Другим бывает почему-то плато. На улицах – ветра. Блестит киоск. Сор мчится меж дворов, как вязаная юрта. Теплеет солнце. На губах – горелый воск. ТАТЬЯНА ЩЕРБИНА * * * Я плачу оттого что нет грозы, Как зелень ядовита в это лето! Такого фосфорического цвета Нет в каталогах средней полосы. Я плачу – оттого что медлит дождь, Стоит в резьбе нефритовой крапива, Природа неестественно красива, Всё нынче зацветает, даже хвощ. Я плачу. На малиновой щеке Застыла лихорадочная блёстка. Я бледная от роду – как извёстка, И я привыкла жить на сквозняке. Но жжёт глаза от ирисов и роз, И ветры затаились для удушья – Ну что же ты, земля моя недужья, Спасительных не проливаешь слёз! Юрий Юрченко * * * …Ах, ругать ли мне голос внутренний, Эту чёртову крыть гордыню ли?.. – Вот уж дом окружили и ждут меня Чёрные камердинеры… …Ах, святые отцы забытые, Так о чём же мне всё твердили вы?.. – Но в саду уж стучат копытами Чёрные камердинеры… … Не увидеть мне больше утренний Золочёный свет за гардиною… Вот уж дом окружили и ждут меня Чёрные камердинеры…