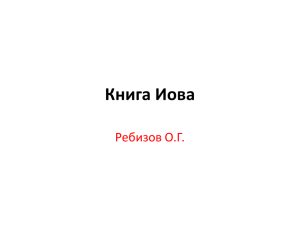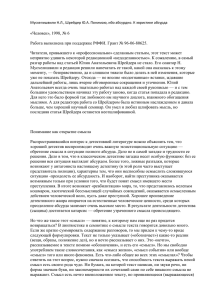Понимаю, ибо абсурдно Н.Л. Мусхелишвили, Ю.А. Шрейдер К эвристике абсурда
реклама
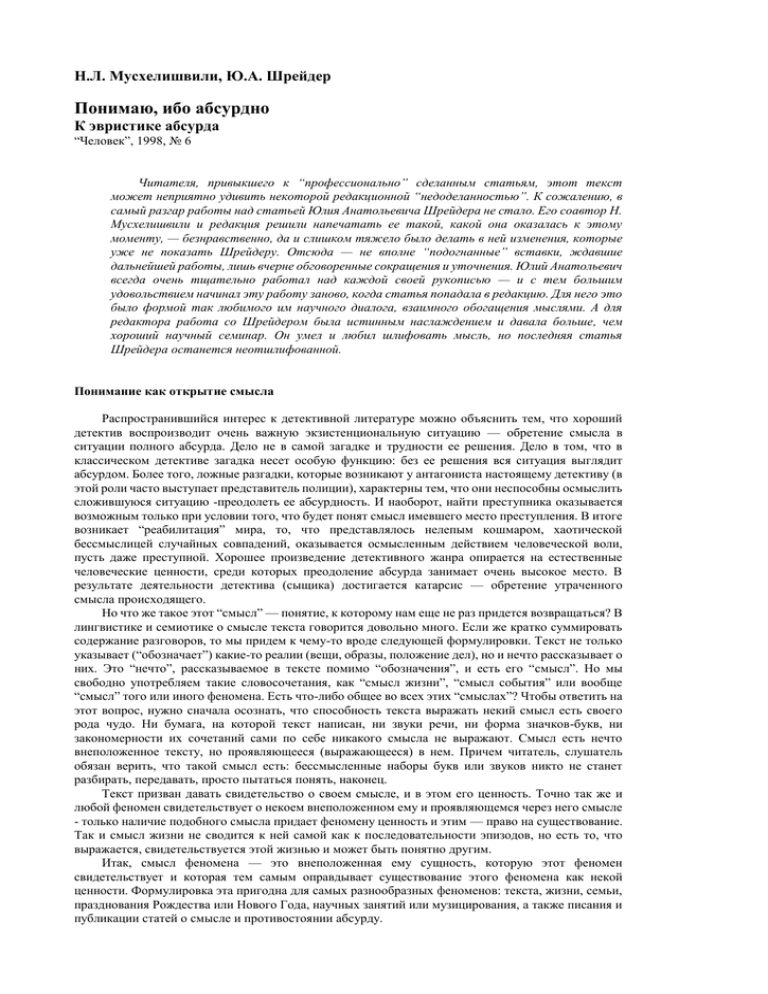
Н.Л. Мусхелишвили, Ю.А. Шрейдер Понимаю, ибо абсурдно К эвристике абсурда “Человек”, 1998, № 6 Читателя, привыкшего к “профессионально” сделанным статьям, этот текст может неприятно удивить некоторой редакционной “недоделанностью”. К сожалению, в самый разгар работы над статьей Юлия Анатольевича Шрейдера не стало. Его соавтор Н. Мусхелишвили и редакция решили напечатать ее такой, какой она оказалась к этому моменту, — безнравственно, да и слишком тяжело было делать в ней изменения, которые уже не показать Шрейдеру. Отсюда — не вполне “подогнанные” вставки, ждавшие дальнейшей работы, лишь вчерне обговоренные сокращения и уточнения. Юлий Анатольевич всегда очень тщательно работал над каждой своей рукописью — и с тем большим удовольствием начинал эту работу заново, когда статья попадала в редакцию. Для него это было формой так любимого им научного диалога, взаимного обогащения мыслями. А для редактора работа со Шрейдером была истинным наслаждением и давала больше, чем хороший научный семинар. Он умел и любил шлифовать мысль, но последняя статья Шрейдера останется неотшлифованной. Понимание как открытие смысла Распространившийся интерес к детективной литературе можно объяснить тем, что хороший детектив воспроизводит очень важную экзистенциональную ситуацию — обретение смысла в ситуации полного абсурда. Дело не в самой загадке и трудности ее решения. Дело в том, что в классическом детективе загадка несет особую функцию: без ее решения вся ситуация выглядит абсурдом. Более того, ложные разгадки, которые возникают у антагониста настоящему детективу (в этой роли часто выступает представитель полиции), характерны тем, что они неспособны осмыслить сложившуюся ситуацию -преодолеть ее абсурдность. И наоборот, найти преступника оказывается возможным только при условии того, что будет понят смысл имевшего место преступления. В итоге возникает “реабилитация” мира, то, что представлялось нелепым кошмаром, хаотической бессмыслицей случайных совпадений, оказывается осмысленным действием человеческой воли, пусть даже преступной. Хорошее произведение детективного жанра опирается на естественные человеческие ценности, среди которых преодоление абсурда занимает очень высокое место. В результате деятельности детектива (сыщика) достигается катарсис — обретение утраченного смысла происходящего. Но что же такое этот “смысл” — понятие, к которому нам еще не раз придется возвращаться? В лингвистике и семиотике о смысле текста говорится довольно много. Если же кратко суммировать содержание разговоров, то мы придем к чему-то вроде следующей формулировки. Текст не только указывает (“обозначает”) какие-то реалии (вещи, образы, положение дел), но и нечто рассказывает о них. Это “нечто”, рассказываемое в тексте помимо “обозначения”, и есть его “смысл”. Но мы свободно употребляем такие словосочетания, как “смысл жизни”, “смысл события” или вообще “смысл” того или иного феномена. Есть что-либо общее во всех этих “смыслах”? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала осознать, что способность текста выражать некий смысл есть своего рода чудо. Ни бумага, на которой текст написан, ни звуки речи, ни форма значков-букв, ни закономерности их сочетаний сами по себе никакого смысла не выражают. Смысл есть нечто внеположенное тексту, но проявляющееся (выражающееся) в нем. Причем читатель, слушатель обязан верить, что такой смысл есть: бессмысленные наборы букв или звуков никто не станет разбирать, передавать, просто пытаться понять, наконец. Текст призван давать свидетельство о своем смысле, и в этом его ценность. Точно так же и любой феномен свидетельствует о некоем внеположенном ему и проявляющемся через него смысле - только наличие подобного смысла придает феномену ценность и этим — право на существование. Так и смысл жизни не сводится к ней самой как к последовательности эпизодов, но есть то, что выражается, свидетельствуется этой жизнью и может быть понятно другим. Итак, смысл феномена — это внеположенная ему сущность, которую этот феномен свидетельствует и которая тем самым оправдывает существование этого феномена как некой ценности. Формулировка эта пригодна для самых разнообразных феноменов: текста, жизни, семьи, празднования Рождества или Нового Года, научных занятий или музицирования, а также писания и публикации статей о смысле и противостоянии абсурду. Теперь можно вернуться к нашим детективам. А заодно к тесно связанному с понятием смысла вопросу об объяснении и понимании, набившем оскомину многим философам (и читателям философской литературы) в XX веке. А. Конан Дойл обманул читателя, создав образ Шерлока Холмса, действующего якобы на основе дедуктивного метода, т.е. опирающегося прежде всего на мышление. Плеяда последующих литературных знаменитостей этого жанра (Эркюль Пуаро, мисс Марпл, комиссар Мегре) опиралась не столько на дедукцию, сколько на сердцеведение — понимание тайных пружин человеческих поступков. Они опирались на понимание. Как писал А.Ф. Лосев, “Мышление и понимание — принципиально различные сферы сознания... Мышление есть как бы некий механизм, превращающий неоформленное сырье в данные технически оформленные вещи. Понимание же заново перекраивает и переделывает эти вещи, придавая им новый стиль и новое единство, какого там, в первоначальном их появлении, совсем не было... Понимание даже не есть процесс чисто интеллектуальный, каковым, несомненно, является мышление” [Лосев А.Ф. Структура и Хаос. М., 1997. С. 49]. Эту цитату трудно оборвать, ибо Лосев говорит и о теснейшей связи понимания и мышления, о том, “чтобы что-нибудь помыслить, надо это как-нибудь понять; и чтобы нечто понять, надо его как-то помыслить”. Для нас здесь важно, что установление смысла феномена есть прежде всего и по преимуществу акт понимания этого феномена постигающим субъектом, хотя в реальном познании мышление и понимание тесно переплетаются. Мышление о феномене не требует полного понимания этого феномена, не нуждается в постижении его смысла. Но, чтобы сколько-нибудь содержательно мыслить о феномене, необходимо понять хотя бы, чем данный феномен выделяется среди других, что он сообщает наблюдателю самим фактом своего существования. Например, чтобы мыслить о содержании текста, необходимо, как минимум, понимать тот факт, что перед тобой осмысленный текст, и язык, на котором этот текст написан. С другой стороны, понимание в известной степени опирается на мыслительные операции с объектом, подлежащим пониманию. Так, понимание текста может включать в себя грамматический анализ предложений, поиск в энциклопедическом словаре или тезаурусе — вообще, в широком смысле истолкование текста. Столь же закономерно использование детективом дедукции (мыслительных умозаключений) для понимания ситуации, относительно которой ведется расследование. Разница, однако, между мышлением и пониманием состоит в том, что в первом случае тупик возникает в форме противоречия — вывод приводит к взаимно исключающим друг друга следствиям, а во втором — в установлении абсурдности феномена как не имеющего смысла. Можно мыслить о феномене, не будучи уверенным в его реальном существовании, но понять такой феномен нельзя. Понимать — это, в частности, значит отличать реальность от иллюзии. С помощью мыслительных процедур можно убедиться, что мыслимый феномен обладает противоречивыми свойствами — о нем можно с равными основаниями сделать два взаимно исключающих друг друга высказывания. Тем самым предположение о существовании такого объекта приводит к логическому противоречию. К числу таких объектов принадлежит множество всех множеств, не содержащих себя как элемент. (Тот самый знаменитый парадокс: цирюльник бреет всех мужчин в городе, которые не бреются сами; кто тогда бреет самого цирюльника?) Путем чисто мыслительных операций удается прийти к заключению, что вышеопределенное множество обладает двумя взаимно исключающими друг друга свойствами, то есть его определение содержит в себе логическое противоречие и, стало быть, смысла не имеет. Из этих рассуждений следует, что привычная для математической теории множеств мысленная конструкция образования множества всех объектов, обладающих неким свойством, может привести к полному абсурду, если эти объекты сами являются множествами. Множество всех множеств абсурдно, потому что его некоторое естественно определяемое подмножество заведомо не существует. Но хотя речь идет лишь о мыслимом объекте, признание его абсурдности меняет представление о вполне реальном мире, ибо ограничивает сферу применимости к этому самому реальному миру широко использовавшихся доселе логических построений. Этим данная ситуация принципиально отличается от известных ситуаций, где на картинках изображаются невозможные (абсурдные) объекты. Эти объекты абсурдны тем, что не могут поместиться в реальном мире без нарушения царящих в нем геометрических законов. Но это не порождает противоречия в логическом смысле. Это лишь свидетельство того, что в реальном и изображаемом мире действуют различные законы. Более того, законы в мире художественных образов устанавливает их творец — художник. И нарушение законов действительности, осуществляемое в ее изображении, подчеркивает незыблемость их проявления в реальном мире и, одновременно, показывает, что само наличие этих законов не является фатально непреложным, не вынуждается естественными причинами. В этих законах отпечаталась воля установившего их творца. Противоречия же теории множеств, обнаруживают, как уже отмечалось, абсурдность иного рода: показывают, что логика мыслительных операций не адекватна логике строения реальности. В следующем пункте мы покажем, что использование, казалось бы, бесспорных (или общепринятых) силлогизмов чаще, чем мы думаем, чревато впадением в абсурд. И в этом их отличие от противоречия с логикой реального мира, . возникающего в мире образов: с помощью образов мы можем познавать не только реально существующее, но также должное и недолжное, противоречащее незыблемым законам реального мира, как это происходит в “невозможных” изображениях или фантастических произведениях. И несогласованность образов в воображаемом мире с тем, что происходит в повседневной реальности, скорее подчеркивает ее законосообразность, наличие в ней смысла, отсутствующего в мире образов. Абсурдность ситуации и осмысленность поведения Мы будем исходить из того, что смысл феномена есть внеположенная ему сущность, оправдывающая существование этого феномена как некоей целостности и определяющая естественное место этого феномена в мире явлений. Это понимание смысла можно распространить на Вселенную как целое. С точки зрения пантеизма, являющегося логически последовательной формой материализма. Вселенная смысла не имеет, ибо ее существование самодостаточно. Бог, логос или законы, направляющие ее развитие, лежащие в основе ее возникновения или возможной гибели, составляют общее целое с видимой Вселенной. В ней самой заключена необходимость всего происходящего с ней. При этом безразлично, является ли становление сущего строго детерминированным (самодетерминированным) процессом, или же во Вселенной царит случай, создающий согласно принципам синергетики отдельные упорядоченные структуры, соответствующие естественно возникающим аттракторам. Поведение человека или общества может быть осмысленным, если оно имеет цель, которую стремится достичь, или если оно ориентируется на определенные ценности. Поведение реализуется здесь и сейчас, в то время как цели и ценности не локализованы во времени и пространстве, то есть внеположены конкретному поведению. Разумеется, если эти цели и ценности составляют только компонент программы, заложенной в индивидуальную память субъекта или коллективную память сообщества, то говорить об их “внеположенности” не приходится, а само поведение лишается смысла. Можно даже согласиться, что цель поведения полагается самим субъектом поведения, хотя результат этого поведения может существенно расходиться с его целью. Однако о ценностях можно говорить только как об идеальных сущностях, внеположенных субъекту, хотя представление о них передается через эстафету социальной памяти в виде предписаний, запретов и образцов поведения. Во всяком случае, сами ценности являются таковыми, если они действуют не только в рамках конкретного поведенческого акта, преследующего определенную цель, но в контексте существования субъекта и сообщества. Субъект может находиться в абсурдной ситуации, исход которой предопределен неумолимой детерминированностью (роком или судьбой с точки зрения субъекта) или слепым случаем. Но при этом его поведение может быть осмысленным как поведение человека, стремящегося сохранить свое достоинство в условиях неумолимого наступления катастрофы или случайной гибели. Этический идеал пантеистов-стоиков состоял в том, чтобы сохранять человеческое достоинство в абсурдном мире, развивая в себе свойство “апатейи” — нечувствительности к происходящему. Апатейя позволяет осуществлять осмысленное поведение в абсурдном мире, заставляющем человека непрестанно попадать в абсурдные ситуации. Достичь апатейи — идеал мудреца, а удел обычных людей — влачить бессмысленное существование. В некотором смысле мудрец-стоик отрицает весь остальной мир, включая всех остальных людей. Он не замечает происходящей несправедливости, наносимых ему оскорблений и грозящих преследований. Благодаря достигнутому состоянию апатейи он не чувствителен к абсурдности мира и тех ситуаций, в которые он попадает, избегая этим фрустрации от бессмысленности происходящего. Б. Спиноза явно формулирует этическую задачу человека как состоящую в том, чтобы принять необходимость происходящего и этим избежать хаоса дурных аффектов. Человеку не дано противостоять абсурду, царящему в мире, но он способен избежать абсурда неупорядоченных аффектов в своей душе, Такова позиция человека, вытекающая из пантеистического представления о мире. Совсем иной тип поведения в ситуации абсурда демонстрируют библейские персонажи: Иов и его друзья. Абсурд ситуации Иова состоит в том, что он наказан, не будучи виновным. Это нарушает представление Иова и его друзей о том, что Бог есть гарант справедливости в подвластном ему мире — добро закономерно вознаграждается, зло карается — именно такого рода справедливость принимается ими в качестве критерия смысла происходящих в мире событий. Она изначально представляется бесспорной и самому Иову, и его друзьям. Для них справедливое воздаяние за грехи и заслуги есть знак того, что существование Бога как внеположенной миру сущности делает мир осмысленным. Такова знаковая функция справедливого воздаяния за добро и зло. В этом представлении можно найти явный отголосок архаического магизма, основанного на вере в то, что мир сакрального устроен на принципе детерминизма: определенные действия человека вызывают строго определенные реакции божества. В древнебиблейском монотеизме буквальное представление о том, что Бог подчиняется магическому ритуалу — т.е. фактически управляется человеком, уже преодолено. Бог внеположен миру, им нельзя управлять с помощью магических действий. Наоборот, человек, как творение Бога, обязан подчиняться Его Завету. Это не значит, что Бог управляет человеком как марионеткой — Бог не может заставить человека выполнять установленный Богом закон. Но и человек не управляет Богом, вынуждая Его путем исполнения закона обеспечивать исполняющему чаемую награду. Книга Иова учит, что даже готовность служить Богу стремлением к праведной жизни может оказаться не столь далекой от языческих попыток вынудить у Бога благодеяния. Можно, конечно, признать, что служение Богу путем достижения праведности есть более глубокая степень религиозности, чем попытка манипулировать Богом путем жертвоприношений и магических ритуалов. Но книга Иова свидетельствует, что и эта более глубокая религиозность — еще не то, что хочет от человека Бог. Праведность Иова есть предпосылка всей ситуации, в которую он попадает [Мусхелишвили Н.Л., Шрейдер Ю.А. Иов-ситуация: искушение абсурдом // Филос. и соц. мысль. 1991. №8. С. 41-53.]. Изначально Иов есть как бы подтверждение принципа Божественной справедливости — он богат и благополучен. С силлогизма “праведен, следовательно, вознагражден” начинается книга Иова. И тут принципиально важно возражение Сатаны Богу, восхваляющему Иова: “разве даром богобоязнен Иов?” (Иов 2,9). Сатана как истый “адвокат дьявола” выворачивает приведенный выше силлогизм наизнанку “вознагражден, потому и праведен”. Это оказывается неверным по отношению к Иову, но само по себе такое выворачивание принципа, по которому человек может, якобы, манипулировать Богом путем следования Его заповедям, наглядно демонстрирует опасности исходного силлогизма, утверждающего неизбежность вознаграждения хороших поступков и благонамеренности как принцип мироздания. Парадокс состоит в том, что человек, живущий по такой максиме, праведником не является. Суть в том, что ожидание неминуемой награды за праведность равносильно взятию на себя прерогативы Божеского суда: человек заранее считает себя знающим как поступить, чтобы добиться от Бога желаемой награды, вместо того, чтобы с трепетом ждать, какую участь назначит ему Бог. Это тем более так, когда человек уповает на вознаграждение в посюсторонней жизни, полагая смысл своей жизни в ней самой. Иов и его друзья религиозно правы, понимая, что его благосостояние (богатство, благополучное потомство) исходит от Бога — составляет знак Его благоволения. Иов в своем послушании Богу заходит достаточно далеко, когда благословляет Бога после потери имущества и детей, и даже после того, как Сатана поразил его “проказою лютою”. Итак, Иов не принимает “магических” силлогизмов Сатаны. Иов страдает не столько от язв, сколько от Богооставленности, от того, что в своих несчастиях он не слышит голоса Бога, не обнаруживает Его присутствия, не понимает Его намерений. В этом заключается абсурдность происходящего для самого Иова. Эта ситуация абсурдна и для его друзей, знавших о праведности Иова. Но, в отличие от Иова, навестившие его друзья целиком принимают магическую установку “праведность влечет награду”, причем в этой, земной жизни. Поскольку заключение этого силлогизма ложно, то по неумолимым законам логики посылка его также ложна. Стало быть, заключают друзья, Иов совершил некий грех, который не хочет осознать. В этом они тщетно пытаются убедить и самого Иова. Этот спор экзистенциально небезразличен для обеих сторон, ибо принять противоположное мнение для каждой стороны означает признать абсурдность мира, невозможность понять сущее. Правомерно предположить, что друзья столь настойчивы в своей аргументации не потому, что они жаждут поддержать Иова, — хотя такой мотивировкой они могут оправдывать свою жестокость в этом споре. Объяснить настойчивую бессердечность Елифаза и других друзей, пришедших на пепелище Иова, казалось бы, для того, чтобы посочувствовать его страданиям — утешить его, можно лишь одним. Суть позиции Елифаза состоит в утверждении незыблемости магического силлогизма. Апофеоз его первой речи заключен в стихе: “Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искоренены?” (Иов 4,7). Сомнение в этом подорвало бы основную смыслообразующую опору Елифаза — уверенность в том, что Божественная справедливость полностью проявляется в посюсторонней реальности, является законом этой реальности, то есть законом в пантеистическом понимании. Иными словами, пафос друзей Иова, для выражения которого им понадобилось 13 глав посвященной ему книги, зиждется на утверждении пантеистического мировосприятия: Иов не должен сетовать на случившееся с ним, ибо это было неизбежно, ибо он виновен, но не хочет этого признать. По мнению друзей, смысл мира зиждется на законах, являющихся неотъемлемой частью этого мира, а попытки Иова это отрицать, настаивая на своей невиновности, делают мир абсурдным. Вот почему друзья Иова ополчились так против него. Но Иов в своем экзистенциальном опыте обнаруживает ложность магического силлогизма и его сатанинских трансформаций. Как и его друзья, он всеми силами души сопротивляется абсурдности ситуации, в которую он оказался погруженным. Он не принимает ее осмысления через восстановление в правах отвергаемого силлогизма — принципа посюсторонней справедливости, настаивая на своей невиновности. Абсурд для Иова состоит не в нарушении убогого силлогизма, но в молчании Бога. Иов вопиет к Богу, чтобы убедиться в его присутствии, которое он до того ощущал в благоволении Бога. Для Иова поиск смысла (понимания сущего) состоит не в том, чтобы отстоять действительность простенького силлогизма, но в том, чтобы ощутить присутствие Бога. Последней в споре следует речь Елиуя, который оспаривает и Иова, и его друзей, но с иной позиции. Он говорит о непостижимой справедливости Бога — “Бог велик, и мы не можем познать Его” (Иов 36, 26). Но интересно, что Иову не дается возможности ответить Елиую, ибо после окончания его речей сам “Господь отвечал Иову из бури” (Иов, 38, 1). Некоторые комментаторы считают весь текст, связанный с Елиуем, о присутствии которого ранее не упоминалось, позднейшей вставкой. О том же, что Иову нужны от Бога не признания невиновности, но лишь проявление Его присутствия, свидетельствует покаянное смирение Иова перед лицом Бога (Иов 39, 33-35). Когда Иов взывает к Богу о своей Богооставленности, то невольно вспоминается вопль Иисуса на кресте: “Или, Или, Лама Савахфани” (Мф 27, 46). В этом евангельском эпизоде ситуация Иова реализуется в предельном и наиболее чистом варианте — безусловный праведник Иисус не говорит ни слова о своей праведности, но взывает к Отцу, ощущая в тот момент свою Богооставленность. Вопль Иисуса как бы оправдывает и осмысляет жалобы Иова. Книга Иова как бы предвещает грядущую искупительную жертву Иисуса. Пережитые им страдания исполнены смысла, ибо в них отвергнут языческий принцип магической манипуляции Богом ради получения земных благ. Подчеркнем парадоксальное обстоятельство: Яростно спорящие Иов и тройка его друзей озабочены одним и тем же: преодолением абсурдности сложившейся ситуации. Притязания друзей, в сущности, минимальны; для них абсурд заключается фактически в противоречии декларируемой Иовом невиновности и силлогизмом, что “праведность вознаграждается”. Достаточно Иову признать свою вину, и абсурд рассеялся бы как дым. Для Иова абсурд заключается в том, что он не понимает замысел Бога. Для него речь идет не о снятии противоречия, а о понимании смысла имеющего места парадокса абсурда: абсурд — это отсутствие в происходящем смысла (невозможность понять происходящее) и, одновременно, абсурд можно преодолеть только постигнув смысл, состоящий в самом возникновении абсурда. Для этого надо верить, что возникновение абсурда содержит в себе некий смысл. В переводе на ситуацию Иова это значит, что он готов признать смысл в абсурдности происшедшего с ним, если поймет, что за этим стоит замысел Бога, а не слепой случай. Абсурдность исходного феномена при этом остается, но феномен появления абсурда осмысляется. Такое понимание удается Иову через веру. Не в этом ли смысл парадокса Тертуллиана: “верю, ибо абсурдно”? Спор: погружение в абсурд или обретение смысла Жесткий характер спора Иова с друзьями вызван, как мы уже отмечали, экзистенциальным характером этого спора. Признание правоты оппонента для любой стороны равносильно отказу от важнейших экзистенциальных опор, то есть экзистенциальной гибели — самозачеркиванию себя как самостоятельного индивида. Этот спор можно рассматривать как прототип любого экзистенциального спора, в котором обе стороны отстаивают не отдельные мнения по тем или иным вопросам, но те жизненные установки, которые вынуждают именно эти мнения. Отказ от соответствующего мнения равносилен разрушению установки, что может оказаться экзистенциальным крахом, а поражение в споре — разрушением личности или, в лучшем случае, ее трансформацией. Последнее весьма болезненно, ибо происходит через переживание ситуации абсурда — невозможности ни сохранить сложившееся мнение, ни принять чужое. Первое опроверг оппонент, и его аргументы неопровержимы. Второе противоречит жизненным установкам — фундаментальному архетипу личности. В результате правильные мыслительные операции привели к положению, когда обе видимые альтернативы противоречивы, то есть понимание обсуждаемого в споре феномена невозможно и смысл оказывается безнадежно утраченным. Целесообразно различать как феномены разной природы дискуссию и спор. Дискуссия — это совместное мышление, когда участники дополняют и корректируют аргументацию друг друга, исходящую из достаточно близких оснований. По крайней мере, эти основания они способны прояснить друг для друга. А.А. Любищев, обсуждая проблемы этики научных дискуссий, утверждал, что следует за оппонента уточнять формулировку оснований его точки зрения и укреплять его аргументацию в тех пунктах, которые в этом нуждаются и в которых это можно сделать. Только после этого правомерно применять контраргументы, опровергающие точку зрения оппонента. Эти рекомендации Любищева означают возможность найти общее основание для аргументации всех участников дискуссии. Всегда ли имеет место такая возможность? С.В. Мейен, отталкиваясь от этих рассуждений Любищева, показал, что так бывает не всегда. Очень часто разногласия спорящих сторон связаны с тем, что эти стороны исходят из разных установок, из разных интуитивных видений объекта спора, которые невозможно свести к единому основанию для используемой аргументации. Принцип сочувствия, выдвинутый Мейеном [Мейен С.В. Принцип сочувствия // Пути в незнаемое. М., 1997], утверждает как моральный императив требование к спорящему вчувствоваться в установку оппонента, понять ее и условно принять, чтобы мысленно реконструировать его аргументацию, проверяя ее корректность в рамках его исходной установки. Этим достигается хотя бы то, что аргументация оппонента может быть понята и ситуация спора обретает смысл. Дальнейшее взаимопонимание возникает или в трудных попытках выработать общую установку, приемлемую для обеих сторон, или в признании обоюдного права на свое видение объекта спора, когда дальнейшее обсуждение нецелесообразно, ибо для обсуждения нет общего предмета, поскольку тот же объект рассматривается спорящими в различных несопоставимых ракурсах. Было бы справедливо ввести категориальное различение экзистенциального спора, в котором происходит испытание абсурдом — невозможностью понять друг друга из-за различия исходных установок, и дискуссии как нормального процесса коллективного мышления. В экзистенциальном споре возникает парадокс абсурда — понимание достигается через осознание абсурдности ситуации, в которой понимание принципиально невозможно, ибо нельзя понять смысл феномена, если этот смысл отсутствует. Друзья-оппоненты Иова пытаются преодолеть абсурд путем “исправления” реальной ситуации — признания Иова виновным и заслуживающим наказания. Иов идет ради поиска смысла вглубь. Он понимает, что постоянного соотношения между виной и наказанием не существует. В этом отношении мир абсурден. Но еще абсурдней и безнадежней искать смысл человеческого бытия в установлении неизменного баланса между действием человека и божеским возмещением за это действие. Парадоксальным образом именно ситуация абсурда усиливает веру Иова, концентрирует его в вере, подвигая на богоборчество как подвиг веры. Испытание абсурдом оказывается путем к вере, позволяющей непосредственно обратиться к Богу с требованием объяснить смысл происшедшего с ним. “Его вопрошания... трагически укоренены как раз в его верности Богу и даже в нравственной невозможности от Него отказаться” [Козырев Ф.Н. Искушение и победа святого Иова. СПб., 1997. С.206]. Это не бунт против Бога, а обращение к нему как к единственной оставшейся опоре. Именно поэтому Бог поручает друзей Иова молитвам последнего. Иными словами, правота Иова не в его претензиях к Богу (этой правоты Бог не подтверждает), но в обращении к Богу как к финальному источнику смысла, в вере в то, что Бог не допускает бессмыслицы. Своим вопрошанием он протестует против признания Бога попускающим абсурд. А это уже не бунт (несмотря на видимость бунта), но славословие Бога. Может показаться неуместным сопоставление предельной ситуации святого праведника Иова с обычной жизненной ситуацией, в которую может попасть каждый и в которой испытание абсурдом часто связано всего лишь с душевным дискомфортом. Мы все же считаем правомерным использовать книгу Иова как описание архетипа ситуации, где понимание происходящего возможно лишь через искушение абсурдом, преодолеваемое подвигом веры. Иов верил, что происходящее с ним не может быть бессмысленным, но этот смысл невозможно было установить в споре с друзьями. Поэтому он вел спор не с ними, но с самим Богом. Подобно этому спор между людьми может оказаться неразрешимым внутри отношений между спорящими, когда сторона, наиболее активно стремящаяся понять оппонента, не в состоянии обнаружить в его позиции смыслообразующих компонент. В такой ситуации смысл следует искать в более широком контексте — само возникновение бессмыслицы требует понимания и, тем самым, введения в смысловой контекст. Неразрешимость спора часто связана с несовместимостью исходных познавательных установок сторон. Для спорящего принятие установок оппонента выглядит абсурдом, более того, такое принятие равносильно разрушению собственного внутреннего мира, что экзистенциально равносильно гибели. Принцип сочувствия велит осознать, почувствовать установку оппонента, но не требует ее принимать в качестве своей. В качестве основы консенсуса можно принять признание установки Оппонента как объективно существующий факт, имеющий смысл в более широком контексте. Этого еще недостаточно для взаимопонимания, но может оказаться началом пути к нему. Различие установок можно попытаться осознать как выделение в одном и том же объекте различных предметов изучения и освоения. Взаимопонимания можно достичь в результате осознания общности объекта спора, обладающего достаточно глубокой онтологией, дающей право на выделение в нем, казалось бы, несовместимых предметов. Тогда результатом взаимопонимания явится отыскание системных соответствий между предметами, находящимися в поле наблюдений сторон. Вместо ситуации спора можно рассматривать герменевтическую ситуацию понимания текста с дефектным или отсутствующим смыслом. Понимание в этой ситуации состоит не в обнаружении смысла текста, но в понимании причин его дефектности. Если невозможно понять смысл чего-то, то следует понять контекст, определивший дефектность смысла. От такой ситуации коренного абсурда следует отличать случай абсурда кажущегося, связанного с, казалось бы, непреодолимыми трудностями понимания. Типичным примером такого случая в науке служит ситуация, когда требуется понять “безумную идею”, которая вначале воспринимается как абсурд. Аналог из социальной жизни напрашивается сам собой. Сталинские массовые репрессии, направленные часто против тех, кто ощущал себя преданным сторонником коммунистического режима или, по меньшей мере, коммунистической идеи, создавали ситуации, воспринимавшиеся как абсурдные. В этом смысле в лучшем положении оказывались сознательные противники режима, ясно представлявшие себе его античеловеческую направленность. (В произведениях В.Т. Шаламова и А.И. Солженицына можно найти разоблачение зверств режима, но не растерянность авторов от бессмысленности происходящего. Для них ход событий имеет ясное объяснение. Это не значит, что они признают справедливость репрессий — они видят в них отчетливую логику зла, вырвавшегося из-под контроля морального закона и обретшего способность навязать миру свои правила действий. Наоборот, лояльные жертвы трагически воспринимали происходящее как чудовищную нелепость, как бессмыслицу выдвигаемых против них обвинений в шпионаже, диверсиях и терроре. Отсюда стремление убедить себя в виновности других жертв, чтобы найти объяснение случившемуся с ними самими в случайной ошибке.) Рассмотренные нами два случая искушения абсурдом преодолеваются не путем реконструкции его логики — эта логика сама по себе нисколько от абсурда не защищает. Немало людей понимали эту логику и принимали ее в качестве закона жизни. Тем самым они становились винтиками той же дьявольской машины, хотя это не гарантировало от того, чтобы стать ее же жертвой. Защиту от абсурда дает только способность вырваться за пределы этой логики в область, где царит смысл. Эта способность основана на вере в существование смысла. Иов верит, что Бог не бездушный гонитель, наказывающий его за несуществующую (по крайней мере, несоразмерную испытываемым мучениям) вину. И это дает ему энергию вопрошания, энергию Богоборчества, которое оказалось Богоугодный поведением. Это подвиг веры. Структурно схожим образом человек, пытающийся найти отсутствующий смысл в некоем тексте или феномене, если он упорно не готов согласиться считать абсурд правомерным, способен приложить максимум усилий, чтобы найти тот контекст, в котором сам факт образования бессмыслицы может быть понят и погружен в осмысленный контекст. Более того, само непонимание текста, сама ситуация абсурдности перед тем, что кажется невозможным понять, есть приглашение или вызов к пониманию: “Читать — не понимать, недоумевать. Текст, который я не понимаю, дает мне [возможность] понять мое непонимание, высвечивает мои предрассудки” [Мерлин В.В. Пушкинский домик. Алма-Ата, 1992. С. 3]. Но для этого нужна вера или, по крайней мере, надежда на присутствие смысла в самом тексте. Реально ощущаемая бессмыслица и глубокая надежда (вплоть до веры) на присутствие смысла составляют вместе плодотворный парадокс абсурда. Так, вера в то, что математику можно, в конечном счете, построить непротиворечивым образом, стимулировала поиски таких оснований теории множеств, где не может возникнуть описанный парадокс “множества всех множеств”. Без этой веры человек не способен сконцентрироваться на поисках смысла, но предпочитает плыть по течению, принимая абсурд за норму, которой он приписывает фиктивный смысл. Идеология — это как раз и есть способ приписывать абсурдному положению вещей фиктивные смыслы, в которые человек одновременно верит (поскольку какой-то смысл ему необходим) и не верит (в силу очевидной нелепости и невозможности). Идеология часто задает эти фиктивные смыслы в форме целей, которые никогда не могут быть достигнуты. Тем самым эти смыслы оказываются, как и следует настоящему смыслу, внеположенными реальности, имеющей место здесь и теперь. Но они существуют одновременно и в этой реальности как некий императив, направляющий и оправдывающий эту наличную реальность. Отдельно следует рассмотреть второй случай абсурдной ситуации, когда субъект оценивает некоторый текст или, вообще, некий феномен как бессмысленный, хотя речь идет о его собственной неспособности ухватить ускользающий, трудно понимаемый смысл. В этом случае основой преодоления абсурда, несомненно ощущаемого субъектом, оказывается скорее не вера в наличие смысла в пределах понимаемого феномена, но надежда [См.: Рэдклифф Т. Неистощимый источник надежды // Новая Европа. 1996. №9. С. 3-16] на то, что этот смысл может открыться. Эта надежда служит опорой для того, чтобы пытаться преодолеть трудности понимания, обнаружить в феномене ускользающее соотношение отдельных моментов, несмотря на невнятность их выражения в этом феномене. Здесь действует некий моральный императив, согласно которому в определенных ситуациях субъект обязан попытаться понять предстоящий ему феномен. Перед ученым стоит долг понимать тексты, касающиеся состояния его области занятий. Перед следователем — понимать распутываемый казус. Перед супругами — та или иная семейная коллизия. Перед участником профессиональной, политической, религиозной и т.п. дискуссии — понимать других участников. Речь идет о тех ситуациях, в которых субъект несет особую ответственность в силу своего статуса и в которых нормально действует презумпция осмысленности. В этих ситуациях, когда понимание затруднено и у субъекта возникает впечатление абсурда, перед ним возникает долг либо, несмотря ни на что, понять соответствующий феномен, либо установить объективность абсурда, для преодоления которого необходимо использовать более широкий контекст. Здесь недостаточно обнаружить формальное противоречие в тексте или описании феномена. Установить ошибочность тех или иных утверждений бывает очень сложно, но ошибки часто удается исправить, а противоречия устранить после дополнительного исследования обстоятельств. Гораздо труднее установить принципиальную абсурдность предлагаемого в исследовании подхода, предложенной следствием версии или проводимой дискуссии. Конечно, надежда на понимание, предшествующая пониманию и определяющая его успех, укрепляется знанием про сходные ситуации, где понимание достигалось. Труднее приходится первопроходцам, впервые столкнувшимся с трудным для освоения текстом или с загадочным феноменом. В данном случае не исключено, что он имеет дело с ситуацией, не только кажущейся абсурдной, но таковой и являющейся. В повести Станислава Лема “Дознание” полиция имеет дело с совершенно абсурдным казусом. Из мертвецких исчезают трупы, которые затем обнаруживаются на том или ином расстоянии от их исходного положения. Ученый, исследовавший закономерности расположения мертвецких и расстояний, на которых обнаруживались пропавшие тела, приходит к выводу о наличии таинственного источника излучения, под действием которого телам временно возвращается способность двигаться. Полицейскому комиссару эта версия представляется полностью абсурдной, и он выстраивает свою интерпретацию происшедшего как проявления нелепой прихоти психически неуравновешенного шофера дальних грузовых перевозок. В повести вопрос так и остается повисшим в воздухе. Абсурдность феномена не снимается обеими версиями. Реальная жизнь не принимает абсурдности, она требует реабилитации смысла, диктует моральный императив и, одновременно, дает надежду на понимание. Святой страдалец и Богоборец Иов символизирует этот вечный парадокс: обнаруженный абсурд диктует необходимость понимать. Ф.Е. Василюк очень точно выразил экзистенциональное значение понимания в словах: “Понимание — это приглашение к свободе” [Василюк Ф.Е, Семиотика психотерапевтической ситуации и психотехника понимания // Московский психотерапевтический журнал. 1996. № 6. С.48]. Эта мысль имеет само собой напрашивающееся продолжение: невозможность понимания или погружение в ситуацию абсурда — это тюрьма, а преодоление абсурда — оправдательный приговор. Работа выполнена при поддержке РФФИ. Грант № 96-06-80625. http://www.courier.com.ru/humanities/html/202.htm