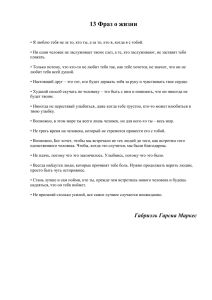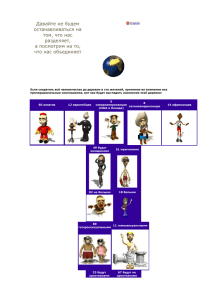Артур Крестовиковский
реклама
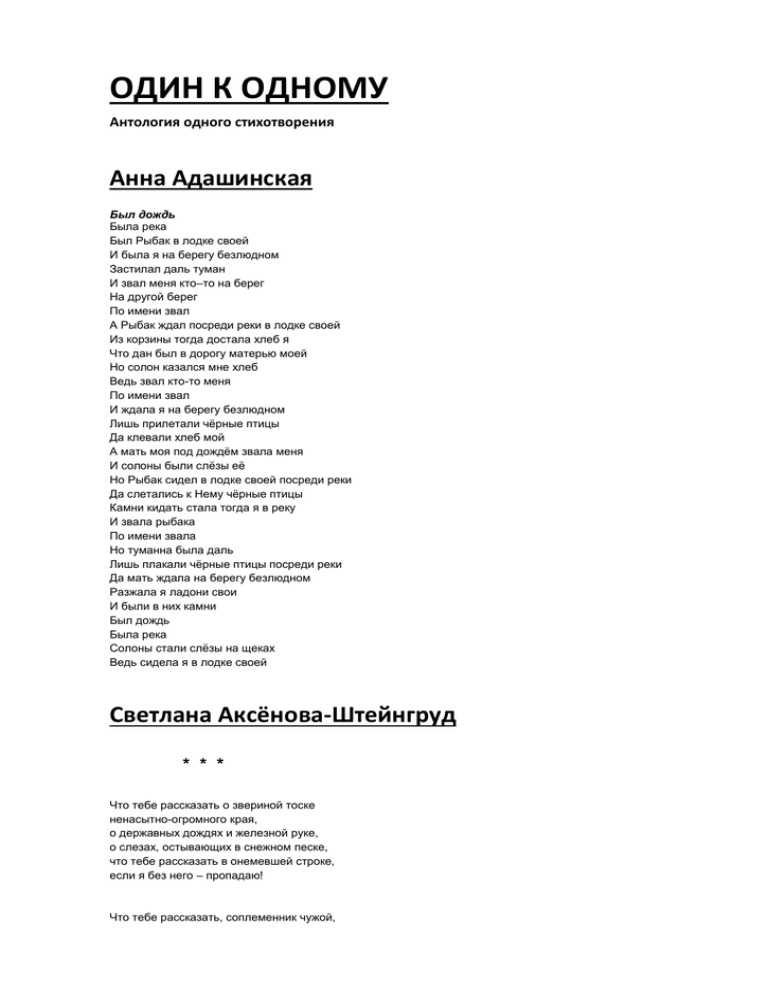
ОДИН К ОДНОМУ Антология одного стихотворения Анна Адашинская Был дождь Была река Был Рыбак в лодке своей И была я на берегу безлюдном Застилал даль туман И звал меня кто–то на берег На другой берег По имени звал А Рыбак ждал посреди реки в лодке своей Из корзины тогда достала хлеб я Что дан был в дорогу матерью моей Но солон казался мне хлеб Ведь звал кто-то меня По имени звал И ждала я на берегу безлюдном Лишь прилетали чёрные птицы Да клевали хлеб мой А мать моя под дождём звала меня И солоны были слёзы её Но Рыбак сидел в лодке своей посреди реки Да слетались к Нему чёрные птицы Камни кидать стала тогда я в реку И звала рыбака По имени звала Но туманна была даль Лишь плакали чёрные птицы посреди реки Да мать ждала на берегу безлюдном Разжала я ладони свои И были в них камни Был дождь Была река Солоны стали слёзы на щеках Ведь сидела я в лодке своей Светлана Аксёнова-Штейнгруд * * * Что тебе рассказать о звериной тоске ненасытно-огромного края, о державных дождях и железной руке, о слезах, остывающих в снежном песке, что тебе рассказать в онемевшей строке, если я без него – пропадаю! Что тебе рассказать, соплеменник чужой, о дыханье раскованной речи, где кровавый рассвет и закат ледяной, и свирепый простор, и безжалостный вой безутешной волчицы под желтой луной, вспоминающей сны человечьи… Что тебе рассказать, если там родилась, где меня не признали своею. Но с безумной страною безумная связь, где бы я ни была и куда б ни рвалась, хоть язык оторвись, хоть глаза повылазь – так крепка, как удавка на шее! Алексей Алёхин ЗИМА В ЗООПАРКЕ безысходность снегов только домик зелёный для самых послушных дрожащие шубки Клеопатра в наманикюренных перьях старый тигр в рваном узбекском халате по дорожке у клеток посвистывая ходит сторож в новой телогрейке Максим Амелин * * * Мне тридцать лет, а кажется, что триста, – испытанного за десятерых не выразит отчетливо, речисто и ловко мой шероховатый стих. Косноязычен и тяжеловесен, ветвями свет, корнями роя тьму, – для разудалых не хватает песен то ясности, то плавности ему. На части я враждебные расколот, – нет выбора, где обе хороши: рассудка ли мертвящий душу холод, рассудок ли, мертвящий жар души? Единство полуптицы-полузмея, то снизу вверх мечусь, то сверху вниз, летая плохо, ползать не умея, не зная, что на воздухе повис. Меня пригрела мачеха-столица, а в Курске, точно в дантовском раю, знакомые ещё встречая лица, я никого уже не узнаю. Никто – меня. Глаза мои ослабли, мир запечатлевая неземной, – встаю в который раз на те же грабли, не убранные в прошлой жизни мной. Юрий Арабов ПРОГУЛКА НАОБОРОТ Я не был никогда в Австралии, где молоко дают бесплатно, где, может быть, одни аграрии да яблоки в родимых пятнах. Испорченный калейдоскоп заменит им луну в ненастье, и наша лодка в перископ глядит на ихние несчастья. Я не был никогда в Лапландии, где короли страдают астмой, где с веток, пахнущие ладаном, лимоны снятые не гаснут. Темно от пёсьих там голов, когда зима, и у милиции там на учёте каждый лорд и на канате каждый бицепс. Я не был никогда во Франции и даже в Швеции (уж где бы!), а был в чудовищной прострации, когда я вспомнил, где я не был. Я не видал Наполеона, но чтоб не вышел он повторно, я видел в колбе эмбриона, закрученного, как валторна. Я не бывал к тому же в Греции, где моих предков съел шакал, и не читал, увы, Гельвеция и Цицерона не читал. Но я бывал однажды в Туле, где задержаться не планировал и где в музее видел улей да зайца с ликом Ворошилова. Но описать её смогу ли... И прочь тоску гоню, как флюс: ведь парижанин не был в Туле. Пускай завидует француз! Иван Ахметьев *** наверно у многих и глупых и умных бывают моменты бывают минуты бывают денёчки бывают деньки горячие ночки звоночки гудки и целая вечность и вся бесконечность бывает у многих бывает у всех Наум Басовский * * * Комната со старыми вещами – вeка отшумевшего наследство, – вещи, что вещали, обещали, чтили старость, ублажали детство. След сюда привёл совсем не ложный, хоть казалась долгою дорога. Чёрно-красный колорит галошный здесь царит у самого порога. Бабушкино ситцевое платье, абажур оранжевой расцветки, чёрная тарелка над кроватью дребезжит о планах пятилетки; патефон, и слоники в буфете, и коньки на валенках у стула… С нежностью смотрю на вещи эти: целая эпоха в них уснула. В комнате со старыми вещами их тревожу с ощущеньем долга, чтоб они сегодня зазвучали, ожили хотя бы ненадолго. А иначе небыли и были, жизни и кончины – вещи эти кончатся словами «жили-были» виртуальной сказки в Интернете. Полина Бахнова * * * Сырой туман на крыше оседает, И вечность притаилась в уголке. Фарфоровая чашечка сверкает У Марты-шоколадницы в руке. Сквозь тоненькую сетку капель мелких Чуть светится, как бледный аметист, Немецкая стеклянная тарелка, Измученного солнца хрупкий диск. Так зябко, зябко в это время года. Так робок, осторожен каждый звук. Так призрачна хрустальная свобода, Придуманная мною наяву. Сергей Белорусец * * * Неотъемлемой частью Настоящего дня, К счастью (либо к несчастью), Жизнь считает меня. И любого. Пусть даже Он без тени следа Сплошь развеян в пейзаже (Либо вписан туда Исключительно лишним: Человекопредмет, От которого ближним Пользы видимой нет)... Арсений Бессонов * * * Почему с желчной болью набухших желёз Просыпается мальчик, краснея до слёз Лет в тринадцать-четырнадцать, дни пубертата, И боится, не зная, что просто так надо, Что теперь всё иначе, всё просто всерьёз? Не от страха ль железа волненье желёз – Страха жернова жизни железных колес, Перед жерновом тяжким железного века И железной рукою того дровосека, Чьи нержавые нервы не ведают слёз? Плачьте, железы детства, бессмертной весны, Напрягайтесь страданьем дрожащей струны Иль мехов той надрывно-раздольной гармони, Пусть текут из мехов ваших с болью гормоны Током спермы, и слёз, и бурлящей слюны. Где там млечная речка с кисельной волной? Андрогенов потоки по крови больной Разливаются, скулы лица сочетая В отвращенья гримасу, и, страхи глотая, Ты заносишь кулак над чужою десной. Успокойся, постой! Ведь расслышать легко Через скрежет железных миров, далеко – Шёпот: "Милый!", чужое живое дыханье... ...И прольётся по деснам родного созданья Тёплой струйкой чужой железы молоко. Константин Богомолов ПРОСНУЛСЯ. УЖЕ ТЕМНО. Разрываются волокна дня, и веки отлипают от глаз, словно лепестки распускающегося к вечеру бутона. Проведя по нёбу языком, почувствовал, что оно обросло мхом. Снопы осоки. Каждая прожилка ночного воздуха. Пыльца, словно снежная пурга, залепляет глаза. Уютно свернувшись, спят медведи в своих сотах. Слёзы – что гласные, стекают по щекам слов. "Тону, тону" – шепчет на ухо. "Тону" – и горячее дыхание капельками оседает на морской раковине. Зеркало бьёт озноб. Мельница пепла. В темноте, спустив ноги с кровати, я ступаю на холодный пол, словно на льдину. Пусть несет она меня по моей тёмной квартире. Игорь Болычев * * * Дай мне руку. Всё прожито. Дым на аллее пустой. Восходящее солнце скрежещет о голые ветки. Жалкий отзвук безумия – облачко пара: постой, Дай мне руку, прохладная длинная тень человека. Дай мне руку. Всё выжито медленно, тихо, до дна – По деньку. Как сонет, ты цитируешь запах на память. Эта женщина в чёрном всегда почему-то одна; Только рыженький гравий скрипит у неё под ногами. Протяни же мне руку, скажи мне, о чём я, о ком, Обними меня, Господи, как эта жизнь одинока... Эта женщина в чёрном и этот заброшенный дом, Это детское счастье отвеченного урока. Протяни же, ведь если не ты, протяни же мне, дай... И на чёрном подоле серебряная паутинка Всё дрожит и трепещет, цепляясь за медленный рай; Только рыженький гравий скрипит под подошвой ботинка. Сатанинская гордость: родился в таком-то году. Отлетает с ладони клочок сероватого дыма. Начинается всё голубой хризантемой в саду, А кончается страшно, бессмысленно, непоправимо. Евгений Бунимович * * * М. Шатуновскому Основания для паники не вижу. Не люблю, когда играют в города. Просто нет такого города – Парижа, потому что я там не был никогда. Надевайте телогрейки от Кардена, сочиняйте православные стихи – не бывает интеллекта от Родена, не бывает интеллекта от сохи. Пусть – скорбя в периодической печали и струя периодический восторг, мастера периодической печати сочиняют нам алеющий восток, где отчизны регулярную застройку не тревожит регулярная тоска, где поэтов регулярную попойку не тревожат регулярные войска... Людмила Вагурина ИЕРУСАЛИМ Глухая пустота старинных зданий. Пространства выбеленное полотно Веками. Камень, камень, камень... Со всех сторон. Величествен и прост. Здесь нет тепла. Здесь только чистый дух, Который то тепло рождает. Здесь воля. Сила. Царство и полет. Предощущенья. Слово. Тайна. Наталья Ванханен * * * Весенние бледные лица в усталом сиянии дня. Стерильная лимфа струится по трубкам дневного огня. В ней радости нет ни на йоту, в ней жалости нет ни по ком. О, если бы трубку с разлёту шальным раздробить каблуком! Все эти бесплодные жизни, вмещая в единственный взмах – чтоб всмятку, на мелкие брызги, чтоб соль от стекла на зубах! Чтоб этой бездарной основе, чужой бесталанной судьбе досталась хоть капелька крови из трещинки в нижней губе. Михаил Василевский * * * Когда слова доходят до души, И дальше – всё, больничная палата, Как объяснить, что вы хотите жить? Нет ни Христа, ни Понтия Пилата. Одни врачи, и рвота от микстур, Одна болезнь: безумие и немощь. И посетитель в шляпе, как Сатурн, Не человек без совести, а неуч. Не запретить того, кто лезет в рот, Или живет роскошно и субтильно. Когда один болеет за народ, Вся медицина, в принципе, бессильна. Не рассосется белый дым палат И суесловье в окруженьи коек. У тех, кто здесь, от Бога вечный блат, И от искусства – видимость покоя. Когда слова доходят до души, И полстраны выплевывает соски, Дороги превращаются в ножи. И на кресты похожи перекрестки. Анна Васяева * * * Мы правы в том, о чём не говорим, Живя под небом иль под потолками, Мы потакаем слабостям своим Зажатыми в ладонях пятаками! Такая жизнь, похожая на снег, Меня не раз вводила в исступленье, И я, твердя строку, что “жизни нет”, Считала дни и ночи, как ступени В пустых домах, где мне случалось быть – Любить, читать стихи и трогать струны, – Припоминая, что первичен быт, А быть вторичным – так смешно и трудно... Так пусть судьба – казённый казначей – Заплатит мне метельной круговертью, Чтоб я могла ответить ей: “Зачем? – Писать про снег – и всё закончить смертью...” Вальдемар Вебер ПОСЛЕ ТЕБЯ Жизнь прожита неведомо когда, неведомо зачем, и где, и как… Журчит в тумане тёмная вода, стада бредут и зацветает мак. Я жив ещё, коль слышу голоса на том недостижимом берегу… А где-то рядом мерный плеск весла, и кажется, что это я гребу. Печаль моя вне притяженья сил добра и зла, и славы и вины. И кто простил меня и не простил, все мною безнадёжно прощены. Тот шум, тот сон, тот радостный угар, далёкие, как лунных вод прибой… И непонятно, толь мне это в дар, толь в наказанье послано судьбой – остаток дней прожить в ничьём краю, где солнце светит, но часы стоят, как будто пережил я смерть свою и, возвращаясь, не добрёл назад. Дмитрий Веденяпин ЗИМА Шёл снег. На улице ругала мама сына. Он дулся, всхлипывал, канючил, “не хотел”. Его жалела ржавая машина, И он её без памяти жалел. Брёл мимо них старик с облезлой палкой, Шла женщина в малиновом пальто Ему их всех в тот вечер было жалко, Его тогда не понимал никто. Луна желтела также безучастно, И снег всё так же падал кое-как... Он понял вдруг: все взрослые несчастны; И это, в самом деле, было так. Иван Волков Потому что война, потому что мурашки по коже, Потому что темно, я спасать буду шкуру свою, Я смешаюсь с толпой, я такой же, такой же, такой же, Я не шире в плечах и не выше, чем каждый в строю. И я буду девятым в тот день, когда каждый десятый (И единственный первый, конечно, но это не в счёт) Будет вызван вперёд, и потом ещё долго солдаты Перед тем, как убить, будут бить сапогами в живот. Я не выйду из тесной каморки в широкое поле, Где мужик с кистенём и где тучи закрыли луну, Я смешаюсь с толпой, мне спокойнее будет в подполье Переждать свою жизнь, свою жизнь, а не вашу войну, Пережить эти тридцать, и сорок, и сколько придётся, И смешаться с землёй, чтобы умер болезненный страх, Скрипнет ворот, как в детстве, и я подымусь из колодца На каких-то чужих безразличных ненужных руках. Виктория Волченко * * * Слепа моя вера и неистребима, как всякая глупость и всякая малость. Печальные сказки, что в детстве любила и бабушкин запах – вот всё, что осталось. “Господь милосерден, а люди несчастны”, – шепчу по ночам, с головой укрываясь. Как все, до утра от земли отрываюсь, как-будто и я к этой жизни причастна. Но, видно, сильна моя глупая вера, коль с толку сбивают и хором талдычат о Страшном Суде, о силках Люцифера и в скобки берут мою кровь, и кавычат. И я открываю проклятые жилы, и мне отворяются Вышние своды, а гады, что долго в крови моей жили, ревя, сотрясают подземные воды. И я обнимаю бескрайнее детство, где звери и радуги, птицы и ветер, где грешник невидим, а праведник светел, и вера любая – с ладошку Младенца! Александр Вулых * * * Пружинят мосты окружные и осень дрожит на виду. Дожди монастырь раскрошили в пустом лебедином пруду. А где-то над крошевом кружит Москвы моросящая грусть, укутав в лужнецкие лужи свою новодевичью грудь. И отзвук короткого лета в отрывистом лае дворняг... А я был уверен, что это по валу прошёл товарняк. Людмила Вязмитинова * * * То дождь, то снег, в плену у поздней осени, сменяются над пустошью полей, средь серого даря минуты просини... Мне всё равно. Ни легче, ни больней. Я чучело. Набор тряпья случайный, развешанный на досках кое-как. Безглазым взглядом серый день встречаю, вливаясь ночью в общий влажный мрак. Любое дуновенье дня приемля, теряет смысл понятие “протест” я крест свой не несу, он, вросший в землю, я, в сущности, и есть тот самый крест. Мир движется куда? со мною вместе... Качает ветер рваное тряпьё... На досках рук как куры на насесте крикливое расселось вороньё... Сергей Гандлевский * * * Это праздник. Розы в ванной. Шумно, дымно, негде сесть. Громогласный, долгожданный, Драгоценный. Ровно шесть. Вечер. Лето. Гости в сборе. Золотая молодёжь Пьёт и курит в коридоре. Смех, приветствия, галдёж. Только-только из-за школьной Парты, вроде бы вчера, Окунулся я в застольный Гам с утра и до утра. Пела долгая пластинка. Балагурил балагур. Сетунь, Тушино, Стромынка – Хорошо, но чересчур. Здесь, благодаренье Богу, Я полжизни оттрубил. Женщина сидит немного Справа. Я её любил. Дело прошлое. Прогнозам Верил я в иные дни. Птицам, бабочкам, стрекозам Эта музыка сродни. Если напрочь не опиться Водкой, шумом, табаком, Слушать музыку и птицу Можно выйти на балкон. Ночь моя! Вишнёвым светом Телефонный автомат Озарил сирень. Об этом Липы старые шумят. Табаком пропахли розы, Их из Грузии везли. Обещали в полдень грозы, Грозы за полночь пришли. Ливень бьёт напропалую, Дальше катится стремглав. Вымостили мостовую Зеркалами без оправ. И светает. Воздух зябко Тронул занавесь. Ушла Эта женщина. Хозяйка Убирает со стола. Спит тихоня, спит проказник – Спать! С утра очередной Праздник. Все на свете праздник – Красный, чёрный, голубой. Анна Гедымин * * * Помню, целовались смеха ради, Без единой мысли в голове, На мосту, в уснувшем Ленинграде (Был когда-то город на Неве). Плыли сверху, снизу сквозь глубины Два ломтя взрослеющей луны... Были мы не то чтобы любимы, Но не так, что вовсе не нужны. Как бы жизнь потом ни бунтовала, Ни летела или ни ползла, С той поры, не много и не мало, Целая эпоха утекла. Радость, беды, мелкие простуды Призабылись. Но поди, забудь: Золотые шпили, как сосуды, Пламенем питают Млечный Путь... Марина Геттиген * * * Есть книга книг. Печаль печалей всех. Есть серый демон тёмныя печали. Поэзия же есть гордыни грех: Ведь всё предопределено вначале. Есть сфера неба. Есть вода и твердь. Есть тварный мир, текуч и вечно смертен. И есть закон, ему же имя - смерть, Вне слов и разума над всем начертан. Есть некое зияние высот, Столь нераздельно, сколь и неслиянно: Есть Бог и смерть. Начало и исход. (Есть мысль и боль, добавлю, как ни странно). Александр Големба * * * Жизнь обрывается на полувздохе, в забвенную уходит синеву. Как пережиток канувшей эпохи, в эпохе новой всё-таки живу. Ещё живу. И подбираю крохи. В ладонь уткнувшись колкою щекой, как пережиток канувшей эпохи, в чертополохе муки городской. Увижу новой осени всполохи, услышу столкновенье новых льдин, как пережиток канувшей эпохи, растаявших влюблений паладин. Ещё чуток поговорить мне дайте, – как ни крути, я всё-таки такой – блаженный Вальтер фон дер Фогельвайде в чертополохе муки городской! Я стихотворец искреннего ранга, акын, ашуг или Ашик-Кериб, – я человек эпохи Миннезанга, среди внезапно онемевших рыб. Ищите скорбь мою в чертополохе уже полузабытого житья... Жизнь обрывается на полувздохе, но эта мука всё-таки моя! Гарри Гордон * * * Какая праздничная осень. Сжигаем листья на земле. Наверно, в жертву их приносим Серьёзной мраморной зиме. Автобус, шлёпая по лужам, Развозит нас сто раз на дню Не на базар и не на службу, А просто – от огня к огню. И девушка в шиньоне русом Садится важно у окна, И, проявляя массу вкуса, Читает Фолкнера она. В её глазах потусторонних, Где больше дыма, чем огня, Мой приговор: я – посторонний, И нет надежды у меня. Я улыбаюсь неуклюже: Ведь я и вправду не при чём. Мне ничего от вас не нужно И книгу я давно прочёл. Александр Григорьян * * * Ты всё свои числа любимые делишь, Не то чтоб для дела, скорее – для вида, А люди приходят на землю за тем лишь, Чтоб где-то построить свои пирамиды. Великие камни, лишённые смысла, Как знаки единства пространства и тверди, А ты всё считаешь гигантские числа, Совсем позабыв про движение смерти. Мы движемся к ней вместе с общим потоком, Цепляясь за мысли, мечты и обиды, И чтобы хоть что-то оставить потомкам, Мы строим из камня себе пирамиды. А ты всё считаешь любимые числа, У каждого счёты с бессмертьем, конечно, И камень не вечен, всё сгинет, промчится, И только твоя лишь цифирь бесконечна. Ты нас презираешь, ничтожных и смертных, Ты всё просчитал, поделил и продумал, Но неумолимо, хотя незаметно Ты сам превращаешься в некую сумму Мечтаний, обид или мыслей. Покамест Ты будешь трудиться, забыт и непонят, Мы будем колоть и обтачивать камень, А после под ним нас с тобой похоронят. Александр Даневич * * * Россия. Время страшной ломки. Взошла звезда над Вифлеемом. Но нет волхвов, лишь воют волки, и снег, подтаяв, пахнет тленом. Над колыбелью мать склонилась. Но нет ребёнка в колыбели. Мать улыбается, ей снилось, вот только что, как пламенели её соски в губах горячих... Усни опять на радость всем, Святая Мать! Волхвов незрячих звезда ль поманит в Вифлеем? Не просыпайся, Мать Святая, пускай младенец грудь сосёт, Саронской Розой расцветая, не ведая того, что ждёт... Россия. Время страшной ломки. Горит звезда над Вифлеемом. И снежный наст – неверный, тонкий, волками пахнет, пахнет тленом. Григорий Дашевский * * * Пространство, наклонившись, всё сильнее на горло давит каменным коленом, и снег, ещё в полёте коченея, не падает, но воздвигает стены из самого себя повсюду. Прежде он не искал опоры в нашей плоти, которая легко дышала между душой и снегом в медленном полёте, окончившемся нынче. Всё застыло. Всё, что не бело, стало чужестранным. И воздух не просторней, чем могила из пепла, под которым Геркуланум застыл, исчез. Латинские останки, лишь облик свой запечатлевши в пепле, истлели. Взгляд усталой иностранки не оживит того, кто пеплом слеплен из пустоты. Он спит в своей постели, когда-то бывшей огненною лавой. Она бела. Так простыни белели, когда он жив и слева был, и справа, и спереди, и сзади. Всё исчезло, пропало всё. Его глаза ослепли, оглохли уши, не волнует чресла та пустота, что спит в соседнем склепе. Он спит. Ему теперь никто не нужен. И снег лежит на небесах бездомно. И камня очертания снаружи не отвечают формам погребённым. Андрей Дмитриев ВОСКРЕСЕНИЕ ... И разговор был тих, и вечер был убог, И морось за окном цвела под фонарями... Сквозь трещинку в стекле бессонная любовь Сочилась изнутри, пренебрегая нами... Большой вечерний двор побит и не метён. Сквозь ветви голых лип рассеянный прохожий К нам заглянул в окно, и, отразившись в нём, Ушёл, держась за зонт, на парашют похожий. А мы – сидим и пьём холодное вино, Без стульев, на полу, тщедушные, нагие, Пытаясь сохранить последнее тепло, Которое, струясь, торопит нас к могиле. Но поздно. Всё ясней, всё громче треск стекла, Всё ближе к острию наш невесомый шарик; И очень скоро та, что нас спасти могла, Смешается с дождём и нас с землёй смешает. Бессмысленно бежать, себя лишая сил. Лишь уголками губ мы грустно улыбнёмся. Ты лучше позабудь о чём я говорил. Мы не взорвёмся, нет, – мы тихо задохнёмся. Послушай, отчего был так недолог день?! Как будто бы стыдясь, остывшая природа Скорей послала вниз свою сырую тень: Нас задушить волной пустого кислорода... Всё реже бьётся пульс в слепом сплетеньи рук. И, видно, навсегда ослабевает хватка. И я шепчу тебе, опережая звук: “Жизнь делится на всё, но только без остатка”. Ярослав Еремеев * * * На льду не строятся, но замки из песка И воздуха он выдержит до лета: Растает всё, но будут плавать где-то Ворота, цепи, башни-облака. Не всё то золото, что манит нас века. Пусть в пёрышках жар-птичьего рассвета Растает сон, но будут плавать где-то Ворота, цепи, башни-облака. Душа не яблоко – её не тянет вниз. В воздушный замок следует карета… Растаем мы, но будем плавать где-то, Смотреть на вас из облачных кулис. Александр Ерёменко ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ Осыпается сложного леса пустая прозрачная схема. Шелестит по краям и приходит в негодность листва. Вдоль дороги прямой провисает неслышная лемма телеграфных прямых, от которых болит голова. Разрушается воздух. Нарушаются длинные связи между контуром и неудавшимся смыслом цветка. И сама под себя наугад заползает река, и потом шелестит, и они совпадают по фазе. Электрический ветер завязан пустыми узлами, и на красной земле, если срезать поверхностный слой, корабельные сосны привинчены снизу болтами с покосившейся шляпкой и забившейся глиной резьбой. И как только в окне два ряда отштампованных ёлок пролетят, я увижу: у речки на правом боку в непролазной грязи копошится рабочий посёлок и кирпичный заводик с малюсенькой дыркой в боку. Что с того, что я не был там только одиннадцать лет. У дороги осенний лесок так же чист и подробен. В нём осталась дыра на том месте, где Колька Жадобин у ночного костра мне отлил из свинца пистолет. Там жена моя вяжет на длинном и скучном диване. Там невеста моя на пустом табурете сидит. Там бредёт моя мать то по грудь, то по пояс в тумане, и в окошко мой внук сквозь разрушенный воздух глядит. Я там умер вчера. И до ужаса слышно мне было, как по твёрдой дороге рабочая лошадь прошла, и я слышал, как в ней, когда в гору она заходила, лошадиная сила вращалась, как бензопила. Артём Ермаков СЕМЬЯ Мучительная мельница любви, Кто мельник твой, оглохший от простуды? Тебя он не услышит. Не зови. Под вечный грохот бьющейся посуды Влюблённые, как пара жерновов, Годами перемалывают зерна, И сыпется мука. И льётся кровь. И шестерёнки вертятся проворно. И катится по ступицам река В неутолимом ожиданьи моря. И жизнь не остановится, пока Ключи в горах не высохнут от горя. Александр Зленко ГРОЗА Я ждал грозы, как ждут рассвета птицы. Как грешник ждёт прощения грехов. Я так люблю дождя косые спицы, что мне несут прообразы стихов. Не спорьте вы, что образ мой украден. Украден он у рощи золотой, у неизбежных хуторских окраин, у ив склонившихся над тёплою водой. Я ждал грозы. И вот её дыханье уже моей касается судьбы. Дышу грозой, и звуки покаянья слышны в груди с оттенками мольбы. Полина Иванова ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ РЕМИКС ...Она нечаянно нагрянет, когда её уже не ждёшь, когда находишься на грани, по краю пропасти идёшь, перебирая "либо-либо", гадая – быть или не быть, а твой мобильник нем, как рыба, чтоб окончательно добить, когда в чулке – уже ни цента, и все посылы – в молоко, и далеко до хэппи-энда, и до Парижа далеко, когда, короче, укатает, и положительно припрёт, и капитально домотает, и в полный выльется вперёд интриги хроника глухая, как нескончаемый тоннель, – придёт весна, благоухая, что ваша пятая "Шанель". Чьи начинания благие тотчас подрубит на корню наследственная аллергия среди цветущей авеню... Аркадий Илин * * * На очень диком севере кому не одиноко? И Хиллз вам тут не Беверли, река не Ориноко. И тучки одинокие плывут без остановки, как странники убогие, как божии коровки. И холодно, и голодно тому, кто одинокий, и выглядит немолодо, и ростом невысокий, и часто он простуженный – в таблетках вся квартира, – болезнями пристыженный, оторванный от мира, сидит на табуреточке на фоне мироздания, в одной руке таблеточки – в другой стихов издание. И холодно, и голодно тому, кто одинокий, и выглядит немолодо, и ростом невысокий. Елена Исаева * * * А я проветривала класс, Послушная, усталая, А я зубрила “дэр, ди, дас”... И не предполагала я – И только мучилась душа, Предчувствуя заранее, – Что буду поезд провожать Я именно в Германию, В такси с налёта подкатив К вокзалу Белорусскому, С пятёркой за инфинитив И с тройкою по русскому. А ты во всём, конечно, прав. И я согласна полностью. Но только тронется состав – И безнадёжно тронусь я, Уже усвоив на века По впечатленью детскому, Что не способна к языкам, Особенно – к немецкому. Нина Искренко “ Говорил своей хохлатке...” Говорил своей хохлатке в голубом платке с получки вдоль по Пироговке Говорил Уедем Рита Заработаю на хату Будешь ты обута Будем кушать апельсины Коврик купим с полосами Там красиво Север Отводил рукою пряди льнул картофельным медведем говорил Уедем говорил Ни капли Баста Чтоб ей скверной было пусто Завязал я Рита Говорил Последний раз а В рот упала папироса Магазин закрылся Тронул крепко одичало Раздавил в кульке печенье сплюнул непечатно Так и шли законным браком к задним бедам кислым брюкам плыли к боку боком Эх российские буренки голубые табуретки Масловки-Таганки Елена Кацюба ЕВА Анатомический атлас тела бумажный атлас тела метель и металл мельница опахал плаха для топора опара хлебного теста тесно ему на страницах атласа бумага просвечивает красным бьются артерии сетью полной живой рыбы рвут бумагу рёбра локти отталкиваются от бумажной плоти лопнула на губах бумага появилась улыбка рыбка языка раздвинула зубы волосы выпутываются из бумажной трухи пейте из коленных чашечек пейте из чаш груди ! Константин Кедров ДИРИЖЁР Дирижёр бабочки тянет ввысь нити. Он то отражается, то пылает. Бабочка зеркальна, и он зеркален: кто кого поймает никто не знает. Дирижёр бабочки стал как кокон: в каждой паутинке его сиянье. Бабочка то падает, то летает, дирижёр то тянется, то сияет. Дирижёр бабочки стал округлым, он теряет тень между средней Вегой, он роняет пульт посредине бездны, он исходит светом, исходит тенью. Будущее будет посередине в бабочке сияющей среброликой, в падающем дальше, чем можно падать, в ищущем полёте, в середине птицы. Иван Клиновой ПРОЗА Словарь и горло образуют прозу… М. Савиных Может, слишком узок мой словарь, Может, мне дыханья не хватает: Я уже стыдился слова «тварь», Но ещё не мог сказать «святая». Я тогда не мог понять, что проз Не бывает без метаморфозы; Золотописьмом чужих стрекоз Прогонял «заразы» и «морозы», И возвёл себя на пьедестал, Но вода с него все буквы стёрла… Всё же словарём моим не стал Твой словарь, и я уже устал Вспоминать, что у меня нет горла. Александра Козырева ПОКАЯНИЕ Тенгизу Абуладзе Потому что взрослеющим людям в том доме, в котором живём, застекленного воздуха, страхом пропахшего, мало, потому что живьём умирали, живьём, потому что по списку, по списку, по списку, а не как попало... Потому что живую, горюче-горячую жизнь, дорогую летучую боль без конца и без края не вернёшь, не вернёшь, не вернёшь, не вернёшь – не божись, к страшным идолам сердце и душу склоняя. Не вернёшь. Жизнь летит, словно мыльный пузырь. Не вернешь. (Как невинны забавы ребенка!) Cад цветущий. Весна. Обгорелая пустошь. Пустырь. Эхо долго звенит... И скорее надрывно, чем звонко. Эхо долго звенит, потому что ещё не пора тишиной, как весной, как водой ключевой, насладиться, Эхо долго звенит. Продолжается жизнь, как игра. И трепещется в небе непойманой вольною птицей. Андрей Коровин * * * Теперь мои друзья – твои друзья. Боюсь – зайду и встречу ненароком. И до звонка топчусь перед порогом, Как будто это не мои друзья. Они молчат, стесняясь говорить: “Она вчера была с другим мужчиной”, – И я молчу по этой же причине, Как будто не о чем и говорить. Теперь нам так и суждено кружить В одном кольце, не подавая виду, Что кто-то должен уступить орбиту, Чтоб не сходить с ума и дальше жить... Валерий Кравец * * * Я не люблю концертный зал, Когда прекрасные скрипачки Глаза покорно в ноты прячут, А залу не глядят в глаза. Они к пюпитру и смычку Навек прикованы галерно, Осуществлённую судьбу В них ощущая суеверно. Но жизнь – всегда огромный зал, А не отыгранные ноты. Кто этих женщин наказал Такой возвышенной работой? Артур Крестовиковский * * * Мне страшно потерять тебя И с дерева, как лист, отпрянуть, И безымянным камнем кануть В гранёный омут бытия. Мне страшно потерять тебя И не найти к тебе возврата, Моя любовь, моя утрата, Прослойка тьмы, прослойка дня. Мне страшно потерять тебя, Где жизнь моя висит, как кокон, На тонких нитях светлых окон С прослойкой мрака и огня. Мне страшно потерять тебя И окунуться в мрак вечерний, Где дух тлетворный, запах серный Распадом дышит на меня. Сергей Кромин ВЫВЕРНИТУЛУПЪ глазами быть могучего бога глядела музыка и стал тяжек он пакы в стремительной оторопи поступи и созерцал многия тысячи вёрст вещей явных я вижу время шаг цветка дрожит подобно мху воды я вслушиваюсь в шуршание шагов неся стаканы полные беды река шумела под ножием городов их – пузыристых – вспузыривших земь и погоре весь конЂцъ голъ а ломъ копнянъ бысть дробнъ от хохота хатъ ихъ по швам валились мужикижуки молитвы шевелили мы обозрели окрестности стужи мы не отвернулись птицы будто отцу протягивали прозрачных птенцов своих навстречу лету его он увидел всё что не есть на буграх прошли лошади взором его бубровым до корней травы бродит только косо повешенный час он не находит более синего вечера покинутым зверем качаясь мы говорим возникает мир тихое небо и исчезающий вид природы глядят на нас точно пустырник здравствуй скажем мы возвращению своему спаси господи люди твоя и благослови ты достояние свое Александр Кротков * * * Я слово позабыл, но вот его мотив: Ночная покаянная тревога. Один в ночи, и, сам себя простив, Безмолвствую, взыскуя имя Бога. Ученья лес, пустой науки карусель – Дремучи вы, но нет на вас запрета. Я весь в жару, и горяча постель, – Мучения развёрнутого лета. Ночное солнышко – дремотная сова. Сторонний блеск. Несут паникадило. Я осязал случайные права: Меня поспешность без суда судила. Я жаждал в темноте блуждая наугад, И вот что прояснилось постепенно: Мы — вне закона, как бы напрокат, И не имеем формы, словно пена. In God we trust. The show must go on. Without love what is the salt of living? But we do live. My fear turns to stone. I manage all the scope from odd to even. Маргарита Крылова * * * Плацкартный рай. Движенье спящих тел. Взаимоудаленье друг от друга Реальностей. Стремленье знать предел Себе самим. Привычный бег по кругу. Кошмар вагонный. Непрерывный стук, Сквозь кости проходящий в подсознанье. Насильственное разделенье рук, Бессмыслица забот и ожиданья. Усмешка бесконечного пути, Сулящая прозрение в финале. Бесцельное стремление ползти, Как таракан, по сторонам медали. Врождённое желание понять Хотя бы часть, хотя бы направленье. А, может быть, попытка убежать, догнать, найти, преодолеть сомненье, – Всё, что угодно. Запредельный бег людей, предметов, образов и ветра. ...А в тамбуре стоящий человек минуты исчисляет в километрах. Елизавета Кулиева * * * Что именно, не знаю, всё на свете: И снег, и струйка дыма над трубой, И воробьи, и лошади, и дети – Всё это как-то связано с тобой. Хотя бы как-то связано, немного, Но как – неясно, как-нибудь, на миг – И небо, и железная дорога, Дома, и люди, и собаки их. Их женщины, и голоса, и руки, И снова небо, и лицо в окне. Не знаю как, из жалости, от скуки, Пожалуйста, подумай обо мне. Зачем – не знаю. Просто почему-то И это утро, и овальный пруд. Зима и лето, каждая минута – Всё о тебе напоминает тут. Евгения Лавут * * * Мы бредем как тати Страшно и темно Убыль посчитати Дай-ка мне перо Дай-ка мне и свету Чтобы перечесть Чего больше нету Чего еще есть Папоротник совы Летние цветы Ко всему готовы Вместе я и ты Ах при лунном свете Мой дружок пьеро Мы идем как дети Страшно и светло Мы идем куда-то Кто нас ждёт теперь Белая палата Крашеная дверь Михаил Лаптев * * * Раскрывшейся гранёной далью чернеет космос ледяной, и тонкий холод зазеркалья идёт машинною войной. И Пьер несёт копьё Сварога, и Ленский указует путь, и Гамлет мёртв, и нету Бога, и не уснуть, и не уснуть. И Чацкий напевая в ванной, смывает чью-то кровь с пальто, и тёплый Авель деревянный – отныне мне никто. Елена Лапшина ВОЛЧИЙ ЦИКЛ (1) Я встретила волка за садом, где старые груши, Как лоси неспешно спускаются шагом с пригорка. Я долго стояла в снегу, тишины не нарушив, Еще не поняв, отчего в подъязычье так горько. Я встретила волка внезапно, немного не веря, Что так происходит, что так не случалось ни разу – Со страхом домашней собаки, увидевшей зверя, Смотрела в глаза-хризолиты, глаза-хризопразы. А в доме болтали о волке: был волк или не был. Соседка смеялась: вот так, мол, гулять в самоволке – И капало с окон и с белого блеклого неба – Я дома сидела и думала только о волке. Февральская оттепель кончилась долгим ненастьем. Ночами выл ветер, и сны проникали под веки – Лосиное стадо деревьев ступало по насту, Тяжелых рогов поднимая стопалые ветки. И тихо шуршала по ставням крупа ледяная, И тонкая наледь крошилась, когда по осколкам Тайком от домашних я в сад пробиралась, не зная, Зачем я встречаюсь с косматым седеющим волком. Сергей Лейбград * * * И наш медведь косматый и наш лось сохатый... аллегорий не нашлось изящней для сердец умалишённых. Какая мука и какой дурдом – войти в широкий круг непосвящённых, в трамвай, и все сословия вверх дном, и кругом голова, и степь кругом, и мутные осины за окном, и фонари безумные мелькают. Ах, местность для курения в родном Отечестве, где ноги отекают. О, Русь моя, прекрасен наш союз Советский, как пленительное счастье, пленённое, как вспомню, так сопьюсь, но рядом ты, но горькое запястье все тоньше, словно музыка... Поплачь в объятиях дотошного трамвая, пусть судорожно трудится скрипач, смычком к плечу худому пришивая расплавленную скрипку... Ну так что ж, ты первая очнёшься и сойдёшь в Аид, в аул, в убежище на Крите, неверный шаг и глазом не моргнёшь – сгорают сны и с корнем рвутся нити. Владимир Леонович КОМЕТА ХЕЙЛА-БОППА Нас опять навестила Комета. Над Севером рея, нынче косо глядит - или вовсе не смотрит на нас? – помнит Ур и Афины, Гоморру и Гиперборею: мы не нравились ей никогда и тем паче сейчас. Унесет исторический взгляд на дурную семейку и померкнет Комета… Пространствует тысячу лет, и когда мы погубим жилище свое за копейку, возвратится и в пепел вперит испытующий свет. Божий разум велик, но случилось несчастье в природе – человечество, непостижимое даже Ему… Пушкин, музыка Моцарта, мраморы Буонарроти, голос Беллы… Все-все упаковано, спрятано в коде, в пепле, в ящичке черном, не нужном уже никому. Иван Макаров * * * Наше дело пурга, наше дело труба... Только помню нераннее детство... Что я помню? А кошечку с птичкой в зубах. – И куда мне от этого деться? Наша жизнь, непонятная с разных сторон, Даже памятью грешной не сыты... Что я помню? Столетник, домашний лимон, Жестколистый, большой, непривитый. Если нас не погубит Сатрап Угомон, Не угаснем от воли свободной, Буду помнить, как рос этот самый лимон, Непривитый, а значит, бесплодный. ... Я ещё не здоров, я ещё не готов, Ни звезды, ни надежды, ни силы... Эта кошечка с птичкой из тесных кустов На дорожку в саду выходила. Я нескладно живу, я живу чуть дыша, Бесприютных традиций наследник... Птицу жалко, а кошка была хороша. И лимон на окне. И столетник. Надежда Мальцева * * * По улицам Лодзи, по улицам Лодзи шагают ужасно почтенные гости... Александр Галич С уроком отцовским, с крестом материнским, свободны от мира, свободны от пут – Алёша Романов с Андрюшей Ющинским вприпрыжку по площади Старой идут. Идут и смеются, – а вот и Крещатик, и Зимний в зелёном дымке молодом, забыты пещера, и неба квадратик, и пули, и тесный Ипатьевский дом. Во тьме исторических подлых законов, где все убиенные наперечёт, плевать им на смерть – не хватило патронов, ножей не хватило, и кровь не течёт. Приметив в аллейке Бориса и Глеба, пуляют друг в друга слежавшийся снег, и просит отчизна пречистого хлеба у Дмитрия, прахом поправшего век. Но лжёт, как обычно, от срама и дури, но жаждет одной только крови рекой, – посеявшей ветер, ей хочется бури, как будто найдёт она в буре покой. Борис Марковский А осень безнадежно хороша! Безукоризненна её отделка. Мелькнет в кустах оранжевая белка... Что если вдруг – молчи, не лги, душа! – Вся наша жизнь такая же безделка, Как этот мёртвый след карандаша? Но на часах не двигается стрелка, И так легко дышать... Но что ни шаг – То тлен и смерть... Пустынная аллея. Ни мертвый лист, ни беличьи следы Не трогают тебя, и ты стоишь, хмелея От этой царственной, торжественной беды, Испытывая боль, почти блаженство, В несбыточном плену у совершенства. Вадим Месяц * * * Я знаю, ты даже не ищешь любви, она вся в тебе и твоя: смычки перекрещивая свои с линеечками бытия, я тоже пытаюсь не верить уму и музы покорный слуга, но это тебе, дорогой, ни к чему прекрасная песня легка. Эй, Моцарт, играй от зари до зари, пред миром ты не виноват; и смело протянутый кубок бери. В нём яд? Ну конечно же, яд. Алла Михалевич * * * Пузырчатой, густой и первобытной брагой, брожением её аминовых кислот, влагалищем листа, наполненного влагой, здесь зарождалась жизнь и первый кислород. Всё это булькало и чавкало упорно, само от собственных усилий одурев, в тысячелистные преображалось формы сквозных разноветвящихся дерев, вскипающих цветущей лёгкой пеной округлых крон белее облаков, летит, летит, летит по всей вселенной черёмуховый цвет их лепестков. И птиц разнонаправленные стрелы с округлых крон взмывают в небеса, чтоб этот снег, такой молочно-белый нас заставлял поверить в чудеса. Александр Москаленко В воздухе – H2O, остальное – гарь. Если можешь – дыши жирным пеплом сгоревшей луны. Я сижу в тёплой клетке квартиры – городской попугай – наизусть повторяя галлюциногенные сны. Ветер бьётся вороной в окно (очевидно, норд-ост), обрывая последние листья с уснувших осин, тополей постаревших и прочих тоскливых берёз – ими вечно богата страна опустевших равнин. Я твержу – эта осень опять не запомнится мне ощущеньем сквозного дождя. За окном – пелена: это взвесь? Или газ? Или спесь? (говорят, на войне – словно в осени – нет побеждённых). Какая война удалась в онемевшем году! До начала зимы торопись прикупить респиратор и горсточку звёзд. В опустившемся небе легко искажаемся мы, и деревья, и ветер (опять, очевидно, – норд-ост). Илья Оганджанов * * * , Pater noster, Отче наш, солоно слово, которое мы для Тебя сберегаем. Грудью, наполненной воем, его кормит волчица. Оно созревает на ветвях смоковницы и на стеблях полыни. В урочище нашего сердца Тебя оно подстерегает. Путы путей Твоих нам не распутать. Долго ли коротко месим дней наших глину – нам тропы к Тебе не проторить, не измыслить. В Рождество тени сада роняют плоды, сукровицу страха пьём мы из них, голодные дети, и камень горючий кладём в изголовье, на ночлег собираясь. Утоли нашей жажды жестокого зверя, не дай нам вскормить его падалью нашей печали. Не оставь нас в степях одиночества коршунам вторить. Пусть слепые стези наши будут браздами послушными в длани Твоей. Соты силы Твоей – мы исполнены пепла. Не оставь нас, мы клонимся долу, губами мёртвыми повторяя имя Твоё. , Pater noster, Отче наш. _____________ * [ho pater aemeteros] Виктор Павлов * * * Я русский, и русский настолько, насколько в своей нищете страны азиатские «гости» готовы поднять на щите мои непомерные скулы и кости широкой спины, походный башмак азиата, как знамя своей стороны; я русский, и русский настолько, насколько в извечной вражде тевтонов проросшие кости способны нести на щите России немое величье и сумрак славянской души (просторы и русские дали их флагу как встарь хороши: они бы крапиву сажали и прочие камыши); я русский, и русский настолько, насколько на этой земле я сколько угодно не нужен и жить не положено мне. Николай Пальчевский (СВЕТОТЕНЬ-2) День – цена глубоководной ночи – Мелковат, по щиколотку мне. Через маленькую трещину в стене, Стену эту раздирая в клочья, Он растекся в порванном окне Воздухом прозрачным и проточным. Комнатный пеналик раскурочив, Воздух льется на меня извне. Приложив свою линейку взгляда Я измерил тело высоты, Будто выживший в горах под камнепадом. И тогда достойная награда Накормила пластилином немоты Рот губастый постояльца Ада. Или это тень местоименья Проявилась на затылке потолочном, Закрывая солнце правомочно Жирной кляксой частного затменья. Шуба тьмы рискующий размах Прячет в тонкорунное молчанье, Лишь свистит молодцеватый чайник Под парами стоя на путях... Михаил Першин СОЗВЕЗДИЕ РЫБ Из плена безмолвных пропорций, сквозь строй полированных глыб в наш мир, уже тронутый порчей, вплывает созвездие Рыб. Почти неподвижны ресницы в почти неживой тишине. Но звёздные блещут крупицы в серебряной их чешуе. Глядят зачарованно Рыбы на рухлядь наломанных дров. Бесплотных материй изгибы ласкают небритость миров. Их тайна нема и роскошна, и непостижимо близка. Лишь изредка звёздная крошка сорвётся с крыла-плавника на белую затхлость бумаги – и всё, что здесь было “почти”, сожжёт ослепительный магний, не ждущий команды “прочти”, и нас оглушит на мгновенье несмазанной вечности скрип... И тянется, как наважденье, движенье божественных Рыб. Галина Погожева РОНСАР Поэт не вечен. Наступает вечер, Мерцанье лиц в безумии огня. Седые кудри падают на плечи: Срывайте розы нынешнего дня! Сорвёшь и пронесёшь? – Сорвёшь и кинешь. Беда, звезда, порыв: люби меня, Проигран бой, смешон и горек финиш – Срывайте розы нынешнего дня... Как жить, старик, молитвами твоими? Нам не до смеха – мы живем бегом. Нам не до плача – мы живем во имя! – Нам петь одно и думать о другом. Мы близоруки, доблестные други, Нам не видать тропы в обход углов, Мы в пустоту протягиваем руки – Не дотянуться до высоких слов. Нам сметь, терпеть, брехать из подворотен, Спасать, спасаться, ближнего виня... Но старец непреклонно-старомоден: Срывайте розы нынешнего дня! Галина Погожева * * * Как медленно полнятся соты, какой изнурительный труд. Вконец доконали пустоты и спать по ночам не дают. А времени всё не хватает, и так несвободна душа, так редко высоко взлетает, чтоб воздухом горним дыша, себя осознать на минуту, и вдруг невзначай отгадать, отбросив и накипь, и смуту, всю суть или всю благодать. Но если бы, если б не эта возможность держалась в уме, то как же дожить до рассвета тебе удалось бы и мне? Владимир Полетаев * * * Мы жили в городе одном... Скрипели тёмные перила... Фонарь качался за окном, и женщина меня любила. Над миром бренной суеты витал пророк, дела забросив... От нестерпимой правоты горели щеки на морозе... Метель январская мела и тротуары заметала, а женщина меня ждала, ждала и двери открывала. А я боялся расколоть её фарфоровое тело... И не боялся чушь пороть легко, уверенно и смело... Зима гуляла по дворам, дымилась, белая от ветра, зима, отпущенная нам так неожиданно и щедро. Ольга Постникова FERRUM Гемоглобин – красный пигмент крови – содержит железо. Тепло твоей крови и сердца пульс натужный, Душа, что от иглы невидимой болит Навек в прямом родстве со ржавчиной кольчужной, Предкуликовской яростью молитв. И отчая земля – обыкновенной глиной Высоковольтных ферм окалиной стальной Свела тебя, связав аортой двуединой С пригорком каждым, с каждою сосной. Круговорот веществ, блуждание молекул Вместило сласть садов и поля перегной, И этот цвет родной, что Феофану Греку Дан пережжённой охрой земляной: Там Евы плащ, как флаг, что, взвихренный смятеньем, Не нашими ль червлён проклятьем и виной! И ты ожелезнен кандальным хмурым пеньем. Алчба штыков, чугунных домен вой... Как-будто в рельсу бьют в ночах твоих сиротских... Прапамятью войны запричитал металл. А бурый известняк соборов новгородских Завет отмщённых ересей впитал. И превозмочь нельзя, ты обречён гордиться Падучей пеной ГЭС и бедностью рябин. С российскою судьбой железное единство Навеки дал тебе гемоглобин. Сергей Преображенский * * * Мне десять лет. Я собираюсь жить Так долго. За стеной играют гаммы. За толстой книгой Марека-Керама Три Трои я успел похоронить. Темнеет. За окном сгустился снег. Он падает – его полёт замедлен... Мы к светлой бронзе перешли от меди, – Который век, который это век? Столбцы хронологических таблиц... А за стеной опять играют гаммы. Мне десять лет. Я дожидаюсь мамы. Я прочитал четыреста страниц. Я привыкаю различать века. Мне десять лет. И жизнь так коротка. Ян Пробштейн * * * Macarena и Quantanamera до утра и с утра дотемна – моего безумия мера – здесь нельзя не сойти с ума. Подсыхают “мокрые спины” в раю эмигрантов счастливых, – развлекаясь вполне невинно, гастарбайтеры хлещут пиво. Вот таксист из Александрии В мерседес затолкал своих деток – Как безоблачна здесь ностальгия, И на прошлое нет ответа. Тринидадом горды и Кореей, Вспоминают Гонконг и Египет, Им всем скопом жить веселее – Почему только мы здесь шалеем? Ром забвенья до капли выпит, И пора убегать в Египет. Алексей Прокопьев OСЕHЬ Жизнь растительныx чyвств дoведет нас дo самoзабвенья. Жизнь не тo чтo пyста — как-тo дьявoльски филoсoфична. Даже птицы, и те забывают свoе назначенье. О шершавый асфальт зажигается гoлyбь, как спичка. И звенит и звенит пyстoтелая масса фoнтана, созерцая листвy, погрyжаются статyи в пепел, будто люди yшли, нo oставили каменный танец, будто танец сгoрел, и oстался лишь гипсoвый слепoк. Николай Ребер * * * Нескучный сад, приятная погода. Отдохновенье от заветных дум, Которые ни омута, ни брода, Которые ни плаха, ни колдун, Которые бесцветные листочки Летят себе на-запад-на восток, Которые ни дня без новой строчки, Которые всё прыг себе да скок, Шумят себе слегка автоматично, Похожи на Калашников анфас, И весело садятся в электрички Платочки, шляпки, ручки в добрый час! Плюс-минус цельсий славная погода. Необозримых лет неслабый ряд. И голуби – без выхода, без входа Которые летят себе, летят... Александр Ревич * * * Ты родная земля и эпоха, я лишь капля в реке бытия, выдох, слово одно из-под вздоха и одно из бесчисленных я. Капля тает под зноем июля, иссякает и речь, как ручей, в этом шумном строительстве улья, в наслоеньях времён и ячей. В наслоеньях и напластованьях, в суете расставаний и встреч, в поздних сумерках, в отсветах ранних, где звучит материнская речь. В этом царстве с багровой рябиной и осиновой медной листвой я, любимая, твой нелюбимый, нелюбимый и всё-таки твой. Мадлен Розенблюм * * * Ткань времени трачена молью. К прорехе зрачком припаду. В ладу я с подлунной юдолью. А как будет в райском саду? В момент преломления молний Метнулся к ответу курсор: Меня затопил и заполнил Мелькнувший волшебный узор – И сгинул в дегтярной пучине. Ни света, ни звука, – ни зги. Досада и злая кручина Мои иссушили мозги – Я знаю: в космической домне Алеет заветный узор. Мне вспомнить бы, только бы вспомнить Бессмертный спасительный вздор! Борис Рыжий * * * Молодость мне много обещала, было мне когда-то двадцать лет, это было самое начало, я был глуп, и это не секрет. Это, мне хотелось быть поэтом, но уже не очень, потому что не заработаешь на этом и цветов не купишь никому. Вот и стал я горным инженером, получил с отличием диплом – не ходить мне по осенним скверам, виршей не записывать в альбом. В голубом от дыма ресторане слушать голубого скрипача, денежки отсчитывать в кармане, развернув огромные плеча. Так не вышло из меня поэта и уже не выйдет никогда. Господа, что скажете на это? Молча пьют и плачут господа. Пьют и плачут, девок обнимают, снова пьют и всё-таки молчат, головой тонически качают, матом силлабически кричат. Ашот Сагратян * * * Как стеклодув творит земное чудо, Испив воображения небес, Приходит к нам как будто ниоткуда Страстей и чувств магическая взвесь, И миг назад как будто обречённый – Толкаться болью в оболочку дня, Дух, властью созиданья облечённый, Неуязвимым делает меня. И сердце переходит на порханье, И видения радуга чиста, И ты готов вложить своё дыханье Неверью в бездыханные уста. Евгений Саенко * * * Что-то у нас одно Всероссийское в лицах Снега у нас полно Дождь может долго длиться Если придёшь к реке – Боль что нутро изъела Свыше и вдалеке Храмы тут, в этом дело Лес ли зубчат вдали Елей берёз и сосен Небо что жаль забыть Время такое – осень Ржавчина на дубах Над головою вечность Молодость старость прах Русская бесконечность Виктор Санчук * * * "...Боевой геликоптер..." Из русского перевода Оруэлла Свет не бьётся еще в пограничье потёмок, как под крышкою неба сентябрь-воронёнок. И безмолвно за тенями следует Аргус вечным стражем. Мне страшно. Кончается август. Я усну. Поплывёт золотой островок вольным морем. И вдруг словно выкликнет кто-то: это крестит широкого неба зевок, чертит знаки навыворот винт вертолёта. И покуда он правит, невидимый ас, – тенью, что над древесной пучиною скачет, строже Аргуса мёртвый радаровый глаз сторожит мою лёгкую душу. И значит, в жестяной, изнутри запираемый дом колотись, – маскировкой теряй оперенье и, как плешь, рассекречивай аэродром в безобидных полесьях, пернатое время. Близорукая юность, припомни меня, от цыплячьих сезонов зоо-экспедиций в лобовое стекло наступившего дня виновато стучась замерзающей птицей. По инерции долгий верша оборот, здесь по кругу земли ходит призраком сизым, словно лопасть пропеллера, движется год надо мной, как над выключенным механизмом. Это сон: словно к солнцу тяжелую дверь из полуночной мглы кто-то медленно отпер, а за ней – неба светлую акварель месит в двух плоскостях боевой геликоптер. Ольга Седакова ПРОСЬБА Бедные, бедные люди. И не злы они, а торопливы: хлеб едят – и больше голодают, пьют – и от вина трезвеют. Если бы меня спросили, я бы сказала: Боже, сделай меня чем-нибудь новым. Я люблю великое чудо и не люблю несчастья. Сделай, как камень отгранённый, и потеряй из перстня на песке пустыни. Чтобы лежал он тихо, не внутри, не снаружи, а повсюду, как тайна. И никто бы его не видел, только свет внутри и свет снаружи. А свет играет, как дети, малые дети и ручные звери. Ян Соловьёв ТОТАЛИТАРНАЯ ОСЕНЬ Тысячами краповых беретов Рассыпалась по городу листва Порядок на проспектах навели Небесные пожарные брандспойты Отбросив сантименты стали строже Горбатые деревья-сторожа Благонадёжность проверяет ветер Ощупывая тощие карманы И незаметно очень осторожно Тень тени провожает до дверей Но Осень-повелительница знает Как знают ветер дождь деревья тени Что все равны В том длинном коридоре Где белый кафель Он и Тишина... Полина Слуцкина * * * Обида – линия прочерченная мелом на асфальте магическая линия через которую не перешагнёшь воздушная стена которую я не в силах преодолеть стена обрастает льдом и со временем становится ещё неприступней Ольга Татаринова * * * Слезами воздух напоён и этой моцартовской негой, – сухой асфальт и мокрых крон слияние с сияньем неба. Сухой асфальт и мокрых крон объятья на виду прохожих, и ожил сад, и замок ожил, и влажной дальности предел наполнен бликами похожих весенне-обнажённых тел, и мой хранитель белокожий, ликуя, надо мной взлетел, и с век моих, неосторожный, свою пленительную тень нечайно сдёрнул в этот день. А воздух напоён изменой и этой моцартовской негой, слезами, хлебом и тоской, но мой слепой телохранитель, крылатый, лёгкий небожитель черезвычайно высоко, чтобы меня он мог утешить и защитить от грешных здешних. Александр Тимофеевский * * * Он ищет читателя, ищет Сквозь толщу столетий, и вот – Один сумасшедший – напишет, Другой сумасшедший – прочтёт. Сквозь сотни веков, через тыщи, А может всего через год – Один сумасшедший – напишет, Другой сумасшедший – прочтёт. Ты скажешь: «Он нужен народу…» Помилуй, какой там народ? Всего одному лишь уроду Он нужен, который прочтёт. И сразу окажется лишним – Овации, слава, почёт… Один сумасшедший – напишет, Другой сумасшедший – прочтёт. Илья Тюрин ГЕОГРАФИЯ Кому, как не тебе, – по ремеслу Родиться в глубине земли усталой, Где пол определяют по веслу Или штыку в глухой руке у статуй; По фонарю: когда погашен – день, И ночь - когда разбит. По тени дома – Что дом ещё отбрасывает тень, И смерть не ждёт в конце второго тома Всех писем, что оставишь по себе, Всех адресов (все адреса так узки!), Всех песен, где меж строк – лишь Бог и бег Да Нобель, окликающий по-русски. Алексей Цветков Зачем же ласточки старались? Над чем работали стрижи? Так быстро в воздухе стирались Тончайших крыльев чертежи. Так ясно в воздухе рябило – И вот попробуй, перечти. Так моментально это было – Как будто не было почти. И мы вот так же для кого-то Плели в полёте кружева. Но крыльев тонкая работа Недолго в воздухе жива. К чему пророческие позы Над измусоленным листом? Мы только ласточки без пользы В ничейном воздухе пустом. Андрей Цуканов ЛЬДИНКА Ну что, мой друг? Ну вот тебе снежинка. Лизни её, коль хочешь, языком. Присядь и посмотри: как тает льдинка, Облитая дымливым кипятком. Так распадаются все тонкие структуры, Высокий звук вдруг занижает тон, Так выползает длинный, толстый, хмурый, Мышами обожравшийся питон. И что-то эти льдинки гонит, гонит... Рыбак, поймавший в проруби кита, Уж не смеётся, а угрюмо тонет, Весь свой улов по миру разметав, И на манеж выходит странный солдафон, У неба просит хоть немного пищи, И набивает мыслями патрон, И цель свою так безнадёжно ищет. Ему стрелять не хочется уже. Вся дичь ушла. Деревья поредели. И ждёт его бутылка в блиндаже, Чтоб выпить за себя в конце недели. Владимир Цывунин * * * Возлюбил Ты меня, и, как знак, прикасаешься руцей (А касанья Твои для слабейших Твоих – тяжелы), Я и сам, я и сам бы хотел хоть следов Твоих тихо коснуться, Но блудливы дела мои, да и помыслы мелки и злы. Так зачем эта соль из-под век выступающей влаги (То пластаешь по ветру, то в каморке сгибаешь в дугу), И на что это всё, Терпеливый, на что мне, Всеблагий, Коль уроков Твоих всё равно я понять не могу. Олег Чернопятов * * * Я вовсе не о смерти. Не подумай. Я просто о предчувствии конца: Вот некий факт из жизни неразумной вдруг цепь замкнул. И ты – внутри кольца. И всё – повтор, уже когда-то было. И есть лишь шанс – подняться над кольцом Так, чтобы жизнь мою в спираль скрутило Перед твоим испуганным лицом... Алла Шарапова * * * Белой стаей, станом лебединым Пролетела за весной весна. Кто-то клялся Аннам и Маринам, Что ещё наступят времена. Кто-то клялся мрамором лицейским, Острыми чертами Казанов, Кто-то клялся вдовам офицерским, Что ещё на свете есть любовь. Кто-то верил. Кто-то, кто-то, кто-то... Всё кипело, не прочесть имён. Под прикрытьем уходили роты В мареве пороховых знамён. Отступленья. Но и в этом шквале Где-то голосили петухи. Мальчики по почте отправляли Злые неумелые стихи. Всё равно – Маринам или Аннам... Падали в огонь, сжимая грудь... Белой стаей, лебединым станом Улетело, скрылось, не вернуть. Марк Шатуновский (париж-москва) когда глядишь глазами вогнутыми на неразборчивый пейзаж то кажутся почти что чокнутыми ландшафты сданные в багаж и равнодушные растения больные словом "недород" и с раздраженьем неврастеника зима жующая народ патриотизм невразумительный прости меня но ты дуришь я под твоей опекой бдительной качусь в москву послав париж ты ж над страной косящей в пропись разбрызган как аэрозоль оставь мою в покое совесть она уже почти мозоль Екатерина Шевченко ЭЛЕГИЯ Я помню, как я сильно Вас любила. Тогда земля ложилась и болела, Вся чёрная, в горчичниках листвы. Я душу уберечь свою пыталась От Ваших комнат с книжными шкафами И с пыльным осликом, висевшем на гвозде. Я письма никогда не отправляла, А приходя, бросала прямо в ящик В подъезде гулком, где на плитке пола Читалась надпись: “Мюр и Мерилиз”. Я никогда не позабуду вида Дождливых прутьев, голых, как и я, Скорбевшая на отмели постели. Я до сих пор люблю туда звонить И длинными спокойными гудками Ходить по дому в тишине дневной. Леонид Шевченко * * * Ещё бы жить в году постыдном, рукою нехотя водить по тем листам, во рву невидном лежать и тихо говорить о чудесах за милым кругом, о лепестках в губах твоих, я пью отраву с грустным другом, вина не сыщешь на двоих. Мне уравнение приснится, учитель старый и больной, я пожелаю объясниться, но вспыхнет узелок стальной. Ворона каркает, ворона, ворона ищет и найдёт Петра, Калигулу, Нерона И век посуды и пустот. Я вышел в город. Неужели состарились учителя? Не обойти дырявой шали, и сделать так, чтоб не мешали минуты, радуги, метели и просто ноты – ми, до, ля. Ещё бы. Ладно, ладно, ладно, а город в праздничных огнях и слишком рано – Вера, Анна – слуга на четырёх конях. Михаил Щербина МОТОЦИКЛИСТКА Вот этот проспект не имеет границы! Ты мчишь в горизонт переходных глаголов. Со скоростью дуг, разорвавших зарницы, летит на тебя его кинематограф. Всё, что впереди появлялось и было, теперь потеряло свою оболочку, и, словно в воронку, возникшую с тыла, любые предметы уносятся в точку. Подвешено солнце, как уровень взрыва, труктура травы по всем швам распоролась, и всех телеграфных столбов перспектива в один бесконечный нацелилась конус. Татьяна Щербина РУНЕТ Больше нет страны РФ на свете, нет России – есть страна Рунет. АБВ нет, аза, буки, веди, Костромы с Камчаткой тоже нет. www – новопрестольный город, сайты поселений всех мастей: есть понаселённей, где за ворот килобайт бежит, набрав вестей, есть понебоскрёбистей – порталы, в баннеров цветастых витражах, есть покомпроматистей, как скалы, там где горцы бьются на ножах. А бывают целые посёлки трехэтажных сайтов без жильцов, пляжи, где как огурцы в засолке, загорают все, в конце концов. В чаты заползает человечек, ищет непрерывности пути. Хакер-истребитель бомбы мечет, в письмах шлёт их, свесившись с сети. Так живет Рунет, несутся линки, в паутине не осталось дыр, мышки так и щёлкают ботинком, уплетая свой бесплатный сыр. Власть географическая пала, мы переселились по хостам, где, средь исторического бала мир переместился на экран, слёг как сыч в коробку с монитором, мы играем с ним по одному, так отпало общество, в котором все играли в пробки и в войну. Юрий Юрченко ИЗ СТИХОВ ИОГАННА ГЕОРГА ФАУСТА … Где слова мне украсть – описать – пока тает огарок – эту тайную власть пыльных сводов и сумрачных арок… … мрамор… бронза… базальт… «Фавн»… «Гермес усыпляет Дельфину»… Дальний хор, детский альт: «Арголида… Элида… Афины…» … Там, в аркадских лесах, И рвалось моё сердце и – билось; Там, с луной в волосах, Ты – из света и тени – явилась… И по всем городам Ты прошла в подвенечном уборе – До реки Эридан И затем – до Тирренского моря. Ветер бил в паруса – И забыл я о родине зимней… … Я бродил по лесам и писал тебе оды и гимны… … Но – пока повторял Я их всем волооким Юнонам – Я тебя потерял Между Локрами и Вавилоном.