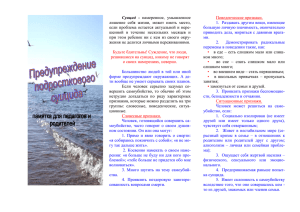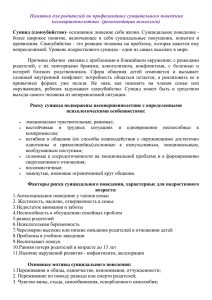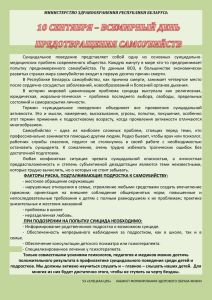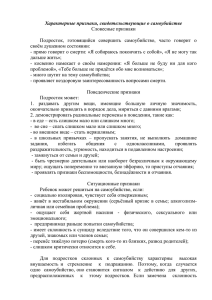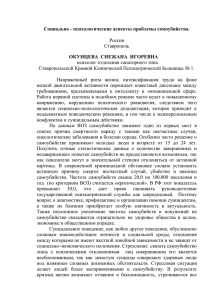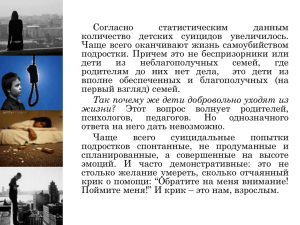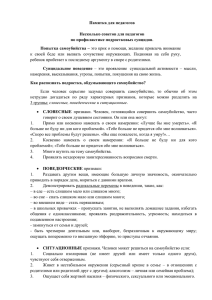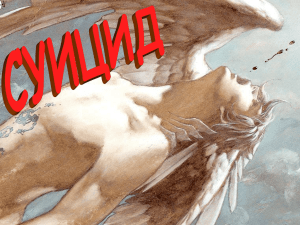Из истории суицидальной мысли Вопрос о самоубийстве из века в век бросает вызов разуму, ставя под сомнение осмысленность жизни. Наша культура сделала этот предмет универсальным реагентом в лаборатории философии, которым можно проверить целую охапку проблем: о свободе воли, смерти и бессмертии, душе и Боге, отношениях индивида и общества, границах власти и многие другие. Мы до сих пор не имеем ответа на этот вопрос — но размышления над ним дали богатый урожай философских взглядов. В Древней Греции самовольное самоубийство осуждалось как незаконное отступление принадлежащего полису солдата с поля боя, хотя в ряде других греческих полисов самоубийство по судебному решению было фактически узаконено. Всем желающим предоставляли яд, цикуту, однако перед этим страждущий смерти должен был объясниться, почему и зачем он хочет уйти из жизни, а общественные представители должны были признать его доводы достаточно вескими. Либаний писал: «Пусть тот, кто не хочет больше жить, изложит свои основания ареопагу и, получивши разрешение, покидает жизнь. Если жизнь тебе претит — умирай; если ты обижен судьбой — пей цикуту. Если сломлен горем — оставляй жизнь. Пусть несчастный расскажет про свои горести, пусть власти дадут ему лекарство, и его беде наступит конец». Если же кто-то совершал самоубийство без одобрения властей, то при захоронении его трупу отсекали одну руку и закапывали её в другом месте. Пифагор был противником самоубийства по чисто математическим причинам: он считал, что в мире присутствует строго фиксированное количество душ, и что неожиданный уход даже одной из них может нарушить тонкий баланс этого круговорота. Орфики считали тело человека собственностью богов, и соответственно, самовредительство было прямым нарушением божественного закона. Стоики полагали, что лишить себя жизни можно в том случае, если ты больше не можешь жить добродетельно и приносить пользу обществу. Эпикурейцы, напротив, — что можно свести счёты с жизнью в том случае, когда тело и жизнь переставали приносить удовольствие — главное благо смертного бытия. Античный философ Сократ проповедовал бессмертие души в мире абсолютных идей, перед которым мир материи меркнет. За его возмутительные проповеди государство полиса объявило его растлителем малолетних и приговорило выпить яду. Имевший возможность опровергнуть собственную вину в суде или сбежать, Сократ выбрал подчиниться приговору, посвятив последние минуты жизни философской проповеди о смерти, которая является для знающего истину освобождением: «Те, кто подлинно предан философии, заняты, по сути вещей, только одним — умиранием и смертью. Люди, как правило, это не замечают, но если это всё же так, было бы, разумеется, нелепо всю жизнь стремиться к одной цели, а потом, когда она оказывается рядом, негодовать на то, в чём так долго и с таким рвением упражнялся». Самоубийство Сократа стало одним из самых дискуссионных за всю историю суицидальных размышлений, оказавшись актом осознанного освобождения души от тела и подкрепив смелой практикой его рассуждения о бессмертии души. В каком-то смысле именно добровольный уход Сократа из жизни стал его ультимативным доказательством возможности бессмертия и наложил отпечаток на всю последующую западную философию. Для многих чаша с цикутой в руках Сократа стала напитком бессмертия. В том числе Фридрих Ницше утверждал, что Сократ вынудил государство протянуть ему яд, чтобы уйти из жизни не самовольно, а по очевидному указанию богов. Впрочем, современники событий безусловно считали Сократа убитым Афинами. Историю кончины Сократа и рассуждении о бессмертии души мы знаем по «Апологии» и «Федону» Платона. Сам Платон отрицал правомерность суицида, так как разделял мнение орфиков о том, что человек принадлежит богам, а потому самоубийство — злонамеренная порча божественного имущества. В какой-то мере ему вторит Аристотель, но с более утилитарных позиций. Знаменитый создатель формальной логики назвал самоубийство антиобщественным преступлением против государства, безответственным поступком, загрязняющим город и ослабляющим общество, так как лишает его полезной человеческой единицы. В Древнем Риме желающие совершить самоубийство должны были встать в очередь и подать заявку на рассмотрение в Сенат, и если описанные ими причины считались достаточно вескими, им бесплатно выдавали яд. Самоубийство считалось преступлением только в трёх случаях: если самоубийца совершил тяжкое преступление, если самоубийца служил в армии или если он был рабом. Если обвинённый убивал себя до суда, государство не имело права конфисковать всё его имущество. Самоубийство солдата приравнивалось к дезертирству. Если же раб убивал себя в течение первых шести месяцев после его приобретения, хозяин был вправе потребовать у предыдущего хозяина вернуть деньги за «бракованный товар» — раба, склонного к меланхолии. На более позднем этапе существования Римской Империи отношение к самоубийству стало более строгим. В кодексе императора Адриана солдатам, совершавшим неудавшуюся попытку суицида, полагалось отрубить голову. Отдельно указывались смягчающие обстоятельства: «…если только причиной тому не были невыносимое горе, болезнь, скорбь или иная подобная причина», а также «усталость от жизни, безумие или стыд». В «Дигестах» Юстиниана (VI век) было прописано, что «не следует также предавать погребению тех, кто повесился или иным образом наложил на себя руки не вследствие невыносимости жизни, а по своей злой воле». Ассоциация между добровольной смертью и бессмертием души закрепилась в истории смерти Иисуса из Назарета, главного героя книги «Новый Завет». Как и Сократ, назаретянин был казнён как преступник, приговорённый за распространение возмутительных идей о каком-то неправильном Боге, который есть любовь. Как и Сократ, он принял смерть добровольно, хотя мог и избежать её. Смерть Иисуса рассматривалась как освобождение души из оков тела, также подкреплённая рассказами о бессмертии души. Именно по образцу Христа раннехристианские мученики с радостью принимали любую возможность умереть, находя таким образом самый короткий путь к бессмертию. Канонизация таких мучеников только закрепила представление о смерти Христа как добровольном уходе из жизни, то есть в каком-то смысле — тоже самоубийстве по воле Пославшего его. В тексте Евангелий содержится история ещё одного самоубийцы, Иуды Искариота, который предал товарища и учителя за тридцатку и повесился. В Новом Завете о его смерти сообщается довольно равнодушно: удавился и опростался — и всё тут. Поскольку в каноническом тексте самоубийство не осуждается, а в святые набилось полно людей с очевидными суицидальными наклонностями, отцам церкви пришлось поломать голову над аргументацией неприемлемости самоубийства. Блаженный Августин считал самоубийство тяжким грехом: человек не имеет права убить даже виновного человека, а самоубийца, отнимая собственную жизнь, убивает человека. Кроме того, самоубийца даже хуже убийцы, потому что убийца может покаяться и искупить собственные грехи, а суицид ставит точку в земном пути и лишает самоубийцу возможности покаяния. И наконец, праведная, благородная душа должна сносить все земные страдания, избегая слабости и отчаяния. Фома Аквинский выводил безусловную греховность самоубийства из трёх предпосылок: суицид — противоположность естественной любви к себе, призванной сохранять нас; суицид наносит вред обществу, частью которого является самоубийца; суицид нарушает наши обязанности перед Богом, потому что Бог дал человеку жизнь в дар, и, самостоятельно отнимая свою жизнь, мы отнимаем у Бога право определять длительность нашего земного существования. Средневековая церковь последовательно маргинализировала самоубийц, признав их сначала «объятыми дьявольским безумством», отказавшись хоронить преступников, совершивших самоубийство, а затем — и отпевать и погребать всякого совершившего суицид, отлучая от церкви не только самоубийц, но и тех, кто совершил неудачную попытку. Со временем тела самоубийц стали предавать дополнительному осквернению, волокли их по улице лицом вниз, а затем вешали, сжигали или просто выставляли на всеобщее обозрение. Во Франции, если самоубийство совершал дворянин, его лишали титула, ломали семейный герб, разрушали замок, а всё имущество конфисковывали в пользу государственной казны (беря пример с Римской империи). Эпоха Возрождения начала менять взгляд на самоубийство вследствие изменения представлений об устройстве мироздания и месте человека в нём. Появилась антропоцентрическая идея вселенной — мира, созданного для человека и предоставляющего ему пространство для самореализации как сотворца Бога. Человек стал представляться как равный Богу в своих творческих возможностях, способный довести несовершенный Божий мир до совершенного произведения искусства. Именно в это время стало крепнуть и абсолютизироваться понятие о свободной воле. Выбор жить и выбор умереть начал представляться специфическим правом, отличающим человека от других существ. Томас Мор в своей «Золотой книжечке, столь же полезной, сколь и забавной, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия», написанной в 1516 году, обосновал самоубийство как избавление от горькой жизни больного человека. Прекратить жизнь, превратившуюся в пытку, Мор считает святым правом. Полностью посвящён оправданию самоубийства труд «Биатанатос» 1608 года Джона Донна, который апеллирует к знаменитым самоубийцам из Библии: Самсону, Саулу, Иисусу и Иуде. Донн обосновывает, главным образом, что Иисус совершил самоубийство во благо миру — а сделанное сыном Божьим не может быть грехом. Мишель де Монтень развивает юридический подход к праву на самоубийство как к праву на распоряжение частной собственностью: «Подобно тому, как я не нарушаю законов, […] когда уношу то, что мне принадлежит, […] и не являюсь поджигателем, когда жгу свой лес, точно так же я не подлежу законам против убийц, когда лишаю себя жизни». Фрэнсис Бэкон (в труде «Великое установление» 1623 года) поднимает вопрос об эвтаназии — и впервые вводит этот термин — как следствия обязательства медика облегчать страдания человека: «Долг медика не только в том, чтобы восстанавливать здоровье, но и в смягчении страданий, вызванных болезнью; […] если недуг признан неизлечимым, лекарь должен обеспечить пациенту лёгкую и мирную кончину, ибо нет на свете блага большего, нежели подобная эвтаназия». В целом проблема суицида в Возрождение обрела самостоятельное значение и амбивалентность. С одной стороны, самоубийство — зло, так как прекращает возможность самореализации, познания и чувственных удовольствий; с другой стороны — это благая возможность прекратить жизнь, которая наткнулась на препятствие в реализации основных человеческих потребностей. Бенедикт Спиноза, один из ярких представителей мышления Нового времени, рационалист и натуралист, опередил своё время, связывая самоубийство с нарушением аффектов, из-за которого инстинкт самосохранения изменяет человеку. Английский философ Томас Гоббс осуждал право личности покончить со своей жизнью: в своём трактате «Левиафан» он утверждал, что естественный закон запрещает каждому человеку «делать то, что разрушительно действует на его жизнь, или отбирать средства сохранения этой жизни». Нарушение этого естественного порядка иррационально и аморально. Гоббс считал, что для человека интуитивно правильно и рационально желать счастья и больше всего бояться смерти. В XVIII веке английский философ Дэвид Юм выступил с защитой самоубийц, говоря, что суицид — не большее восстание против Бога, чем спасение жизни человека, который иначе бы умер, — или чем изменение положения любого предмета в нашем окружении. Он полагал, что раз человек может с полным правом менять течение рек для нужд ирригации, точно так же Бог не воспрещает ему пустить кровь из вен. Если понятие «божественного порядка» охватывает всё, что происходит с божьего позволения, значит, скорее всего, Бог одобряет абсолютно все наши действия, в том числе и самоубийство, так как теоретически всемогущий Бог может в любую минуту вмешаться в человеческие действия и воспрепятствовать им. Одним из самых ярких явлений суицидологической мысли конца XVIII столетия оказался роман 1774 года «Страдания юного Вертера» Иоганна Вольфганга фон Гёте о конфликте нового романтического типа человека с миром и о невозможной любви. Гёте снова затрагивает линию Сократ–Христос в отношении суицида, так как оригинальное название «Die Leiden des Jungen Werther» намекает на «Das Leiden unseres Herrn Jesu Christi» — Страсти Христовы (эта аналогия была сохранена в первом переводе романа русский язык под заглавием «Страсти молодого Вертера»). Вертер воспринимал свою смерть как возможность воссоединения с Отцом Небесным и повторял слова молитвы Иисуса в Гефсиманском саду, снова указывая на противоречие христианской морали: осуждение самоубийства и представление о добродетельном христианине как о стремящемся взойти на небеса посредством физической смерти. Одновременно Гёте описывает своего героя в терминах физиологии как патологический тип меланхолика, склонного к горячечному возбуждению, предвосхитив позитивистский взгляд XIX столетия. В России этого времени был свой апологет суицида как разрешения конфликта с обществом, автор сентиментального романа «Путешествие из Петербурга в Москву» Александр Радищев. В романе мыслитель Просвещения критикует угнетение крестьян и осуждает самодержавие, там же устами наставляющего детей отца Радищев рассматривает добровольную смерть как спасение от угнетения: «Тогда вспомни, что ты человек, воспомяни величество твоё, восхити венец блаженства, его же отъяти у тебя тщатся. — Умри». XVIII столетие завершилось манифестацией права человека на жизнь как основную ценность. Это право стало юридически закреплённым, в связи с чем покушение на его жизнь рассматривалось как преступление. Именно этому парадоксу обязаны многочисленные случаи казней неудачливых самоубийц, когда палачи доделывали то, что не смог довершить осуждённый. Одновременно дальнейшее развитие получила идея мирового разума (а значит, разумности и целесообразности жизни). Иммануил Кант считал человеческую жизнь священной и неприкосновенной частью природы, на которую нельзя покушаться: «…Человек не есть какая-нибудь вещь, […] он всегда и при всех своих поступках должен рассматриваться как цель сама по себе. Следовательно, я не могу распоряжаться человеком в моём лице, калечить его, губить или убивать», — писал он, обосновывая самоубийство как преступление против мирового порядка. Георг Вильгельм Фридрих Гегель рассматривал самоубийство как высшую степень отрицательной воли человека: «В основе этого элемента воли лежит то, что я могу освободиться от всего, отказаться от всех целей, абстрагироваться от всего. Единственно только человек может всё отбросить, даже свою жизнь: он может совершить самоубийство», — говорится в его «Философии права». Поскольку для Гегеля мир — это движение самопознающего духа, то самоубийство оказывается для него исключением человека из процесса этого познания, что полностью лишает и жизнь, и смерть такого человека ценности для мира. Артур Шопенгауэр в своём главном труде «Мир как воля и представление» многократно использовал проблему самоубийства как призму рассуждений о свободе воли, отрицая роль морали в рассмотрении этого вопроса. Он сравнивает смерть с пробуждением от ночного кошмара, а главной добродетелью и признаком моральной высоты считает преодоление своего желания жить. Суицид пошопенгауэровски — это отрицание всех иллюзорных удовольствий и соблазнов жизни, а не побег от боли и разочарования, которые она с собой несёт: «Самоубийца — это человек, который вместо того чтобы отказаться от хотения, уничтожает явление этого хотения: он прекратил не волю к жизни, а только жизнь. Но он вполне испытывает внутренний раскол жизни, и горькое самоубийство представляет собою боль, которая может излечить его от воли к жизни». Похожий подход разделил и Людвиг Фейербах, опровергая взгляд на самоубийство как проявление воли такой мощи, что она преодолевает саму жизнь, и рассматривая его как избавление от страданий — то есть продукт того же инстинкта самосохранения. В 1931 году эту идею развил русский религиозный философ Николай Бердяев в своём труде «О самоубийстве», написанном под впечатлением колоссального количества суицидов русских эмигрантов после революции. Бердяев, сохраняя религиозный подход к ценности человеческой жизни, старался разобраться в психологическом состоянии суицидента и воспроизвести механизмы отчаяния, безнадёжности и замкнутости на себе, которые приводят человека к роковому решению: «Означает ли самоубийство нелюбовь к жизни и ее благам? Поверхностно самоубийство может произвести впечатление потери всякого вкуса к земной жизни, окончательной отрешённости от неё. Но в действительности это не так. Самоубийство есть в большинстве случаев особого рода проявление непросветлённой любви к земной жизни и её благам. Самоубийца есть человек, который потерял всякую надежду, что блага жизни могут быть ему даны. Он ненавидит свою несчастную, бессмысленную жизнь, а не вообще земную жизнь, не вообще блага жизни. Он хотел бы более счастливой и осмысленной земной жизни, но отчаялся в её возможности. Психология, которая приводит к самоубийству, есть менее всем психология отрешённости от благ земной жизни. Люди аскетического типа, напряжённой духовной жизни, обращённые к иному миру, к вечности, никогда не кончают жизнь самоубийством. Нужна, наоборот большая обращённость к временному и земному, забвение о вечности и небе, чтобы образовалась психология самоубийства». Самоубийство для Бердяева атеистично по своей природе, так как ставит человека на место Бога. Интересный логический парадокс вывел Джон Стюарт Милль в своём прочойс-эссе о жизни и смерти «О свободе» 1859 года. Как либерал Милль говорит, что главная ценность в человеческой жизни — это свобода выбора, соответственно, запрещены могут быть только поступки, лишающие впоследствии его такой опции. То есть общество должно пресекать случаи отказа от свободы, будь то добровольная продажа себя в рабство или самоубийство. В этой установке уже начинает прослеживаться связь свободы с обязанностью, которая превратится в непосильную иногда ношу уже в ХХ веке. В XIX веке с развитием науки и идей позитивизма взгляд на самоубийство через призму метафизики ослабевает, и всё чаще в связи с добровольным уходом из жизни вместо вопросов о свободе воли, долга перед обществом или грехе встаёт вопрос о безумии и болезни как причинах такого поведения. Появляется научное понятие «суицид», зарождается наука суицидология, а самоубийство становится «болезнью века». В то же время развивается наука об обществе, социология, с точки зрения которой каждый человек — часть общественного тела, функционирующего по единому закону. Социологи взялись доказать, что любые нарушение морали происходят по законам природы, изучая статистически преступность и самоубийства. В конце века эти попытки увенчались классическим трудом Эмиля Дюркгейма «Самоубийство», который сделал человеческую жизнь объектом научного рассмотрения и поставил самоубийство в ряд с обыденными выборами человека, которые имеют свою социальную обусловленность: «Не существует ни одного психопатического состояния, которое имело бы с самоубийством постоянную и бессменную связь», — писал Дюркгейм. Эмиль Дюркгейм разделяет людей, принимающих решение покончить с собой, на четыре группы: эгоистическую, альтруистическую, аномическую и фаталистическую. Эгоистичные люди склонны к избыточным размышлениям и рефлексии; они хорошо образованны и при этом не очень хорошо интегрированы в общество (протестанты чаще всего попадают в эгоистичную группу по определению). Альтруистичные люди склонны к самопожертвованию, обесцениванию собственной личности и взамен очень высоко ставят интересы и мнения группы. Такие люди ведут очень строгий образ жизни или принадлежат к религиям, требующим строгого подчинения (католицизму, иудаизму и так далее). Принадлежащие к аномической группе, напротив, не придерживаются никаких ограничений и правил, не контролируют собственные порывы и склонны исполнять все свои желания и импульсы. Фаталисты чрезмерно подавляют собственные желания строгой саморегуляцией. Соответственно и самоубийства по причине и характеру делятся на эти четыре типа. Датский религиозный философ Сёрен Кьеркегор одним из первых озвучил идею богооставленности нашего мира, в котором к высшей мудрости прилагается и абсолютное отчаяние. В этом лишённом Бога мире вера становится свободным выбором индивида — как и выбор прервать жизнь: «Да, я не господин своей судьбы, а лишь нить, вплетённая в общую ткань жизни! Но если я не могу ткать сам, то могу обрезать нить». Одно из знаковых художественно-философских самоубийств для России — самоубийство Кириллова из «Бесов» Фёдора Достоевского. В отличие от других героев Достоевского, Кириллов выбирает смерть не от запутанности и морального падения, а как подвиг высокой морали, который «спасёт всех людей и в следующем же поколении переродит». В отличие от платоников, Кириллов не освобождает свою душу самоубийством, а осознанно экспроприирует власть Бога, умирая по собственной воле для одной только манифестации этой воли. Этот богоборческий подход был переработан Фридрихом Ницше и Альбером Камю и стал моделью для самоубийства ХХ века — самоубийства как права человека исключительного. Фридрих Ницше довёл до апофеоза возрожденческий подход к человеку, помещая его между Творцом и тварью и предполагая в нём волю стать тем или другим. Воля, эта страстная интенция, представляется ему центром человеческого существа: «Человек предпочитает хотеть Ничто, чем ничего не хотеть», — написал он в «Генеалогии морали». Ницше заявляет право человека на самоубийство, когда вследствие болезни или страсти его немощное тело не может выдержать мощи его воли: тогда отказ от жизни спасёт от гибели дело жизни человека, которое можно передать последователям, не осквернив его своей слабостью. О распространённых в то время самоубийствах от скуки, тоски или неразделённой любви философ высказывался с присущей ему жёсткостью: «Наши самоубийцы дискредитируют самоубийство — не наоборот». Новейшее время в своём подходе к суициду в принципе кардинально отличается от всех предыдущих времён. Свобода выбора стала центральной точкой философского размышления нового столетия, и если раньше суицид мог быть совершён, будучи оправданным, то теперь оказалось необходимым оправдание для отказа от выбора умереть. Вся философия экзистенциализма зиждется на отсутствии заданного смысла в жизни, из чего закономерно проистекает вопрос: так почему же не убить себя? Экзистенциальную бессмыслицу было предложено заполнить самопровозглашённым смыслом, что для многих оказывается неразрешимой задачей. «Человек предпочитает хотеть Ничто, чем ничего не хотеть». © Фридрих Ницше, «Генеалогия морали» Альбер Камю довёл эту идею до абсурда, заявив, что жизнь не просто не имеет смысла, она абсурдна — то есть просто-напросто противоречит здравому смыслу. Жизнь не может ответить на наш вопрос о существовании Бога, цели или смысла, но отвергать её — значит отказываться от свободы. Камю приравнивает самоубийство и религию к вредоносным иллюзиям, в которые человек бежит от тяжести абсурда жизни и бессмысленности свободы вместо того, чтобы со всей страстью принять жизнь как игру, за которой можно наблюдать. Вместо этого вопрос о самоубийстве становится для Камю «проверочным» вопросом: «Решить, стоит ли или не стоит жизнь того, чтобы её прожить, — значит ответить на фундаментальный вопрос философии», — пишет он в «Мифе о Сизифе». Мишель Фуко в каком-то смысле вернулся к аристотелевскому пониманию значения самоубийства для общества как нарушения властных отношений человека и государства: «Можно было бы сказать, что прежнее право заставить умереть или сохранить жизнь было замещено властью заставить жить или отвергнуть в смерть», — пишет он в книге «Воля к истине». Он объясняет непреходящий интерес к суициду тем фактом, что упорствование в желании умирать совершенно разных людей, которое никак не могут стройно объяснить медицина, психология и социология вместе взятые, противоречит природе политической власти, которая берёт на себя функцию заведовать жизнью граждан. Жан Бодрийяр дал новую трактовку ценностей жизни и смерти современного человека, определив нашу культуру как построенную на влечении к смерти. Производство ради производства, труд ради создания занятости, истощение ресурсов, постоянно меняющаяся мода, аутосексуальность и отказ от репродуктивного секса ради собственного удовольствия — всему этому как знакам смерти Бодрийяр предлагал противопоставить терроризм, захват заложников и самоубийства. В новом мире самоубийство стало не выходом из конфликта общества и индивида, а средством этой борьбы, в которой жизнь и смерть оказываются пером и чернилами, с помощью которых можно написать манифест. После двух мировых войн, гуманистического кризиса и распространения террористических атак в ответ на имперскую экспансию крупных государств мантра о значимости человеческой жизни стала требовать почти религиозной веры. В условиях, когда каждая жизнь ценна для политэкономической машины и ничего не значит сама по себе, жизнь и смерть обретают ценность только в языке как символы, с помощью которых творится реальность. Самоубийство становится медиумом, прерванная жизнь превращается в букву послания: умер Бог, умер Автор, покончил с собой Читатель — остался только текст.