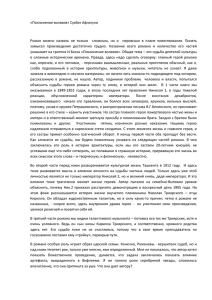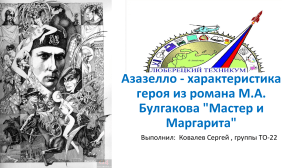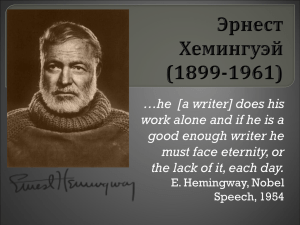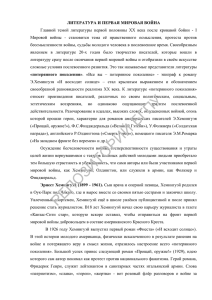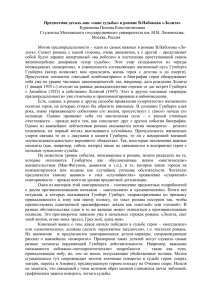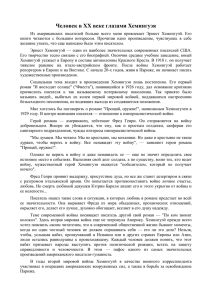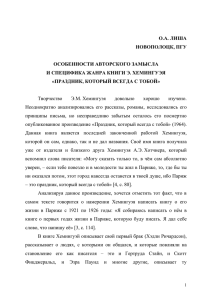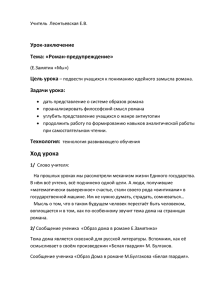Материалы к лекции №6 «Литература «потерянного поколения»» План 1. Список научной и учебной литературы 2. Научные тезисы 3. Фрагменты научных работ Зарубежная литература XX века : учеб. / под ред. Л. Г. Андреева. – 2-е изд., испр., доп. – М. : Высш. шк. : Академия, 2004. – С. 342–356. История зарубежной литературы XX века : учеб. / под ред. Л. Г. Михайловой, Я. Н. Засурского. – М. : ТК Велби, 2003. – С. 252–255. Маркин А.В. Эрих Мария Ремарк // История немецкой литературы: Новое и новейшее время. Под ред. Е.Е. Дмитриевой, А.В. Маркина, Н.С. Павловой. М.: РГГУ, 2014. С.681687. Аствацатуров А. Феноменология текста: игра и репрессия. М., 2007. Глава 9 Э. Хемингуэй: полемика с психологизмом (роман «И восходит солнце»). Эл. ресурс: https://bookscafe.net/read/astvacaturov_andrey fenomenologiya_teksta_igra_i_repressiya235946.html#p81 Семенова Л. Н. Первая мировая война в зарубежном романе 10–30-х гг. XX века / Л. Н. Семенова. Якутск : Изд-во Якут. гос. ун-та, 1993. 80 с. Старцев, А. Молодой Хемингуэй и потерянное поколение / А. Старцев // От Уитмена до Хемингуэя. – М., 1975. – С. 281–301. - 1920-е годы — период смены основных векторов существования в западных литературах. Он отмечен как разносторонним осмыслением историко-культурного сдвига, так и вступлением в права нового литературного поколения, представление о котором так или иначе ассоциировалось с образом «потерянного поколения». Первая мировая война, усиливающийся кризис политической системы способствовали возникновению на Западе этого особого литературного феномена (lost generation (англ.) - «погибшее поколение»). Независимо от того, принимал ли тот или иной конкретный автор участие в первой мировой войне, либо только сделал резонанс войны событием своего творческого сознания, «1920-е гг.» (период 1919 - 1934 годов) признаются в критике «эрой потерянного поколения». Под влиянием Э. Хемингуэя и его романа «И восходит солнце» (1926) «потерянность» стала универсальной характеристикой, имеющей отношение как к тем, кто, возвращаясь с фронта, не видит различий между «войной» и «миром», так и к тем, кто, пережив трагедию разочарования в «мире», оказывается «посторонним», испытывает «беспокойство» от общественных ценностей и ритуалов; причем почти всегда и те, и другие пытаются самореализоваться, осуществиться на грани жизни и смерти. Считается, что термин «потерянное поколение» был введен в журналистскую и литературную практику американской поэтессой, прозаиком и теоретиком литературы Гертрудой Стайн (1874-1946), по легенде, употребившей его в разговоре с Эрнестом Хемингуэем (1899-1961). В 1926 г. писатель поставил этот термин в качестве эпиграфа к своему роману – поколенческому манифесту «И восходит солнце». О рождении этого выражения Хемингуэй рассказывает в романе «Праздник, который всегда с тобой». В главе «Une generation perdue» (с французского: «потерянное поколение») он пишет, что однажды некий молодой механик, побывавший на фронте, очень неудачно отремонтировал старый Ford Гертруды Стайн. Она была крайне недовольна. «Вы все — une generation perdue! Вот вы что такое. Вы все такие! – сказала мисс Стайн. — Вся молодёжь, побывавшая на войне. Вы — потерянное поколение. — Вы так думаете? — спросил я. — Да, да, — настаивала она. — У вас ни к чему нет уважения. Все вы сопьётесь…» Говоря о «потерянном поколении», Стайн имела в виду конкретную группу писателей, эмигрировавших из США и посещавших ее литературный салон в Париже. Этот салон стал одним из центров художественной и литературной жизни. Многие писатели и художники того времени работали в этом салоне. Термин стал лейтмотивом творчества целого ряда писателей, как сразу после войны, так и позднее. «Потерянное поколение», т.е. молодые люди, «призванные на фронт в возрасте 18 лет, часто еще не окончившие школу, рано начавшие убивать». Вернувшись домой, они зачастую не могли адаптироваться к мирной жизни, спивались, сходили с ума и проч. Э.М. Ремарк в романе «Возвращение» (1931) показал именно таких бывших солдат. А в его же романе «Три товарища» (1938) также описана судьба «потерянного поколения». Итак, «потерянным поколением» обычно называют и писателей, и людей, «прошедших через Первую мировую войну, духовно травмированных, разуверившихся в ура-патриотических идеалах, некогда их увлекавших, подчас внутренне опустошенных или остро ощущающих свою неприкаянность и отчуждение от общества». Именно таким образом определил это понятие литературный критик Б.А. Гиленсон. Однако он считал при этом, что творчество писателей «потерянного поколения» исполнено гуманистических стремлений, «согрето сочувствием к жертвам войны и общественного лицемерия». Б. Гиленсон называет главными антивоенными романами «Прощай, оружие!» Э. Хемингуэя, «Смерть героя» Р. Олдингтона и «На Западном фронте без перемен» Э.М. Ремарка. Все три вышли в 1929 г. В 30-е годы тема «потерянного поколения» теряет свою остроту, хотя и не исчерпывается. Судьба людей послевоенной действительности показывается в романах «Дочь полковника» (1931) и «Все люди враги» (1933) Р. Олдингтона, а также - в романах Э.М. Ремарка «Возвращение» (1931) и «Три товарища» (1938). Мотивы «потерянности» поразному заявили о себе в таких романах, как «Великий Гэтсби» (1925) Ф. С. Фицджералда, «Солдатская награда» (1926) и «Сарторис» (1929) У. Фолкнера, «И восходит солнце» (1926), «Прощай, оружие!» (1929) Э. Хемингуэя, «На западном фронте без перемен» (1929) Э. М. Ремарка, «Смерть героя» (1929) Р. Олдингтона. - «Потерянность» в широком смысле — это следствие разрыва с системой ценностей, восходящих к «пуританизму», «традиции благопристойности» и т. д., и с довоенным представлением о том, какими должны быть тематика и стилистика художественного произведения. Мучительное осмысление «заката Запада», собственного одиночества, равно как и ностальгия по органической цельности мира, привели начинающих авторов к поискам «новой идеальности», которую они формулировали прежде всего в терминах художественного мастерства. Хаосу мира в этой художественной программе способна противостоять «ярость» творческого усилия — таков подтекст главных произведений «потерянного поколения», общими чертами которых являются трагическая тональность, интерес к теме самопознания, а также лирическое напряжение. Жестокость современности не могла не облечься в метафору войны. Если в начале 1920-х годов она трактуется достаточно конкретно, то к концу десятилетия становится олицетворением важнейшего измерения человеческого существования вообще. Наиболее ярко о протесте против «норм» цивилизации говорит Хемингуэй устами лейтенанта Фредерика Генри, центрального персонажа романа «Прощай, оружие!»: «Абстрактные слова, такие, как «слава», «подвиг», «доблесть» или «святыня», были непристойны рядом с конкретными названиями деревень, номерами дорог, названиями рек, номерами полков и датами». - Следует иметь в виду, что писатели потерянного поколения никогда не составляли какой-либо литературной группы и не имели единой теоретической платформы. Но общность проявляется и в тематике, и в форме их произведений, в чертах поэтики. Основная художественная форма роман. Главные темы — либо война, фронтовые будни ("Прощай оружие" Хемингуэя, "На западном фронте без перемен" Ремарка, оба 1929г.), либо послевоенная действительность ("Великий Гэтсби" Фицджеральда 1925, "Возвращение" Ремарка 1931). В "военных" произведениях показаны истоки потерянности поколения: фронтовые эпизоды поданы авторами жестко, вразрез с тенденцией романтизации Первой мировой в официальной литературе; во многих случаях смерть героев нелепа, в смерти нет ничего романтического и поэтического. В произведениях о "мире после войны" показаны следствия — судорожное веселье "джазового века", напоминающее пляску на краю пропасти или пир во время чумы. Схожей была и поэтика. Это лирическая проза, где факты действительности пропущены через призму восприятия героя, близкого автору. Типичная для П.п. проза — внешне беспристрастный отчет с глубинным лирическим подтекстом. Особенно у Э. Хемингуэя - крайний лаконизм, "телеграфное письмо", простота лексики, сдержанность эмоций. Герои часто находятся в оппозиции к обществу, не познавшим войны на собственном опыте, но трактовать их, как людей лишившихся морали, неверно. Неприятие равнодушия общества обычно лишено социальной активности; отдушину и опору герои стремятся найти в любви, верном «фронтовом товариществе». Романы представителей потерянного поколения наполнены гуманизмом, сочувствием к жертвам войны. - Практически все романы представителей потерянного поколения автобиографичны в своей основе; при этом автобиографичность - то есть совпадение жизненного опыта героя с жизненным опытом самого автора входит в их эстетическую структуру. Повествование ведется так, чтобы оно воспринималось как рассказ о лично пережитом. Но то, что эти книги создавались и вышли в свет десятилетие спустя после окончания войны, не могло не сказаться на их поэтике. Новое время, новые условия жизни способствовали возникновению и широкому распространению в литературе новых художественных форм. Так, многие художники широко применяют внутренний монолог (Хемингуэй, Олдинггон, Ремарк), совмещают в одном произведении различные временные пласты (Фолкнер, Уайлдер, P.M. дю Гар), используют поток сознания (Фолкнер, Хемингуэй). Эти формы помогли по-новому показать характер человека, выявить в нем особенное, оригинальное, разнообразили художественную палитру писателей. Написанные с большим художественным мастерством книги писателей «потерянного поколения» составили яркую страницу истории зарубежной литературы XX в. и оказали влияние на мировой литературный процесс, в том числе и на отечественную литературу. - Феномен «потерянного поколения» в литературе XX в. правомерно рассматривать как масштабное направление, не сводимое к нескольким классическим текстам Э.-М. Ремарка, Р. Олдингтона и Э. Хемингуэя. Оно включает в себя значительный массив текстов, созданных «невоевавшими» авторами. Это произведения с самой разной сюжетной организацией, объединенные общим смыслом тотального ценностного кризиса, порожденного Первой мировой войной. В рамках такого подхода в качестве «периферийных» явлений литературы «потерянного поколения» по разным основаниям могут рассматриваться роман В. Вулф «Миссис Дэллоуэй», роман Д.-Г. Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей», в целом творчество О. Хаксли 1920-х гг., а также повесть русского писателя Л. Андреева «Иго войны» (1916). - Роман Э.-М. Ремарка «На Западном фронте без перемен» в значительной степени отличается от большинства немецких романов, посвященных Первой мировой войне. Основная часть военных романов, написанных в период Веймара, представляют войну как неизбежный, естественный случай, жизненно важный этап в развитии человека – и, таким образом, страны в целом. Писатели, показывавшие войну в этом ключе, – Ф. Шаувеккер, Э. Юнгер, В. Боймельбург и др. В противоположность им Л. Ренн, А. Цвейг, Э. Кеппен, Ф. фон Унру и Э. Йоханнсен, а также Ремарк ставили перед собой задачу дистанцироваться от этой точки зрения и представить войну не с государственной, а с индивидуально-человеческой точки зрения, то есть как бессмысленный, жестокий акт. Рецензии на военные романы, написанные Ремарком-журналистом в 1927–1929 годах, подтверждают, что он был хорошо знаком с этим жанром. Роман «На Западном фронте без перемен» полностью (за исключением последнего абзаца) написан от первого лица. События романа охватывают два последних года Первой мировой войны и преподнесены с точки зрения обычного «солдата из окопа». Немецкая критика использует термин «Froschperspektive» («перспектива лягушки») для обозначения данной перспективы. Автобиографичность романа «На Западном фронте без перемен» является очевидной, автобиографичными могут являться описания: бараков, отпуска, работы сапера, ранений, госпиталя; тем не менее даже эти описания содержат художественный вымысел (обозначают приоритет романной структуры повествования), за что ряд немецких критиков упрекали писателя. Пространство и время в романе «На Западном фронте без перемен» цикличны. Пространственно-временная схема представлена в произведении именно как последовательное чередование хронотопов «фронт – тыл». Время в романе коллективно, и его не существует вне событий коллективной жизни; индивидуум живет в коллективном целом. Анализ пространственновременной составляющей романа, а именно – наличие ярко выраженной «коллективности» времени (сравните с «временем истории» и индивидуальным временем в «Миссис Деллоуэй»), – позволяет сделать заключение об отсутствии личностной дифференциации системы персонажей в романе; в коллективном времени-пространстве не могут находиться персонажи с ярко выраженной личностной характеристикой. Важным свойством романа «На Западном фронте без перемен» является эпизодическая структура – художественная особенность большинства романов Ремарка; постоянно поддерживая интерес читателя, автор быстро перемещается от одной сцены к другой, и затрагивает одни и те же темы в различных эпизодах, различающихся по содержанию, акценту и объему. Данный прием позволил писателю представить широкий диапазон событий войны: солдаты в лазарете, связные, патруль разведки, «ураганный огонь», траншейный бой, увольнение и т.д. Роман «Возвращение» в определенном смысле можно рассматривать как описание послевоенной жизни персонажей «На Западном фронте без перемен» (если бы таковая случилась): совпадают их возраст, жизненный опыт, окружение и т. п., а имена имеют сходную словообразовательную модель. Название романа «Возвращение», так же как и название его предшественника, помимо прямого – сюжетного – значения подчеркивает противоречивость послевоенного бытия: рассказчик, бывший солдат Эрнст Биркхольц, обнаруживает, что вернувшиеся домой фронтовики не могут найти «обратную дорогу» к своей довоенной жизни. В романе «Возвращение» писатель использует особый стиль повествования, создавая эффект воспоминаний. Системы персонажей двух антивоенных романов тесно связаны между собой. Чаще всего эта связь проявляется именно на уровне эпизодов-воспоминаний. Чтобы раскрыть проблему влияния военного опыта на жизнь солдат, Ремарк использует в качестве художественного приема дискуссию протагониста и других персонажей. - Фрагмент работы А. Аствацатурова Э. Хемингуэй: полемика с психологизмом (роман «Фиеста или И всходит солнце») Западные исследователи творчества писателя в целом едины в своем убеждении, что в репрезентации внутреннего мира человека в своих ранних текстах, в частности в романе «И восходит солнце» («Фиеста») Хемингуэй подчеркнуто антипсихологичен и антиинтеллектуален. Все субъективное, умозрительное в сознании персонажа он стремится вынести за скобки. Автор «Фиесты» не переводит мир Джейкоба Барнса в систему жестких причинно следственных связей или в последовательное развертывание мыслей персонажа. Подобное художественное решение в духе психологической прозы XIX века предполагало бы присутствие в романе героя, обладающего «целостным» внутренним миром, с легкостью сводимым читателем к какойнибудь интеллектуальной формуле, и способностью осмыслять внеположную ему действительность как единую систему. Такого рода герой стремится концептуализировать мир, проникнуть в его дух, в сущность вещей. Он обнаруживает скрытый (возможно, даже «объективный») смысл за их внешней формой и выявляет отношения, существующие между ним и действительностью. Установленная схема сопряжена и с упорядочиванием художественного материала. Сюжетообразующей основой психологического романа или повести становится, как правило, биография героя, представляющая собой цепочку логически взаимосвязанных эпизодов. Конкретные детали повествования со всей очевидностью соотнесены с магистральным планом произведения. Все сюжетные линии произведения, в том числе даже связанные с второстепенными и, казалось бы, случайно возникающими персонажами, логически завершаются, о каждом из таких персонажей читатель получает исчерпывающую информацию. Когда повествователь ставит точку в истории, связанной с главным героем, он обязательно расставит и все остальные «точки», сообщив читателю, что же стало с другими персонажами его произведения. Именно от этой стратегии Хемингуэй отказывается, создавая как своего героя-повествователя Джейкоба Барнса, так и структуру романа «Фиеста». Описанная нами модель все же возникает в контексте «Фиесты» в качестве темы и отчасти даже способа повествования, но лишь как объект хемингуэевского анализа и критики. Автор романа препарирует ее и выявляет ее психологические основания. Субъектом данной модели оказывается Роберт Кон4. Он предстает как персонаж, разыгрывающий роль романтического героя. Повествователь вводит Кона в реальность романа, представляя его как пытающегося любой ценой утвердить свое «я» во враждебном мире. Это едва ли осознанное юношеское стремление находит свое выражение в занятиях Кона боксом: «Роберт Кон когда-то был чемпионом Принстонского колледжа в среднем весе. Не могу сказать, что это звание сильно импонирует мне, но для Кона оно значило много. Он не имел склонности к боксу, напротив — бокс претил ему, но он усердно и не щадя себя учился боксировать, чтобы избавиться от робости и чувства собственной неполноценности, которое он испытывал в Принстоне, где к нему как к еврею относились свысока. Он чувствовал себя увереннее, зная, что может сбить с ног каждого, кто оскорбит его, но нрава он был тихого и кроткого, никогда не дрался, кроме как в спортивном зале»5. Важно, что мир не враждебен Кону (и всякому человеку), а безразличен по отношению к нему6. Однокурсники, несмотря на его чемпионский титул, не обращают на Кона никакого внимания, и никто, с кем он учился, даже не может его вспомнить: «Никто из его сокурсников не помнил его. Они даже не помнили, что он был чемпионом бокса в среднем весе» (4). Кон ложно интерпретирует внеположную ему действительность и вносит в нее смысл (враждебность), которого в ней нет. Подобного рода попытка навязать свое «я» реальности, ориентируясь на ложные ценности, становится в романе объектом иронии Хемингуэя. Эпиграфам к «Фиесте» (слова Гетруды Стайн и цитата из Екклесиаста), напоминающим читателю о текучем, бренном характере всего материального, и в том числе человеческого7, иронически противостоит фраза, открывающая роман: «Роберт Кон когда-то был чемпионом Принстонского колледжа» (3). Герой именно погружен в суету (о которой говорит Екклесиаст), подчинив свою жизнь ничтожнейшим целям, имеющим преходящий смысл. Парадоксальность ситуации заключается в том, что, пытаясь утвердить свою индивидуальность, Кон тем самым ее утрачивает, попадая во власть стереотипов — ложных ценностей. Кон оказывается конформистом8. Он увлекается эпигонскими романтическими текстами, вроде книг У. Г. Хадзона, и начинает строить собственную жизнь по их моделям: «<…> он начитался У. Хадзона. Занятие как будто невинное, но Кон прочел и перечел „Пурпуровую страну“. „Пурпуровая страна“ — книга роковая, если читать ее в слишком зрелом возрасте. Она повествует о роскошных любовных похождениях безупречного английского джентльмена в сугубо романтической стране, природа которой описана очень хорошо. В тридцать четыре года пользоваться этой книгой как путеводителем по жизни так же небезопасно, как в этом же возрасте явиться на Уолл-стрит прямо из французской монастырской школы вооруженным серией брошюр „От чистильщика до миллионера“. Я уверен, что Кон принял каждое слово „Пурпуровой страны“ так же буквально, как если бы это был „Финансовый бюллетень“» (7). Сквозь призму романтических стереотипов и романтической риторики9. Кон и воспринимает мир, принимая их за собственные чувства и мысли. Романтическая тяга к запредельному реализуется в его ситуации как желание отправиться в далекий экзотический мир Южной Америки. Кон стремится уйти от ответственности адекватного и непосредственного восприятия действительности в реальность условных схем. Его эмоция, которую он принимает за глубокое индивидуальное чувство, на самом деле условна, ибо она не имеет оснований в его личности, а заимствована из романтического текста: «Мне было жаль Кона. Я ничем не мог ему помочь, потому что я сразу наталкивался на обе его навязчивые идеи: единственное спасение в Южной Америке, и он не любит Парижа. Первую идею он вычитал из книги и вторую, вероятно, тоже» (10). Это качество переживаний Кона становится очевидным, когда читатель узнает, что Кон вообще неспособен испытывать чувства, вызванные реальным миром. «Я уверен, что он ни разу в жизни не был влюблен», — говорит о Коне Варне. Когда герои проезжают живописную Испанию, Кон засыпает: «Показались длинные бурые хребты, поросшие редкой сосной, и буковые леса на далеких склонах гор. Дорога сперва шла по верху ущелья, а потом нырнула вниз, и шофер вдруг дал гудок, затормозил и свернул в сторону, чтобы не наехать на двух ослов, заснувших на дороге. Горы остались позади, и мы въехали в дубовый лес, где паслись белые козы. Потом пошли поляны, поросшие травой, и прозрачные ручьи, мы пересекли один ручей, миновали сумрачную деревушку и снова стали подниматься в гору <…>. Немного погодя горы кончились, появились деревья по обе стороны дороги, и ручей, и поля спелой пшеницы, и дорога бежала дальше, очень белая и прямая, а потом мы въехали на пригорок, и слева на вершине горы показался старинный замок, тесно окруженный строениями, и колыхаемое ветром пшеничное поле, поднимающееся до самых стен. Я оглянулся через плечо — я сидел впереди рядом с шофером. Роберт Кон спал, но Билл смотрел по сторонам и кивнул мне» (64). Внушая себе любовь к выдуманному им самим образу Южной Америки, Кон невосприимчив к красоте реальной природы. В любовных переживаниях Кона и его поведении по отношению к Брет обнаруживается та же псевдоромантическая модель. Исполненный условных, сентиментальных чувств, он возводит ее к книжному идеалу, вновь избегая ответственности ее адекватного восприятия. Кон искренен, но у читателя возникает ощущение, что герой разыгрывает роль рыцаря, погруженного в возвышенно-платоническую страсть, молчаливо опекающего свою прекрасную даму: «Кон встал и снял очки. Он стоял наготове, изжелтабледный с полуопущенными руками, гордо и бесстрашно ожидая нападения, готовый дать бой за свою даму сердца» (122). Барнс понимает, что поведение Кона обусловлено его нарциссизмом, любованием своей позой: «Кон все еще сидел за столом. Лицо его стало изжелта-бледным как всегда, когда его оскорбляли, но вместе с тем, казалось, ему это приятно. Он тешил себя ребячливой полупьяной игрой в герои: все это из-за его связи с титулованной леди» (122). После скандала и драки с Барнсом и Педро Ромеро Кон дважды как заученную роль повторяет одну и ту же слезливую сцену раскаяния, словно герой неудачной сентиментальной мелодрамы и, безусловно, наслаждается трагедийностью своей любви. Таким образом, попытка субъекта свести свой внутренний (и внешний) мир в единую систему оказывается бессильной. В результате человек лишь замыкается в сфере уничтожающих индивидуальность стереотипов. Нас в данном случае интересует эксплицированная Хемингуэем интенция создать антиромантический текст. Однако представление о том, что «Фиеста» — своеобразная реализация романтической позы самого автора, показывающая красоту человеческого поражения (Барнса), отнюдь не лишена основания10. Образ Кона связан в романе Хемингуэя не только с отрицанием романтизма (или эпигонского псевдоромантизма), но и с представлением о фиктивности психологизма и психологического героя. Такие современники Хемингуэя, как Дж. Джойс и Т. С. Элиот, включают не удовлетворяющие их стратегии порождения текста в мир своего произведения, но при этом играют с ними, препарируют, интерпретируют их, выявляя их условность. В свою очередь, автор «Фиесты» выносит эту интерпретационную работу за пределы своего романа. В отличие от Джойса и Элиота, он не играет с принятыми конвенциями психологической прозы а, лишь указав на них, от них отказывается. Обратимся вновь к началу романа. Повествователь, имени которого мы еще не знаем (можно предположить, что рассказ будет вестись от третьего лица), сообщает нам, что Роберт Кон был чемпионом Принстона по боксу в полутяжелом весе, а затем излагает его биографию. Читатель вправе ожидать, что главным героем романа станет именно Кон, а определенный отрезок его жизни — магистральной сюжетной линией романа. Однако ожидание читателя оказывается обманутым, и Кон с его проблемами отодвинется на второй план. Хемингуэй отвергает привычную логику, знакомый нам стереотип художественной стратегии. Итак, «психологический» субъект (романтический герой) и способы его воссоздания, какими пользуется традиционная литература, непригодны для автора «Фиесты». Подобно своим современникам, представителям французского художественного авангарда, Хемингуэй ставит своей целью депсихологизировать человека. Напряженная работа мысли, движение эмоций, ограниченные пределами внутреннего мира субъекта, сменяются в «Фиесте» его открытостью и подчеркнутой ориентированностью на явления внешнего мира. Человеку интеллекта, создающему умозрительные логические схемы, Хемингуэй противопоставляет «человека зрения» или «человека действия»11. Реальность в «Фиесте», даже пропущенная сквозь призму восприятия Джейкоба Барнса, предстает перед читателем в большей степени увиденной, чем осмысленной: «Машина поднялась в гору, пересекла освещенную площадь, потом еще поднялась, потом спустилась в темноту и мягко покатила по асфальту темной улицы позади церкви Сент-Этьена-дюМон, миновала деревья и стоянку автобусов на площади Контрескарп, потом въехала на булыжную мостовую улицы Муфтар. По обеим сторонам улицы светились окна баров и витрины еще открытых лавок. Мы сидели врозь, а когда мы поехали по старой тряской улице, нас тесно прижало друг к другу. Брет сняла шляпу. Откинула голову» (18). Хемингуэй, как и многие его современники, стремится развести зрение и познание (умозрение), представив первое как непосредственное и близкое к истинному восприятие, а второе — как попытку набросить на реальность сетку стереотипных представлений. Повествователь и герой романа Джейкоб Барнс именно «видит» явления, т. е. адекватно их воспринимает. И если Кон выстраивает между собой и миром непреодолимую преграду в виде умозрительных конструкций, то Барнс вовлечен в мир. Он видит себя одновременно субъектом и равноправным объектом среди других объектов, предметов видимого мира. Здесь задействовано именно тело и его функции (зрение и действие, движение), обнаруживающее себя среди других тел. Данная проблема рассматривается в работе М. Мерло-Понти «Око и Дух». «Мое тело, — пишет Мерло-Понти, — способное к передвижению, ведет учет видимого мира, причастно ему, именно поэтому я и могу управлять им в среде видимого»12. Развивая эту идею, Мерло-Понти разделяет мышление и зрение: «Это совершенно особого рода взаимоналожение, над которым пока еще достаточно не задумывались, не дает права рассматривать зрение как одну из операций мышления»13. Хемингуэй, как мы видим, предугадал построения французского феноменолога. Восприятие Барнса направлено непосредственно на объект. Это не значит, что его мышление не успевает подключиться к восприятию: вторжение мышления неизбежно для всякого человеческого существа. Но Барнс обладает способностью видеть в нем построения, спрашивая себя, почему он думает так, а не иначе. Он в состоянии отделить прямое восприятие явления или ситуации от сугубо субъективных, не связанных с объектом восприятия импульсов или умозрительных конструктов, рождающихся исключительно в области его «я». Сознание Барнса ориентировано на зримый облик, на поверхность вещей. В отличие от романтичного Кона, он не ищет их глубинного смысла и не пытается свести их в единую систему причин и следствий. Его адекватность сопряжена с внутренней ответственностью и этической невозможностью подчиниться стереотипам и умозрительным ценностям, т. е. со свободой14. Интересно, что Барнс не отвергает идею Бога и — хотя с оговорками — называет себя «католиком». Однако необходимость принять мир во всем его многообразии, в его молчании и безразличии, оказывается настолько сильной, что Барнс, внутренне сожалея, все же признает свою неспособность испытывать религиозные чувства. Бессмысленный мир, окружающий человека, сродни смерти. И осознание ее — оно приходит не только в какие-то «ключевые» моменты жизни (коррида) — предполагает ощущение свободы и собственного «я»: «Все утрачивает значение, кроме бытия и стремления выжить. Налет культуры, расы, традиции, даже религии исчезает перед лицом необходимости сохранить индивидуальность»15. Интересно, что Барнс так же, как и Кон, связан с литературой. Однако между ними существует принципиальное различие: Кон — романтический художник, искажающий реальность, Барнс — объективный репортер. Как отмечает Р. Е. Флеминг, «Джейкоб Барнс — писатель и не-писатель, поскольку он — скорее репортер, чем писатель, что вполне соответствует репортерской грани его творческой индивидуальности середины 20-х гг.»16 Воссоздание подобного героя потребовало от Хемингуэя специальной повествовательной стратегии. Все, что возникает на страницах романа, увидено Барнсом и соответственно характеризует его внутренний мир. Однако субъективное в герое предельно минимизировано. Барнс эмоционально реагирует на мир, и читатель видит, что происходит в его сознании. Автор передает не эмоцию Барнса, а объект, вызвавший эту эмоцию, и читатель, таким образом, видит ее «объективный коррелят» и оказывается в состоянии сопереживать герою. Этот метод влечет за собой размывание каузальности произведения. Хемингуэй против внесения в искусство условных (принятых обыденной логикой и необходимых в практической жизни) причинно-следственных связей, формирующих стратегии традиционной литературы, о которых речь уже шла выше (целостный герой, развитие и разрешение сюжетных линий и т. п.). Читатель, ориентированный на прозу XIX века, готовый проследить биографию героя и связанных с ним персонажей, обманывается в своих ожиданиях. Перспектива и панорама исчезают, общее устраняется Хемингуэем, открывающим своему читателю лишь частное, единичное, случайное. Герои «Фиесты» предстают вырванными из своих биографий. Мы ничего (или почти ничего) не знаем об их прошлом и о том, что их ждет в будущем. Исключение составляет Роберт Кон, который выписан как раз как псевдопсихологический герой. Персонажи исключены из логических связей, выстраиваемых обыденным, житейским сознанием. Хемингуэй отказывается навязывать своему роману стереотипную завершенность: многие действующие лица, однажды появившись в романе, больше не возвращаются на его страницы, а связанные с ними событийные линии безжалостно обрываются. Сам сюжетный план романа выглядит в глазах читателя беллетристики как череда не сопряженных воедино, словно вырванных наугад, фрагментарных сцен-картинок из жизни Джейкоба Барнса. При этом последовательность оказывается чисто формальной: одно событие, одна сцена не является причиной и следствием другой. Тот же принцип мы наблюдаем и в построении фраз. Каждая из них изолирована от соседних, словно с очередным предложением повествование начинается заново. Всякий раз вводится новый образ или описывается новое действие героя. Хемингуэю даже на этом уровне удается избежать бытовой логики, каузальности, стремящейся внести «порядок» в реальность произведения. Мир не описывается, не объясняется, а воссоздается в его романе. Автор «Фиесты» использует своеобразную «антириторику»17: следуя урокам своего учителя Эзры Паунда, он избегает абстрактных понятий, прилагательных, отвергая тем самым пустые констатации и описательность18. Художественная стратегия Хемингуэя оказала заметное влияние на литературу XX века. С наибольшей очевидностью это проявляется в творчестве А. Камю, в частности в его повести «Посторонний». Французский прозаик и философ, будучи феноменологом, безусловно, не мог проигнорировать открытия Хемингуэя. Однако он идет гораздо дальше автора «Фиесты», безжалостно устраняя из текста все субъективное, как связанное с отношением автора к герою, так и с отношением героя к реальности19. Хемингуэй все же стремится сохранить человеческое «я»: субъективное в «Фиесте» берет свое, когда вера в жизнь, в присутствие в мире абсолютных ценностей, ненадолго возвращается к герою. О влиянии Хемингуэя на американскую послевоенную литературу говорилось много. Хемингуэевская линия, безусловно, заметна в текстах Дж. Д. Сэлинджера, Дж. Апдайка, К. Воннегута — и здесь она совпала с особым трагическим мироощущением, окрашенным экзистенциализмом. Хемингуэй остался в литературной традиции отнюдь не как романтик, борец за реализм, хроникер потерянного поколения или создатель идеала стоической мужественности. Он интересен именно фрагментарностью своего письма, проявляющейся на всех уровнях, вызовом психологической и романтической прозе и, наконец, радикальным разведением зрения и умозрения. Примечания 1 См.: Грибанов Б. Г. Эрнест Хемингуэй. М., 1988; Лидский Ю. Я. Творчество Э. Хемингуэя. Киев, 1978; Маянц З. И. Человек один не может… Эрнест Хемингуэй. Жизнь и творчество. М., 1966; Петрушин А. В поисках идеала и героя: творчество Э. Хемингуэя. Саратов, 1986; Финкельштейн И. Л. Хемингуэй-романист. Годы 20-е и 30-е. Горький, 1974. 2 См., например: Агроскина С. Н. Структура абзаца в художественной прозе (на материале романов Э. Хемингуэя «И восходит солнце» и «Прощай оружие!»). Автореф. на соиск. ученой степени канд. филол. наук. Л., 1973; Андреева Т. А. Структура сюжетного времени (на материале рассказов Э. Хемингуэя). Автореф. на соиск. ученой степени канд. филол. наук. Л., 1976; Давлетбаева Л. Ш. Тема Испании в документалистике и художественном творчестве Э. Хемингуэя (20–30-е гг.). Автореф. на соиск. ученой степени канд. филол. наук. М., 1987; Кухаренко В. А. Язык Э. Хемингуэя. Автореф. на соиск. ученой степени канд. филол. наук. М., 1972; Мелентьева Е. М. Язык публицистики Эрнеста Хемингуэя. Автореф. на соиск. ученой степени канд. филол. наук. Одесса, 1981; Мурза А. Б. Эволюция стиля Э. Хемингуэя («И восходит солнце», «Прощай, оружие!», «По ком звонит колокол»). Автореф. на соиск. ученой степени канд. филол. наук. Л., 1978; Никитин В. Творчество Э. Хемингуэя 50-х годов. Автореф. на соиск. ученой степени канд. филол. наук. М., 1967; Погостин В. М. Ранняя журналистская деятельность Эрнеста Хемингуэя. Автореф. на соиск. ученой степени канд. филол. наук. М., 1980; Рюкенберг Э. Э. Эволюция героя Эрнеста Хемингуэя в 1923–1940 гг. Автореф. на соиск. ученой степени канд. филол. наук. М., 1974. 3 В Санкт-Петербурге фактически единственным юбилейным событием стала научная конференция, состоявшаяся в РГПУ им. Герцена 19–20 ноября 1999 г., объединившая усилия филологов, философов и искусствоведов. По материалам конференции был опубликован сборник научных статей: Хемингуэй и его контекст. К 100-летию со дня рождения писателя (1899–1999). СПб., 2000. См. также отчет о конференции: О том, как поспорили «философы» и «филологи», обсуждая творчество Э. Хемингуэя (о первой международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения писателя) // Вестник филологического факультета института иностранных языков. № 2/3. 1999. С. 228–230. 4 О прототипе данного образа подробнее см.: Baker Sh. Ernest Hemingway. An Introduction and Interpretation. Michigan, 1967. P. 40–46. 5 Хемингуэй Э. Избранные произведения в двух томах. Т. 2. М., 1959. С. 3. В дальнейшем ссылки на это издание проводятся в тексте с указанием номера страницы в скобках. 6 К сожалению, многие исследователи творчества Хемингуэя часто смешивают или отождествляют понятия «враждебный» и «безразличный». См.: Nageswara Rao Е. Ernest Hemingway. A Study of His Rhetoric. Hew Delhi, 1983. P. 42. 7 «Все вы — потерянное поколение». Гертруда Стайн (в разговоре). «Род проходит и род проходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце и заходит солнце и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется; к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь». Екклесиаст (3). 8 Подробнее см.: Killinger J. Hemingway and the Dead Gods. A Study of Existentialism. Kentucky, 1960. P. 39–40. 9 См.: Nageswara Rao E. Op. cit. P. 15–22. 10 См.: Baker Sh. Op. cit. P. 51–53; Baker C. Hemingway. The Writer as Artist. Princeton, 1970. P. 79–81. 11 Подробнее о такого рода противопоставлении см.: Фокин C. Л. Философ-вне-себя. Жорж Батай. СПб., 2002. С. 82–83. 12 Мерло-Понти М. Око и Дух. М., 1992. С. 13. 13 Мерло-Понти М. Око и Дух. М., 1992. С. 14. 14 Подробнее см.: Ковалев Ю. В. Горбачев — Хемингуэй — Битники. (О «новом мышлении» в политике и литературе). СПб., 1999. С. 9. 15 Killinger J. Op. cit. P. 18. 16 Fleming R. E. The Face in the Mirror. Hemingway's Writers. Alabama, 1994. P. 33. 17 Термин Лесли Филдера. См.: Fielder L. A. Waiting for the End. London, 1964. P. 13. 18 Подробнее об этом см.: Nageswara Rao Е. Op. cit. P. 45–60. 19 См.: Фокин С. Л. Американский роман глазами французских романистов (де Бовуар, Камю, Сартр) // Литература и время. Проблемы истории зарубежных литератур. СПб., 1998. С. 132. - Фрагмент статьи А. В. Синей «Джазовые традиции в романе Р. Олдингтона «Смерть героя» В научной литературе творчеству Олдингтона посвящены многочисленные книги, монографии, статьи, эссе и т. д. Однако при всем обилии вышедших о нем работ единого мнения по поводу особенностей структуры исследуемого романа «Смерть героя», его аллегорического смысла, степени иносказательности выработано не было. Большинство работ было посвящено проблематике романа, характеристике системы его образов и анализу философской и социальной основы. Между тем роман представляет немалый интерес в аспекте структурного и словесного оформления материала как переходной формы от повествовательной структуры реализма к роману модернизма с его открытой, свободной формообразующей структурой. Особый интерес представляют джазовые традиции в романе, который сам писатель назвал «романом-джазом». Джаз как род профессионального музыкального искусства появился на рубеже XIX-XX столетий на юге США. В джазе соединились традиции европейской и африканской музыкальных культур, элементы народного творчества, религиозных и светских песен негритянского населения и танцевально-бытовая музыка белых поселенцев Америки. Во всех этих направлениях черты африканской музыки переплетались с европейскими элементами. Термин «джаз» впервые прозвучал в середине 1910-х гг. Тогда это слово служило для обозначения небольших оркестров и музыки, которую они исполняли. В основе джаза лежит импровизация. Джазовый импровизатор - это не композитор и исполнитель в одном лице, а особый тип художника, который создает произведение во взаимодействии с партнерами по ансамблю. Импровизация - не что иное, как форма композиции, это искусство диалога, многостороннего общения на языке музыки. Импровизацию можно назвать устной речью музыки, ей присущи свой «словарь» и «грамматические правила» - набор мотивов и способов их сочетания. Джазовая импровизация во многом сродни одному из старейших импровизационных искусств искусству театра. Commedia della Arte, Italian Comedy, процветавшие в Европе на протяжении трех веков (с XVI по XVIII), были театрами импровизации. Они создали бесчисленные новые драматические и комические эпизоды из набора масок-амплуа, таких как Арлекин , Коломбина, Панталоне, Скарамуш ит. д., что оказало серьезное влияние на оперу, драму и даже на живопись. Описание импровизирующего актера, данное его современником, вполне подходит и к джазовому музыканту: «Хороший итальянский актер - это человек неисчерпаемых возможностей и изобретательности... Он настолько быстро ориентируется и так органично сочетает свои текст и действия со словами и действиями других актеров, что входит в мизансцену, не вызывая подозрений, будто все это - чистейшей воды импровизация... Конечно, никогда не бывает полной и абсолютной импровизации, да это и нереально... Память опытного актера просто насыщена фразами, метафорами, объяснениями в любви, упреками, выражениями горя и отчаяния»2. К другим особенностям джаза можно отнести нетрадиционные приемы звукоиз-влечения и интонирования, постоянную ритмическую пульсацию, напряженную эмоциональность, искусное использование музыкантами инструментальных тембров. С другой стороны, джаз - это не только музыка. Лишь при поверхностном взгляде может показаться, что джаз - это область сугубо музыкальная. Было бы односторонне представлять его как систему, составными частями которой являются элементы ритма, гармонии, мелодики. Феномен джаза - это непременно сопутствующая внему-зыкальная атрибутика (визуальность, имидж исполнителя, активность аудитории, джазовые сообщества, возможность самовыражения). Невыразимое словами «чувство» партнера это тоже то, без чего джаз не существует. 20-е гг. XX в., характеризуемые как «век джаза», становятся предметом изображения многих писателей «потерянного поколения». Вспомним, например, Ф. С. Фитц-жеральда, который писал о «веке джаза» (в период, когда сам «век» уже закончился) в статье «Отзвуки века джаза»: «Слово “джаз”, которое теперь никто не считает неприличным, означало сперва секс, затем стиль танца и, наконец, музыку. Когда говорят о джазе, имеют в виду состояние нервной взвинченности, примерно такое, какое воцаряется в больших городах при приближении к ним линии фронта. Для многих англичан та война все еще не окончена, ибо силы, им угрожающие, по-прежнему активны, а стало быть, спеши взять свое, все равно завтра умрем»3. Американская танцевальная музыка во время Первой мировой войны перекочева-ла в Англию. В 1920-е гг. Англия, оправившись от войны, набирала силу и включилась в водоворот европейских событий, породивших призрачные надежды на улучшение жизни. В этот период, когда в Европе царило странное безудержное веселье, еще никто не подозревал о приходе к власти Адольфа Гитлера в Германии, где возникла на недолгое время Веймарская республика. В этот период в Европе произошла переориентация культурного тяготения от моды на все французское и австрийское к моде на все идущее из Соединенных Штатов Америки. Шансон, венские вальсы и оперетка постепенно отходили на задний план в сознании новой, модной публики. Появился чарльстон, шимми и фокстрот. Англия в этом смысле стала наилучшим плацдармом для вызревания собственного джаза. Вопервых, там не возникало языковых проблем ни при общении с приезжими американцами, ни при исполнении американских песенных хитов, моментально покоривших многих европейских слушателей. Во-вторых, в Англии не существовало расовых проблем, которые долго тормозили развитие не только джаза, но и вообще культуры в США. Скорее, наоборот, англичане, да и вообще белые европейцы с восхищением отнеслись к тому, что умеют делать черные мастера рэгтайма, диксиленда и свинга. Это было первое американское вторжение в европейскую культуру. Второе произошло сразу после Второй мировой войны, когда в Англию приехали черные блюзмены, заразив молодых англичан ритм-энд-блюзом, что привело сразу же к возникновению так называемого «Британского блюза», а позднее к известному «Британскому вторжению» в США во главе с такими группами, как «Битлз» и «Рол-линг Стоунз». А позднее - весь мир попал под влияние британского арт-рока. Отсюда мы видим, что композиционная форма «романа-джаза» была выбрана Р. Олдингтоном не случайно, поскольку выбор именно данной формы позволял автору более правдиво отобразить настроение эпохи и вскрыть глубину рассматриваемых в романе проблем. Жанровая природа романа Олдингтона довольно неоднозначна. Сам автор, как мы знаем, назвал его «джазовым романом», имея в виду форму изложения. «Эта книга, - писал он в письме к Олкотту Гловеру, - не создание романиста-профессионала. Она, видимо, вовсе и не роман. В романе, насколько я понимаю, некоторые условности формы и метода давно уже стали незыблемым законом и вызывают прямо-таки суеверное почтение. Здесь я ими совершен но пренебрег»4. Там же он назвал свою книгу «надгробным плачем». М. Урнов относит роман Олдингтона к разновидности «интеллектуального субъективно-психологического романа, связанного со школой потока сознания. Это один из побегов XX века, выросший на ветви литературного древа, посаженного еще Лоренсом Стерном»5. Это подтверждается анализом романа: построение сюжета, повествовательная манера, тон и стиль авторского комментария очень необычны. «Нет, - пишет М. Урнов, - в “Смерти героя” повествовательной обстоятельности и глубины, полноты раскрытия идейно-тематического содержания, какую предполагает большая эпическая форма. Непохож роман Олдингтона на книги-воспоминания писателей-сверстников - Грейвза, Сэссуна, Герберта Рида, посвященных той же военной теме. Сюжет и стиль повествования в нем ломаются и дробятся; гротесковый персонаж-ярлык действует наряду с персонажем обычных пропорций, строго объективное описание соседствует с подчеркнуто субъективным, трогательное лирическое излияние обрывается грубым выкриком, площадной бранью». Не лишено оснований и сопоставление романа с «романом-джазом». Как отмечает М. Урнов, «синкопический ритм, порывистая экспрессия характерный признак стиля “Смерти героя”. Эта экспрессия возникает на основе резкого сочетания контрастов, их быстрой смены и переходов: контрастных форм выражения - страстной публицистики и сдержанного описания, обличительной патетики и язвительной иронии; контрастных настроений - меланхолического, восторженного, полного отчаяния; импульсивного членения текста и т. д.»6. Таким образом, мы видим, что сравнение романа «Смерть героя» с джазом означает схожесть в оформлении художественного материала. Джаз как музыкальную неоднородную форму и роман Олдингтона сближает ряд общих черт: синкопичность мелодии (повествования), наличие импровизации, быстрая смена ритма, калейдоскопичность сцен и событий, перебивки темпа, сочетание противоположных начал: пафоса и иронии, насмешки и грусти, вызывающее намеренную диссонансность звучания, намеренное разрушение гармонического строя. Сближение с джазом Олдингтон обозначает и семантически: каждая глава носит музыкальные названия, означающие смены музыкальных темпов, - медленно, умеренно, умеренно-быстро, быстро. Подобно этим названиям, нарастает темп и насыщенность событий. Роман начинается и заканчивается одним и тем же событием - смертью Джорджа. Подобная музыкальная завершенность, несвойственная до того романной форме, составляет одно из главных достоинств композиции романа, в полной мере отвечающей его проблематике. Примечания 2 Pierre Louis Duchartre. The Italian Comedy, London, 1929. 3 Фитцжеральд Ф. С. Отзвуки века джаза // Последний магнат: Рассказы. Эссе / Пер. А. Зверева. М.: Правда, 1990. С. 46. 4 Олдингтон Р. Смерть героя / Пер. Н. Галь. СПб.: Азбука-классика, 2004. С. 4. 5 Урнов М. Ричард Олдингтон. М.: Высшая школа, 1968. С. 32. 6 Там же. С. 31.