Проблемы логики научного исследования и анализ структуры
реклама
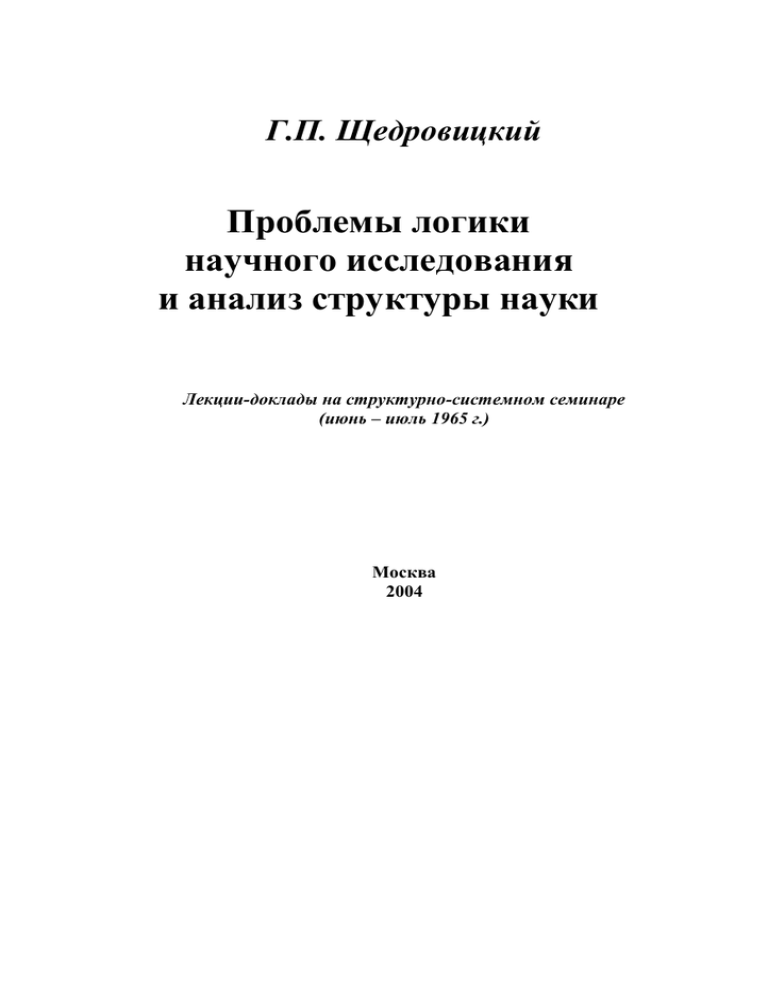
Г.П. Щедровицкий
Проблемы логики
научного исследования
и анализ структуры науки
Лекции-доклады на структурно-системном семинаре
(июнь – июль 1965 г.)
Москва
2004
Редакторы и издатели серии
«Из архива Г.П.Щедровицкого»:
Г.А. Давыдова
А.А. Пископпель
В.Р. Рокитянский
Л.П. Щедровицкий
Г.П. Щедровицкий
Проблемы логики научного исследования
и анализ структуры науки
/Из архива Г.П. Щедровицкого. Т. 7.
М.: Путь. 2004. – 400 с.
ISBN 5-87590-087-3
Г.П.Щедровицкий. 2004
Г.А.Давыдова, А.А.Пископпель, В.Р.Рокитянский,
Л.П.Щедровицкий – редактирование, оформление. 2004
Содержание
От издателей
6
07.06.1965
9
Введение
Проблемы логики научного исследования
с точки зрения общего развития логических идей
14.06. 1965
75
Исходные идеи
содержательно-генетической логики
21.06. 1965
115
Анализ схем содержательно-генетической логики,
их возможностей и ограничений
28.06. 1965
159
Схемы и объекты в деятельностной онтологии
05.07. 1965
212
Две онтологические картины социума:
предметный мир и мир деятельности
12.07. 1965
246
Мышление и деятельность:
процессы и структуры
19.07. 1965
312
Деятельность как категория и область эмпирического изучения
21.07. 1965
376
Проблемы средств и способов изображения деятельности
От издателей
Тема седьмого тома серии «Из архива Г.П.Щедровицкого» – развитие идей
содержательно-генетической логики и теории мышления в Московском
Методологическом
Кружке
(ММК).
Это
цикл докладов,
сделанных
Г.П.Щедровицким на семинарах ММК в 1965 году и являющихся
непосредственным продолжением обсуждения этой темы на лекциях в МИФИ,
опубликованных в шестом томе.
Публикуемый цикл докладов открывается введением, в котором намечаются те
основные проблемы и темы, которым он посвящен и вокруг которых сосредоточено
обсуждение и всех других, возникавших по ходу дела, вопросов. Г.П.Щедровицкий
называет следующие основные темы: проблемы логики научного исследования с
точки зрения общего развития логических идей; анализ исходных схем
содержательно-генетической логики, их возможностей и ограничений; анализ схем
деятельности, построенных на основе схем преобразования объектов; анализ
представлений структуры науки и деятельности в блок-схемах; анализ исходных
идей теории «табло» и рефлексии; специфические проблемы методологии
структурно-системных исследований.
Следует иметь в виду, что при всей тематической общности тексты,
представленные в предыдущей, шестом, и в этом, седьмом, томах, существенно
различаются и в способах изложения понятий и представлений, разрабатываемых в
ММК, и в уровнях и детальности их рассмотрения, и в строгости и
репрезентативности их введения, и в характере использованного для иллюстрации
эмпирического материала. Это различие естественным образом обусловлено тем,
что лекции были прочитаны студентам-физикам, а доклады были сделаны на
«внутреннем семинаре», перед участниками ММК. Соответственно, лекции имеют
популярный характер и не предполагают предварительного знакомства с историей
ММК, с его тематикой, проблематикой и категориальным аппаратом, а доклады на
«внутреннем» семинаре при всей их содержательности и деталировке, наоборот,
многое предполагают «по умолчанию».
При чтении книги необходимо учитывать эти различия. Тогда тексты щестого и
седьмого томов вместе позволят составить представление и об исторической и
идейной истории методологического движения – руководствующегося сначала
программой разработки содержательно-генетической эпистемологии (логики) и
теории мышления (1952–1960), а затем пришедшей ей на смену программой
деятельностного подхода и общей теории деятельности, – и о ее рефлексии с
позиций понимания и представлений 1965 года.
***
Источником данной публикации послужила расшифровка аудиозаписи (арх. №
2384), частично выправленная автором . Названия тем в оглавлении (и,
соответственно, перед текстом каждой лекции) внесены составителями.
07.06.1965
Введение
Проблемы логики научного исследования
с точки зрения общего развития логических идей
По традиции, которая сложилась в нашем семинаре, в конце года подводятся
итоги работы, выделяются основные результаты и формулируются узловые
проблемы, на которые должно быть обращено пристальное внимание в следующем
рабочем году.
В этот раз такое подведение итогов представляется мне очень сложным. Нужно
выделить основные методические вопросы. На этот раз это очень трудно, так как у
нас получилось, грубо говоря, четыре разных логики, четыре разных способа
представления того объекта и эмпирического материала, которыми мы занимаемся.
Каждое из них оправдано особыми проблемами и уже сформировавшимися
методами работы, но все они, вместе с тем, относятся, как мне кажется, к одному
объекту, и все объединяются под одним общим названием «содержательногенетической логики».
Схематически это можно изобразить так:
“
с
о
д
е
р
ж
а
т
е
л
ь
н
о
г
е
н
е
т
и
ч
е
с
к
а
я
л
о
г
и
к
а
”
I
I
I
I
I
I
I
V
Каждый из этих кругов изображает особую группу структурных схем (т.е. свой
особый графический язык), понятий и методов рассуждений. Первый – это
исходные многоплоскостные и многослойные схемы, которые появились примерно
десять лет назад и образовали тот основной фундамент, на котором мы в
дальнейшем строили содержательно-генетическую логику. В последние два – два с
половиной года к этим схемам добавились три других группы. Второй предмет –
это схемы деятельности, рассматриваемые прежде всего как ряды, или цепи,
преобразований объектов и обеспечивающих их средств. Третий предмет – это
блок-схемы науки или каких-то более ограниченных целостностей знаний, которые
рассматриваются нами как «организмы», или «машины», а сама деятельность
выступает в этом случае как функционирование этих организмов, или машин.
Наконец, в последние два года появились и довольно часто употребляются
схемы так называемого «табло » и связанной с ним «рефлексии».
В этой ситуации перед нами, естественно, встает вопрос: можно ли свести эти
предметы и образующие их схемы и понятия друг к другу, можно ли среди них
выделить главное, из которого затем вывести как из клеточки все остальное? Если
это невозможно, то встает другая задача, которую мы обычно называем задачей
конфигурирования, т.е. построения еще одного, пятого предмета, который будет
выступать по отношению к первым четырем как модель их общего объекта, а они, в
свою очередь, по отношению к нему будут выступать как проекции знаний и
частные предметы.
Но при такой постановке вопроса естественно и даже необходимо возникает
еще дополнительная мысль и установка – не ограничиться только перечисленными
логическими представлениями и предметами, а соотнести их с общей линией
развития логики вообще и так называемой логики научного исследования в
частности, поставить все это в более широкий контекст современных требований к
логике со стороны практики. Это будет, по сути дела, та же проблема
конфигурирования, но сформулированная не только в отношении к нашим
собственным представлениям и предметам исследования, а ко всей логике в целом.
У нас есть основания ставить вопрос таким образом, так как уже в течение
долгого времени мы занимаемся методическими проблемами синтеза знаний и
разработали достаточно четкие представления о механизмах конфигурирования. К
этому же надо добавить, что появление нескольких различных логических
представлений в нашей собственной работе создало – именно благодаря их
разнообразию – не только условия и предпосылки для решения этой задачи, но и
известный арсенал средств для этого. Разнообразие наших представлений об
объекте логики и разработка общих представлений о структуре науки дают нам
возможность ставить вопрос именно таким образом.
Сформулированный таким образом круг задач определяет и общий план моих
докладов. Они будут подразделяться на шесть больших смысловых или
тематических частей:
I. Проблемы логики научного исследования с точки зрения общего развития
логических идей
II. Анализ исходных схем содержательно-генетической логики, их
возможностей и ограничений
III. Анализ схем деятельности, построенных на основе схем преобразования
объектов
IV. Анализ представлений структуры науки и деятельности в блок-схемах.
Понятие «организма» и «машины»
V. Анализ исходных идей теории «табло» и рефлексии
VI.
Специфические
проблемы
методологии
структурно-системных
исследований.
В изложении этого материала я рассчитываю примерно на семь-восемь
докладов.
***
Сейчас очень много говорят о проблемах «логики научного исследования».
Появился целый ряд толстых и тонких книг на эту тему. Характерная особенность
их, с моей точки зрения, – отсутствие какого-либо метода и вообще какой-либо
логики в подходе к самой этой проблеме. Фактически, никто из пишущих на тему
логики научного исследования не обсуждает своего собственного метода. Но до тех
пор, пока вопрос собственного метода не выделяется в отдельную проблему и не
обсуждается специально и отдельно, до тех пор все это остается пустым и
ненаучным «рассуждательством», а попросту – болтовней. Все писания такого рода
заведомо не могут дать научного результата. Поэтому первая задача, которая встает
сейчас передо мной, это сообщить вам о методе моего собственного движения.
Проблемами нашего собственного метода мы очень много занимались как на
этом, «структурном», семинаре, так и на других, и поэтому моя задача во многом
облегчена. Ссылаясь на память постоянных участников семинара, я буду
рассматривать этот вопрос предельно кратко и схематически, стараясь изложить
лишь саму идею.
Первый принцип может быть назван сознательно-прагматическим подходом.
Это значит, что мы исходим прежде всего из вопроса о способах употребления,
использования знаний. В данном случае это означает, что наука логика как
деятельность по производству логических знаний ставится в более широкий
контекст той деятельности – ее можно назвать в данной системе «практической», –
которая сделала необходимыми особые логические знания и в которой эти знания
так или иначе применяются, которой они служат.
Та более широкая система, о которой я говорю, может быть задана по-разному.
В самом первом подходе она может быть задана в виде совокупностей некоторых
общих требований к тем знаниям, которые должны быть произведены. Эти
требования могут относиться сначала к назначению или функциям этих знаний
(например: знания должны заполнить определенный разрыв), а затем также и к
материальным и структурным особенностям этих знаний.
Поясню это на примере. Когда обсуждают вопрос о том, как возникла логика, то
обычно ссылаются на социальную обстановку Афин того времени, говорят о
деятельности софистов, указывают на то, что они умели доказывать одновременную
правомочность как тезисов, так и антитезисов, перечисляют конфликты и
затруднения, которые возникали из-за этого, и говорят, что в этих условиях должно
было появиться какое-то средство, которое бы исключило подобные «разрывные»
или «конфликтные» ситуации.
Таким образом задается назначение логических правил, определенные
практические требования к ним. Короче говоря, в этих случаях описывается система
социальных условий и в очень общем описательном виде задается «потребность» в
определенных логических знаниях. Это один из возможных и лишь первый способ
представления такой системы внешних требований.
Второй способ изображения более широкой внешней системы – который
собственно и ведет к тому сознательно-прагматическому подходу, о котором я
говорил – предполагает уже более глубокий научный анализ. Здесь нужно описать
ту систему деятельности, в которой будет функционировать, употребляться знание,
которое мы собираемся анализировать. Здесь и до того момента, когда это будет
специально оговорено, я употребляю термин «знание» в самом широком и общем
смысле: как обозначение всяких знаковых структур, используемых в деятельности.
Нам придется проанализировать и особым образом изобразить «практическую»
деятельность и вскрыть, каким образом, в каких механизмах знание ее
обеспечивает. Очевидно, что это будет уже другой способ задания внешней
ситуации, нежели простые ссылки на условия жизни афинского общества и
происходящие там конфликты.
Осуществленное таким образом задание более широкого контекста
практической деятельности позволяет нам затем перейти к анализу и изображению
второго блока, а именно блока науки, тоже взятой как деятельность, в которой это
знание вырабатывалось. Здесь мы должны прежде всего охарактеризовать основные
составляющие или элементы науки. Мы должны говорить о знаниях из теории,
средствах науки, ее методе и предмете, об эмпирической области и, наконец, о так
называемых онтологических представлениях и схемах. Я не обсуждаю вопрос о
том, как мы получаем это расчленение науки – предполагается, что это уже сделано
нами и что присутствующие примерно знают строение науки. Мне важно сейчас
только одно – показать сложное строение науки, обилие в ней разных элементов и
предостеречь присутствующих от плоского, широко распространенного сведения
науки к теории, а последней к совокупности предложений. Наука не сводится к
теории, а содержит массу разнородных и связанных друг с другом образований – я
перечисляю их вне всякого порядка, как бы просто напихиваю в этот мешок,
называемый наукой, но пока этого достаточно.
Здесь можно сделать еще замечание, что очень часто, рассматривая зависимость
науки и ее продуктов – так называемых теоретических знаний – от более широкого
контекста, не нужно будет анализировать и изображать всю структуру науки, что
достаточно будет ссылаться на характер онтологических представлений и схем, ибо
они являются тем центром, вокруг которого группируются, по-видимому, все
остальные составляющие науки, и поэтому описания онтологических
представлений может оказаться достаточно при характеристике науки в целом. Но
это замечание на будущее, которое непосредственно сейчас нам не понадобится.
Схематически эту структуру можно представить так:
НАУКА:
знания из теории
средства
метод
предмет
внешние требования
к знанию как средству
преодоления разрыва
описание деятельности
знание
онтология
В связи с представленным выше расчленением предмета изучения нужно ввести
еще одно расчленение науки, исключительно важное для понимания ее как
деятельности особого рода. Если воспользоваться образом фабрики – а, повидимому, при системно-структурном анализе науки этот образ является
наилучшим и наиболее эффективным для исследований, – то можно разделить
науку как бы на два «цеха». Один будет производить знания, перекидываемые затем
в сферу практики, употребляющиеся именно там. Второй будет производить
средства самой науки, ее инструментарий и «оснастку». Схематически это будет
выглядеть так:
ц
е
х
№
1
ц
е
х
№
2
Мне здесь важно подчеркнуть, что производство знаний, создаваемых
специально для потребления их в сфере практики, составляет с точки зрения объема
научной деятельности лишь одну и к тому же сравнительно незначительную часть.
Цех № 2, где вырабатываются средства, или оснастка, самой науки, отнимает в
любой современной и вообще сравнительно развитой науке значительно больше
времени и сил, чем непосредственное производство знаний, выдаваемых за пределы
науки. Вы увидите в дальнейшем, что такое представление науки крайне важно для
оценки статуса логики, ее действительной природы и ее места в системе наук. В
частности, только на базе такого представления мы сможем подходить к решению
вопроса о том, была ли логика наукой, является ли она наукой и может ли она быть
наукой.
Представленная выше схема важна мне также для того, чтобы задать одно из
возможных направлений усложнения и развития организмов науки. Дело в том, что
изображенная выше система представляет собой самую простую схему структуры
науки. На деле каждый из нарисованных здесь блоков сам является сложным
структурным образованием и, кроме того, предполагает еще целый ряд
дополнительных образований из тела науки. Если мы ограничиваемся только двумя
указанными выше блоками, то работа в цехе № 2 не является собственно научной
по своему механизму: получение знаний в цехе № 1 определяется теми знаниями,
которые вырабатываются в цехе № 2, последние являются средствами при
выработке первых; и это – собственно научная работа. Работа в цехе № 2, напротив,
не определяется и не детерминируется такими средствами. Поэтому она может быть
и является работой «искусства», а это значит – по сути своей интуитивной и
«нестрогой». Чтобы преодолеть этот момент, в ходе работы в цехе № 2 выделяют
специальные задачи – создание средств для этой работы. Но это означает, что тем
самым ставят задачу создания рядом с цехом № 2 следующего цеха – № 3, в
котором будут производиться средства для работы в цехе № 2. Когда это будет
сделано, в большей или меньшей мере, работа в цехе № 2 точно так же станет
собственно научной, а работа «искусства» переместится в цех № 3. Общая система
науки, таким образом, будет все больше расти и развертываться. И это – одно из
важнейших направлений развития всякой науки.
Здесь важно отметить, что такое смещение задач научной разработки и центра
тяжести всей работы ведет к непрерывному отдалению от практических задач,
породивших данную науку. И нередко случается, что, по сути дела, вся научная
работа смещается от них как бы в сторону; наука интенсивно разворачивается и
развивается, но не за счет решения своих исходных задач, а лишь за счет решения
вспомогательных, подсобных задач, выдвинутых ходом ее собственного
развертывания как системы и организма.
Учитывать это обстоятельство тем более важно, что в истории логики, повидимому, именно так и получилось; сложившись для решения определенных
«практических» задач, она затем переместила центр своих проблем на вторичные и
побочные задачи, развертывалась, по-видимому, только там, и эта печальная история
продолжается и до наших дней.
Задав подобную структуру более широкого контекста «практики», двигаясь в
русле методической установки, которую я назвал «прагматической», и рассматривая
тело науки как заключенное в этот более широкий контекст, как обслуживающее
его, мы получаем определенный и весьма строгий метод (хотя я и представляю его
здесь очень абстрактно) для анализа истории развития науки. Следуя этому методу,
мы должны прежде всего, действуя сначала, может быть, чисто хронологически,
выделять и описывать изменение тех требований или структур «практической»
деятельности, которые происходят не в самой логике, а вокруг нее, и которые на
каждом этапе задают определенную систему требований этой науки. Затем, на
втором шаге этого анализа мы должны оценивать производимые исследуемой
наукой знания на предмет того, насколько они соответствуют этим требованиям и в
какой именно деятельности эти знания применяются. Но это, очевидно, будет
только первый этап анализа. Это – характеристика системы внешних, или
прагматических, требований к продуктам работы той фабрики, которую мы
называем наукой.
Но между системой практических требований к продуктам науки – как в ходе
реального ее развертывания, так и в процессе исследования этих процессов – и
самим предметом науки, выделением входящего в него эмпирического материала,
построением средств и методов лежит дистанция огромного размера.
По сути дела, практические требования никогда не могут определить характер
тех знаний, которые будут производиться наукой. Такого в истории никогда не
было и, по-видимому, не может быть. Появление и разработка научных знаний,
наоборот, диктуется внутренней логикой развертывания предмета науки и всей ее
системы в целом. С этой точки зрения система науки со всеми входящими в нее
элементами является особым «организмом». Я пользуюсь этой аналогией не
случайно. Подобно тому, как внешняя среда никогда не задает направления
развития живого организма и воздействие среды на организм всегда осуществляется
опосредованно через собственные механизмы организма, точно так же и сама наука
никогда не определяется в своем функционировании и производстве знаний
непосредственно внешними, «практическими», требованиями. Наука, как я уже
сказал, живет по своим жестким законам. Вместе с тем она, подобно всякому
другому организму, немыслима без той или иной среды. Поэтому и анализ
механизмов развития науки, подобно анализу механизмов жизни и развития живых
организмов, неправомерен без обращения к анализу среды. Более того, об
организме живого или науки не имеет смысла говорить, если мы не задаем
предварительно и первоначально той среды, в которой он «живет».
Задав систему среды, мы должны затем рассматривать, если не имманентное,
то, наверное, можно сказать, квазиимманентное движение организма науки в
развертывании его предмета, его средств и методов. При этом между
последовательными состояниями подобного организма всегда будет существовать
определенная преемственность, или, точнее, зависимость последующих состояний
от предшествующих.
Но было бы ошибкой искать эту преемственность только между различными
формами логики. Такой чистой преемственности и зависимости одних форм логики
от других, им предшествующих, не существует. Кстати, это тоже входит в понятие
организма. Его характерная особенность – ассимиляция элементов окружающей
среды. С этой точки зрения материал каждой новой формы и каждого нового
состояния такого организма – не только предшествующая форма и состояние
организма, но также и материал той среды, с которой организм взаимодействовал и
которую он ассимилировал.
В применении к нашему случаю систем науки это означает, что те или иные
блоки тела науки будут происходить (и соответственно задаваться) не из
трансформации элементов предшествующего состояния этой же науки, а из
элементов других наук. Частный пример такого происхождения – перенос средств
из одной науки в другую; это происходит очень часто, и сейчас мы с вами являемся
свидетелями целой массы таких процессов, происходящих довольно интенсивно и
даже бурно. Множество подобных процессов даже привело к тому, что сложились и
существуют особые научные области, значение и смысл которых и состоит только в
том, что они служат для этого переноса. Наиболее яркий пример – кибернетика.
Таким образом, каждая форма и каждое состояние науки логики оказывается
зависимым не только от предшествующих форм и состояний самой логики, но и от
форм и состояний других наук. Мне сейчас важно подчеркнуть сам этот факт, не
входя в более подробное обсуждение конкретных механизмов и связей подобной
зависимости. Все это – очень интересные и сложные вопросы. Постоянные
участники нашего семинара знают, что мы непрерывно обсуждаем эти вопросы и
получили целый ряд весьма занятных результатов. Специально вся эта работа
проделывается нами в семинаре другого типа, посвященном истории логики; он
работает на философском факультете МГУ.
Из того, что я сказал, следует практический вывод. Рассматривая призывы,
которые мы сейчас часто слышим – о необходимости разработки логики научного
исследования, или логики науки, в отличие от формальной логики, и другие
подобные им, – мы прежде всего должны выяснить, кому и зачем понадобился этот
лозунг. И если сейчас, в отличие от того, что было двадцать лет назад или даже еще
шесть лет назад, усиленно выдвигается и всячески муссируется лозунг логики
научного исследования, то мы должны прежде всего поинтересоваться, какие
именно изменения произошли в более широком контексте научной деятельности,
которые могли бы привести к необходимости выдвижения такого лозунга. Мы
должны понять, кто именно нуждается в знаниях, которые могут быть выработаны
так называемой логикой науки, или логикой научного исследования. Анализ этой
стороны дела позволит нам в дальнейшем ответить на вопрос, какие именно знания
нужны и что, собственно, мы можем иметь в виду, когда говорим о некоей «логике
научного исследования». Чем должны отличаться эти знания от того, что раньше
давала формальная и математическая логика. Или, может быть, это должно быть то
же самое, но только иначе «одетое», как это пытаются сделать представители
сектора логики Института философии.
Итак, главное и исходное – анализ возможных продуктов этой будущей науки в
контексте их употреблений. Но это, как уже было сказано выше, лишь первый шаг.
Затем мы должны выяснить, а могут ли быть получены требуемые знания на основе
уже существующих традиционных средств формальной и математической логики?
Ведь может оказаться, что выдвинутые сейчас практические требования таковы, что
существующие понятийные средства формальной и математической логики
заведомо не могут их удовлетворить и послужить для выработки знаний,
задаваемых этой системой практических требований. Может оказаться, что эти
практические требования вынуждают нас создавать принципиально новые средства
и методы логического анализа и что именно это имеется в виду при
формулировании лозунга логики научного исследования.
Вся эта работа, естественно, должна будет базироваться на анализе
онтологических схем современной математической и формальной логики. Но это
уже соображение по поводу механизмов необходимой процедуры, а не по поводу ее
смысла. Естественно, что анализируя требования к знаниям из логики научного
исследования, мы должны подходить к ним не на фразеологическом уровне –
требуется нечто новенькое и хорошенькое, – а так, как подходят к требованиям к
продукту деятельности в инженерии, т.е. фиксировать их четкие функциональные
характеристики по отношению к окружающей среде и способам использования.
И если мы так будем подходить к ним, если мы осуществим такое соотнесение
требований к продуктам с возможными средствами и методами производства этих
продуктов, то, вполне возможно, это избавит нас от затрат значительного и
совершенно бесплодного труда. В логике это особенно важно, так как, на мой
взгляд, история этих бессмысленных затрат труда и усилий характеризуется
круглой цифрой в 2500 лет. Указанное выше соотнесение требований к продукту со
средствами и методами его выработки я и называю методом той предварительной
работы, которая позволит нам оценить действительный смысл и действительные
возможности лозунга о разработке логики научного исследования.
Очень коротко все изложенное можно повторить так. В последнее время
усиленно выдвигается и всячески пропагандируется тезис о необходимости
разработки логики научного исследования. При этом, когда задают вопрос, что
такое логика научного исследования и какой она должна быть, то выдвигают целый
ряд маловразумительных, но всегда, по существу, негативных утверждений.
Например: «подобная логика должна быть содержательной, а не формальной» (при
этом, что такое содержательная, остается невыясненным: это не то, что
формальная). Или: это должна быть «не логика изложения уже готовых результатов,
а логика получения новых результатов», но и эта последняя характеристика
остается только негативной, а в качестве ее позитивного содержания излагается все,
что угодно.
Пример этого – очень выразительная статья П.В.Таванца и В.С.Швырева. Вы
прочтете там, что все и всегда занимались именно логикой получения новых
результатов, а не логикой изложения их, а следовательно, продолжение
традиционных линий как соответствовало, так и будет соответствовать новому
требованию.
И основания для подобных утверждений действительно существуют, потому
что сказать: логика получения новых знаний, а не изложение уже известного – это
значит ничего не сказать.
Можно было бы перечислить еще целый ряд требований к знаниям из логики
научного исследования. Но они всегда, по сути дела, как я уже сказал, являются
либо негативными, либо совсем невразумительными. И пусть вас не обманывает их
позитивная форма, ибо реальный смысл всегда заключен только в
противопоставлении чему-то и в отрицании этого чего-то. Это всегда требование,
что нужно создать что-то такое, что непохоже на то, что у нас уже есть. (Характерно
и примечательно, что на последней конференции по логике научных исследований в
Киеве произошла заметная переориентация позиций. Когда пришлось отвечать, чем
же все-таки должна быть подобная логика, то последовал ответ – и здесь все
оказались весьма единодушны, – что это будут старые традиционные понятия
формальной логики и их приложение к различным конкретным проблемам науки.)
Поэтому, чтобы выйти из этого заколдованного круга, я предлагаю исходить из
более широкого контекста развития науки вообще и тех проблем, которые в ней
возникают, определить таким путем требования к знаниям, которые должны будут
заполнить разрывы в развитии науки, проанализировать деятельности, в которых
эти знания будут употребляться в качестве средств, и таким образом задать те
объективные критерии, которые будут определять реальный смысл новых лозунгов.
Ключевым, таким образом, будет решение вопроса, кому нужна логика научного
исследования и что будут делать со знаниями из этой логики. Если требования к
новой логике формулирует человек, который хочет знать, по каким линиям и куда
будет развиваться в ближайшие пятьдесят или сто лет наука, как, например,
формулирует подобный вопрос Президент нашей Академии, чтобы обеспечить
планирование развития науки, то, очевидно, нужно будет анализировать его
деятельность планирования развития науки и из этого выводить потребные и
необходимые ему знания. Если же, напротив, подобные требования формулирует
аспирант, который, придя в свой институт, обращается к научному руководителю:
меня никогда не учили вести научное исследование, скажите, пожалуйста, что мне
нужно будет делать и в какой последовательности, – то нужно будет анализировать
его деятельность проведения исследований и написания диссертации и искать такие
знания, которые действительно понадобятся ему для его работы. Это будет,
очевидно, совсем иной подход к логике научного исследования.
Таким образом, первый и необходимый момент в намечаемой нами процедуре –
это анализ знаний, которые должны быть получены с точки зрения той
деятельности, в которой они будут употребляться.
Затем следует второй шаг. Чтобы получить знания, заданные подобным
конструктивно-техническим путем, надо построить определенную науку – логику
научного исследования. При этом, естественно, встают вопросы: что будет
рассматривать эта наука, какой у нее будет объект, какими методами она сможет и
будет пользоваться, какая у нее будет онтологическая картина ее действительности
и т.п.? Определение всех этих моментов будет вторым шагом работы. Этот второй
шаг будет иметь и вторичный побочный продукт – решение вопроса о том, могут ли
быть получены требуемые знания на основе уже существующих в данной науке
средств и методов, а также в соответствии с уже существующей традиционной
онтологической картиной. Охарактеризованная схема работы задает, на мой взгляд,
первый этап работы, которую предстоит осуществить.
К разработке логики научного исследования мы должны подойти так же, как
подходит инженер-конструктор к конструированию той или иной машины или
прибора. Исходное в такой работе всегда – некоторая система требований к
продукту. Он всегда должен отчетливо представлять себе, что должна будет делать
машина, которую он сконструирует. Нужно задать так называемые «технические»
требования. И если мы их зададим, то наши разговоры про логику научного
исследования впервые приобретут действительный смысл и научное значение, перестанут быть
беспредметной болтовней.
Затем надо оценить с точки зрения этих технических требований материал, из
которого мы собираемся изготовлять нашу машину и средства, или инструменты,
нашей работы. Могут ли они помочь в изготовлении той машины, какая нам
требуется? Сейчас можно встретить очень много людей, которые подсовывают
методы и понятия современной математической логики для решения проблем
логики науки, ссылаясь на то, что понятия и методы математической логики очень
точны, очень строги и достаточно разработаны. Это напоминает ситуацию, когда
нужно изготовить холодильник, а вам подсовывают для этой работы маленькую
счетно-решающую машину и при этом говорят: смотрите, сколько в ней ламп,
тонких проводочков и как она быстро мигает. До тех пор, пока требования к логике
научного исследования не соотнесены с возможными средствами и путями ее
разработки, разговоры о создании логики научного исследования, на мой взгляд,
остаются пустыми и беспредметными.
Важно понять, что сформулированные мной требования к способу работы не
являются знаниями о некоторой действительности, а следовательно, они не
нуждаются в каком-либо обосновании или оправдании. Все это – некоторая
методическая посылка, а значит, некоторая установка для работы. Она
оправдывается практикой производства машин и разного рода устройств в нашем
социуме. И только.
Я требую также, чтобы выдвигая лозунг разработки логики научного
исследования, прежде всего отвечали на вопрос, что это будет такое, чем будет эта
логика научного исследования. А до тех пор, пока это не охарактеризовано, до тех
пор это требование остается пустой фразой. Здесь обычно возражают: как же можно
определить, что такое логика научного исследования, если она до сих пор не
построена? А я именно и требую, чтобы она была определена до того, как она
построена, и указываю путь такого определения, ссылаясь на практику
конструктивно-технических разработок в инженерии.
Когда инженер-конструктор формулирует технические требования к своей
машине, то он еще не описывает свою машину, ее еще нет, но он уже говорит, какой
она должна быть и будет. Когда авторы статьи о логике науки, или логике научного
исследования (а они употребляют эти термины через запятую), говорят о логике
научного исследования и при этом обычно, как это сделал Швырев, утверждают,
что они употребляют этот термин «в другом смысле» (чем я), то я каждый раз
спрашиваю: так в каком смысле вы употребляете этот термин, какой и чей
социальный заказ вы выполняете и чем будет эта ваша логика? Я считаю, что мы
вправе задать такой вопрос, прежде чем приступим к общей работе.
Я не отрицаю, что можно идти и другим путем. У нас всегда есть набор
определенных средств, скажем, средств уже существующей логики. Мы можем из
них строить комбинации разного рода и искать какие-то решения новой проблемы,
например, построения логики научного исследования. Эти комбинации средств
можно будет применять для решения самых разнообразных задач, в том числе и
указанных. При этом очень часто требования к продукту, который мы хотим
получить, вообще не формулируются. Такой путь может быть, и он нередко
приводит к очень эффективным (с точки зрения всей системы науки) результатам.
Но это иной путь работы, и он уже в исходном пункте должен формулироваться
совсем особым специфическим образом: что можно получить на базе уже
имеющихся средств?
Здесь, хотя и забегая несколько вперед, можно сказать, что поскольку я
подрядился рассматривать лозунг построения логики научного исследования в
контексте тех деятельностей, которые сделали этот лозунг необходимым, постольку
я должен буду либо показать различие соответствующих деятельностей для каждой
из существующих у нас ныне форм логики, либо же свести их друг к другу. Реализуя
этот принцип и план, я постараюсь, в частности, показать, что третья форма логических
представлений науки и научных знаний, которая разрабатывается в наших исследованиях, в
частности в структурном семинаре, появилась у нас из-за особых и специфических требований
нашей собственной работы, прежде всего – как осознание методов нашей собственной работы. Я
постараюсь показать, что это и есть то, что может называться логикой научного исследования в
собственном смысле этого слова. Я покажу затем, что аналогичные требования возникают
повсеместно и в других отраслях и направлениях науки. Практика нынешней жизни, когда большое
количество людей вынуждено и призвано выполнять работы по производству знаний разного рода,
требует особых знаний, инструкций, говорящих о том, как им нужно работать, а также знаний,
говорящих о том, как обучать этой исследовательской работе.
Типичными здесь являются аспиранты, и весьма характерно, что логические
представления того типа, о которых я говорю, были развернуты наиболее полно и
систематически именно в практике обучения аспирантов. Из всего сказанного
следует, что нельзя ставить рядом, через запятую, выражения «логика познания»,
«логика науки», «логика научного исследования», как это делают Таванец и
Швырев, отчасти Копнин и другие. Все это принципиально различные логические
представления, работающие в разных контекстах деятельности. В решении этой
частной задачи и состоит одна из целей данной серии докладов.
***
В качестве средств нашего дальнейшего анализа выступают:
методическое требование рассматривать все логические положения и теории
в контексте тех более широких социальных требований, ради решения которых они
вырабатывались, и в контексте их употребления;
некоторое общее представление о необходимом строении науки, в
частности ее членение на несколько цехов, а внутри этих цехов – на
средства, изображения, онтологические схемы, форма льные знания,
методические положения и т.п.;
представление об организмическом характере развития всякой науки.
Опираясь на эти средства, мы можем теперь рассмотреть историю развития
логики с тем, чтобы выяснить: 1) как менялся характер тех практических проблем и
задач, которые детерминировали различные этапы развития логики; 2) по каким
линиям и на основе каких онтологических схем пошло развитие логики и в какой
мере продукты этого развития соответствуют новым требованиям в логике, которые
формулируются, в частности, в лозунге разработки логики научного исследования.
Чтобы дать вам представление о смысле и характере этой работы, я сразу же
скажу о тех результатах, к которым мы пришли в своих исследованиях и к которым
я должен буду придти в докладе. Я постараюсь показать, что развитие логики как с
точки зрения исходных схем анализа, так и с точки зрения онтологических
представлений о предмете и объекте изучения пошло по такому пути, что это в
принципе исключило какую-либо возможность решения действительных проблем
как методологии и логики науки, так и логики научного исследования.
Вместе с тем я постараюсь показать, что реальная история развития логических
идей в подавляющем большинстве случаев трактуется грубо неверно или просто
извращается (в одних случаях в силу «партийных» интересов, в других просто из-за
неграмотности) в том смысле, что представляется и изображается как история
развития формальных представлений с игнорированием или отрицанием большой, а
по сути дела, даже решающей роли так называемых неформальных моментов. Я
постараюсь показать, что развитие формальных моментов логики вообще не может
составить целостного образования и системы науки.
Совершенно очевидно, что я в этой серии докладов не смогу проделать этой
работы систематически и с должной детализацией. Мое изложение будет предельно
схематично и обобщенно. При этом я буду ссылаться на уже проделанные и по
большей части опубликованные нами исследования, формулируя здесь лишь их
результаты.
В одном лишь пункте будет сделано исключение: на протяжении всей этой
части доклада я буду цитировать недоступную большинству присутствующих
работу Генриха Шольца, главы немецких формалистов 20-х и 30-х годов, по
истории логики. Это очень небольшая работа, но она охватывает почти всех
логиков и характеризует их место в развитии логических идей. Мне очень важно,
что Шольц был формалистом и сторонником логистики; именно с этой точки
зрения он рассматривал всю историю логики. Но и он вынужден был признать, что
подавляющее большинство логических работ должно быть отнесено либо просто к
неформальной логике, либо же к попыткам формального представления этой
неформальной логики.
Мне это тем более важно, что во многих специальных исследованиях и статьях,
затрагивающих историю развития логических идей, эта мощная когорта
неформальных логиков просто даже не упоминается и, наоборот, делаются
утверждения, прямые или косвенные, в том духе, что-де в истории были только
формалисты, а всякие попытки неформального развертывания науки логики
нарушают ее исконную традицию, даже противоречат ей и поэтому должны
рассматриваться как ревизионистские и идущие вопреки всему ходу развития
науки.
Работа Г.Шольца поучительна в том отношении, что она показывает лживость
подобных установок и утверждений и признает фактическое преобладание
неформальных направлений. Именно поэтому я выбрал ее для ссылок и буду, может
быть, излишне густо приводить имена из этой работы, чтобы утвердить вас в
правильности излагаемой мной позиции. Одним словом, по ходу дела я постараюсь
показать, что в истории логики так называемая неформальная традиция была
значительно более мощной, чем формальная. Перечисление всех этих моментов важно для
нас еще и в том особом плане, что все они требуют в будущем включения их в историю логики.
Попыток написания истории формальной логики достаточно много, и вместе с тем нет, повидимому, ни одной истории неформальной логики. И если мы хотим ассимилировать всю
прошлую культуру и превратить все существовавшие ранее попытки построения неформальных
логик в единый предмет логики, то нам придется такую историю написать.
Я хочу еще раз повторить здесь тезис, что нам крайне необходим специальный
семинар по истории логики. Мы должны будем уже в самое ближайшее время
начать работу, рассчитанную по первому кругу на пять-десять лет, чтобы построить
в отношении этой истории то, что Зельц называл антиципирующей схемой, т.е.
общий план и общую схему истории логики, которые затем будут заполняться
конкретными исследованиями по этим неформальным логикам.
Первое, с чего вынужден начать Г.Шольц, это два признания. Шольц
утверждает, что термин «логика» в его современном смысле сложился только после
Гегеля и что именно ему мы обязаны внедрением этого понятия в общее сознание.
Это утверждение необходимо сопоставить с другим, довольно известным и широко
принятым утверждением, что термином «формальная логика» мы обязаны И.Канту.
А до этого такой предмет, по существу, и не выделялся.
Вместе с тем Шольц вынужден отметить, что так называемые логические
исследования Аристотеля и с точки зрения традиции, и с точки зрения наших
нынешних представлений были не совсем логическими, а образуют скорее то, что
позднее его последователи и ученики объединили в системе «Органона». «Зажав»
историю между этими двумя именами – Гегелем и Аристотелем (может быть,
Платоном) – и рассматривая ее с позиции каких-то современных представлений, мы
и должны ответить на вопрос, что же такое логика. Сюда войдет также и анализ
того, что может быть названо происхождением логики. Здесь мы должны прежде
всего рассмотреть, чем характеризуется возникновение логики, как произошли
исходные логические проблемы и задачи.
Конечно, чтобы ответить на все эти вопросы, нужны специальные, очень
детальные и скрупулезные исследования. Я сейчас не обладаю необходимым
материалом для того, чтобы обсуждать здесь все эти вопросы систематически.
Поэтому я изложу, весьма отрывочно и фрагментарно лишь некоторые
соображения, которые кажутся естественными для постановки задач исследования.
Для Аристотеля характерно, что он рассматривал науку как совокупность или
систему «знаний», выраженных в предложениях и высказываниях. Он производил
деление и классификацию этих предложений, выделяя, с одной стороны, то, что мы
сейчас называем, пользуясь модернистской терминологией, «аксиомами», а с
другой стороны, то, что мы называем «теоремами». С точки зрения Г.Шольца
задача Аристотеля состояла в том, чтобы показать, каким образом из аксиом могут
быть получены теоремы. Правила этих операций и были тем, что в дальнейшем
стали называть схемами или правилами логики, т.е., другими словами, формы
фиксации этих операций образовали «тело» логики.
При этом в термин и само понятие «получения» Г.Шольц вкладывал двойной
смысл, что соответствовало всей логической традиции, вплоть до второй четверти нашего
столетия.
Проблема «получения» знания теснейшим образом связана с проблемой
истинного и ложного. Исходной, как вы знаете, была ситуация дискуссий с
софистами. Существовал целый ряд утверждений, которые не могли быть
проверены путем непосредственного отнесения к чувственному опыту. И вместе с
тем в дискуссиях нужно было каким-то путем выяснять, истинны они или ложны.
Основанием и принципом, относительно которых их проверяли в условиях спора,
стала «корректность», с которой их получали из других положений, которые
считались исходными.
Если вы начнете штудировать «Аналитики» Аристотеля, то увидите, что он все
время говорит не о «выводах», как принято говорить сейчас, а о «доказательстве».
Сам силлогизм рассматривается им как инструмент доказательства. Хотя
Аристотелю многие и многие более поздние исследователи приписывали понятие
вывода, у него, по-видимому, этого понятия не было и не могло быть. Силлогизм
вводился, следовательно, не в контексте вывода, а в контексте доказательства.
Мои утверждения могут показаться вам не очень значительными, но это будет
ошибка. Относя силлогизм к сфере доказательства, а не к сфере вывода, я тем
самым ввожу особую область работы, по обоснованию или доказательству,
утверждаю, что у Аристотеля она уже была, что она существенно отличается как по
единицам, так и по схемам от всего того, в чем или где существует вывод.
Силлогизм был формой, которая задавала схему получения теорем из аксиом в
контексте особой работы доказательства. И лишь наличие этого специфического
момента создавало, или порождало, то, что мы могли бы назвать «научным
знанием».
В принципе, весьма сомнительно, что у Аристотеля было понятие науки и
научного в нашем современном смысле. Скорее, речь должна идти о каких-то
особых знаниях или знаниях особого типа. Мы их сейчас склонны называть
научными, но, наверное, правильнее было бы определить их имманентным образом,
т.е. через саму процедуру доказательства. Особые знания, о которых здесь идет
речь, это знания, полученные с помощью дополнительной процедуры
доказательства, или, иначе говоря, еще дополнительно доказанные знания, и только
они могли считаться знаниями в прямом и подлинном смысле этого слова.
Таким образом, доказательство является необходимым элементом или
моментом в процессе получения или создания совокупности или системы «научных
знаний» («научных» в том специальном смысле, о котором я сейчас сказал).
Само по себе доказательство должно обосновывать истинность знания.
Истинность не в плане его соответствия реальности, а в смысле правильности или
корректности получения этого предложения или высказывания из некоторых
аксиом (опять-таки в том специфическом смысле, о котором я выше сказал).
Благодаря этому и возникает та двойственность в трактовке понятия получения,
о которой я выше сказал. Хотя сам Шольц – а его работа написана в 1930 году –
говорит о процедурах получения предложений, нетрудно заметить, что фактически
«получения» знаний (в прямом и точном смысле этого слова) здесь не было, и
схемы или правила силлогизма не давали возможности получать предложения,
высказывания или знания.
Именно это, на мой взгляд, самый основной и решающий вопрос, который мы
должны детальнейшим образом исследовать и обсудить. От нашего
взаимопонимания в этом пункте будет зависеть, по сути дела, все наше дальнейшее
общение.
Нужно ответить на вопрос, что представляли собой силлогистические правила.
Сначала я сформулирую основной тезис, а потом буду разъяснять и обосновывать
его.
Чтобы сформулировать основной тезис, я воспользуюсь основным
представлением конструктивной деятельности. Предположим, что надо построить
некоторое рассуждение, или, иначе говоря, некоторый процесс получения
определенного предложения, или высказывания. Чтобы получить его, нужно
заранее знать, каким требованиям должен удовлетворять нужный нам процесс,
рассуждение. Мы должны, следовательно, задать определенные признаки или
характеристики рассуждения (процесса получения знания). По сути дела, мы
должны иметь утверждение вида: определенный процесс получения знаний или
определенное рассуждение будет правильным, если оно будет удовлетворять
определенным признакам. Представим себе, что мы задали все признаки, которым
должен удовлетворять продукт нашей деятельности. Спрашивается: определяют ли
эти признаки, по условию уже известные нам, характер нашей деятельности?
Можем ли мы рассматривать эти признаки, в какой бы форме они ни были заданы,
пусть даже в форме схем, как некоторый порождающий механизм?
Если мы таким образом поставим вопрос, то не трудно заметить, что ответ
будет единственным: нет, не можем. Задание некоторых характеристик или
признаков продукта нашей деятельности еще пока ничего не говорит о характере
порождающего его механизма.
Но тогда спрашивается, какую роль играют эти характеристики. Наверное, мы
можем сказать, что признаки и характеристики продукта деятельности участвуют
наряду с массой других средств, интуитивно используемых человеком, в качестве
одного из параметров, управляющих этой деятельностью. Но это – лишь один из
параметров, а наряду с ним существует много других.
Теперь я могу сформулировать основной вывод. Особенность логики, на мой
взгляд, заключается в том – речь идет, конечно, о логике Аристотеля, – что был
выдан один частичный набор признаков, определяющих «правильность»
получаемого высказывания, причем через описание определенного типа связи
между этим высказыванием и «аксиомами», из которых оно получается.
Здесь очень интересна наша трактовка продукта. Ведь мы можем говорить, что
продуктом нашей деятельности будет конечное высказывание. Но мы точно так же
можем говорить, что продуктом нашей деятельности является получение этого
высказывания, и тогда связь между теоремой и аксиомами, выражающая или
изображающая получение (в смысле доказательства) теоремы из аксиом, и будет
тем, что мы назовем продуктом.
Гигантским заблуждением многих направлений формальной логики было то,
что они в дальнейшем рассматривали связь между аксиомами и теоремами как само
движение, как процедуру, как мышление, а не как продукт, который должен быть
получен. Слава богу, в последние десятилетия нашего века это заблуждение, я
думаю, рассеяно уже окончательно.
Конечно, здесь очень интересен анализ применения понятий процесса и
движения к подобной структуре. Связь между одним и другим, особенно если мы
трактуем одно и другое как состояния чего-то единого, совершенно автоматически
интерпретируется как изображение некоторого перехода или движения; в этом
случае процесс рассматривается как характеристика изменения чего-то, а не как
самостоятельная субстанция, которой самой по себе приписываются определенные
признаки.
Интересным также является вопрос о том, чем, собственно, детерминирована
связь между теоремой и аксиомой. Обычно, когда отвечают на этот вопрос, то
противопоставляют законы одних предметов законам других. Полагают, например,
что мышление, или рассуждение, имеет свои специфические законы, независимые
от законов социального общения людей.
Отсюда появляются утверждения, что подобная форма связи детерминирована,
как говорят одни, законами мышления, или логикой, а как говорят другие –
риторикой. Но как можно предполагать, что мышление имеет свои естественные
законы, независимые от законов социального выражения мыслей в общении?
Конечно, в современной организации научных предметов логика и риторика
отделены друг от друга, и поэтому мы можем задавать вопрос о том, в рамках каких
предметов, созданных Аристотелем или появившихся после него, развивались
соответствующие представления.
Но мы не можем спрашивать, какими объективными законами – логики или
риторики – определяется характер связи между теоремой и аксиомой. Ведь и
логика, и риторика лишь особые формы организованности деятельности, абсолютно
единой в исходных пунктах. Поэтому можно сказать, что связка между теоремой и
аксиомами определяется строением и функционированием деятельности, но нельзя
говорить, что она определяется либо мыслительными, либо же, наоборот,
риторическими моментами.
– Выше речь шла о движении. Но что при этом движется?
Ничего не движется. Представьте себе, что вы начинаете монтировать какую-то
машину. Вы берете сначала коробку, в которой все будет смонтировано, потом
опускаете в нее и закрепляете те или иные узлы, связываете их между собой и т.д.
Конечно, при этом можно сказать, что что-то движется, например, можно сказать,
что агрегат передвинулся с какого-то места вне коробки внутрь ее, и вы можете
сказать, что «не связанное» и «отдельное» превратилось в «связанное» и
«включенное». Но все подобные переходы в естественном плане вряд ли могут чтолибо объяснить.
Вопрос о том, что здесь движется или может двигаться, должен быть адресован
не ко мне, а к тем, которые создают соответствующие логические представления,
например, к Арно и другим картезианцам. Но они легко ответят на ваш вопрос,
сославшись на представление о мышлении как субстанции, они скажут, что здесь
движется мышление. А я, конечно, не могу ответить на этот вопрос так легко, ибо
для меня мышление есть деятельность, и говорить, что здесь де где-то что-то
движется, я не могу.
Однако вернемся непосредственно к нашей теме. Связка между
теоремой и аксиомами, чтобы быть правильной, должна удовлетворять
некоторым признакам и критериям. Вопрос мой заключается в том,
достаточно ли одних характеристик и признаков такого рода, чтобы
можно было строить подобные связки, т.е. организовать деятельность,
порождающую их. На этот вопрос очень скоро был дан отрицательный
ответ, а поэтому сразу же в стал второй вопрос: а как же получаются
подобные связки и как их получать? На мой взгляд, заслуга в
постановке этого вопроса принадлежит стоикам, хотя сейчас, как
правило, их деятельность рассматривается и характеризуется с иных
позиций.
Когда у нас есть определенная связка между аксиомами и теоремой – мне
сейчас все равно, как она была получена, мы лишь предполагаем, что она как-то
получена, – то можно ее теперь исследовать и как-то оценить. В частности, можно
посмотреть, удовлетворяет ли полученный нами продукт тем признакам, которые
уже имеются и как-то зафиксированы. Но это все будет уже ретроспективная
работа.
Если признаки, которым должен удовлетворять будущий продукт известны и
как-то определены, то вы можете ввести их показатели в качестве одного из правил
или средств, регулирующих вашу деятельность построения, или создания, такого
продукта. Это значит, что вы таким образом будете строить свою деятельность,
чтобы наряду с другими признаками и критериями удовлетворить также и этим.
Но сколько бы вы ни характеризовали все эти и подобные им моменты, вы не
даете ответа на вопрос, как получается само предложение такого типа, вы не
описываете деятельности по его получению. В частности, вы не отвечаете на
вопрос, как получаются все предложения, входящие в состав вашего рассуждения.
Здесь встает куча хорошо известных вопросов, например, как найти то или иное
доказательство, если вам известны аксиомы, лежащие в его основании, и конечный
результат – сама теорема. Тем более сложным покажется вопрос: как найти
некоторые аксиомы, чтобы доказать то или иное предложение? Известна также
задача получения всех или важнейших следствий из определенных аксиом.
Весь этот набор вопросов довольно скоро был поднят. И тогда родилась та
двойственность, о которой я выше сказал. Ведь речь идет о получении некоторого
предложения из аксиомы. Но какое отношение к получению имеет
силлогистическое представление правильных, или корректных, связей между
теоремой и аксиомами, тех связей, которые фиксируются в схемах силлогизма?
Ведь это не изображение получения, а изображение того, что должно быть
получено. Сама связка, поскольку она изображена, выступает уже не как процесс, а
как продукт деятельности. Что касается меня, то я рискнул бы со всей
определенностью утверждать, что работа по получению всех подобных связок не
имеет ничего общего с тем, что Аристотель описал как схемы силлогизма.
Получение связки такого типа есть то, что обычно называют выведением, но
только само «выведение» есть выдумка логиков. Самого по себе выведения, каким
его представляли и представляют, не существует; это особая фиктивная
конструкция, созданная для формальной репрезентации механизмов, которые могли
бы, как думают логики, приводить к тем же результатам, к каким приводят
реальные процессы мышления.
В установке, заставившей всех, или во всяком случае многих, сводить
получение нового теоретического знания к «выведению», и состояла, на мой взгляд,
роковая ошибка традиционной логики.
В истории логики вы найдете удивительные смешения позиций и мнений. Уже
Х.Зигварт в 80-е годы прошлого столетия показывал, что схемы силлогизма или
более развернутые схемы доказательства или обоснования не объясняют и не могут
объяснить процессы получения знаний. Я думаю, что это показывали до него
многие, а не только психологисты. Достаточно вспомнить принципиальные тезисы
Ф.Бэкона и Р.Декарта. И несмотря на все это, многие логики, во всяком случае все
узкоспециализированные логики, по-прежнему говорят о выведении и пытаются, с
одной стороны, построить его удовлетворительные его схемы, с другой стороны,
интерпретировать их как реальное получение знаний.
При этом недостаточно учитываются принципиальные различия между
«нормативной» работой, т.е. работой по созданию норм, в частности логических
норм, с одной стороны, и теоретическим описанием реально существующих форм
мышления, археологией форм мыслей или их естественной систематикой, с другой.
Работа первого типа выдается за работу второго типа. В результате страдают и та, и
другая.
В 1958 году, чтобы изобразить возникающую здесь проблематику, я
пользовался схемой «горизонтальной» последовательности переходов от одних
положений к другим и «вертикальными» процедурами выработки связей, по
которым осуществляются эти переходы. Схематически это выглядело примерно так:
A B C D E ...
Сейчас я бы, скорее, стал говорить о челночной или круговой работе на
определенной машине, изображающей структуру, или конструкцию, науки. Но
какое бы изображение мы ни нашли для процессов и процедур получения
формальных связок, по которым идут переходы от одних положений к другим, во
всех случаях имеет место противопоставление переходов от одних характеристик к
другим и «получения» соответствующих связок. Именно это мне сейчас и важно.
Весьма характерно, что попытки представить это получение сейчас, скажем, в
работах по эвристике, мало чем отличаются от попыток представить его в
психологистических работах второй половины XIX столетия; и тут, и там речь идет
о выборе из альтернатив, о методе проб и ошибок, переборе всех возможных
вариантов, о невозможности такого перебора и необходимости дополнительных
средств, называемых «эвристиками». И если мы пойдем дальше, вглубь истории, то,
по сути дела, ту же самую постановку вопроса мы найдем и в эллинистический
период, у Паппа и других создателей эвристики.
Таким образом, с того момента, когда Аристотель задал схемы силлогизма,
реальная деятельность получения соответствующих связок распалась на две части.
Теперь знание должно быть представлено как получаемое путем доказательства или
«выведения», следовательно – как с самого начала включенное в определенную
связь с другими знаниями, и вместе с тем должны быть получены сами эти связки
выведения или доказательства.
Я мог бы представить все это иначе. Предположив, что знания получаются
путем выведения, мы создали соответствующие схемы, наложили их на
эмпирический материал, обнаружили несоответствие наших схем реальности, но не
стали отказываться от схем, а постулировали, что они правильно схватывают лишь
часть того, что происходит на самом деле, и поэтому должны быть дополнены еще
одним элементом, второй деятельностью, которая обеспечивает первую и создает
для нее соответствующие условия и средства. «Получение» знания предстало перед
нами как две деятельности, или, точнее, как двойная деятельность, элементы
которой особым образом сочленяются.
Я не обсуждаю сейчас условия и этапы формирования представления об этих
двух компонентах деятельности «получения». Если бы я решил затронуть и эти
аспекты, то должен был бы говорить о тех формах, в которых впервые была
зафиксирована и осознавалась указанная мной двойственность. Тогда мне пришлось
бы говорить, с одной стороны, о деятельности получения знания и, с другой
стороны, о деятельности оценки его истинности.
Мы имеем здесь типичный пример развертывания модели, которая с самого
начала по своим принципам была слишком неадекватна объекту и поэтому
породила после соотнесения ее с эмпирией сложную, но столь же неадекватную
модель.
Как всегда бывает в таких случаях, неадекватность модели не была
зафиксирована и отмечена с самого начала лишь в силу того, что сама модель стала
некоторой нормой работы; многие и многие исследователи, при этом не только
философы и логики, стремились реализовать в своей работе это представление.
Благодаря этому оно подтверждалось, не приобретая за счет этого ни грана
истинности.
Мне хочется обратить ваше внимание на общий принцип развития наших
знаний об объекте, который полностью проявился в этом случае. Введение двух
частей, или элементов, объекта в условиях, когда первая схема не соответствует
объекту, – общий прием нашей работы. Анализ «получения» знаний не избег общей
участи, и в результате мы получили изображение двойной, или двоякой,
деятельности: сначала человек получает некоторое знание, а потом он оценивает его
истинность.
Пока я не утверждаю, что все это в принципе неверно. Мне важно выявить
методическую схему, по которой шло формирование наших представлений. Вполне
возможно, что представление о двучленности деятельности правильно схватывает
какие-то реальные моменты нашей работы, например этап создания смысла как некоторого
содержания сознания, а потом процедуры объективации его, превращения картинки, изображающей
смысл, в модель, изображающую объект. Вполне возможно, таким образом, что в утверждениях о
сложном строении нашей деятельности заложено правильное зерно, но нам важно понять, по каким
схемам развивалось наше знание.
В плане истории логики нам здесь очень интересно выяснить и показать, как
формировался специфический предмет логического анализа. Суть этого процесса в
дополнительных ограничениях объекта, ориентированных на сохранение уже
имеющихся схем. То, что изучал и изображал Аристотель, были процессы
мышления во всей их полноте. Но когда выяснилось, что схемы охватывают лишь
часть целого (в лучшем случае), то произвели ограничение предмета изучения,
отделили то, что относится к собственно получению знаний, от того, что было
зафиксировано в уже созданных логических схемах, а затем придумали для
логических схем особую реалистическую интерпретацию – особую процедуру так
называемой оценки истинности знаний.
Но как бы в дальнейшем ни членилось нами мышление, в исходном пункте мы,
наверное, должны утверждать, что есть всего одна деятельность – деятельность
мышления, – которую мы и должны проанализировать и изобразить. Эта
деятельность есть, с одной стороны, получение знаний, а с другой стороны,
употребление знаний. А если даже мы хотим говорить об оценке имеющихся знаний на
истинность, то это тоже, конечно, будет мышление, и оно тоже будет направлено на получение
определенных знаний, но это будут знания об истинности других знаний. Во всяком случае все эти
разнообразные процессы и виды деятельности должны быть схвачены как разные проявления
единой деятельности мышления.
В качестве смешных примеров, выражающих ходячее мнение, я хочу привести,
с одной стороны, тезис Полетаева в его книге «Сигнал» о том, что знание
получается путем создания сначала любых произвольных комбинаций и отбора из
них затем тех, которые имеют содержание и смысл, а с другой стороны, работу Ван
Хао, который заставляет машины создавать все возможные высказывания, правильные в
определенной формальной системе, а затем не знает, что с ними делать и как выделить из их числа
осмысленные и значимые.
В этой же связи, наверное, надо было бы обсудить работы по созданию
порождающих
грамматик,
проводимые
зарубежными
и
советскими
структуралистами. При все моей симпатии к структуралистическим установкам и
попыткам строгого и научного подхода к проблемам, я вынужден протестовать
против свойственного им неоправданного упрощения самой проблемы и сведения
сложной мыслительной деятельности, включающей работу сознания и процедуры
объективации смыслов, к чисто формальному оперированию со знаками,
образованию из них исходных композиций и преобразованию их в другие
композиции. Все то, что они фиксируют, – лишь один из моментов в системе
деятельности, создающей осмысленные предложения, при этом момент,
представленный не очень точно.
Я надеюсь, вы уже поняли, что я пока доказываю всего один принципиальный
тезис: схемы силлогизма, так же как и любые другие формальные схемы связок
между знаковыми выражениями, не могут объяснить получение знаний, не могут
служить изображениями механизмов получения.
Теперь мы можем вернуться к нашим исходным посылкам. Мне важно
напомнить вам утверждение, что на первых этапах наука была представлена в виде
совокупности знаний, высказываний, или предложений, которые получаются,
выводятся из аксиом по логическим правилам, представленным, в частности, в
схемах силлогизма. Очень скоро само понятие получения стало двойственным. Если
схемы силлогизма – правила, по которым получают знание, или даже если они –
требования к продукту деятельности, то само получение сразу выделилось в особую
область. Кроме того, очень скоро было осознано, что этих правил, независимо от
того, как мы их трактуем, недостаточно для самого получения знаний. Вместе с тем
тезис о том, что логические правила представляют собой те образования, в
соответствии с которыми получают теоремы, был и оставался совершенно
правильным, ибо эти правила, взятые уже не в плане описания, а в плане
нормировки и методических средств, действительно являются тем, что определяет и
нормирует деятельность получения знаний.
Конечно, при этом они дополняются массой интуитивных моментов, которые
обязательно входят в нашу деятельность и дают возможность получать нужные нам
продукты – знания. Логические правила участвуют в получении знаний, но к ним
нельзя свести всю деятельность получения, и уж во всяком случае их нельзя
рассматривать как изображения этой деятельности получения. Поэтому, если и как
только мы начинаем толковать логические правила и схемы как изображения
деятельности получения знаний, то тотчас же обнаруживается их неадекватность.
Следовательно, ошибка возникает из-за того, что мы неправильно интерпретируем
эти схемы, придаем им такой смысл и такое содержание, какого у них не может и не
должно быть. Все эти схемы и правила – достаточно хорошие нормы и
методические средства, но они не могут служить в качестве изображений
деятельности получения знаний.
– А как вы будете выбираться из этой ситуации?
Мне вообще не нужно выбираться из этой ситуации. Я не делаю ставки на чисто
машинный перевод. Я не хочу создавать машины, которые бы отдельно от людей
производили научные теории. Я за машины и технические устройства разного рода,
но они должны быть средствами и орудиями в деятельности людей, а не
независимыми коллегами, заменяющими человека. Поэтому мне не надо
выбираться из ситуации, о которой вы говорите. Выбираться придется тем, кто
поставил перед собой такую задачу и, на мой взгляд, поставил ее необдуманно.
Этих людей и надо спросить, как они выберутся из этой ситуации.
Мне важно подчеркнуть, что, создав первые схемы силлогизма, Аристотель
ввел первый тип средств, нормирующих мыслительную деятельность. И это было
крайне важно. Теперь мы должны выяснить, какие еще средства нужны и как нам
их выделить. Уже вторым будет вопрос о том, можно ли Аристотелевы схемы
употреблять в качестве первых моделей мыслительной деятельности, могут ли они,
следовательно, выступить в качестве знаний, и если да, то что именно они будут
изображать.
Я постараюсь показать, что их нельзя трактовать как изображения рассуждений.
Это и есть то, что мне нужно. Показывая, что схемы силлогизмов, как и другие
схемы традиционной логики, не могут употребляться в качестве знаний о
рассуждениях, я вместе с тем постараюсь ответить на вопрос, почему это
невозможно и, таким образом, начну выбираться из той ситуации, в которой сейчас
находится человечество, выявляя специфические моменты рассуждений и стремясь
изобразить их в соответствующих схемах.
Мне важно подчеркнуть, что силлогизмы появились у Аристотеля не в качестве
знаний о рассуждениях или моделей рассуждений, а в качестве правил или
предписаний, указывающих, как нужно рассуждать. Это – факт, сам по себе
достаточно известный. Возьмите хотя бы книжку Я.Лукасевича «Аристотелева
силлогистика с точки зрения современной формальной логики» – и вы найдете там
совершенно определенное и недвусмысленное решение этой проблемы. Возьмите
уже указанную мной книгу Г.Шольца – и вы найдете там не менее характерное
утверждение о том, что если считать логикой то, что фиксируется в силлогизмах и
их схемах, то логика не может быть наукой. По мнению Шольца этот момент был
четко осознан перипатетиками примерно через 200 лет после Аристотеля. Правда,
Шольц аргументирует несколько странным образом, но его аргументация все равно
остается весьма убедительной. Он фиксирует то обстоятельство, что для
Аристотеля наука есть совокупность положений, выведенных из аксиом. Чтобы
аксиоматизировать логику, надо было построить некоторые новые правила, т.е.
некоторую металогику. Поскольку Аристотель такой задачи не ставил, то он, по
мнению Шольца, не рассматривал логику как некоторую науку. И это было понято
его учениками и последователями.
Правда, Шольц тут же добавляет, что де Аристотель не был последовательным
и вопреки своим теоретическим представлениям он все-таки создал логику как
некоторую не аксиоматическую науку, т.е. как науку, не соответствующую его
представлениям о науке. И еще через несколько страниц Шольц говорит, что логик,
тем не менее, никогда не является ученым в подлинном смысле этого слова. Логик,
по его мнению, это тот, кто знает, какие рассуждения допустимы, а какие нет, и
поэтому всегда может отличить болтающего дурачка от человека рассуждающего.
Но хотя у Аристотеля силлогизм не был ни знанием, ни моделью, а был лишь
правилом и методическим предписанием, тем не менее, через некоторое время в
развитии логики произошли такие события и так изменились сами точки зрения и
подходы, что это развитие получило принципиально новое направление и привело к
зарождению науки в собственном смысле этого слова.
Правда, я должен здесь оговориться, что употребляю сейчас слово «наука» уже
не в аристотелевском, а в современном смысле, имея в виду появление моделей,
изображающих объекты изучения. Перелом, о котором я говорю, заключается в том,
что правила, сформулированные Аристотелем и выраженные в виде схем, были
свернуты Александром Афродизийским в виде моделей – собственно, это мы и
называем сейчас схемами силлогизмов – и спроецированы на рассуждения, повидимому, в качестве их изображений или моделей. Этот момент крайне важен. Я
попробую рассмотреть его более подробно.
Имеется, таким образом, некоторое количество положений, которые считаются
истинными, и некоторое количество приводящих к ним рассуждений, которые
считаются правильными. Путем анализа этой области выявляются правила,
выступающие в роли предписаний для человека, который должен строить
аналогичные рассуждения. Этот человек использует эти правила в качестве
некоторых нормативных требований к продуктам его деятельности. На этом этапе
силлогизмы совершенно очевидно представляют собой правила: «делай так-то и
так-то».
Для того чтобы они имели необходимую общность, Аристотель в некоторых
случаях ставит вместо терминов буквы, вводя таким образом некоторое подобие
переменных. Он говорит нечто подобное следующему: «если А приписываются
всем В, а все В приписываются всем С, то можно А приписать всем С». Обратите
внимание на это выражение «приписать»; я буду его дальше специально обсуждать.
Обратите также внимание на то, что я назвал эти буквы «подобием» переменных,
ибо на самом деле они не являются «переменными» в точном смысле этого слова,
хотя, как правило, многие логики и историки логики трактуют их именно как
переменные.
Эти буквы употребляются в качестве имен, примерно так же, как мы
употребляем буквы в рассуждениях по планиметрии – треугольник АВС; это, таким
образом, имена некоторых элементов в онтологической плоскости, или в плоскости
модели. Схемы такого рода начали сокращать – это вполне естественно для любых
форм общения и записи в речи. Довольно скоро стали писать – и это превратилось в
норму – нечто подобное такому: «Если А – всем В, В – всем С, то А – всем С».
Когда почти вся словесная часть выпала, правило приобрело вид схемы. Сейчас мы
обычно записываем эту схему столбиком:
А – всем В
В – всем С
А – всем С,
хотя, конечно, могли бы записывать и в строку, как это часто делал Гегель для
наглядности: А – В – С. После того как появилась схема, в виде последовательности
трех высказываний, расположенных либо в строку, либо же в столбик, ее стали
трактовать как изображение рассуждения.
Такое представление имело все основания, тем более, если мы учтем
нормирующую функцию любого нашего знания. Шарль Соссюр в своем «Опыте
исследования значения логики» указывает на это обстоятельство. Соответствовали
или не соответствовали эти схемы нашим реальным рассуждениями, но поскольку
они были представлены как схемы, нормирующие рассуждение, то многие
рассуждения стали строиться по этой схеме. Не только научные рассуждения, но и
обычный разговорный язык стал нормироваться этой схемой, стал подгоняться под
схему.
Адекватность была достигнута, но совершенно другим способом, нежели этого
требуют наши знания: не знания были приведены в соответствие с объектами, а
объекты были приведены в соответствие с нашими знаниями. Поскольку процесс
подгонки разговорного языка под схему непрерывно продолжался, поскольку сами
правила приобрели вид схем, то стало возможным и оправданным рассматривать
эти схемы, возникшие как методические предписания, в качестве изображений или
моделей реально происходящего, т.е. рассуждения, во всяком случае в той мере, в
какой оно выражается в речи. Правило, или схема методического предписания,
выступило как изображение.
Но тогда, естественно, возник вопрос: изображением чего оно является?
Именно здесь началось самое интересное и вместе с тем самое смешное. Модель
уже была и теперь нужно было подыскать ей подходящую натуру, подходящий
объект. В качестве него выступили в одних случаях рассуждение, в других – мышление, в третьих
– вывод и т.д., и т.п. В качестве объектов, изображаемых в схемах такого рода, стали фигурировать
любые и самые разные предметы, которые удавалось выделить за словесными текстами речи.
Схематически сложившиеся здесь отношения можно представить примерно так:
А-всемB
B-всемC
А-всемC
словесныетексты
предметизучения:
рассуждение
мыш
ление
вывод
Итак, некоторое методическое правило, возникшее как одно из средств
обеспечения деятельности, работавшее наряду с другими средствами, превратилось
в некоторое изображение структуры самого рассуждения (или чего-то другого).
Если раньше я задавал вам вопрос, можем ли мы рассматривать всю совокупность
признаков, фиксированную в таком правиле, в качестве знания о том продукте,
который мы должны получить, и о самих процессах получения, стоящих за
продуктом, и ответил на этот вопрос, что этого делать нельзя, и если там, на первых
этапах нашего движения мой ответ был достаточно обоснован и очевиден, то сейчас
он оказывается уже не столь очевидным, а с фактической стороны даже неверным.
Во всяком случае, мы должны признать, что подавляющее большинство логиков
вплоть до самого последнего времени, т.е. до начала ХХ столетия, отвечали на
подобный вопрос утвердительно. Они утверждали, что схемы силлогизма являются
изображениями процессов рассуждения или процессов мышления.
Если быть более точным и смотреть не на число людей, а лишь на разные точки
зрения и позиции, то надо ответить несколько иначе. Надо сказать, что в этом
пункте логики разбились на две группы, или два направления. Одни из них
отвечали на этот вопрос утвердительно и считали схемы силлогизма
изображениями рассуждений и мышления, а другие, наоборот, отвечали
на этот вопрос отрицательно и считали, что схемы силлогизма ни
рассуждения, ни мышления не изображают.
Первые образовали линию развития собственно формальной логики, вторые
образовали направление антагонистов формальной логики, или, если можно так
выразиться, направление «неформальной» логики. Чем занималось это направление
– на этот вопрос я постараюсь дальше ответить, хотя опять-таки, конечно, очень
грубо и схематично.
Из предшествующего изложения мне важно выделить несколько основных
положений:
1) логические схемы, в частности схемы силлогизма, возникают и появляются у
Аристотеля как некоторые правила, призванные регулировать построение
суждений, рассуждений, претендующих на истинность и доказательство;
2) эти правила, претерпев некоторые изменения, начинают у Александра
Афродизийского и дальше трактоваться как некоторые изображения или модели
самих рассуждений, доказательств и их элементов – суждений;
3) эти схемы рассматриваются как то, с помощью чего мы получаем некоторый
результат, в частности некоторое предложение, являющееся теоремой, выведенное из аксиомы;
4) ближайший же анализ показывает, что правила и схемы такого рода не могут
обеспечить построение рассуждений и доказательств, во всяком случае, если мы
берем их сами по себе; они не изображают процессы получения рассуждений или
само рассуждение; благодаря этому все предшествующие представления очень
быстро и скоро распадаются на два типа.
Получить рассуждение – это значит получить его форму и вместе с тем оценить
его истинность. Очень скоро логические правила и схемы начинают трактовать как
дающие оценку истинности, служащие основанием для такой оценки, начинают
говорить о том, что получение самого предложения, его материальное
производство, осуществляется в форме какой-то другой деятельности.
Отсюда сначала встает вопрос: как получаются и как получать новые знания? –
а затем утверждается сама мысль, что есть какой-то процесс получения знаний, не
изображаемый схемами силлогизма. Этот вопрос и эта проблема, рожденные в указанной
выше ситуации, порождают предмет логики научного исследования, который начиная со стоиков, а
совсем не с эпохи Возрождения, как это сейчас часто пишут, непрерывно развертывается в истории
философии и логики.
При этом происходят очень интересные изменения в самом понятии логики
(если о нем можно говорить) и с предметом логики. Я буду здесь предельно краток
и, соответственно, слишком груб и неточен, но мне, тем не менее, хочется высказать
основные соображения.
У Аристотеля и дальше у перипатетиков был «Органон» и не было никакой
логики. Стоики в противоположность перипатетикам развертывают систему,
которую они называют «диалектикой». Понятие диалектики, как пишет Г.Шольц,
проходит через всю историю Средневековья. Все или почти все логические работы
того периода назывались работами по диалектике. Как вы знаете, Средние века
несколько раз, начиная все по-новому, осваивали античное наследие. В том числе
несколько раз по-новому осваивалось и прорабатывалось наследие Аристотеля.
Во второй половине XIV и начале XV столетий происходит одно из таких
новых освоений, и в связи с ним начинает широко применяться термин «логика».
В XVI столетии, как указывает Г.Шольц, мы имеем опять
своеобразную реконкисту и термин «диалектика» вновь повсеместно
вытесняет термин «логика». В середине XVII столетия термин «логика»
начинает фигурировать все чаще и чаще и нам ечается тенденция к
вытеснению термина «диалектика».
Возникает совершенно естественный вопрос: не были ли связаны эти изменения
терминов с какими-то очень существенными и глубокими изменениями в характере
методологических и гносеологических знаний, не характеризуют ли они глубокие
изменения направлений исследовательских работ? Вполне естественно ответить на
этот вопрос утвердительно и предположить, что смена терминов отмечала
существенные изменения мнений и принципов.
И, в частности, я хотел бы спросить: не совершаем ли мы грубую ошибку, когда
говорим, что логика научного исследования появляется в ХХ столетии или, скажем,
в XIX столетии? Во всяком случае, мне кажется, что мы, следуя традиции, слишком
не дифференцированно рассматриваем Средние века, мы по-прежнему полагаем,
что Средние века были периодом невежества и темноты, закончившимся лишь с
Возрождением. Целый ряд исследований, в частности исследования Дюгема,
проведенные в конце прошлого столетия, и многих других, работавших уже в ХХ
столетии, показали нам, что Средние века отнюдь не были периодом темноты и
невежества. Что в этот период шла очень интенсивная работа мысли, что
подлинные основания современного развития науки, техники и искусства
закладывались именно в Средние века, в XI–XV столетиях, и что Возрождение,
наоборот, было не периодом подлинной ломки, а лишь тем периодом, когда все
перевороты обнаружили себя.
В этом плане история «органологической» мысли требует еще специального
изучения. Во всяком случае, сейчас мы не имеем никаких достоверных и
правильных знаний о том, что представляли собой логические проблемы в этот
период. В частности, мы не можем сказать, какой круг проблем был главным –
проблемы оценки уже полученных знаний на истинность или, наоборот, проблемы
получения знаний и построения рассуждений. А если это так, то у нас пока нет
никаких оснований говорить, что проблематика логики науки появляется в ХХ или
в XVII столетии.
Как я уже сказал, в конце XVII столетия получает распространение термин
«логика». Но что называют этим именем в тот период, какие работы входят в состав
логики и образуют ее тело? У Г.Шольца есть на этот счет очень интересное
замечание. Он говорит, что в тот период логические работы были «битком набиты
всяческими психологическими проблемами и проблемами техники получения
знаний». Я прошу вас обратить внимание на эти слова. Сам Г.Шольц, как вы знаете,
был главой и идеологом формального направления в немецкой логике и считал
психологическими, или психологистическими, любые рассуждения, выходящие за
пределы формальной и даже формалистической традиции логики. Поэтому его
утверждение насчет «психологических» проблем может быть весьма
тенденциозным, и туда вполне могут попадать не только и не столько собственно
психологические, сколько также и в большей мере методологические и
гносеологические проблемы. Как бы там ни было, вторая часть его замечания
насчет «техники получения знаний» весьма показательна и характерна.
Следующий этап в развитии логики связан с развитием бэконовских и
картезианских идей. Как вы знаете, именно у картезианцев начинает
операционально использоваться понятие мышления, введенное Декартом, и
мышление противопоставляется речи, или рассуждению. Понятие мышления
вводится Декартом для обозначения второй субстанции, существующей наряду с
материей.
Эта субстанция дает возможность ученикам и последователям Декарта, Арно и
Николю, знаменитым логикам Пор-Рояля, разделить мышление и рассуждение.
Существенно при этом, что мышление изображается и трактуется с точки зрения
уже существующих и переданных по традиции логических схем.
В этот же период выступают со своими предложениями правил,
характеризующих технику открытия, представители специальных наук. В
частности, с очень интересной, по заявлению Г.Шольца, концепцией выступил
известный математик Валлис, автор знаменитой «Арифметики бесконечного».
Появляется знаменитый «Органон» Ламберта. В этом сочинении, оказавшем
большое влияние на современников, рассматриваются среди прочего такие
вопросы: 1) законы мышления, которые сводились Ламбертом в особое учение –
«дианойялогию»; 2) проблемы истины и оценок на истинность – все это сводилось в
специальное учение об истинности; 3) проблемы знака, которые объединялись в семиотику –
учение об обозначениях мыслей и вещей; 4) характер явлений, описание которых
сводилось в феноменологию.
В этот же период впервые появляются теоретико -познавательные
логики разного типа. Мы ведем эту линию от Гоббса и связываем с
именами Локка, Лейбница, Юма, доводим до Иммануила Канта, у
которого учение о познании оформилось в самостоятельный раздел
философии. Начинает оформляться учение о категориях, которое, как
вы
знаете,
дало
потом
специальный
раздел
философии
–
«Kategorienlehre».
Все это Г.Шольц называет попытками построения неформальных логик.
Если попробовать изобразить эту линию в основных моментах, то мы получим
по меньшей мере следующее: диалектика стоиков – борьба между логикой и
диалектикой в Средние века – неформальные логики, в которых рассматриваются
органологические проблемы, по своему составу соответствующие составу
аристотелевского «Органона», т.е. включающие метафизику с онтологией,
феноменологию, методологию (правила для руководства ума, рассуждения о методе
и т.п.) – теории мышления и мыслительных процессов – теории категорий –
трансцендентальная логика.
Сказанное мной сейчас является, по сути дела, схематизацией того, что считает
точно установленным и приводит в своей книге по истории логики Г.Шольц,
представитель крайнего формализма в логике.
Чтобы понять значение этих констатаций, нужно принять во внимание, что
Шольц сосредоточивает все внимание исключительно на формальных
направлениях, потому что считает, что лишь они одни получили подлинное
развитие в современной логистике и поднялись до уровня подлинной науки.
Представления логистики являются для Шольца тем мерилом, по отношению к
которому он оценивает все явления в истории логики. Позиция Шольца вполне
понятна, ибо для того, чтобы написать историю неформальных логик, нужно иметь
такие представления об их характере и природе, которые бы давали возможность
собрать и соединить их все воедино. Только на этом пути мы могли бы надеяться
получить предмет неформальной логики и его историю.
Должен сказать, что эту работу придется делать, если мы хотим создать сам
предмет неформальных логик. Для Шольца подобная задача непосильна – и он сам
это отмечает, – ибо у него нет достаточно богатого представления о подлинной природе
неформальных логик и их современном положении.
Но я к этим вопросам еще буду не раз возвращаться по ходу дальнейшего
изложения. А сейчас, повторяя вслед за Шольцом основные моменты,
характеризующие развитие неформальных логик, мне важно было показать, что
начиная с Аристотеля и вплоть до наших дней все время развертывается большая и
мощная линия попыток построения неформальной логики. Все эти попытки
создают, как мне кажется, значительно более глубокую и более мощную традицию,
нежели традиция развертывания формальной логики. Больше того, наверное не
было бы ошибкой сказать, что после Александра Афродизийского и стоиков
формальная логика вообще, по сути дела, не развертывается, во всяком случае до
Дж.Буля и его последователей.
Очень характерно, что в своих лекциях И.Кант начинал с утверждения, что
формальная логика представляет собой совершенно законченное здание, что она со
времен Аристотеля не сделала ни одного шага вперед и не отступила ни на шаг
назад. В дополнение к этому тезису я мог бы показать, что и современное развитие
математической логики не является, по сути дела, развитием логики, а должно быть
целиком отнесено к сфере математики и ее языков. И на этом фоне застывшей и
консервативной формальной логики все время идут непрерывные попытки
построить неформальную логику. Называются они по-разному – то диалектикой, то
методологией, то органоном, то теорией мышления, то теорией категорий и т.д., но
цель и суть всех попыток одна. В этом плане исключительно показательна работа
Ламберта; она включает в себя вопросы, которые интенсивно обсуждаются сегодня,
вопросы, которые стали основными для новейших направлений – семиотики,
эвристики, теории мышления и теории деятельности.
Поэтому перед нами стоит задача оценить все эти работы, их вклады в логику и ответить на
один основной и решающий вопрос: почему до сих пор никому не удалось построить неформальной
логики? А в том, что ее не удалось построить, сходятся абсолютно все – как представители
формальных, так и представители неформальных, содержательных направлений.
Вы понимаете, что в мои цели не входит сейчас обсуждение и решение этого
вопроса; мне хочется, глядя на всю эту историю как бы со стороны, показать, что
она была очень мощной, многогранной и сложной, мне хочется также постараться
представить себе, что при этом происходило.
– Что такое логика? Что вы называете этим словом?
Я отвечу вам, напомнив одну анекдотичную историю, которая произошла на
самом деле. Говорят, что на одном из недавних конгрессов собрались ведущие
геометры всего мира и долго спорили по вопросу, что такое геометрия. Спорили,
спорили, спорили, и конца этому не было. И тогда один из них, чтобы как-то
вывести собрание из тупика предложил в дальнейшем называть геометрией то, что
большинство мировых геометров так называет, и записать это в качестве
официального определения геометрии. Примерно также я хотел бы ответить на ваш
вопрос.
Конечно, можно предъявлять совершенно законные претензии и недоумевать,
почему и на каком основании неформальные логики называются логиками, а не,
скажем, эвристиками. Но дело в том, что сам Шольц называет эти работы
«неформальными логиками» и подавляющее большинство мыслителей,
создававших эти работы, тоже называли их логиками. А если они называли их както иначе, то потом те, кто анализировал их работу – их проблемы, объекты, методы,
– называли все это логикой.
Мне достаточно того, что Г.Шольц при своих частных интересах и «партийной»
формалистической ориентации не рискует исключить эти работы из области логики.
Его работа заканчивается весьма примечательно: даже короткий абрис истории
логики показывает, что в современной логике содержится масса элементов, которые,
по его мнению, не имеют никакого отношения к собственно формальной, аристотелевской логике,
поэтому тело Большой Логики весьма гетерогенно, содержит массу разнородных частей, но все
равно все называют это логикой. Это первый ответ, который я дал бы.
Но теперь я хотел бы ответить всерьез, ибо то, что было выше, – лишь
полусерьезная шутка. Я просил бы вас вернуться к исходным схемам моего
сообщения. Я совсем не случайно говорил, что логика возникла по недоразумению.
Сначала это была система правил, предписывающих, как надо рассуждать, чтобы
получать истинные суждения. Поэтому у Аристотеля и дальше все то, что мы
сейчас склонны называть формальной логикой, было, наподобие грамматики,
нормативным предписанием к построению правильной речи. Лишь у Александра
Афродизийского и притом совершенно случайно эта совокупность предписаний
превратилась в некоторое знание.
Я еще раз напомню вам, что отличаю формальную логику от
аристотелевского «Органона» – она соответствует некоторым частям
«Аналитик» и некоторым частям работы «Об истолковании».
Превращение правил в знания тоже, как вы зам етили, не было прямым и
непосредственным. Ведь правила превратились в схемы, схемы – в
модели, и уже по поводу этих моделей затем были созданы специальные
знания, которые начали выступать в виде логических знаний.
При этом сами правила-предписания распались: из них выделилась часть,
нормирующая продукт деятельности – некоторое суждение, или силлогизм;
получалось, что столь детализированная характеристика продукта делала отчасти
ненужным само предписание, ибо достаточно подготовленный человек мог
получить канонизированные связки знаковых выражений.
Таким образом, из аристотелевского «Органона» выделился некоторый
«канон». Он давал возможность оценивать продукт и в соответствии с этой оценкой
регулировать свою работу. Но методического управления самой деятельностью по
получению самих продуктов не было и не могло быть. Это значит, что «органон» не
только отделился от «канона», но и оказался к тому же несостоятельным. Установка
на «органон», следовательно, оставалась, но ее не удавалось реализовать. Но наряду
с этим, поскольку «канон» давал образ, или образец, продукта деятельности,
выступал, следовательно, в качестве задающего некоторый идеальный объект,
вокруг него и над ним стали складываться знания об этом идеальном объекте и
стала формироваться исследовательская работа. Здесь, как и всюду, проявился
общий закон нашей познавательной деятельности: первыми объектами изучения
стали продукты нашей конструктивной деятельности, потом, уже в ходе самих
исследований им придавался некоторый естественный статус, и тогда полученные
знания выступали сразу в двух функциях – как знания о продуктах нашей
деятельности и как проекты будущих продуктов, с одной стороны, и как знания о
естественных объектах – с другой. Следовательно, и эти вновь получаемые знания
сохраняли двойную функцию – как конструктивную, так и собственно
познавательную. В конструктивной функции они выступали как неявное
предписание, ибо продукт нашей деятельности с самого начала был представлен относительно
процесса своего производства, уже как бы содержал в своем образе всю процедуру его получения,
подобно тому, как формула площади треугольника содержит в себе скрытый алгоритм измерений и
вычислений.
Но и на этом этапе, как вы хорошо понимаете, логика не стала еще подлинной и
целостной наукой. Ведь для того чтобы стать оформленной наукой, нужно
сформировать еще массу других блоков. Но ее структура достаточно точно
соответствовала структуре всех других научных, или, точнее, квазинаучных
дисциплин – механика в то время тоже еще не была подлинной наукой, хотя уже у
Архимеда мы находим очень развитый организм знания.
Самым главным для структуры науки, как вы знаете, является способ видения
действительности, выражаемый в специальных онтологических схемах. Но сама по
себе трактовка схем как моделей еще не дает основания для возникновения науки
как таковой. Необходим еще специальный эмпирический материал. Он существенно
отличается от той области эмпирически данных объектов, к которой относятся
знания, полученные на схемах-моделях. Если для выделения этой области
достаточно оуществления следующей процедуры
з
н
а
н
и
я
с
х
е
м
а
м
о
д
е
л
ь
о
б
ъ
е
к
т
ы
то превращение ее в эмипирический материал должно иметь еще одну связь,
замыкающую результаты наложения знаний на объекты со схемой-моделью и
превращающую эти результаты в собственно эмпирический материал, т.е. в
материал эмпирического научного исследования.
Не вылилась и не могла вылиться логика и в математику, хотя определенные
моменты математики в ней были заложены. Лишь много позднее, начиная с
Дж.Буля, эта сторона, заложенная в ней с самого начала, была достаточно
развернута. Но для этого уже должны были существовать нормы и каноны
собственно математического мышления. В античный же период сами «Начала»
Евклида, как мы знаем, были натуральной наукой, хотя может быть и не
эмпирической – последняя, на мой взгляд, появляется с Клавдия Птолемея. Вернее
всего сказать, что логика того времени была «технической дисциплиной», и именно
это обстоятельство делало в известной мере ненужной специальную
онтологическую картину ее объекта как естественного явления.
Для науки нужны, кроме того, средства и, соответственно, специальная их
разработка и методы с соответствующей им методологией. Это опять-таки общий
принцип – что всякая наука оформляется и организуется в некоторую
самостоятельность лишь в противопоставлении другим знаниевым образованиям –
методологии, философии и другим наукам.
Но хотя логика в тот период и дальше не превратилась в науку в точном смысле
этого слова, тенденция к этому существовала и проявлялась все время, по мере того
как укреплялась и оформлялась норма самой науки. Именно с этой точки зрения,
как мне кажется, мы должны рассматривать и оценивать все попытки построения
неформальных логик. Если вы поставите в отношении их те вопросы, которые я
формулировал в начале моего сегодняшнего доклада: на кого они работали, что
именно они вырабатывали, чем детерминировалась и обуславливалась их работа? –
то вы увидите, что именно неформальные логики были той единственной силой,
которая все время стремилась превратить так называемую формальную логику из
системы правил или предписаний в науку в собственном смысле этого слова.
Это значит, что именно неформальные направления стремились
создать для логики особую и специальную онтологию, выделить для нее
эмпирический материал, создать для нее средства и разработать методы,
относящиеся
к
развертыванию
онтологических
схем,
анализу
эмпирического материала и оформлению его в системах теоретических
знаний.
Теперь я могу ответить на ваш вопрос всерьез. Я называю все направления
неформальной логики логикой, и даже более того – научной логикой, потому, что,
следуя тем принципам, которые я изложил, я обнаруживаю, что по происхождению
своему, по постановке и формулированию своих основных целей и задач все работы
и исследования по неформальной логике целиком и полностью определялись, с
одной стороны, тем исходным материалом, который был создан первыми формами
и схемами так называемой формальной логики, а с другой стороны, некоторой
установкой превратить это в эмпирическую науку.
Вы можете мне задать другой вопрос, на который мне будет сложно ответить:
были ли действительно интенсивными все те исследования по неформальной
логике, которые я выше называл? В этом плане мне очень хотелось бы выяснить,
существовали ли какие-то реальные стимулы и практические потребности, которые
заставляли ученых и философов превращать логику в подлинную науку.
Я провел бы здесь параллель с языковедением и грамматиками языка. Подобно
логике, грамматика представляла собой совокупность норм. Попытки превратить
языковедение в науку, изучающую язык как естественное явление, датируются, как
вы знаете, концом XVII – началом XIX веков. Но мы можем себя спросить, почему
это происходит так поздно. Может быть, в обоих случаях – логики и языковедения –
действуют один и тот же механизм и общий принцип?
Таким образом, мне хотелось бы на этом примере и материале выяснить вопрос
о соотношении и взаимодействии, с одной стороны, практических потребностей и
установок, а с другой стороны, реальных возможностей для превращения в науку.
Мне бы также хотелось со временем рассмотреть вопрос о соотношении науки и
методических систем. Может быть, это объяснит, почему логика столь долгое время
могла оставаться чистой методикой и подобием «технической дисциплины».
Ко всему этому добавляется еще одно обстоятельство, которое я прошу вас
иметь в виду. Речь идет о двойственности логики.
Представьте себе, что человек строит некоторое рассуждение. В его арсенале
есть запас известных слов. Кроме того, он пользуется определенными правилами
образования выражений. Это – правила силлогизма. Стоики добавляют к этому
правила связи суждений друг с другом, они же впервые выделяют особые
умозаключения об отношениях, хотя и не формализуют их так строго, как
силлогизм.
Вот собственно и все, что имеет в этот период методическая логика. А
параллельно развиваются научные предметы и философия. Появляется ряд
специальных языков науки. Развивается математика, включающая уже арифметику,
теорию пропорций, геометрию. Естественно спросить себя: подчиняется ли
некоторым правилам оперирование в языках науки? Да, конечно, оно тоже
подчиняется определенным правилам. Вполне естественно, что эти правила должны
быть сформулированы. Но кто занимается этим? Самое интересное здесь состоит в
том, что в выделении и формулировании правил оперирования со специальными
языками науки ученые обошлись без логики, т.е. они создали все это вне рамок
логики. Они построили алгебру – как некоторые правила и алгоритмы оперирования
с арифметическими выражениями, связанными в системы, как правила
преобразования систем уравнений и т.д., и т.п. Они построили дифференциальноинтегральные исчисления. Оказалось, что те же самые функции, которые правила силлогизма
осуществляли для словесного языка, выполняли и различные математики, которые
организовывались в формальные оперативные системы – и эту работу проделывали отнюдь не
логики, а математики, несмотря на то, что, казалось бы, уже был создан образец такой работы.
Но вы понимаете, что все эти утверждения – результат особой ретроспективной
работы. Вряд ли кто-нибудь другой, например, формальный логик,
придерживающийся других взглядов, представил бы дело таким же образом. Это
замечание имеет значение не только в плане наших сегодняшних оценок истории
логики, но и для объяснения тех установок и позиций, которые были и могли быть у
ученых и философов постантичного периода.
Я думаю, что они не проводили параллелей между своей работой и работой
Аристотеля в «Аналитиках» именно потому, что Аристотель в своей работе был
ориентирован на общие проблемы философии. Подлинный смысл силлогизма как
принципов построения языка (и только языка) не мог быть понят и зафиксирован
именно потому, что у Аристотеля и для Аристотеля он таким не был. Хотя, конечно,
Аристотель строил именно язык (в современном смысле этого слова, когда в
понятие языка включаются также и обозначаемые им абстрактные объекты), но это
была работа в контексте методологии, и еще не были выделены все те нормы и
образцы, которые могли бы представить ее как работу именно с языком. Поэтому
математики проделывали все то же самое (т.е. то, что мы сейчас считаем тем же
самым) в ином контексте, в ином окружении и с иным смыслом и поэтому,
соответственно, осознавали свою работу как иную работу. Эти соображения, как
мне кажется, подтверждают мою мысль о том, что формальная логика, если брать ее
в традиции Аристотеля, не может быть отделена от неформальной логики и не
может быть выделена в особую и самостоятельную науку.
Эти же соображения, как мне кажется, делают понятной всю дальнейшую
историю логики и тот кардинальный перелом, который произошел в ней с
появлением собственно символических направлений, перелом, давший ей, с одной
стороны, интенсивное развитие, а с другой стороны, превративший ее из логики в
отрасль математики. Именно математика первой и самостоятельно стала создавать
структуры формализованных оперативных систем, т.е. связки типа
п
р
а
в
и
л
а
о
п
е
р
и
р
о
в
а
н
и
я
з
н
а
к
и
о
б
ъ
е
к
т
ы
и лишь в середине XIX столетия эта структура была осознана в качестве
всеобщей формы и перенесена во всей ее чистоте и обособленности в логику.
Когда это было сделано, логика, теперь уже в виде математической, или
символической, логики, сделала огромный рывок вперед. Но все это движение, как
мы хорошо знаем, не привело к созданию науки, т.е. эмпирической науки о какойлибо действительности, например науки о рассуждениях, науки о мышлении и т.д.,
и т.п. Была решена совершенно иная задача: словесный язык был перестроен и
организован по образу и подобию языков математики.
В работах Пеано мы можем наблюдать это совершенно отчетливо. Он считал,
что научное рассуждение затрудняется из-за того, что наряду с точными и строго
определенными математическими символами в нем употребляются знаки обычного
словесного языка, значения которых расплывчаты, не определены. Именно этим
объяснял он появление парадоксов в математике. Он был уверен, что парадоксы
появляются не потому, что это лежит в природе самой математики, ее языков и ее
понятий – это выяснилось много позднее, благодаря работам Б.Рассела и других, – а
потому, что мы вынуждены пользоваться словами обычного языка.
Пеано был убежден, что все беды идут именно от обычного словесного языка, и
поэтому он предложил заменить его специальными символами, подобными
символам в математике. Но для этого надо было еще особым образом
проанализировать обычные языки и выявить их строение. В знаменитом
«Формуляре» Пеано весь словесный язык переведен в язык математических
символов. Правда, надо добавить, что прочитать такой текст никто не мог, и Пеано
сам это хорошо понимал. Поэтому текст «Формуляра» содержит два текста: один –
в его специальных символах, а другой – в обычном словесном языке.
Но как бы там ни было, задача была четко поставлена, и все дальнейшее
развитие математической логики, или почти все, пошло по линии конструирования
языков, а не по линии построения собственно науки со всеми ее необходимыми
блоками. Здесь есть особый вопрос о том, в какой мере эти новые системы были
тождественны прежним математическим суждениям, а также вопрос, каким образом
эти новые системы входили в традиционное тело математики. Очень интересные и
весьма поучительные сами по себе они уже выходят за рамки обсуждаемой нами
проблемы.
По сути дела, бесспорно, что работы этого типа принадлежат к области
математики. Но многие и многие по традиции и недоразумению продолжают
называть их логикой и продолжают относить к системе логики как науки. Они
считают, что сконструированные математиками языки выступают в роли идеальных
моделей реальных научных рассуждений и процессов мышления. При этом
происходят удивительные спекуляции на словах: математические языки называют
предельной абстракцией, как, например, в статье Таванца и Швырева, или чем-либо
подобным. Можно найти массу мест, в которых математически сконструированные
языки называются предельными идеальными моделями естественного реального
рассуждения.
В противоположность представленной нами линии развития формальной
логики, ее превращения в математическую логику все попытки создания
неформальных логик могут быть определены как попытки развития, развертывания
логики в собственно науку, со своим эмпирическим материалом, со своей особой
онтологией, с особыми методами и средствами.
В истории логики, как и в истории любой другой науки, происходит
непрерывная дифференциация, расщепление понятий. При этом постепенно в плане
смысла выделяются те элементы объекта, которыми должны заниматься логики,
если они хотят быть учеными. Мы можем, опираясь на эти моменты, проследить,
как постепенно меняется представление о том объекте, который изучается логикой.
Аристотель исходил из уже заданного ему текста и считал своей задачей его
анализ. При этом не было ясно, чем он, собственно, занимается – плоскостью
смысла рассуждения или плоскостью его формы. Формирование объекта в этот
момент происходит еще не столько на уровне средств и метапонятий, сколько на
уровне особым образом трактуемого эмпирического объекта.
Вы хорошо знаете, что предварительным условием логического анализа было
отделение истинных рассуждений от неистинных. Область истины, независимо от
того, шла ли речь об истинном суждении или о реальном положении вещей,
объединялась в «Логосе»; именно этот термин и соответствующие ему понятия
задавали ту действительность, над которой работала логика (хотя сама она как
таковая в то время еще не была выделена из «Органона»).
В XVI столетии и дальше, в особенности у Галилея и Гюйгенса мы видим уже
очень четкое разделение и размежевание того, что мы называем рассуждением и
выводом. Я называю XVI столетие потому, что имею достаточно достоверные
данные, относящиеся к этому периоду, но вполне возможно, что это разделение
сложилось намного раньше – этот вопрос нужно специально исследовать.
Вывод противопоставляется рассуждению как то, что осуществляется в
соответствии с нормой движения от аксиом к теореме по определенным схемам и
правилам. Рассуждение в противоположность этому – уже у Арно и Николя это
получает четкое выражение – рассматривается как то, что противостоит выводу и
дает возможность отвечать на вопрос, как получается новое знание и как строится
сам вывод. В дальнейшем эту линию продолжают все, в том числе
Х.Зигварт. Они очень четко различают вывод и рассуждение. И
поэтому, когда представители современ ной формальной логики
соглашаются с тем, что логика не описывает процессы мышления – это
признано почти всеми, – но зато она описывает и изображает
рассуждения, то они опять делают шаг назад и отказываются от тех
различений и понятий, которые уже были выра ботаны по меньшей мере
триста лет назад.
Сегодня нельзя рассматривать схему вывода как модель рассуждения.
Рассуждение и вывод разошлись и противопоставлены друг другу не только как
слова и понятия, но также и как идеальные объекты.
Но если мы разделили эти две сущности, эти два объекта, то тогда сразу же,
естественно, встает вопрос о том, к каким областям и к каким наукам мы их должны
отнести. В частности, мы можем предположить, что если вывод является объектом
формальной логики или, может быть, даже математической логики, то рассуждение,
напротив, должно быть объектом «логики науки». Ведь рассуждение и
исследование почти синонимы: значительная часть исследования осуществляется в
форме рассуждения, и поэтому логика, описывающая рассуждение, будет вместе с
тем логикой научного исследования.
Швырев В.С. Нет, это не так. Рассуждение не может быть объектом
логико-научного исследования.
Но тогда у меня возникает подозрение, что вы применяете термин
«рассуждение» как синоним термина «вывод». А как я уже сказал, это огромное
попятное движение даже по сравнению с логикой Пор-Рояля. А мне, наоборот,
важна дифференциация объектов изучения и формирование внутренне
расчлененной области, в которой могла бы и должна была бы работать логика. Мне
хочется определить основные параметры, по которым идет эта дифференциация.
Очень важно, что постепенно отделяются друг от друга и разводятся: 1) знание,
2) теория, 3) наука. Сейчас уже бесспорно, что это разные сущности и разные
объекты. Во всяком случае, у нас уже есть представление, что все это – разные
образования. Но это представление пока весьма смутно и отнюдь не общепризнанно, несмотря на
то, что оно очевидно.
Где-то в начале своего доклада я говорил о том, что аристотелевская система, в
представлении Г.Шольца очень последовательная и очень четкая, строилась на
представлении, что наука – это система предложений, где теоремы выводятся из
аксиом по схемам силлогизма. Здесь, во-первых, наука отождествлялась с теорией, а
во-вторых, сама теория сводилась к множеству предложений или знаний. Нетрудно
показать, что только на базе этих представлений, по сути дела сводивших науку к
теории, могла возникнуть проблема соотношения теоретического и эмпирического
уровней. Здесь интересно, что наука легко была сведена к теории, но трудности –
как это метко заметил А.А.Зиновьев – возникают лишь тогда, когда мы начинаем
выводить, т.е. в данном случае, когда мы должны были вывести науку из теории.
Это значит, что на базе некоторой абстрактной модели теории надо
было объяснить практику теоретических исследований и обыденный
опыт сознавания науки специалистами -предметниками.
Последние всегда ставят вопросы двоякого рода: что представляет собой наука,
в частности ее теоретические утверждения, и как она получается или может быть
построена? Но на все эти вопросы нужно ответить в условиях, когда наука сведена к
теории и, следовательно, должна быть объяснена как одна лишь теория.
Естественно, что все это приводит исследователей к куче ложных и в принципе не
разрешимых проблем.
Кроме того, происходит очень существенное расщепление и разделение на
вывод, рассуждение и мышление.
Великое открытие сделал один из авторов книги «Язык и мышление», когда он
на дискуссии заявил: «Ошибкой всех логиков было то, что они изучали язык и
рассуждение, думая при этом, что они изучают мышление. А в самое последнее
время, – сказал он, – мы поняли, что это не так; язык и рассуждение – это одно, а
мышление – это другое». Я могу снова повторить, что все это было прекрасно
понято Арно и Николем, и думаю, что до этого это хорошо знали не только Декарт,
но также Абеляр и Оккам.
Возникает различение рассуждения как того, что зафиксировано в тексте, и
процесса мышления как того, что создает этот текст. Образно мы можем говорить, что эти две
сущности расположены как бы взаимно перпендикулярно друг к другу.
Было установлено различие текста как линейной, или синтагматической,
цепочки и системы знаковых средств как языка, или парадигматики.
Я перечисляю все эти моменты пока без указания какой-либо системы и
оснований для их перечисления. Мне важно пока собрать самые важные моменты с
тем, чтобы потом организовать их в системы разного типа. Все это – разные
проекции объекта логики, которые оформляются в особые идеальные сущности.
Теперь я хочу поставить основной, на мой взгляд, вопрос. Мы не можем дальше
обсуждать вопрос о том, что представляет собой логика, не определив для себя,
какой мы хотим ее видеть, т.е. не построив предварительно тот или иной ее проект.
Здесь мы прежде всего должны решить, хотим ли мы ее видеть системой
предписаний, управляющих нашей мыслительной деятельностью, или, напротив,
системой знаний, описывающих нашу мыслительную практику. Этот вопрос крайне
важен, и я бы даже сказал, что для современной науки – это решающий вопрос.
В философской традиции XVIII и XIX столетий сложилось представление о
созерцательном ученом и науке, созерцающей и изображающей свой объект.
Нередко эту точку зрения называют натуралистической. Она исходит из того,
что существует некоторый объект и нужно построить его картину.
Естественные науки склады вались в соответствии с этой нормой.
Физика, химия, биология во многом удовлетворяют ей.
Но, кроме того, существовали принципиально иные совокупности или системы
знаний, такие, как логика, языковедение, военное дело, строительство и т.д. Они
создавались и существовали не как картины и изображения некоторых объектов, а как некоторые
системы норм или правил, как каноны.
Эта сторона дела была осознана очень рано. Как известно, понятие о каноне
было сформулировано уже Эпикуром. Он называл так свод правил, действующих в
определенных областях. Логика была для Эпикура каноникой, и даже более того –
он употреблял последний термин как название логики. У всех этих дисциплин не
было и не могло быть онтологии, претендующей на изображение объекта. Даже
когда Лейбниц и Эйлер изображали в кругах родовидовые отношения, выражаемые
суждением или умозаключениями, то они потом не интерпретировали эти
изображения на некоторую естественную область объекта.
Я постараюсь в дальнейшем показать, что проблема логической онтологии
вообще является крайне сложной, и поэтому не удивительно, что до сих пор она не
могла быть удовлетворительно решена.
Когда те или иные исследователи пытались проинтерпретировать схемы,
созданные в деятельности или в мышлении и выражающие их особенности, на
объекты природного мира, то из этого возникали многочисленные парадоксы. Но
даже те, кто понимал особую природу деятельности, тоже сталкивались с
затруднениями и не знали, на что, собственно, нужно интерпретировать схемы
такого типа – на деятельность как таковую, взятую со стороны ее формы, или же на
объективное содержание и объекты.
Не случайно Гегель формулировал принцип тождества бытия и мышления. По
сути дела, любая односторонняя интерпретация мышления или
деятельности до самого последнего времени могла быт ь только
негодной. И так как все глубокие мыслители достаточно отчетливо если
и не видели, то чувствовали это, они либо вообще отказывались от
онтологии объектного типа, либо же вводили особую онтологию
«идеального », т.е. онтологию духа, сознания и т.п.
По сути дела, в теории мышления была только одна внутренне
непротиворечивая онтология – платонизм. Она не могла удовлетворить
представителей специальных наук и не могла удовлетворить философию,
обнимающую не только проблемы познания, но также проблемы природы и
космоса. Поэтому будучи очень хорошей, удачной, единственно непротиворечивой
в области познания, она была неудовлетворительной для философии вообще.
Но вместе с тем ни одна другая онтология не могла свести концы с концами в
рамках
теории
познания.
Чтобы
создать
онтологическую
картину,
удовлетворяющую всем этим гносеологическим и общефилософским принципам,
надо построить специальное изображение деятельности, причем такое изображение,
которое не укладывается ни в одни известные нам сейчас категории. Это странное и
мистическое представление деятельности лишь впервые сейчас формируется и
создается нами, но при этом приходится брать такие барьеры, которые всегда
выступали как непреодолимые. Лишь постулировав очень странный принцип о том,
что объективный мир, природа и все остальное суть элемент и составная часть
нашей деятельности, мы смогли подойти к решению этой проблемы и построить
более или менее удовлетворительную онтологию.
Таким образом, в философском осознании мы имеем представление о науке как
о некотором изображении объектов мира. Вместе с тем грамматика, логика и другие
дисциплины дают нам систему правил, которые используются как средства в
деятельности, служат для управления ею. Средства управления ничего не должны
изображать. И более того, когда мы начинаем от них требовать, чтобы они что-то
изображали, и строим их в соответствии с этим принципом, то они становятся
никуда не годными.
Анализируя математику, мы точно так же обнаруживаем, что все ее схемы и
формулы суть не что иное, как подобные же, но только свернутые методические
правила и предписания. Только при особом подходе и в связи с особыми задачами
формула площади треугольника может рассматриваться как изображение объекта.
Но вместе с тем мы постоянно обнаруживаем во всех науках необходимость
специальных изображений объекта или его моделей. И поэтому я спрашиваю: какой
мы хотим видеть логику – некоторой системой правил, которые могут быть
свернуты в схему или математические формулы, но все равно будут оставаться
средствами управления нашей деятельностью, или же системой знаний,
изображающих некоторый объект, некоторую идеальную действительность?
Конечно, вы можете заметить, что само это противопоставление весьма
условное, что я разделяю и противополагаю друг другу разные функции одного и
того же знакового образования, определяющие и конституирующие его строение. Я
все это понимаю. Я делаю это сознательно, ибо это соответствует двум разным
направления развития наших знаний, двум разным конечным продуктам
формирования науки и, соответственно, двум разным образцам и нормам, на
которые мы можем ориентироваться. Как бы ни были связаны эти функции друг с
другом, сегодня они уже разошлись, или, точнее, разведены и существуют в форме
разных научных или знаниевых организованностей.
Поскольку в физике, химии, электротехнике подобное разделение уже
существует, постольку я могу осознанно ставить этот вопрос и в отношении логики.
Для меня здесь особенно важно, что эти системы по-разному относятся к объекту и
к действительности. От этого же зависит то, что мы можем ждать и получать от
каждой системы.
В зависимости от того, как мы ответим на этот основной вопрос, мы получим
разное отношение к истории логики и вместе с тем разное отношение к новейшим
требованиям создания «логики науки».
Я приведу вам основные тезисы беседы с известным советским экономистом
А.А.Каценелинбойгеном. Характеризуя нашу работу, он сказал, что мы стремимся
построить естественнонаучные изображения сложных системных объектов. «Но вы,
– сказал он, – захлебнетесь своей собственной кровью, решая эту задачу для самых
простых случаев. Мы, – сказал он, – ставим перед собой совершенно иную задачу.
Перед нами большие системы – порядка нескольких миллиардов компонент. Мы
стремимся получить такие знания о них, которые позволили бы нам
управлять этой с истемой. Но для этого нам нет надобности изобразить
ее в естественнонаучных моделях и картинках. Нам вообще не нужно
знать многое из того, что реально есть в этой системе. Нам нужно
управлять этой системой, а для этого иметь только те знания, которые
действительно необходимы для управления».
Мне кажется, что его слова имеют большой прагматический и теоретический
смысл, если не прямой, то, во всяком случае, косвенный. Наиболее важным мне
представляется само различение: 1) знания, необходимые для того, чтобы определенным образом
управлять реальной системой, и 2) естественнонаучные знания, создающие картину этой системы.
Вернитесь, пожалуйста, к той ситуации, которая стояла перед Сократом,
Платоном и затем Аристотелем в Афинах. Вы знаете, какое огромное
экономическое и политическое значение имели там результаты дискуссии.
Деятельность софистов «оторвала» эти результаты от подлинного содержания и
подлинной действительности. Поэтому нужно было как-то ввести дискуссии в
истинное русло, научиться нормировать их и управлять ими. Для этого не нужно
было создавать исчерпывающие естественнонаучные картины самой дискуссии,
нужно было только создать определенные средства для воздействия на них. Создав
свою систему правил, Аристотель получил возможность управлять дискуссией. И то
же самое делали первые грамматики.
Чтобы управлять деятельностью, не нужно создавать полных изображений ее
объектов или самой деятельности. И даже если мы будем иметь соответствующие
изображения, то это не обеспечит нам управления деятельностью.
Представьте себе, что есть некоторый объект, который вы должны
воспроизвести или произвести, представьте себе далее, что вы знаете некоторые
признаки этого объекта – А, В и т.д.– пусть до полной мыслимой картины его. Даст
ли все это нам знания о той деятельности, которую вы должны осуществить, чтобы
создать этот объект? Я полагаю, что это таких знаний не дает и что нужны,
следовательно, еще специальные знания, указывающие на связь между возможным
типом объекта и характером деятельности по его созданию.
Кстати, именно в этом заложено основание для самостоятельного
существования логики. Главное для людей – это их деятельность, способы
деятельности, а представления объектов – нечто необходимое, но уже вторичное.
Те, кто утверждал, что мир имеет структуру языка, те, кто утверждал, что
логические формы задают нам типы и строение объектов, были по-своему, во
всяком случае в прагматическом плане, совершенно правы, ибо они тем самым
создавали условия для своей деятельности.
Зная некоторые характеристики продукта деятельности, исходного материала и
т.п., зная некоторые характеристики технологии моей деятельности, я включаю и
то, и другое, и третье в свою деятельность в качестве средств. И тут они работают.
Но мы не можем и не должны трактовать все эти представления как изображение
самой нашей деятельности. Более того, создавая все указанные выше знания, мы
ставим перед собой задачу организовать и обеспечить средствами нашу
деятельность, но мы не ставим задачи естественнонаучным образом описать нашу
деятельность. И прежде всего потому, что подобное, естественнонаучное описание
деятельности нужно не для того, чтобы мы могли осуществить или построить
соответствующую деятельность, а совсем для других целей и задач, которые нужно
было бы обсуждать особо. Люди действуют – строят фабрики и заводы, ведут
войны и вступают в союзы друг с другом, решают даже некоторые политические
вопросы – и все это они делают не зная, что представляет собой их деятельность и
каковы закономерности ее существования, функционирования и развития. Лишь
тогда, когда люди ставят перед собой особую и специфическую задачу – овладеть
своей собственной деятельностью, научиться управлять ею, научиться
организовывать ее с учетом будущего развития и т.д., и т.п., лишь тогда они
приходят к специальной установке и задаче естественнонаучным образом описать
саму деятельность как таковую.
Этот принцип действует повсюду: мы обучаем детей, не зная ни того, что такое
обучение, ни того, что происходит с психикой и способностями детей в процессе
обучения. Но, несмотря на это, мы обучаем их и пускаем в мир, и они живут там.
Пятьдесят лет назад, когда не было всех этих разговоров о научном обосновании
педагогики, не было Академии педагогических наук, заполняющей мир
идиотическими работами, а были просто хорошие педагоги и методисты, которые
методом искусства строили свою деятельность, обучение подрастающих поколений
шло гораздо лучше, чем сейчас, во всяком случае это касается тех, которых
действительно обучали в гимназиях и реальных училищах.
Все эти разнообразные проявления одного и того же связаны с
принципиальным различием наших способов ассимиляции мира. Один способ
ассимиляции представляет собой включение чего-то в саму деятельность,
применение к нему каких-то процедур. Другой способ ассимиляции – фиксация или
изображение чего-то в знании. Чтобы сделать нечто предметом деятельности, не
нужно делать это же предметом специального научного знания. Эти предметы не
совпадают друг с другом, они не тождественны друг другу. И все это в полной мере
относится также к построению и разным способам ассимиляции деятельности.
Чтобы уметь построить некоторую деятельность, не обязательно иметь научное
знание об этой деятельности.
Установив эти моменты, мы можем вновь вернуться к той работе, которую
проделал Аристотель. Правила силлогизма, конечно, определяют деятельность
рассуждения, но эти правила не изображают той деятельности, которую они
определяют и в которую они включаются в качестве управляющих средств. С одной
стороны, таким образом, они выступают как средства деятельности, с другой
стороны, они выступают как норма продукта этой деятельности. Но, кроме того,
они каким-то образом реализуются в самих процессах или процедурах деятельности
и могут быть рассмотрены также и в этом, третьем, аспекте. Наконец, когда мы
начинаем рассматривать все рассуждение, то опять-таки выделяем эти схемы или
правила и считаем, что они каким-то образом задают и характеризуют объект, с
которым имел дело Аристотель, а также объект, с которым имеем дело
мы. Так получается четвертая и пятая стороны того, что мы
рассматриваем.
Именно отсюда возникает та удивительная многозначность в трактовке логики
– ее предмета и объекта. Мы получаем возможность трактовать логику и как
описание самой мыслительной деятельности, и как описание тех или иных знаковых
структур, включенных в деятельность, скажем, структур норм или структур средств.
Но хотя исходным материалом и источником всех этих разных знаний и
трактовок являются одни и те же структурные схемы, тем не менее изображения
продуктов деятельности, с одной стороны, средств деятельности, с другой,
процедур, с третьей, и самой деятельности как целого – это принципиально разные
изображения, относящиеся к разным действительностям. И поэтому мы не только
вправе, но и обязаны спросить, чем, собственно, является логика.
Конечно, в ее длинной и тяжелой истории мы можем найти самые разные
подходы и самые разные аспекты. Но опять-таки если это и так, то они должны
быть разделены и разнесены по разным рубрикам – как зародыши, начала или
источники разных научных дисциплин, создающих разные объекты для своего
изучения. Во всяком случае, мы можем достаточно твердо заявить, что
силлогистическая логика Аристотеля не была и не могла быть теорией мышления.
Но, наверное, эта или подобная ей теория, описывающая деятельность вообще
или мышление как деятельность, должна быть. Знания, образующие такую теорию,
взятые по отдельности или в системе, мы можем назвать «неформальной логикой».
Мне кажется, что мы можем это сделать, учитывая традицию, ибо как Г.Шольц, так
и другие, на мой взгляд, вводя это выражение, имели в виду именно такого рода
знания.
Если такая теория возможна и должна быть, то мы уже сейчас, заранее, можем
обсудить вопрос о том, как она будет относиться к традиционной формальной
логике. В частности, мы должны выяснить, можно ли получить систему теории
мышления, дополнив некоторыми признаками и характеристиками те объекты,
которые по традиции рассматривались в формальной логике. Получим ли мы путем
этих добавлений то, что называется логикой научного исследования, или же,
напротив, чтобы получить логику научного исследования, мы должны построить
специальную онтологическую картину, изображающую процессы и процедуры
получения научных знаний, и только от этой картины, описывая ее, можно будет
затем перейти к построению теоретической системы логики науки?
Я могу рассмотреть эту же проблему с несколько иной стороны. Появляются
люди, которые начинают говорить о какой-то логике научного исследования. При
этом они ссылаются на некоторые контингенты уже работающих людей, которые по
их мнению, нуждаются в знаниях, которые будут создаваться этой логикой науки. И
это действительно так. Скажем, начинающим аспирантам нужно сделать за
довольно короткий срок диссертацию. И они спрашивают, как это нужно делать,
какие существуют нормы и регулятивы подобной работы. Им нужны правила, по
которым они могли бы построить свою научно-исследовательскую деятельность...
Есть президент Академии наук СССР, от которого Правительство требует план
развития научных исследований на двадцать лет вперед. А он говорит: «Мне нужны
некоторые знания и некоторые правила построения подобных планов, и тогда бы я
сделал то, чего от меня требуют» (я имею в виду идеального Президента,
соответствующего своему месту). Но точно так же и ученый-теоретик просит дать
ему правила научного исследования, чтобы он мог исследовать новые объекты,
неописанные до сих пор наукой и с трудом описываемые существующими
средствами.
И я утверждаю, что можно ответить на все эти вопросы и дать соответствующие
правила научной работы, не создавая при этом полной теоретической картины
мышления как особого вида деятельности. Правда, потом тотчас же возникает
вопрос, насколько эффективными будут все эти правила, в каких рамках и границах
они будут помогать аспиранту, Президенту и ученому-теоретику. Обсуждая этот
вопрос, мы неизбежно в конце концов выйдем к следующему вопросу о том, где,
когда, при каких условиях создание общей теории мышления, т.е. собственно
научной логики, становится необходимым и неизбежным. И если мы решим с
какого-то момента, что построение собственно научной логики становится
необходимым, то здесь мы уже не обойдемся без специальной онтологической
картины, изображающей объект логики, т.е., как я сейчас думаю, без картины
мышления. Тогда нам придется специально вводить эмпирическую область логики,
вводить в нее эксперименты и т.п.
Таким образом, два основных вопроса стоят сейчас передо мной. Один из них:
что такое логика научного исследования? Означает ли постановка вопроса о такой
логике, что мы должны выдвинуть новую группу практических запросов, отличных
от тех, которые породили традиционную формальную логику, и сформулировать
новую совокупность нормативных и методических правил, дающих возможность
решать задачи, соответствующие этим запросам? Или же, наоборот, логика
научного исследования должна быть соотнесена с теорией мышления и развития
как некоторая теория, описывающая процессы создания новых знаний?
Нам важно понять, что можно идти вперед как по одному, так и по другому
пути. Совершенно очевидно, что второй путь намного сложней и объемней первого,
и вполне возможно, что на нем мы действительно захлебнемся своей собственной
кровью, как об этом сказал А.А.Каценелинбойген. Нам важно развести эти два пути и
детальнейшим образом обсудить каждый. Вот на чем я настаиваю. А мое собственное мнение – что
второй путь необходим и вполне возможен. Это уже нечто сверх той проблемы, которую я сейчас
поднимаю. Это уже особая позиция в решении поднятого вопроса.
Теперь я хочу коснуться последнего вопроса. Я постараюсь сказать, в чем же, на
мой взгляд, состоял основной дефект всех предпринятых до сих пор попыток
построения неформальных логик. Этот дефект заключался прежде всего в том, что
существовало неправильное представление об объекте и предмете логики, а
неправильность состояла в первую очередь в психологической ориентировке,
которой были почти в равной мере захвачены как формалисты, так и неформалисты.
Я считал бы полезным специально показать, что психологистами были и все те,
кто считал и объявлял себя антипсихологистами. Родоначальником психологизма,
как вы знаете, был Пьер Абеляр, и с тех пор в течение уже более пятисот лет
человечество не может вырваться из гипноза психологических представлений.
Психологистом до конца своих дней остался и знаменитый борец против
психологизма Эдмунд Гуссерль.
Второй важный дефект, заключался в выборе эмпирического материала для
логических исследований. По сути дела, таким материалом были прежде всего
вторичные схемы, уже выработанные в конструктивной, нормативной работе. Эти
схемы слишком плоско накладывались на эмпирический материал – в
эмпирическом материале выявлялось и виделось лишь то, что уже было заложено в
самих схемах, а сами они не привносили никакого специального содержания. Это
было главным, но, кроме того, можно указать еще на ограничение области
исследования одним лишь доказательством и формальными знаниями,
игнорирование математических систем, построенных в специальном языке
математики, пренебрежение историей развития научных знаний, недостаточный
учет внедрения философии в науку через категории и т.д., и т.п.
Третьим крупным дефектом был, как мне кажется, неправильный выбор средств
исследования. Все вертелось вокруг уже существующих схем формальной логики,
они канонизировались благодаря особым способам образования фиксирующих их
понятий, таких, как логическая форма, суждение или предложение, понятие-термин
и т.д. Всякий раз, когда делалась попытка каким-то образом вырваться за пределы
этих средств, трансформировать их и таким путем построить новые средства,
страшным тормозом выступала непререкаемость традиции.
Четвертым важным дефектом были методы и способы, какими обрабатывался
известный эмпирический материал. Здесь я имею в виду прежде всего принцип
параллелизма, подробно разбиравшийся мною в ранних статьях.
Наконец, во всех существовавших до сих пор неформальных логиках не было
поставлено задачи выработки особых научных средств анализа. В них не
разделялось создание изображений изучаемого объекта и создание специальных
средств для построения этих изображений. Вторая задача в обобщенной форме
может быть поставлена как задача создания понятийных средств и специальной
графики для изображения мышления, или мыслительной деятельности, как объекта
совсем особого типа. И хотя эти две работы, конечно, тесно связаны друг с другом,
я могу утверждать, что до тех пор, пока они не разделены и не оформлены в двух разных
задачах, нет и не может быть подлинных успехов в исследовании мышления, не будет построена
наука о мышлении.
Такова система вопросов и предварительных посылок, которые необходимы мне
для того, чтобы в следующий раз приступить к систематическому разбору тех
проблем, которые встают в каждом из названных направлений, и к попыткам
соотнесения их друг с другом, а также оценить сквозь их призму те ходы, которые
делались до сих пор в истории логики. Это есть вместе с тем установка на
реализацию всех указанных выше пяти моментов.
14.06.1965
Исходные идеи содержательно-генетической логики
Я начну сегодняшнее сообщение с повторения основных положений прошлого
доклада. Я буду это делать очень кратко. Я говорил в прошлый раз о том, что
основной результат, полученный нами за прошедшие полтора–два года, – это
появление нескольких различных представлений о мышлении. Я перечислил эти
представления – их всего четыре, и все они объединяются нашим термином –
«содержательно-генетическая логика».
Поскольку таких различных представлений появилось несколько, то вполне
естественная и необходимая задача – соотнести их друг с другом и выяснить, могут
ли они быть сведены друг к другу, или можно ли их выстроить на основе одного
какого-то представления.
Если же нет, то, может быть, они могут быть конфигурированы, т.е. сведены к
какому-нибудь пятому представлению, которое будет по отношению к ним
рассматриваться как структурная модель объекта. Я бы хотел здесь добавить, что
появление этих четырех представлений давало нам возможность глубже, точнее
представить себе объект нашего исследования – мышление. Больше того, появление
этих четырех представлений давало нам возможность определить те задачи,
которые может решать каждое из них. Я хотел бы специально отметить этот
момент, так как мне кажется, что многие дискуссии, которые возникали на наших
прошлых заседаниях, возникали именно потому, что задачи, решаемые каждым из
этих представлений, не разграничивались достаточно резко и точно, и мы очень часто
хотели от этих представлений того, чего они заведомо не могли нам дать. То есть там, где нужно
было строить какое-то новое представление, мы очень часто делали попытки применить старые
представления и частенько с удивлением обнаруживали, что они не срабатывают, и на этом
основании высказывали какие-то отрицательные суждения вообще о возможности самих этих
представлений.
Таким образом, соотнесение этих четырех различных представлений наряду с
прочим должно было решить задачу более точного и четкого определения тех задач,
которые может решать каждое из них.
С другой стороны, вряд ли имело смысл ограничиваться только этим. Наоборот,
имело смысл поставить эту работу в общий контекст истории развития логики и
соотнести эти представления не только друг с другом, но также со всей историей
развития логических идей.
В прошлый раз я занимался прежде всего этой работой, рассматривая
некоторые моменты в развитии логики как науки с точки зрения, во-первых, нашего
представления о строении науки и, во-вторых, с точки зрения выдвинутых в
последнее время – я это особенно подчеркиваю: в последнее время – требований
развивать и разрабатывать логику науки, раз, и логику научного исследования, два.
Здесь важно подчеркнуть первый момент, потому что наши представления о
строении науки, о ее необходимом составе, об отношениях и связях между
различными входящими в нее элементами были в моем изложении тем основным
фактором, с точки зрения которого рассматривалась вся наша работа, с одной
стороны, и история логики, с другой стороны. После того как мы выработали
некоторое общее представление о логике науки, мы можем на свою собственную
работу поглядеть с точки зрения этих требований и выявить те моменты, в которых
она, наша работа, этим требованиям не удовлетворяет.
И оказывается, что такой подход может многое прояснить в нашей собственной
работе. Я не буду сейчас останавливаться на тех местах моего прошлого
выступления, где я перечислил некоторые методические требования к анализу
структуры науки и к анализу истории развития науки. Из истории развития
логических идей в прошлом докладе были рассмотрены, во-первых,
формалистические попытки реконструировать историю логики, в частности на
материале работ Шольца, а во-вторых, известные работы Бохеньского.
Мне сейчас, после этого доклада, хотелось бы подчеркнуть один момент,
который там в достаточной мере не прозвучал. Это вопрос о правомерности
рассмотрения истории логики с точки зрения одной лишь техники логического
анализа, того, что в последнее время получило название логистики. А позиция
Шольца именно такова. В том современном состоянии логики, которое может быть
фиксировано как современное состояние, он выделяет один узел, а именно
применение символических схем, описывающих некоторые структуры вывода, и
рассматривает всю предшествующую историю логики только с одной точки зрения
– с точки зрения подготовки и формирования этих логистических, или логикотехнических, представлений.
Если же исходить из наших представлений о строении науки, то, наверное, мы
должны будем сказать, что уже сама такая попытка представить историю логики с
точки зрения одной техники логической работы, с точки зрения логистики, является
неудовлетворительной, ибо сама по себе логистика не образует того, что может
быть названо целостностью науки. А поэтому выхватывание из этого потока
истории, из потока развития логических идей лишь тех моментов, которые
характеризуют логистику, заведомо не может дать представления о механизмах и
закономерностях этого развития, ибо эти моменты фрагментарны и кусочны по
самой природе своего выделения или преобразования.
Между прочим, это отчетливо обнаружилось в работе Бохеньского, так как он
вынужден был констатировать множество течений неформальной логики, попыток
разработать неформальную логику. Но при его подходе они все, вполне
естественно, оказались инородным телом по отношению к логистике, и поэтому он
вынужден был их отбросить.
Был поставлен вопрос: почему, собственно, все это должно входить в тело логики? Отвечая на
этот вопрос, я говорил о том, что все эти моменты оказываются органическими частями логики, т.е.
если мы рассматриваем историю логики как линию складывания науки, то оказывается, что все эти
неформальные моменты относятся к выделению логической картины науки, к выделению ее
специальных средств, методов и т.д.
Поэтому широко распространенной практике рассматривать историю логики с
точки зрения ее техники, или логистики, по-видимому, должна быть
противопоставлена принципиально иная точка зрения, когда развитие логики
рассматривается во всех ее моментах, как формальных, так и неформальных. А сами
формальные моменты объясняются на базе ее общего тела, т.е. как некоторый
элемент развития науки логики. Собственно, так, по-видимому, и было, начиная с
Аристотеля и дальше, вплоть до второй половины XIX столетия, когда
символическая логика начала развиваться как раздел, или отрасль, математики. Там
действуют другие законы, и я их перечислял в конце своего прошлого сообщения.
Продолжая линию исторического анализа, я рассмотрел условия и механизмы
происхождения логических схем, первых понятий. Основной вывод этой части
сообщения может быть сформулирован так: логика как система логических схем и
связанных с ними понятий возникает первоначально не как система знаний о
некотором объекте, не как система некоторого отражения, а как совокупность
практических правил и предписаний, в соответствии с которыми человек может
строить рассуждение, претендующее на истинное.
Такое понимание логических схем сейчас можно считать уже доказанным. Я
имею в виду в первую очередь известную работу Лукасевича «Аристотелевская
силлогистика с точки зрения современной формальной логики». Но, кроме того,
этот результат был подтвержден при анализе этих схем и представлений с совсем
иной точки зрения, а именно в том анализе, который мы проводили на основе
понятий содержательно-генетической логики.
В этом плане, с точки зрения механизма своего происхождения, логика на
первых этапах выступает, наряду с грамматикой, как некоторая система
нормативных предписаний, а не как наука. И только через несколько столетий (а
завершение эта линия находит у Александра Афродизийского – начало третьего
столетия н.э.) эти схемы предписаний, обеспечивающие построение людьми
истинных рассуждений, превращаются в схемы, интерпретируемые как структуры
или схемы знаний, изображения, т.е. их начинают относить на объекты и
рассматривать как замещающие их модели.
Более того, поскольку эти правила работают как нормы и предписания,
реальное построение вывода или умозаключений начинает осуществляться в
соответствии с этими схемами. Но это соответствие доказывает не то, что эти схемы
были выработаны как правильное или точное отображение самого реального
рассуждения, нет, они доказывают только одно: что эти нормы или
системы предписаний начинают управлять нашей практикой создания
речевых текстов, подобно тому, как созданием таких текстов управляет
грамматика, задавая нормы литературного языка и вообще правила
речи.
Точно так же и логика задает такие нормы построения правильных
рассуждений. Но такая попытка трактовать логические предписания как некоторые
схемы знаний – она еще не задает тело науки. Для того, чтобы сложилась полная
наука, необходимо выделение некоторой онтологической схемы, изображающей
предмет этой науки, необходимы особое выделение и группировка эмпирического
материала, необходимы особые средства и метод анализа этого эмпирического
материала и некоторые дополнительные системы требований к знаниям,
изображающим данный объект.
Очевидно, пока все ограничивалось лишь интерпретацией логических схем как
изображений вывода-рассуждения, науки не было. Поэтому вполне естественно, что
все дальнейшее развитие логики среди прочих линий содержит и линию,
представляющую попытки, с одной стороны, построить вот эту онтологию, с другой
стороны, выработать средства анализа и очертить эмпирический материал. В этом и
содержался ответ на вопрос: какую же роль играют все эти направления
неформальной логики? Это и есть работа, направленная на то, чтобы превратить
логику в действительно полную эмпирическую науку.
Здесь очень важно противопоставление эмпирической и математической наук.
Эти две линии – эмпирического и собственно математического подходов –
непрерывно борются в истории логики, и неудачи построения логики как
эмпирической науки неизбежно усиливают влияние линии, трактующей ее как
некоторую математическую дисциплину, т.е. не содержащую эмпирического
материала и не претендующую на изображение некоторого объекта.
В прошлом сообщении я подчеркивал, что, несмотря на существование мощной
линии неформальной логики, эта линия так и не смогла сформировать предмет
науки, предмет эмпирической науки. Поэтому встал вопрос: в чем же причины
неудач в формировании предмета логики? Я ответил на этот вопрос – с одной
стороны, этот ответ может рассматриваться как гипотеза, а с другой стороны, как
некоторые практические утверждения, задающие линию дальнейшей нашей работы,
– что причина эта заключалась прежде всего в том, что все попытки строить
онтологическую картину логики, очерчивать ее эмпирический материал и
вырабатывать средства и методы ее анализа строились вокруг уже заданных
традицией Аристотелево-Александровых схем. По существу, все эти неформальные
направления должны были оправдать использование традиционных схем
формальной логики в качестве знаний, изображающих объект. Это было, с моей
точки зрения, первым и основным дефектом в развертывании систем логики – не
скажу, что единственным, но предопределившим все остальные дефекты.
В истории логики так и не была выделена удовлетворительная онтологическая
картина ее предмета.
С одной стороны, мы имеем платонизм, не устраивающий нас с общей точки
зрения, платонизм, который решает целый ряд проблем, но который не мог
развиваться на эмпирической базе, поскольку не мог указать, где же именно
локализуется идея, и тем самым создать возможность ее эмпирического изучения. А
с другой стороны, это были психологистические направления разного толка. При
этом я подчеркиваю свою позицию – что к психологистическим направлениям я
отношу не только тот психологизм, который развертывался во второй половине XIX
столетия, но и все так называемые антипсихологистические направления – начиная
с Абеляра и кончая Гуссерлем.
Я в дальнейшем еще специально остановлюсь на этом тезисе и посвящу ему
довольно много времени – в чем, с моей точки зрения, лежит основание этого
глобального и всеобщего психологизма. Во всяком случае, мне важно подчеркнуть,
что эта онтологическая картина так и не была найдена. Еще один важный дефект
состоял, по-видимому, в том, что неправильно выделялся и обрабатывался
эмпирический материал логики. Как правило, это были тексты, но тексты
понимались особым образом, т.е. не понимались. И на этом я сегодня прежде всего
остановлюсь.
В этом месте доклада, по идее, надо было бы изложить историю развития
онтологических представлений логики. В прошлый раз я говорил, что
онтологические картины, или онтологические представления, имеют в развитии
науки непрерывную историю и могут служить как бы зеркалом истории развития
науки в целом, отражать ступени ее развития. Хотя более точно и детально надо
развертывать весь предмет исследования. Но такое изложение истории развития
онтологических взглядов было бы очень тяжелым и долгим делом, тем более, что
полтора–два года назад здесь на семинаре я пытался это сделать, и у меня есть
машинописный текст. Поэтому я эту часть выбрасываю и только в некоторых
местах буду затрагивать относящиеся сюда моменты.
Рассмотрев таким образом некоторые моменты истории развития логических
идей, я сегодня должен перейти к более систематическому, хотя, конечно,
выборочному, анализу наших собственных представлений. Этим и определена тема
сегодняшнего доклада. Она сформулирована так: исходные идеи содержательногенетической логики. Я кратко и выборочно изложу историю формирования этих
идей, а затем произведу их критику с точки зрения представлений о строении науки,
с одной стороны, и с точки зрения представлений о предмете логики, которые у нас
сейчас сложились, с другой стороны.
Но прежде чем переходить к изложению самого материала, я должен
остановиться на характеристике метода нашей работы, для того чтобы предостеречь
присутствующих здесь от неточных и неправильных интенций понимания того, что
я буду обсуждать.
Существует несколько различных типов научной работы. Один из них,
наиболее распространенный, заключается в том, что мы, имея какую-то область
эмпирического материала – явлений или так называемых фактов, тем или иным
способом освоенных, – накладываем на них систему средств или понятий, уже у нас
имеющихся, и производим соответствующее расчленение этого эмпирического
материала на группировки. При этом сами средства или понятия, которые мы берем
из тела той или иной науки, считаются уже установленными и не подвергаются в
ходе этой работы критике.
При таких процедурах все, что мы можем сказать, это соответствует ли данная
область эмпирического материала уже имеющемуся у нас аппарату средств и
понятий или не соответствует, если не соответствует, то в какой мере, и выделить
различия между тем, что уже схвачено в аппарате этих средств и понятий, и тем,
что имеется в данном эмпирическом материале. Если, скажем, средства и понятия
не дают нам возможности расчленить этот материал или приводят к каким-то
противоречиям, то мы просто отбрасываем их и говорим, что данный эмпирический
материал в этой системе понятий схвачен быть не может – он из другой предметной
области. При такой работе, а это обычная научная работа, все средства и понятия
должны быть четко определены. Если понятия не определены, то вся работа теряет
смысл. В таких случаях, если вы, например, пользуетесь понятием структуры, то
законно спросить: что такое структура? И вы должны указывать операциональные
признаки (они фиксируются обычно в определениях), которые отграничивают
структуры от неструктур и дают вам возможность четко ответить на вопрос, имеете
ли вы здесь дело со структурой или нет.
Само такое определение и совокупность рациональных признаков, заложенных
вами в понятие «структура» или любое другое исходное представление, изменению
при таком анализе не подвергаются. Всякая попытка их ревизии в ходе вашей
работы может привести только к одному – к тому, что ваше исследование потеряет
какой бы то ни было смысл, из логически организованной работы превратится в
ерундистику. И обычно, когда кто-то приходит к нам на семинары, то очень
естественно встают такого рода вопросы: вот вы пользуетесь понятием «структура»
– скажите, что это такое? вы пользуетесь понятием системы – что это такое? вы
пользуетесь понятием знания или мышления – а что это такое? И так далее. Но
дело-то в том, что к нашей работе все эти требования совершенно неприменимы,
ибо то, чем мы занимаемся, это нечто совершенно другое, это тоже научная работа,
но подчиняющаяся принципиально иным закономерностям.
Что мы делаем? Во-первых, мы исходим из принципа, что степень развития той
или иной науки, науки вообще, определяется тем, насколько внутри нее уже
выделилась в специальный раздел работа по разработке средств этой науки. Есть
такие науки, где характеристика средств науки, ее понятийного аппарата, ее
инструментария не отделяется от характеристики ее знаний. Знания этой науки и
составляют то, что в первую очередь характеризуют, отвечая на вопрос, что
представляет собой эта наука. Такие науки, где средства еще не отделились от
знаний – мы их обычно называем эмпирическими, – это науки, находящиеся на
низком уровне развития. Причем неразвитыми они могут быть не в силу
объективных причин, а в силу ложных логических установок, т.е. непонимания
того, что разработка средств данной науки является делом совершенно отличным от
получения знаний, входящих в ее теоретическую систему. Мы исходим из того, что
для разработки любой науки необходимо эти два направления резко разделять, даже
в каком-то смысле противопоставлять друг другу.
Наша основная работа направлена на разработку средств науки, а не ее
теоретической системы. Каковы процедуры этой работы? Мы имеем какую-то
узкую эмпирическую область, которую мы считаем относящейся к будущему
предмету той науки, которую мы строим. Иногда эта узкая эмпирическая область
может задаваться требованиями, не имеющими ничего общего с самим предметом
науки, скажем, какими-то практическими требованиями или запросами. Затем мы
предполагаем, что у нас нет средств, адекватных этой эмпирической области, нет
того аппарата понятий и схем, с которым бы мы данную эмпирическую область
могли представить так, чтобы ответить на поставленные относительно нее, этой
эмпирической области, вопросы. Таких средств нет, и мы должны их разработать.
Причем разработать, имея всегда практически, актуально дело только с этой узкой
областью эмпирического материала. Но разработать таким образом, чтобы с
помощью этих средств мы смогли бы описывать всю широкую эмпирическую
область.
Скажем, мы хотим разработать теорию мышления, мышления вообще. Мы
знаем, что мышление развивается и что на разных исторических ступенях мы имеем
различные его структуры или формы. Но мы должны таким образом выделить
небольшую область из всего этого тела мышления и таким образом ее
проанализировать, чтобы, несмотря на это знание о развитии, получить не
изображение вот этого выделенного участка эмпирического материала, а некоторую
абстрактную схему или некоторое понятие, с помощью которого мы могли бы
членить всю область мышления.
Что же делать, если у нас таких средств нет? Существует широко
распространенная иллюзия, будто бы какие-то средства могут возникать из работы
с объективным эмпирическим материалом. Думают, что можно из объекта вывести
некоторое научное знание или, скажем, что еще удивительнее, некоторое средство
анализа.
Такая точка зрения была довольно естественной до появления работ Канта, во
времена Локка или даже Юма.
Кант, рассматривая ситуацию взаимоотношения субъекта с объектом, показал, и
никто после него не смог этого опровергнуть, что таким образом никакие
необходимые знания, в частности математические знания, получены быть не могут.
Он поэтому утверждал, что эти формы носят априорный характер и заложены в
структуре человеческого мозга (сознания или разума). Этот вывод, не
устраивающий нас в силу своего агностического и априористического характера,
является вместе с тем действительно единственно доказанным и убедительным во
всех попытках анализировать процесс познания в рамках ситуации взаимодействия
субъекта с объектом.
Новый поворот в понимании этого круга проблем связан с именем Фихте.
Полемизируя с Кантом, Фихте утвердил тезис о том, что знание и вообще средства
возникают не из взаимодействия субъекта с объектом, а как результат деформации
других средств и объектов. И отсюда он вывел тезис о так называемой филиации
идей, т.е. о том, что одни идеи развертываются в ходе взаимодействия с
эмпирическим материалом в другие идеи и что поэтому должен рассматриваться не
эмпирический материал этих идей, знаний, а другие идеи, которые предшествовали
им.
Это был тезис, который впервые положил начало социальному подходу к
процессам мышления, из чего в дальнейшем выросли Гегель и марксизм. Но в
последнее время у нас под видом марксизма проповедуется вот эта
сенсуалистическая, локковская, по сути дела, идея о том, что знания рождаются из
взаимодействия субъекта с объектом. Я затрагиваю сейчас эту тему не с точки
зрения космологической или чисто философской, а потому, что она нужна для
объяснения нашей практики, нашей исследовательской работы. Ибо она,
фактически, задает эту практику и объясняет ее.
Если у нас имеется некоторая эмпирическая область, которую нам нужно
объяснить, и мы заранее знаем, что у нас нет средств, адекватных этой задаче, то мы
берем некоторые средства, которые заведомо, и мы это понимаем, не адекватны
этому эмпирическому материалу. Мы берем их и накладываем на эмпирической
материал, т.е. производим некоторое расчленение этого эмпирического материала с
точки зрения имеющихся схем.
Таким образом, мы имеем некоторое изображение этого материала,
изображение, полученное в результате наложения этих неадекватных средств.
Причем, это изображение приобретает, фактически, реалистическое существование,
т.е. в него заложен некоторый смысл, мы его особым образом понимаем. Это –
неадекватная картинка данного эмпирического материала. Кстати, то, что эта
картинка не адекватна, понятно только исходя из общих принципов. Мы знаем, что
у нас нет адекватных средств. А если вы думаете, что изображение само заявит, что
оно неадекватное, плохое для этого материала, или, скажем, что это обнаружится в
некоторой эмпирической практике, то это ошибка. Материал никогда сам не
сообщает, правильно или неправильно он расчленен. Примеры я приводил
многочисленные. Скажем, теория теплорода дала основание для интегралов Фурье
и для его рядов. И мы все время ими пользуемся, хотя выяснено давным-давно, что
того, что мы называем теплородом, нет. Тем не менее, практика нам всюду и
полностью подтверждает этот тезис. Точно так же ошибочные представления
Лавуазье о том, что кислотные свойства определяются наличием кислорода в
составе тех или иных веществ, до появления некоторых новых методов анализа с
помощью электролиза, которые предложил Дэви, – они тоже полностью
подтверждались этой самой практикой, хотя были ошибочны. Поэтому, если у нас
есть такие схемы и мы сумеем их наложить на эмпирический материал – иногда
просто нельзя наложить, тогда мы их отбрасываем и выбираем такие схемы,
которые накладываются, – то полученные изображения не сразу говорят о своей
неадекватности эмпирическому материалу.
– Если представления, схемы не налагаются на эмпирический материал,
значит ли это, что они ложны?
Я думаю, что этого пока еще нельзя утверждать. Можно утверждать, что они
фактически не срабатывают, поскольку мы их не можем наложить. Но это не
значит, что мы их в принципе не можем наложить, потому что люди хитры и они
постоянно придумывают новые опосредствующие звенья, новые процедуры,
которые дают возможность наложить схему на материал и представить его с
помощью этой схемы. Если мы, например, начинаем сравнивать аристотелевскую
физику и галилеевскую физику, то мы видим, что заслуга Галилея заключалась в
том, что он наплевал на тот факт, что его схему нельзя наложить на эмпирический
материал. И с этого момента, говорим мы, начала развиваться научная физика. А до
этого была аристотелевская физика, которая здорово накладывалась, но мы
говорим: «ненаучная».
– А что значит «наложить схему на материал», каковы критерии
«наложения»?
Я сейчас не взялся бы точно определять это. Мне вполне достаточно, что мы
такую процедуру можем осуществлять.
Что я имею в виду? Поскольку для меня основным является понятие замещения,
о котором буду говорить дальше, то я сейчас под наложением понимаю очень
простую вещь. У нас имеется некоторое явление и описаны в обычном словесном
языке некоторые его проявления. Если это объект, то мы ставим его в отношение к
другим объектам, эмпирически выявляем так называемые свойства или некоторые
зависимости между параметрами и т.д. У нас здесь имеются какие-то схемы знаний, будь то
категориальные или еще какие-то в более частной форме, в форме некоторой математической
функции, заданной в аналитическом виде, и т.д. И мы эмпирические проявления данного объекта
соотносим с этой формой и рассматриваем эту форму как источник этих проявлений, т.е. выводим
эти эмпирические проявления из этой формы.
Если, скажем, у нас имеется некоторая масса газа, то мы выявляем некоторые p
и v и фиксируем в таблице значения v при изменении p. Потом мы пишем формулу
Бойля – Мариотта pv = const и теперь можем те же самые знания получать исходя из
этого соотношения. Такое соотнесение схемы с эмпирически выявленными
значениями я и называю процессом наложения.
–…
Здесь нет никакого метода изучения. Я могу согласиться с тем, что это, может
быть, неудачное слово. Но удача или неудача, на мой взгляд, определяется с точки
зрения той школы, к которой вы привыкли. Слово «стол», видимо, тоже неудачно.
Когда вы говорите «неудача», вы, наверное, понимаете это в логическом смысле. А
для того, чтобы вкладывать какое-то понятие в термин, надо принадлежать к
некоторой школе анализа. Потому что, как правило, общаясь друг с другом, мы
никакого понятия в используемые слова не вкладываем. Это, вероятно, иллюзия,
что для того, чтобы общаться, надо вкладывать в слова какие-то понятия. Наоборот,
в 99% случаев общаются, не вкладывая в слова никаких понятий, и часто при этом
не ошибаются. Мне безразлично описание ли это или изображение и т.п. Мысль моя заключается
в другом.
Я сейчас нахожусь в совершенно другой области – области собственно
методологического рассуждения. Кстати, этот вопрос мы несколько раз обсуждали.
Дело в том, что принцип стихийности, сформулированный Карнапом, а речь идет о
нем, действительно правилен и справедлив в области специальной науки. Одна
задача поставлена относительно нашего объекта одним способом, другая – другим
способом. Все они в равной мере хорошие, хотя и разные, и все отражают этот
объект, хотя часто могут противоречить друг другу.
Неадекватность средств определяется тем, что мы получаем неистинное
изображение. Вот почему я говорю, что нахожусь не в области специальной науки,
а в области методологии. Я как бы знаю – а иначе я не могу вести свое
методологическое рассуждение, – каков этот объект. Я заранее накладываю
некоторое условие. Обратите внимание, как я рассуждаю. Я повторю.
Предположим, наши средства неадекватны. Что это значит? Это значит, что они
дают неадекватное изображение. Представитель специальной науки, я на это
указываю, никогда не знает, адекватны они или нет – для этого нужны специальные
процедуры или историческая практика. Мне этого не нужно. Я говорю:
предположим, они неадекватны. Я это кладу как некоторое условие своей работы.
Посмотрим, что будет дальше. Если мы вообще выкидываем задачу, то тогда,
действительно, любое изображение может трактоваться как адекватное... Это так же
правильно, как земной шар со всеми людьми изобразить в виде точки и считать, что
это изображение адекватно. Здесь мы должны зафиксировать определенную
совокупность задач, из которой вытекают требования к характеру этого
изображения, к средствам его получения, и применение этих средств дает нам
изображение, которое должно быть решением поставленной задачи.
В этих условиях я ввожу сюда еще одно дополнительное предположение.
Зафиксировав эту первую позицию, тождественную позиции естествоиспытателя, я
ввожу сюда вторую, собственно философскую позицию для того, чтобы построить
свое рассуждение, основанное на неадекватности средств.
Почему я могу говорить, что эти средства у меня неадекватны? Потому что я
должен получить в результате, как ответ на вопрос, некоторые другие средства,
которые по условиям будут теми, которые мне нужны и, следовательно,
адекватными. С позиции методолога, который, вроде бы, знает, что собой
представляет структура объекта, я могу наложить на эти исходные средства признак
неадекватности по сравнению со средствами вновь полученными в отношении к
поставленной задаче.
Что такое средства? Средства – это тот аппарат, который дает нам возможность
произвести некоторое расчленение, т.е. двигаться по этому эмпирическому
материалу, каким-то образом обрабатывая его, как по некоторому содержанию – так, чтобы в
результате получить некоторую дискурсивную форму.
– ...
Рассуждение, которое ты проводишь, – некорректно. Оно некорректно потому,
что я сейчас работаю исключительно в функциональной схеме. У меня есть нечто,
что я называю средствами, нечто, что я называю эмпирическим материалом, и
нечто, что я называю изображением.
Ты спрашиваешь, а что это такое – средства, изображения и, скажем,
эмпирический материал, причем, хочешь получить ответ в терминах материального
наполнения.
Возьмем, например, понятие из механики. Не всякая интерпретация корректна.
Если я веду некоторое функциональное рассуждение, задаю некоторую структуру,
где элементы определяются функционально по отношению друг к другу и по
отношению к движению, то заполнять их по отдельности нельзя. Я должен буду эту
схему, если ты хочешь брать механику, накладывать на процесс развития механики
и смотреть... И тогда на разных этапах развития самой механики, в разных разделах
работы с механикой у меня эта самая «тяжелая» точка может оказаться либо в блоке
средств, либо в блоке изображения, в зависимости от того, какое движение я
совершаю. Поэтому попытка интерпретировать эту схему в материальных терминах
будет некорректна.
Таким образом, мы здесь получаем некоторое изображение, которое по нашим
условиям является неадекватным. В чем мы обнаруживаем это? Мы обнаруживаем
это прежде всего в некоторых парадоксах, но, кроме того, и в многочисленных
отклонениях от самого эмпирического материала. То есть мы можем зафиксировать
некоторое проявление эмпирического материала, к которому мы должны были свести эту
объяснительную схему или, скажем, вывести его из нее, но это у нас не получается.
И тогда мы каким-то образом, опять же в словесном языке, по-видимому,
фиксируем эти признаки , которые характеризуют отличия нашего
материала от того изображения (Из), которое было получено с помощью этих
средств (Ср). После того как мы их зафиксировали, мы уже сквозь эту призму
начинаем смотреть не на сами изображения, а на средства, и спрашиваем себя: а что
нам нужно изменить в средствах, для того чтобы схватить эти признаки, чтобы
получить другое изображение (Из), в котором был бы учтен этот набор признаков?
И тогда мы производим изменение этой системы средств, скажем, на Ср.
Произведя это изменение, мы накладываем новые средства на тот же самый
эмпирический материал и получаем новое изображение, Из, которое отличается от
этого эмпирического материала некоторыми моментами и т.д. И мы снова
спрашиваем себя, что нужно изменить в этих средствах, чтобы получить Ср, чтобы
учитывались эти и т.д. Так происходит развитие средств.
Что важно здесь подчеркнуть? Нас совершенно не интересуют эти изображения
эмпирического материала. Они – вспомогательный и побочный продукт, который
при данном способе движения вообще отбрасывается. И к самой
последовательности средств мы можем относиться по-разному. Все зависит от
логических средств, которые мы дополнительно накладываем. Дело в том, что мы
можем, например, к этим средствам тоже относиться как к побочному
предварительному материалу. Если мы из исходных средств получили Ср, а из Ср– Ср,
то каждый раз предшествующий этап мы зачеркиваем. Нас он не будет
интересовать. Но мы можем поставить и некоторые другие требования. Скажем, в
методе восхождения от абстрактного к конкретному ставится дополнительное
логическое требование: мы должны таким образом развертывать сами средства, чтобы каждое
следующее было некоторой конкретизацией того, которое ему предшествовало.
При этом мы можем получить не только линию вот такого развития, мы можем
получить линию, уводящую нас совершенно в сторону, т.е. некоторые средства,
принципиально разрывающие свою преемственную связь с предшествующими им
средствами. Я постараюсь показать, в каком месте нашей работы получился такой
перелом в общей линии развития средств. В каком-то смысле, эту общую линию
развития часто можно рассматривать как психологическую историю исканий
самого исследователя.
Говорят, что нас не интересует, от чего и как приходил исследователь к чему-то
– важно, что он получил. Это в какой-то мере оправдано, поскольку Ср и Ср
являются не чем иным, как вспомогательным материалом, тем, что мы используем в
виде некоторого предварительного инструментария для получения нужного нам
результата.
Когда мы работаем таким образом, то бессмысленно спрашивать, что мы
называем структурой или что мы называем мышлением. Ответ у нас будет один и
тот же: мы называем мышлением то, что сейчас было ухвачено нами в этих
вспомогательных средствах, и то, что на последующих этапах будет выражаться
иначе, в других средствах. Это чисто операциональный ответ: мы называем
мышлением то, с чем мы сейчас работаем.
Обратим внимание на еще один момент в этой процедуре. Мы получали все
новые и новые изображения нашего материала. Эти изображения были для нас
некоторым промежуточным продуктом, который мы обрабатывали особым образом
для развертывания средств. Поэтому, естественно, мы эти изображения каждый раз
выбрасывали. Но затем, когда мы получили, скажем, Ср и считаем их
достаточно удовлетворительными, мы мо жем теперь совершить ту
научно-исследовательскую работу, ради которой велась вся процедура,
и описать с помощью Ср нашу эмпирическую область.
Тогда мы получим некоторое изображение знания, или некоторую знаковую
структуру, которая будет относиться к этому материалу как его изображение.
Пример. Мы можем строить теорию мышления вообще. Так называемая теория
мышления вообще есть не что иное, как набор средств, причем, не совокупность, а
всегда каким-то образом организованная система, которая позволяет нам
анализировать различные явления мышления. Схема мышления вообще не дает
ответа на вопрос, что представляет собой, скажем, механика Галилея или механика
Ньютона как некоторая система знания. Точно так же она не ответит на вопрос, что
представляют собой «Начала» Евклида как первый компендиум геометрии или что
представляют собой «Основания геометрии» Гильберта.
Здесь я хочу напомнить схему науки, которая была нарисована мной в прошлый
раз: цех № 1 и цех № 2. Цех № 1 выдает знания в саму практику. Цех № 2
вырабатывает определенную систему средств. Так называемая теория мышления
вообще при таком подходе является продуктом цеха № 2. Такая теория мышления нужна
только одной группе людей – логикам, для того чтобы они могли работать дальше.
Представителям конкретных наук нужна не теория мышления вообще, а ответ на
вопрос, что представляет собой их частная конкретная теория. Это и есть те
изображения, которые получаются на основе выработанных таким образом средств,
то, что выдается другим наукам.
А то, о чем я говорил, является внутренней работой по разработке средств. Это
замечание важно сделать, поскольку очень часто к теории мышления предъявляют
требования, идущие от специальных наук и обращенные к цеху № 1. Спрашивают,
скажем: что вы нам можете ответить на такой-то вопрос? Не случайно цех № 2 был
нарисован у меня в прошлый раз более крупным, нежели цех № 1: без него
невозможно построить удовлетворительный цех № 1, и он привлекает к себе
больший объем усилий.
Мы занимаемся прежде всего работой по разработке средств логики. При этом
мы применяем челночные процедуры. Мы начинаем с заведомо неадекватных
средств и строим изображения нашего материала. Как видите, на первом этапе мы
получаем не разработку средств, а некоторое изображение, на основании чего
может сложиться иллюзия, что мы уже решили эту задачу и выдали некоторое
представление о материале. Нет. Мы теперь должны, отталкиваясь от различий
между нашим изображением и эмпирическим материалом, вновь вернуться к
средствам и развернуть их дальше. Это и есть цель первого этапа работы. В
дальнейшем я буду обсуждать только его.
– Задан ли нам эмпирический материал в каком-то описании? Если это так, то
наши средства накладываются уже не просто на эмпирический материал, но на
эмпирический материал, заданный в определенных описаниях, т.е. средствах. И
если мы находим, что наши средства оказываются неадекватными, то означает
ли это, что мы должны менять только наши средства, а не средства
эмпирического описания материала?
Мне сейчас важна была только схема, и я не входил ни в какие детали. Но если
говорить подробно, то надо сказать, что очень часто, проделывая такого рода
работу, мы и эмпирический материал перегруппировываем, причем, новые
группировки должны быть подобраны таким образом, чтобы соответствовать
нашим схемам и средствам. Делаем мы это на основании специального анализа
эмпирического материала и исходя из особых соображений.
Заканчивая этот методический кусок, я хочу подчеркнуть один момент, который
нам понадобится в дальнейшем. Мы имеем набор средств, соотносим его с
эмпирическим материалом и в этой связи производим новое развертывание средств.
Развертывание средств может идти по нескольким линиям. В одной линии все
средства лежат в рамках одного предмета. Когда я говорю «в рамках одного
предмета», то я фиксирую отношение между исходными средствами и всеми
другими средствами, которые при этом развертываются. Это отношение и задает
единство предмета. Например, Маркс развертывает схему «Т – Т» в «Т – Д – Т», а
затем добавляет туда, казалось бы, совершенно чуждое образование – «рабочую
силу». Но Маркс при этом остается в рамках одного предмета, ибо Маркс
специально показывает, почему и в каких условиях рабочая сила может
рассматриваться как товар.
Лет десять назад Мамардашвили обратил внимание на то, что посредине
первого тома «Капитала» метод Маркса резко меняется: Маркс перестает
пользоваться своими схемами и переходит на другой язык и к другому типу
анализа. В чем заключается изменение метода Маркса, Мамардашвили не описал, а
позже никто этим не занимался.
Есть другая линия развертывания средств, когда мы используем средства из
нашего первого предмета для того, чтобы рядом развертывать другой предмет.
Особенность развертывания второго предмета заключается в том, что мы не можем
делать этого, не пользуясь схемами из первого предмета. Кстати, М.И.Подгорецкий
в своем выступлении в Дубне имел в виду, по-видимому, аналогичные явления,
когда он говорил о параллельном и взаимосвязанном развертывании двух
предметов микрофизики, основывающихся на определенных макропонятиях и
исходящих из эталонов длины и времени макромира. Случай Подгорецкого еще
надо исследовать, но мне важно подчеркнуть, что не только в логике имеет место
такого рода отношение.
Наконец, может иметь место третья линия развертывания средств, когда мы,
используя средства из нашего первого предмета, строим какие-то другие средства,
которые не будут иметь ничего общего с первым предметом, т.е. связь между этими
средствами и между этими предметами будет чисто историческая. Между этими
двумя предметами мы должны провести жирную красную черту, и если встанет
необходимость, то поставить вопрос о конфигурировании. Во втором случае, когда
мы имеем построение предмета-2 на базе и в связи с предметом-1, то, как правило,
вопрос о конфигурировании не встает.
Рассказывая о методе нашей работы, я хочу сказать, что мы еще недостаточно
четко представляем себе его детали, мы хотим представить себе его механизм
значительно лучше. В частности, мы уже ставили вопрос об отношении схем и
эмпирического материала – мы явно плохо представляем себе сейчас это
отношение. Другие вопросы: как зависит группировка материала от исходных
средств, каковы границы перегруппировки эмпирического материала, как сам
эмпирический материал влияет на разработку средств и т.д.?
Закончив методическую часть, я перехожу к исходным идеям содержательногенетической логики. Содержательно-генетическая логика появилась в 1951–1952
гг. в работах А.А.Зиновьева. Материалом его исследования являлся «Капитал»
Маркса, который рассматривался как образцовое произведение, как образцовый
пример построения большой сложной системы, и поэтому предполагалось, что
анализ этого произведения даст нам представление об истинном способе движения.
Такой подход должен необходимо приниматься по отношению к некоторым
произведениям науки, когда мы приступает к логическому анализу.
Какие принципы положил Зиновьев в основании своего анализа?
Первый принцип: должны анализироваться не продукты мыслительной работы,
знания, а прежде всего мыслительная деятельность – что для него было
тождественно процессам. Считалось, что деятельность и процесс – одно и то же.
Этот тезис нельзя понимать таким образом, что Зиновьев отвергал анализ знания.
Напротив, фактически, он хотел проанализировать некоторое знание, но он
утверждал, что понять строение знания как некоторого продукта нельзя, не
анализируя приводящую к нему деятельность. Поэтому центр тяжести исследования
переносился на процессы, а знание должно было анализироваться вторым ходом, с
учетом порождающей его деятельности.
Второй принцип. Зиновьев выдвинул подход, который бы мы теперь назвали
технологическим. То есть анализ должен был выдать такие знания, которые не просто дают нам
картинку действительности, но могут быть использованы как средства методологии
науки при построении других наук. Предполагалось, что анализ системы знания,
представленной в «Капитале», даст некоторое предписание биологам, химикам и т.д.
Третий принцип. Утверждалось, что мышление развивается не только по
содержанию, охватывая все новые и новые области действительности, но прежде
всего по своей технологии, по приемам и способам мышления. Только развитие
техники мышления позволяет раскрывать в действительности новые стороны.
Поэтому теория мышления могла быть только исторической. Это означало, что
сначала нужно раскрыть ранние ступени мышления, затем показать их усложнение
и появление новых образований и так двигаться постепенно, не важно – снизу вверх
или сверху вниз, но всегда помня, что происходит усложнение структур мышления.
Этот принцип накладывал определенные требования на характер конечного
продукта – как и само мышление, теория мышления должна быть исторической, т.е.
показывать генезис, или смену форм.
Четвертый принцип. Зиновьев задал совершенно новое понимание категории
«форма – содержание», отличное от кантовского и формально-логического.
Полемизируя с существовавшими тогда направлениями так называемой
диалектической логики, он утверждал, что не может быть бесформенной логики,
т.е. логики, анализирующей содержание безотносительно к форме. Точно так же он
утверждал, что не может быть анализа формы, который бы не был вместе с тем
анализом содержания. Он задавал функциональное определение этих понятий:
форма – это то, в чем выражается содержание, а содержание – это то, что
выражается в форме.
Когда я говорю, что это функциональное определение, то тем самым я
подчеркиваю, что здесь не действует формально-логическое требование не делать
круг в определении. Тогда же Зиновьев показал, что в любом функциональном
образовании, где мы имеем структуру из двух элементов, определения обязательно
даются через отношение одного к другому. Такое понимание «формы –
содержания» было близко Марксовому пониманию форм выражения стоимости. В
то время Зиновьев, как правило, говорил, что форма выражает содержание, а
содержание выражается в форме.
Пятый принцип. Зиновьев считал, что объектом логического анализа должны
быть тексты, в частности, он анализировал текст «Капитала». Но в 1951–1952 гг. не
обсуждалось, что такое текст и в чем состоят эмпирические процедуры его анализа.
В каком-то смысле этот принцип был чисто голословным, так как реального анализа
текста в работах Зиновьева, как это было показано позднее, не было.
Шестой принцип. У Зиновьева было особое понимание диалектической логики,
которое было выражено, в частности, в 1957 году в рецензии на книгу Розенталя «О
диалектике в «Капитале» Маркса». Я уже сказал, что Зиновьев выступал против
диалектической логики как занимающейся анализом содержания безотносительно к
форме – причем, под формой понимают то, что под ней понимают в плохой
формальной логике. Вместо такого деления Зиновьев предлагал исходить при
членении логики не из того, что мышление расчленяется на свои части, а из
исторического принципа. Если мышление развивается и усложняется и сначала
было какое-то до-диалектическое мышление, а потом появляется диалектическое
как более сложная форма, то он предлагал и логику, представленную исторически,
членить по ее генетическим формам: будет некоторая большая общая логика,
построенная на выше сформулированных единых принципах, а тот ее раздел,
который изображает и описывает диалектическое мышление, будет называться
диалектической логикой.
На вопрос же о том, в чем заключается специфика диалектической логики,
Зиновьев отвечал, что она исследует диалектическое мышление, представляющее
объекты в виде систем и структур, причем структур развивающихся. С его точки
зрения, любое мышление, репрезентирующее системы и структуры, предполагает
особую технологию, а описание в науке особых приемов и способов
воспроизведения систем и структур и будет диалектической логикой, составляющей
часть логики вообще.
Из вышеперечисленных принципов легко углядеть отношение Зиновьева к
формальной логике – он считал ее нонсенсом. Но это нонсенс в некотором узком
смысле: не как система правил, обеспечивающих построение некоторых
рассуждений, не как система, утверждающая существование суждений и
умозаключений, а как система неадекватных средств, с помощью которых пытались
анализировать мышление. То есть утверждалось, что средства формальной логики
не накладываются на такую действительность, как мышление. Является глубоким
заблуждением думать, что существуют такие образования, как понятия, суждения и
умозаключения. К сожалению, это еще не стало общепонятным. Признание
существования таких вещей вызвано особенностью нашего мышления. Поскольку
все наши понятия являются идеальными объектами, поскольку мы привыкли жить
рядом с этими объектами и считаем их реальностью, т.е. видим сквозь их призму
действительность, а действительность, напротив, предстает в форме наших понятий,
то вполне естественно, что и духов мы должны считать существующими. Людям,
которые жили в XV и XVII веках, было ясно, что духи существуют и окружают их.
Зиновьев отвергал формальную логику именно как такой аппарат понятий.
К рассказанному мной я должен добавить еще один момент. По-видимому, всю
историю науки можно представить следующим образом: это задание некоторой
системы средств для описания определенной области действительности и
последующее развертывание этой системы средств в направлении их приближения
к описанию действительности. Здесь мы пользуемся методом последовательных
представлений. Ясно, что при достаточной длине этой цепи характер конечного
продукта в очень малой степени зависит от характера исходных средств: мы таким
образом видоизменяем наши первичные средства, что они очень значительно отклоняются от своего
первого состояния. Но это не всегда так, и поэтому в истории науки в какие-то периоды происходят
резкие переломы, когда отбрасывается традиция и все начинают сначала.
Это делается не потому, что конечные средства недостаточно точно описывают
мир. Дело в том, что и физика Аристотеля достаточно точно описывает мир,
который существовал в то время. Это можно сказать и об алхимии. Математика,
построенная на принципе исчерпывания, тоже описывала мир не менее точно, чем
математика, пользующаяся интегрально-дифференциальным исчислением. Но
старые формы были очень громоздки, ими было трудно пользоваться, и именно
поэтому, а не из-за того, что они неадекватно изображали мир, эти формы были
отброшены.
Такой перелом, в частности, произошел в механике Галилея; он отбросил
двухтысячелетнюю традицию и начал строить новую механику на других
представлениях. Сейчас мы, вероятно, находимся в таком же положении в физике
микромира: мы пытаемся ухватить новые явления с помощью старого набора
средств. Хотя, наверное, давно пора от этого отказаться.
Точно так же Зиновьев считал, что набор средств формальной логики должен
быть отброшен в том смысле, что нельзя строить теорию мышления, исходя из
старых средств. Тех, кто желает ознакомиться с этим кругом вопросов, я отсылаю к
диссертации Зиновьева, к диссертации и книге Грушина «Очерки логики
исторического исследования», к диссертации и статьям Мамардашвили, в которых
было выражено отношение содержательно-генетической логики к гегелевским
идеям, к моей диссертации, в которой обсуждаются исходные принципы
содержательно-генетической логики и их отношение к идеям формальной логики, и,
наконец, к машинописным текстам дискуссий тех лет.
Логика, которую намеревались строить на базе этих исходных принципов, и
трактовалась как логика науки, или историческая логика мышления,
ориентированная с самого начала на задачи методологии науки. Но, как вы увидите
в дальнейшем, в этот период еще не было расчленения на логику науки и логику
научного исследования.
В этот период, который тянется до 1958 года, мы никак не относились к
противопоставлению психологизма и антипсихологизма. Этот круг проблем никак
не обсуждался. Поэтому наши представления об объекте, его онтологическая
картинка были весьма и весьма ограничены. Позднее мы подробнее остановимся на
этом круге вопросов.
Свое дальнейшее изложение я посвящу главным образом четвертому и пятому
принципам – я буду обсуждать новое понимание категорий формы и содержания и
отношение этих принципов к материалу исследования.
Имелся определенный текст. Считалось, что понимая некоторый язык, мы
всегда можем ответить на вопрос, текст это или не текст, а, скажем, орнамент. Итак,
был текст, к которому, с одной стороны, подходили с точки зрения категорий
формы и содержания, а с другой стороны, было требование рассматривать его как
процесс. Оказалось, что в этом уже заложено множество противоречий, которые
повлекли за собой при дальнейшей разработке целый ряд новых результатов. Но во
многом анализ, построенный на понятиях формы и содержания, и анализ,
построенный на понятии процесса, развивались независимо друг от друга,
взаимодействуя лишь в определенных точках.
Для того чтобы проследить за ходом развития этих идей, я их разведу и буду
рассматривать по отдельности. Особо буду фиксировать те места, где они
оказывали влияние друг на друга. Хотя реальный анализ шел параллельно, и тогда
часто не отдавали себе отчета в том, в каком русле и за счет чего был получен тот
или иной результат.
Я начну рассмотрение с категорий формы и содержания и покажу, к чему
привело опрокидывание их на текст. Здесь мне прежде всего придется остановиться
на том, что я называю основным противоречием метода формальной логики. А
обобщая этот принцип, я могу сказать, что это основное противоречие всех наук,
изучавших знак.
В чем же заключается это противоречие? Пусть перед нами какой-то знаковый
материал, скажем, «стол», «дом» и т.д. Как работает исследователь с текстом такого
рода? Прежде всего он понимает этот текст, и только в силу понимания можно
сказать, что данное образование является текстом. Непонятое не является текстом, а
в лучшем случае – некоторым орнаментом. Понимание текста означает, что
исследователь увидел за ним то, что называют смыслом.
Что такое «понял» и что такое «смысл», я не знаю. Но так обычно говорят, и я
принимаю сейчас эту терминологию. Мне важно, что исследователь понял текст, а это
значит – он увидел не просто крючочки, а некоторый смысл, лежащий за ними. Если
мне по поводу некоторого материала, который выступает для меня как орнамент,
скажут, что это чужая письменность, то я могу в это поверить и буду считать, что за
этим орнаментом лежит некоторый смысл.
Отнесемся ко всему этому с точки зрения категории формы и содержания.
Зиновьев утверждал, что в этом понимаемом тексте должно было быть обнаружено
как нечто, что характеризуется как форма, так и нечто, что характеризуется как
содержание. Эта мысль не была новой. Всегда так именно и ставили вопрос: мы
смотрели на текст, видели за его графикой некоторый смысл и относили это какимто образом к объектам.
Таким образом, в понимание и смысл вкладывались две компоненты, которые теперь разводят
как обозначение и выражение. В треугольнике Огдена материал знака, с одной стороны, связывают с
денотатом, а с другой стороны, с концептом, или значением, т.е. с тем, что выражается. Такое
расчленение по схеме треугольника существует в теории, но с ним никто и никогда не работает.
Этим нельзя пользоваться: если под смыслом понимать денотат, или некоторую вещь, то такое
понимание очень быстро приходится отбросить, так как смысл не есть обозначаемая
действительность; если под ним понимать концепт, или значение, в смысле Огдена, то это тот же
самый смысл, только объективированный – что такое концепт, никто не знает, и объективных
методов анализа его не существует. Концепт, или понятие, нами понимается, и по пониманию мы
его постулируем. Но его объективного анализа мы дать не можем.
Но тогда возникает вопрос: как мы можем разводить текст на форму и
содержание – что мы должны поместить в содержание? Кроме того, возникает
вопрос: что мы анализируем, когда анализируем структуру этого текста – форму
или содержание? Иначе, анализируем ли мы графику текста или смысл, который за
ней скрывается?
Мне важно подчеркнуть, что при традиционном понимании текста применить
зиновьевские категории формы и содержания в анализе текста невозможно.
Требование применить эти категории входило в противоречие со всеми старыми
методами, принятыми в науках о знаке. При подходе к текстам, основанном на понимании,
нельзя было развести форму как обладающую некоторой структурой и содержание, которое
выражается в этой форме и обладает своей структурой.
Различение формы и содержания есть уже у Демокрита, и на нем играют все
последующие исследователи. Но возникает вопрос: каким образом задается смысл?
Отвечают, что смысл задается по пониманию. Другими словами, в содержание
подставляется факт понимания текста, понимание содержания выдается за знание
содержания, знание некоторого содержания выдается за содержание знания.
Произнося слово «стол», вы понимаете смысл этого термина. Внешне, материально вы имеете дело
со знаковой формой, которую вы понимаете. Это основной момент, который задавал как
интроспекционистский подход в психологии и логике, так и его обратную сторону – интроекцию.
Мне важно сейчас подчеркнуть именно интроекцию – то, что я вижу и понимаю, выдается за
некоторое сущее, существующее. Так, как будто оно существует и я могу глядеть на него, помимо
знакового материала.
– А чем это плохо?
Это отвратительно, поскольку это обман. Мы думаем, что существует стол, хотя
стол существует не в большей мере, чем энергия, или не в большей мере, чем
теплород, и не в большей мере, чем черти. Стоит вам сказать, что нет чертей, как
вам придется сказать, что нет энергии.
В чем же, таким образом, заключается основное противоречие? Мы прежде
всего понимаем знаки. Когда мы их поняли, то они, вроде бы, остаются теми же
самыми, представленными в материальной форме. И дальше мы думаем, что со
знаками можно работать так же, как работают с кусками металла – расчленять их,
применять формально-трансформационные методы или еще что-то делать, т.е.
думаем, что можно производить объективные процедуры со знаками.
Но уже стоики и Александр Афродизийский знали, что мы работаем со
смыслом и членим, фактически, смысл. Вообще, форма текста не существует вне
смысла. А Зиновьев требовал, чтобы мы представили все это как форму и
содержание, т.е. развели два образования. Он выдвигал такое требование, несмотря
на прекрасное знание описанной мной истории. Но он был прав, и в этом была его
величайшая заслуга. Мне важно подчеркнуть, что это требование задавалось
вопреки общепринятому взгляду на текст и на способы работы с ним.
Этот момент – самый сложный и принципиальный из всего того, что я сейчас
обсуждаю. Все остальное будет развертываться на основе этого. Поэтому мне
придется то же самое проиграть еще раз. Представьте себе, что на вас одеты очки и
вы смотрите сквозь них, при этом вы не видите очков, хотя вы смотрите через них.
Точно так же, когда вы читаете текст, то он выступает для вас как очки: вы не
видите, что там есть закорючки и следы мела, вы видите тот смысл, в котором
движетесь. Хотя вы глядите, конечно, на текст.
Поэтому Александр Афродизийский говорил, что схема силлогизма строится не
по материалу текста, а по его смыслу. Он приводил в качестве примера известное
умозаключение о смертности Сократа. Если вы будете глядеть на форму, то четко
увидите учетверение терминов «человек» и «люди». Но тем не менее вы
производите умозаключение, поскольку эти два термина по смыслу тождественны.
Отсюда следует основной принцип формальных логиков, применяемый к анализу
текстов. Вы смотрите на текст и знаете, что есть форма и смысл. Но вы не можете
работать со смыслом отдельно от формы и обратно. И мы членим осмысленную
форму по ее структуре. При этом ясно, что членения в форме и членения в смысле
будут абсолютно одинаковыми, изоморфными друг другу – ведь, фактически, мы
членим одно, осмысленную форму или оформленный смысл. В самом тексте, т.е. в
материале, задаются такие различения, которые служат средством выделения
единиц в плоскости содержания. Здесь происходит то же самое, что спустя много
времени вторично открыла фонология со своими дифференциальными признаками:
совокупность дифференциальных признаков и создает смыслоразличительную
форму. Речь не шла о членении материала, но интересовались в первую очередь
содержанием и смыслом.
Заметьте, что в отличие от материала, я дал функциональное определение
формы. Форма – это некоторое пустое место, которое заполняется. И если материал
можно членить – скажем, я могу разрезать буквы пополам и т.д., – то говорить о
подобном членении формы бессмысленно.
Таким образом, я хочу различить для вас две разные позиции. Одна,
фактически, рассматривает текст как некоторое единое образование осмысленной
формы или оформленного содержания; диады формы и содержания здесь не
получается. Хотя, тем не менее, здесь постоянно говорят о смысле и о форме,
которая отличается от смысла. С моей точки зрения, отказ от такой диады является
правильным, но тем не менее в логике, в лингвистике и психологии нет ни одной
школы, которая бы не проводила такого членения. Вся разница между этими
школами заключалась в том, что одни из них членили на диады, а другие на триады,
как Огден. Существует единственная школа, которая сначала отказалась от этой
позиции – последователи Витгенштейна-2, или школы лингвистического анализа, –
но, испытав трудности в своей работе, они, фактически, снова протащили это
членение. Я готов согласиться с тем, что не должно быть диадического членения. С
другой стороны, Зиновьев требовал такого членения. Дальше я постараюсь показать, почему
Зиновьев был прав.
Генисаретский О.И.. На каком основании докладчик извращает понимание
Зиновьева? Для него форма это объективное отношение, в котором выражается
другое отношение. Тем самым сюда вкладывался весь тот смысл, который
задавался философской традицией. В свою очередь это вело к особому анализу
текста, поскольку работа с отношениями имела свои основания по употреблению.
Это замечание почти правильно, за исключением двух деталей. Дело в том, что
у Зиновьева имеется по крайней мере два определения, и каноническим было
объявлено определение, выбрасывающее момент отношения. Добавка отношения, о
которой говорит Генисаретский, сводится к следующему. Зиновьевское различение
формы и содержания исторически восходит к Канту. По Канту форма есть
некоторая структура, или связи, которые охватывают многообразие содержания. По
Канту формой в анализируемом тексте была бы связка типа X – Y, а содержанием
были бы те постоянные, которые подставляются на место данных переменных.
Другими словами, форма по Канту задавалась как связь между двумя пустыми
местами, а в качестве содержания выступало то, что подставлялось на эти пустые
места. Форма есть некоторая структура, а содержание есть элементы.
Зиновьев, используя Марксово выражение «форма выражения», стал говорить
иначе: содержание не является элементом, напротив, сама связка является, вместе
со своим материальным наполнением, формой, а в качестве содержания выступает
другая связка, или другое отношение, вместе со своими элементами.
Но Зиновьеву было указано, что если мы рассматриваем такую связку, то мы
точно так же должны фиксировать ту связку, с которой первая находится в
отношении. Ему нужно было так ввести понятие формы и содержания, чтобы снять
разделение на форму и смысл. Следовательно, он считал, что должны быть сняты
такие понятия, как «выражение», «обозначение» и т.д. В этом состояла задача
введения понятий формы и содержания. Но если так, то ни в коем случае нельзя
было ограничиться такими отношениями. Когда же брались длинные цепи
отношений форм и длинные цепи отношений содержаний, то они, в свою очередь,
затем свертывались, и получалось некоторое простое функциональное отношение
формы и содержания. И именно поэтому каноническим определением формы
является то, что это нечто, в чем выражается содержание, и каноническим
определением содержания является то, что это нечто, что выражается в форме.
Дополнительный признак отношения здесь снимается.
Мне важно подчеркнуть, что при традиционном формально-логическом
подходе к членению текстов, мы, фактически, задаем изоморфизм формы и
содержания. Плоскости формы и содержания могут быть сплющены в одно. Нас
всегда интересуют в этом случае отношения между элементами таким образом
полученного целого, и нас абсолютно не интересуют отношения между формой и
содержанием каждой такой единицы. Формальная логика получила право на
существование, отдельное от гносеологии, только за счет этой
процедуры, или того , что мы называем принципом параллелизма.
Без этого принципа формальная логика не имела бы права вообще
существовать. На сегодня показано, что таких границ, где действует этот принцип
не существует, т.е. нет ни одного явления, где бы структура формы соответствовала
структуре содержания. Больше того, если бы такие явления где-либо существовали,
то не нужна была бы форма. Знак вообще появляется для того, чтобы выражать
нечто в совершенно другой структуре. Поэтому, если принять тот тезис, что
формальная логика действует везде, где действует принцип параллелизма, то мы
должны были бы признать, что формальная логика не имеет права на
существование. Но я не могу говорить о том, что формальная логика не имеет права
на существование, поскольку я признаю существование чертей. Мне не нужны
такого рода посылки.
Я считаю, что формальная логика существует, поскольку люди задают такую
абстракцию и с помощью нее решают целый ряд задач. В частности, что бы мы
сейчас делали с системами АТС, если бы не было формальной логики? Но важно,
что принцип параллелизма был в свое время задан, и он определил всю
последующую историю формальной логики. Хотя рядом, в неформальных разделах
логики постоянно шли горячие споры: что такое смысл и в чем сущность
отношения обозначения?
Одни говорили, что в качестве обозначаемых выступают вещи, другие
говорили, что это идеальные объекты (Платон), третьи, после Абеляра, говорили,
что это концепты, заложенные в голове. Милль по этому поводу замечает: кем бы ни был
логик по своим философским воззрениям – номиналистом, реалистом или концептуалистом, – но
все признают одинаковую логическую технику и придерживаются одной формальной логики. Дело
в том, что абсолютно безразлично, как вы затем интерпретируете изображаемую в формальной
логике плоскость – как плоскость вещей, как плоскость идей или как плоскость концептов; важно,
что эта интерпретационная плоскость должна точно соответствовать вашей структуре языка.
Поэтому Витгенштейн-1 уверенно заявляет, что мир имеет структуру языка.
Идеология логического атомизма есть единственно возможная идеология формальной
логики, которая исходит из принципа соответствия обозначающего и обозначаемого. Интересно
заметить, что точка зрения параллелизма всегда ведет к объективному идеализму, который может
принимать при этом разные формы. Так, объективный идеализм может принимать форму реализма,
утверждающего, что существует мир, точно соответствующий структуре языка. Почему-то такое
направление иногда называют материализмом.
Повторяю, что требования Зиновьева привнести в анализ категорию формы и
содержания абсолютно не соответствовали ни практике подхода к текстам, ни тому,
что тексты нам эмпирически обнаруживали. Это было внешним и априорным
требованием. Ведь реально нет этой диады формы и смысла, а есть один
осмысленный текст, который мы понимаем. Но когда текст дробят на отрезки, то
возникает вопрос: каким образом работает здесь логик, как работают лингвист и
психолог? Они работают, мистифицируя себя и других. Они понимают этот текст,
т.е. начинают двигаться в сфере лежащего за ним смысла. Почему можно
рассматривать «широколиственные растения» как один термин? Только на
основании того, что мы понимаем, что речь здесь идет об одной вещи, об одном
растении. Мы понимаем, что нет отдельно «широколиственных» и «растений» как
двух разных вещей. И так называемые родовидовые отношения накладываются не
на следы мела, а на сферу смысла. Ясно, что родовидовые отношения нигде не
существуют. Но мы думаем, что таким образом организована система смысла.
– Но если мы, в свою очередь, даем функциональное определение формы и
содержания, т.е. ставим в соответствие каждой форме определенное
содержание и наоборот, то мы тем самым неизбежно подходим к идее
изоморфизма!
Этого не происходит. Я могу задать функциональное отношение между двумя
ячейками и сказать, что все то, что заполняет одну ячейку, является формой, а
заполняющее другую ячейку – содержанием. Если бы мы могли работать с обоими
наполнителями ячеек, как с вещами, то мы один раз смогли бы расчленить данный
текст как структуру формы, а другой раз – и по-другому понять его – как структуру
содержания. И несмотря на то, что одно выступало бы как форма, а другое – как содержание, они,
тем не менее, обладали бы разной структурой. Но, к сожалению, дело заключается в том, что
применить такую процедуру разложения к тексту нельзя, потому что ни формы, ни содержания нет
как отдельных вещей.
Таким образом, противоречие формальной логики заключалось в том, что
любой текст сначала понимался, знаки всегда рассматривались как понимаемые,
обладающие смыслом, но при этом думали, что знак является некоторым объектом,
поскольку у него есть материал. Думали, что, анализируя и членя этот материал,
можно анализировать и членить знак и работать тем самым каким-то образом со
сферой смысла. Эта точка зрения в наиболее явном виде была сформулирована
Гильбертом, менее видным ее последователем являлся на определенных этапах
Ревзин. Полагалось, что можно найти структуру знаков, ведя такой чисто
материальный анализ. Для того чтобы обосновать такой подход, формулировался
принцип параллелизма. И вся формальная логика построена на базе этого принципа.
Когда Зиновьев потребовал подходить к тексту с точки зрения диадного
отношения формы и содержания, то он предъявил требование, которому
эмпирический материал не удовлетворял. Тем самым Зиновьев выскочил из того
заколдованного круга, где до сих пор находилась формальная логика, получил
мощнейшее средство для анализа языковых текстов и впервые в истории науки
получил ход к анализу того, что мы называем мышлением.
Зиновьев потребовал рассматривать текст с точки зрения категории формы и
содержания и перестать анализировать его как некоторое целое, понимаемое, или
осмысленное, образование. По смыслу это эквивалентно утверждению Галилея о
том, что любое тело падает на землю с одинаковым ускорением, независимо от его
веса. Галилей в такой же мере наплевал на эмпирический материал, как и Зиновьев.
До Галилея прекрасно знали, что тела не падают с одинаковым ускорением, они
падают тем быстрее, чем тяжелее. С этого момента началась действительная наука
механика.
Отойдя от принципа параллелизма, Зиновьев впервые получил выражение сути
мышления, вопреки всему тому, что давал эмпирический материал. А те, кто принял
его утверждения, получили некоторое средство для анализа мышления, которое и
развертывалось дальше. Причем, насколько этот ход противоречит здравому
смыслу, всему тому, что мы видим реально, я увидел несколько недель назад,
обсуждая этот вопрос в редакции «Философской энциклопедии».
Представьте себе, что мы смотрим вокруг и каждый из вас отчетливо видит
сидящих, окружающих вас, людей. При этом мы не видим тех лучей света, которые,
в числе прочего, определяют механизм нашего видения. И поэтому мы можем
говорить о том, что мы видим, но мы никогда не можем говорить о том, как мы
видим. А введя эту диаду – содержание и форма – Зиновьев впервые получил
возможность встать в совершенно другую позицию и начать смотреть на свое и
чужое понимание не только с точки зрения того, что при этом понимании видно, а
еще и с точки зрения того, в чем состоит механизм этого видения. То есть он, задав
эту структуру, получил возможность смотреть на механизм мышления, а не только
на его содержание или функцию. Он впервые задал отношение механизма, т.е.
поставил вопрос «как?».
Теперь два замечания.
Первое. Задав отношение, которое мы в дальнейшем стали называть
отношением замещения объективного содержания знаковой формой, мы положили
начало содержательно-генетической логике и развертыванию всех ее схем.
Сразу же уточню. Сама по себе эта схема появилась не в 1952 году, когда
Зиновьев сформулировал свой принцип, а через четыре года, в 1956 году.
Второе. Зиновьев не говорил о замещении, а говорил о выражении. Понятие
замещения тоже появилось в 1956 году. Я потом расскажу, как оно появилось,
потому что мне это будет нужно, чтобы показать допущенные при этом ошибки.
Когда оно появилось и его начали анализировать, то оказалось, что, в общем-то, все
это давным-давно знали. Платон уже знал, Демокрит, по-видимому, тоже, а
Аристотель знал наверняка и обсуждал.
Но интересно, что в литературе я ни разу не встречал такой схемы, такого
рисунка – а я специально занимаюсь соответствующими поисками,– рисунка с
изображением формы и содержания или, скажем, не схемы «форма и содержание»,
а такой же схемы с другим заполнением, например, «обозначающее и
обозначаемое», – как задающей некоторую действительность. И вот это меня до сих
пор потрясает и удивляет. По смыслу об этом говорили давным-давно, но чего
стоило взять и нарисовать это! Сейчас, проделав всю работу – когда мы уже знаем, что нам
дал этот рисунок, когда мы знаем, как много это дает и каким переворотом это
является в способах работы и вообще понимания, – после всего этого
мы спрашиваем: почему это не нарисовали давным -давно?
Сейчас я могу сказать, что такое изображение открывает гигантские
познавательные возможности – и я это покажу, – наподобие того, как при
сопоставлении арифметических алгоритмов решений задач кто-то из арабов ввел
буквенные обозначения. С этого момента появилась алгебра. Введение этих
буквенных обозначений и меток при сопоставлении рядов арифметических
алгоритмов дало гигантские возможности для развития математики. Декарт,
например, очень удивлялся в своих «Рассуждениях о методе» тому, что любую
величину можно изображать в виде отрезка, и считал, что он сделал величайшее
открытие. Он говорил, что это ключ ко всем новым наукам.
Так же и здесь. Когда меня спрашивают, что это дает, то, наверное, ответ
должен быть такой: такое изображение задает нам новую действительность
совершенно необычного типа, а именно действительность как единую структуру. И
эта структура, по-видимому, предполагает свою особую логику работы с ней.
Когда Декарт говорит, что любую величину можно представить в виде отрезка,
– это великий ход. Почему это великий ход? Потому что, представив ее в виде
отрезка, мы получаем возможность оперировать с ней особым образом – так, как не
могли работать ни с числом, ни с буквенным выражением. Например, мы можем эту
величину как отрезок вставить внутрь фигуры, скажем, внутрь треугольника в виде
высоты или в виде биссектрисы и т.п., и создать тем самым новые возможности.
Точно так же, как у древних представление квадратной величины было великим
шагом, потому что оно давало возможность решать геометрические задачи особым
путем, задавая особый способ оперирования.
Так же и тут. Видимо, задание этой структуры открывает перед нами
возможность новых способов оперирования с этой действительностью. Каких
способов оперирования? Мы можем ее взять как целое и заместить одной
единичкой, а потом мы можем ее разложить и оторвать от нее верх и с ним
оперировать, а потом сказать, что, оперируя с верхом, мы оперировали с ней со
всей, или, оперируя с верхом по законам его структуры, потом сказать, что мы
оперировали с низом, поскольку низ есть ее содержание. А так как здесь разные
структуры, то мы можем к знаковой форме применить такой способ оперирования,
соответствующий ее структуре, который нельзя было применить к содержанию,
поскольку оно обладало другой структурой. А поскольку это только форма этого
содержания, мы можем потом сказать, что все то, что мы получили, оперируя с
формой, можно отнести к содержанию на основе связи замещения, а потом собрать
их вместе и опять оперировать с чем-то одним.
Перед нами открываются совершенно новые оперативные возможности. И, повидимому, успех в работе был достигнут на базе этой формулы потому, что мы не
ограничились этой схемой, а задали целый ряд совершенно новых способов
оперирования с нею – скажем, конструирование из нее длинных цепей, собирание
каких-то больших отрезков, переход от низа к верху и работа отдельно с верхом, –
которые позволили нам моделировать.
Пусть сейчас непонятно, насколько это было адекватно (это другой вопрос),
чего удалось достигнуть и т.д. Но наши оперативные возможности были
исключительно расширены за счет введения этого особого объекта с особыми
формами работы с ним. И, следовательно, мы, по-видимому, как-то сумели
некоторые способы этого оперирования построить. Поэтому для меня обсуждение
этого предмета, называемого мышлением и представленного в этих схемах, можно
свести к обсуждению прежде всего такого вопроса: а какие способы оперирования
при этом появились и были развиты и действительно ли мы на этой базе так развили
все возможные способы оперирования? И отсюда совершенно ясна параллель к
более общей категориальной постановке вопроса о структурных методах.
Почему все это развертывалось дальше параллельно и почему наши семинары
называются семинарами по методам, или методологии, структурно-системного
исследования? Потому что уже и здесь, и дальше в другом материале мы встали
перед проблемами: а каковы же правила работы с такими изображениями и какие
возможности этот новый язык перед нами открывает? И сейчас, для того чтобы
оценить этот предмет и его возможности, мы должны, очевидно, проанализировать
не само это изображение (в этом случае вопрос «ну и что?» вполне законен), а все
оперативные возможности, которые с ним связаны.
Здесь возникает вопрос: насколько развитые здесь способы оперирования
давали нам возможность проникнуть в тайны самого мышления? Отвечая на этот
вопрос, я говорю, что, когда Зиновьев задал эту схему категории «форма –
содержание», когда потом, через четыре года, она приобрела структурную форму,
тогда мы получили первый ход для проникновения в тайны механизмов самого
мышления, а не только возможность понимать, что зафиксировано в тексте и
линейно членить этот осмысленный текст.
Сформулировав таким образом категорию формы и содержания,
Зиновьев, по -видимому, не понял тех возможностей, которые открывала
сама структурная форма. Больше того, он в 1959 году в печати
выступил против нее и оценил ее как ошибочную и не открывающую
каких-либо новых перспектив перед логикой. Хотя я взялся бы показать
– частично я это уже сделал в печати, – что он вынужден все время
пользоваться этой схе мой, хотя и не в ее точном графическом
выражении. Он достигает того же самого результата за счет двух
приемов (я имею в виду его работу 1959 года «Логический анализ
знаний о связи»). Во -первых, он вводит два способа изображения:
некоторое Qa – предикат (Q) и объект (a) – и Qa в кавычках («Qa»). Во вторых, он, рассматривая процессы формирования некоторых знаний,
постулирует тождество знаковой формы и объективного содержания,
подтягивая смысл под знаковую форму.
То есть, фактически, введя эту категорию, он соединяет два способа
рассмотрения: заданный этой категорией и заданный старым способом понимания,
т.е. видения смысла текста через структуру смысла его формы. И благодаря этому
он получает возможность, фактически, вводить ее, с ней работать и затем ее
элиминировать. Но, как сейчас уже выяснилось (я надеюсь в начале следующего
года сделать специальный доклад на эту тему), у него не все получается с
отнесениями, т.е. там дальше имеется вторая процедура, и он встает перед
проблемой, как трактовать высказывания об отношениях такого типа: самолеты в
1941 году летали в три раза быстрее, чем самолеты в 1929 году. Это можно
понимать по-объектно – как высказывание о самолетах в 1929 году, как
высказывание о самолетах в 1941 году или как высказывание о соотношении между
скоростями самолетов в 1929 и в 1941 годах, т.е. получается три типа объектов, на
которые потом относится это знание. У нас нет таких трудностей, поскольку они
преодолеваются за счет отнесения к разным плоскостям замещения. А у него это
становится проблемой. Он никак не может этого объяснить и зафиксировать в
структуре знаний.
Но само по себе введение такой схемы открывало следующие возможности.
Во-первых, оно впервые дало возможность видеть этот знаковый текст не
только с точки зрения того смысла, который мы в нем понимаем, но и понимать в
нем это отношение между содержанием и знаковой формой. Если я знаю, что
механизм мышления таков, то я теперь (я обсуждал этот вопрос в специальном
докладе в середине этого года) могу определить свое понимание этой знаковой
формы, т.е. понимать все так, как она того требует.
Во-вторых, задав эту структуру, мы получаем возможность собирать из нее
более сложные структуры, т.е. получаем большие композиционные возможности
двоякого плана. Мы можем развертывать ее внутри как некоторый аналог клеточки
(по типу «товар – товар», «товар – деньги – товар» и т.д.), мы можем членить ее
внутри и по объективному содержанию и развертывать здесь любые структуры. Мы
можем из этого как из единого образования собирать различные композиции вверх,
т.е. надстраивать. Знаковая форма становится объективным содержанием, снова
фиксируется в знаковой форме и т.д. За счет того, что здесь возникло понятие
объективного содержания и оно получило такое объективное выражение, мы
избавились от субъективизма и психологизма, т.е. от необходимости трактовать это
как смысл или как некоторые концепты, заключенные в голове. И в этой связи мы
получили возможность отбросить понятие смысла и не оперировать ни понятием
смысла, ни понятием понятия и т.д. То есть совершенно избавиться от этой
неопределенной системы терминов.
Но введение такой структуры поставило перед нами следующие вопросы: 1) что
же такое объективное содержание, как его задать и 2) что такое значок связи
(вопрос, поставленный В.Розиным)?
Следующая наша тема «Что же такое в этой формуле объективное содержание и что
такое это отношение?». Я бы добавил: «Что такое знаковая форма?» – поскольку
только кажется, что известно, что она собой представляет.
21.06.1965
Анализ схем содержательно-генетической логики, их возможностей и ограничений
В прошлый раз я рассказывал о тех принципах и идеях, которые были
выдвинуты в 1951–1952 гг. А.А.Зиновьевым, и кратко остановился на внешних
моментах их дальнейшего развертывания примерно до 1956 года. Я сейчас не буду
повторять эти принципы – всего их было выделено шесть. Напомню только о двух:
тексты, которые были объявлены эмпирическим материалом логики, должны были
рассматриваться сквозь призму двух понятий. С одной стороны, сквозь призму
категории формы и содержан ия, а с другой – сквозь призму понятия
процесса (как мы тогда понимали деятельность).
Я выделил первый аспект – анализ текстов сквозь призму категорий формы и
содержания – и старался подчеркнуть исключительное значение самого этого
принципа и его противопоставленность всем тем подходам, которые до этого
существовали в логике.
Я много раз говорил о том, что, с моей точки зрения, формулирование этого
принципа и новое понимание формы и содержания, которое было задано, были
исключительно важным шагом в развитии логических идей. И они впервые дали
возможность освободиться от всех логических подходов, основанных на идее
параллелизма, если говорить на лингвистическом языке, выражения, точнее говоря,
смысла, или плана содержания, и формы, как это называлось и традиционно
обозначалось логикой.
Я говорю о том, что сам по себе принцип, сформулированный в 1951–1952 гг.,
примерно к 1955–1956 гг. привел к появлению структурной формулы, где форма и
содержание задавались как элементы единой структуры, были связаны между собой
особым значком связи.
Кроме того, сами понятия формы и содержания специфицировались
дополнительными определениями. Мы говорили в одном случае о знаковой форме,
а в другом – об объективном содержании. Эта вторая схема была такой же, как
первая, но в нее привносился эмпирический смысл – указание на некоторый
материал. То есть форма – это не вообще любая форма, а то, что по материалу
представлено в знаках, а содержание – это не вообще какое-то содержание, а такое,
которое связано с объективностью.
Я несколько раз говорил о том, что эта схема противостояла традиционным
логическим подходам по очень многим параметрам. По сути дела, в ней
аккумулировано очень большое число различных противопоставлений. И они
задают многоразличный смысл употребления этой формулы. Но разбирал я,
фактически, только один из этих планов, а именно противопоставленность этой
схемы обычному традиционному анализу, построенному на понимании текста и на
выделении и видении где-то за ним того, что обычно называют смыслом.
Фактически, в прошлом докладе был разобран только этот момент:
принципиальное отличие употребления этой схемы, схемы формы и содержания как
некоторой структуры, от традиционных подходов, основанных на понимании текста
и выделении плана смысла. Это не значит, что эта структура – форма и содержание
– выделяется безотносительно к пониманию текста. Нет. Речь идет о другом: о том,
что обычно в традиционном логическом анализе это понимание смысла, лежащего
за планом знаковой формы, не изображалось схемой, хотя всегда говорили о
существовании слоеного пирога, т.е. выделяли какую-то форму и план содержания
или смысла. Но когда приступали к конкретному детальному анализу, то этот
слоеный пирог фактически всегда сплющивался, потому что членение шло по
горизонтали. А так как плюс к этому добавлялся еще принцип параллелизма формы
и содержания, то было неважно, что собственно анализировалось.
То есть всегда, фактически, анализировался план смысла и производились
некоторые функциональные членения, исходя из этого понимаемого смысла. Но
затем полученные таким образом линейные схемы, содержащие некоторые
элементы и связи, по-разному интерпретировались. В одних случаях их относили на
знаковую форму (номиналистическая традиция), в других случаях их относили на
объективную действительность (реалистическая традиция), и третий вариант – их
относили на мыслительные и умственные образования (линия Абеляра и дальше –
концептуалисты). Но каким бы образом ни интерпретировались результаты этого
анализа, собственно логического, во всех случаях реально анализировалось только
одно – понимаемый смысл.
Я говорю о принципиальной противопоставленности этой структуры формы и
содержания всем другим линиям. Я сейчас повторяю, что, по сути дела, в структуре «форма и
содержание» как в одном узле переплеталось много различных линий обсуждения и анализа. И
поэтому, для того чтобы понять действительный смысл этой структуры и ее роль в логическом
анализе, надо более подробно и детально разобрать все эти линии по отдельности. Этим я сейчас
хочу заняться, рассматривая последовательно различный смысл, который вкладывают логики в эту
структуру или, точнее, те различные смыслы, лозунгом которых было употребление этой структуры.
Для того чтобы понять первую, может быть, самую важную линию, нужно
учесть ту ситуацию, в которой Зиновьев формулировал свое исходное требование. Я
уже рассказывал, что перед ним, с одной стороны, был «Капитал» Маркса как
работа, подлежащая анализу. Считалось, что это классический образец сложного
системного исследования, пример не аксиоматической, а эмпирической теории, и
надо было ответить на вопрос о том, какова технология, или техника, построения
научных произведений такого рода.
Для того чтобы провести такой анализ и ответить на этот сугубо практический
для логики вопрос (он, как вы понимаете, лежал в цехе № 1, в цехе, выдающем
продукцию другим наукам), чтобы провести такой анализ, нужно было иметь
некоторый аппарат средств. Обращаться можно было в две инстанции: первая –
традиционные формально-логические понятия, вторая – теоретико-познавательные
понятия (образ, знание и др. такого же рода). Обращаться в эти годы к аппарату,
скажем, математической логики было нельзя, потому хотя бы, что она была плохо
известна.
Первая инстанция сразу обнаружила свою несостоятельность. Интересно, что
первые исходные рассуждения Зиновьева текстуально совпадали с теми ходами,
которыми Джордж Буль начинает свою книжку «Законы мышления». Перед ним
тоже были большие массивы рассуждений, и нужно было выработать некоторый
аппарат, чтобы оперировать не отдельным термином и связкой суждений, а
большими массовидными образованиями. Буль приводит пример системы
уравнений с многими неизвестными, которыми мы оперируем как одним целым.
Примерно так же рассуждал Зиновьев. Тут обнаружилось, что этот аппарат
умозаключений, суждений и понятий совершенно бессилен в качестве средств,
потому что у Рикардо и у Смита, которые не смогли описать объект и построить
теоретическую систему, тоже были суждения, умозаключения, понятия. Каждое из
них, когда его брали в отдельности, было, вроде бы, истинным и правильным. И тем
не менее Рикардо и Смит ошиблись в ходе своего рассуждения, не смогли
построить теоретическую систему. А Маркс не ошибся. Значит, рассуждал
Зиновьев, дело, по-видимому, заключается не в том, что одни применяют суждения,
умозаключения, а другие – нет, а в том, что есть некоторые законы связи между
самими умозаключениями и более сложными их цепями и связями, которые и
задают различие в рассуждении, или мыслительном движении.
Оставался теоретико-познавательный аппарат образа или знания. Ясно, что и он
тоже был неудовлетворительным, потому что, апеллируя к образу, знанию в
логическом анализе, ровно ничего не получишь. К тому же было непонятно, что
такое образ. Когда понятие образа, как некоторое целое, глобальное понятие,
пытались применить, скажем, к системе Маркса, то это тоже не срабатывало. В то
время происходили очень острые дискуссии между Зиновьевым и его учениками, с
одной стороны, и Ильенковым и его учениками, с другой. Оселком служило
понятие логического противоречия, парадокса.
Вопрос ставился так: в любой научной теории (а у Галилея и Маркса это
приобретало специальное, особо выделенное значение) существуют некоторые
парадоксы или противоречия. Галилей вообще сделал выявление парадоксов
методом своей работы. То же самое делал Маркс. Если в ходе рассуждения
выделяется парадокс, то что это такое – изображение чего-то объективно
существующего? Ильенков отвечал: да. И это влекло за собой массу следствий.
Скажем, если мы утверждаем про что-то, что это А и , то дальше приходится,
следуя принципу тождества бытия и сознания, признать, что таков и сам объект, про
который идет речь: «А и
». Это А и
заложено в нем объективно. Если мы
говорим, что электрон есть частица, дискретное образование, а потом говорим, что
это не дискретное образование, то электрон таков и есть. Он и дискретная частица,
и непрерывная волна. Таковы объекты.
Эту диалектику впихивали в объекты, и они тоже становились диалектически
противоречивыми. Для Зиновьева и тех, кто следовал за ним, противоречие,
наоборот, служило указанием на то, что в ходе рассуждения мы не копируем того,
что есть в объектах, что вообще бессмысленно подходить к некоторому
рассуждению, которое есть фиксация нашего движения, нашей процедуры, как к
чему-то отражающему или изображающему объект.
Зиновьев на дискуссиях спрашивал резко: если мы отрубаем голову лошади, производим это
действие, то почему вы думаете, что само движение, которым мы отрубаем голову лошади, должно
быть похоже на лошадь. Если вы говорите, что это движение должно как-то сообразоваться с
объектом, то это будет нечто совершенно другое, потому что сообразоваться или зависеть – это
нечто иное, чем изображать или отражать.
«Капитал» как некоторая система рассуждений не мог анализироваться с точки
зрения изображенческой. Надо было в само понятие отражения вкладывать более
глубокий, детальный и конкретный смысл. Естественно, возникал вопрос: что такое
образ? К тому времени уже достаточно выяснилась неудовлетворительность всех
попыток трактовать образ как некоторую субстанцию, т.е. рассматривать образ как
некоторое явление, которое есть копия или изображение того, что есть.
В противовес этому выдвигалась идея, что само понятие образа, скажем,
психического или другого, надо рассматривать в совершенно иной категориальной
структуре, что образ – эта мысль сама по себе не нова, ее нередко высказывали, а в
ХХ столетии ее можно считать преобладающей – вообще есть отношение. И на этом
пути надо искать объяснение не только мысли, но и восприятия.
И, действительно, это смешной парадокс. Когда я вижу вас сидящими здесь, то
я не вижу вас сидящими у себя в голове. То есть мой образ «доходит» до вас
сидящих, и этот момент вынесения является, по-видимому, самым существенным. В
частности, об этом говорили критические реалисты в начале ХХ столетия. Но тогда
это было в рамках философствования, а за последние шестьдесят лет стало
предметом экспериментальной проработки.
Для психологов сейчас основной вопрос заключается в том, чтобы объяснить
эту отнесенность образа как его специфический момент. В более общем виде это
выступает как необходимость рассматривать образ не как явление, в котором нечто
отражается, а как одновременно и то, что отражается, и то, в чем отражается, и,
самое главное, саму связь или отношение между ними. Вот где, по-видимому,
лежит тайна. Хотя остается сложный вопрос о том, каким образом вы включаетесь в
мой, скажем, зрительный образ, каким образом вы становитесь его элементом. Об
этом я буду говорить дальше.
Итак, к понятию «образ» применяется совершенно иная категория, категория
отношения, связей, а следовательно, и структуры. И естественно, что нужно было
вписать такое понимание мыслительного образа – или мыслительного образа,
выраженного в знаковых структурах – в общее представление о процессе познания
или отражения. Это разные, по-видимому, вещи, но в то время это было не так ясно,
как сейчас. Я уже говорил в прошлый раз, что в тот период, с 1951 по 1956 год,
проблема психологизма и психологистической или непсихологистической
интерпретации не имела для Зиновьева и для тех, кто за ним следовал, большого
значения. Эти проблемы встали в своей остроте значительно позднее. Поэтому в тот
период была предпринята попытка объяснить понятие образа, исходя из актов
индивидуального отражения. И здесь развернулся первый этап исследования,
который привел к формулированию такого предмета, как заданное отношение
формы и содержания.
Что это была за линия? Это была побочная линия, связанная с тем, чтобы как-то
перестроить понятие образа, приспособить его для использования в логическом
анализе. Формально-логическую линию мы отбросили, а здесь развертывалась
линия, связанная с трактовкой мышления на основе понятия образа. Эта работа
относится к цеху № 2, поскольку речь шла о попытках выяснить суть и смысл своих
собственных методических понятий, о методологии самой логики. Итак, надо
вписать схему образа в традиционную схему отражения, или «индивидуального
познания» (индивидуальное познание беру в кавычки, поскольку это вообще
нонсенс – но тогда это так четко еще не понималось).
В те годы повсеместно господствовала старая, вульгарная сенсуалистическая
точка зрения на отражение, которая к тому же объявлялась марксистской. Поэтому
естественно было это понятие мыслительного образа впихнуть туда или вывести
оттуда. Эта сенсуалистическая трактовка отражения или мышления вела свое
начало от Абеляра через Локка, французских материалистов и дальше.
В чем состоял ее схематический смысл? Имеются некоторые
объекты. Причем, объекты, в отличие от субъекта, обладают
активностью, а субъект есть нечто пас сивное. Эти объекты действуют
на субъекта, на его анализаторы и сначала вызывают у него в голове
некоторые ощущения, потом эти ощущения преобразуются там же, у
него в голове, в некоторые восприятия, затем в представления, потом
эти восприятия опять же в го лове у индивида перерабатываются в
некоторые мысли или концепты, или понятия, а потом эти мысли и
концепты выражаются в некоторых знаках.
После того как они выражены в знаках, они каким-то образом соотносятся с
объектами и здесь возникает связь-обозначение. В этом и состоит традиционная
схема, которая объявляется схемой отражения и которая дает возможность говорить
о двух ступенях познания, а именно: о чувственной ступени и о ступени, которая
над ней надстраивается.
Если взять одну из наиболее культурных работ, работу Резникова «Слово и
понятие», то даже и там присутствует эта концепция. Сейчас эта схема получила
мощнейший толчок в работах инженеров и вообще всех тех, кто раньше не работал
в традиции изучения духовных явлений и не знает истории этого вопроса, но
оказался перед ним в результате развития современной техники. Они обращаются
не к классикам философии, а к популярным учебникам. И там они всегда находят
эту схему.
Какова история развертывания этой схемы? Уже Кант показал, что если
исходить из этой схемы, то мышление может быть только априорным
образованием. Он не формулировал этого положения так резко. Он говорил о так
называемых необходимых знаниях: он брал более узкие области – математику,
понимание каких-то знаков и т.д. Они обязательно должны были быть априорными.
Но, фактически, по своему смыслу, его линия заключалась в показе того, что, в
общем-то, любое мышление может быть только априорным. И Вундт очень
последовательно развил эту позицию.
Рассмотрим эту схему с точки зрения объективности. Ощущение еще обладает
объективностью. Объект, который обладает активностью, отпечатался в анализаторе субъекта,
оставил свой след, или образ. Поскольку он, хотя непосредственно уже больше и не воздействует на
анализатор, но оставил в нем свой след, ощущение должно соответствовать объекту. И хотя уже
Демокрит показал, что все это не так, линия эта продолжалась так долго, что и Павлов унаследовал
эту схему.
Итак, по этой схеме восприятия возникают из ощущений путем их
особой переработки в голове, а мысли воз никают в результате особой
переработки восприятий. А по каким законам идет эта переработка и
как получаются все эти образования? Ведь восприятие уже не связано
непосредственно с воздействующими объектами: оно есть результат
синтетической и аналитической ра боты коры больших полушарий; тем
более – мышление. Возникает вопрос: каким образом восприятие и
мышление обладают объективностью, т.е. от ражают объекты?
– А если рассматривать ощущение как объективный субстрат, который
отражается в другом объективном субстрате, уже более сложном? Так мы
получаем объективную причинную связь.
Если вы задумаетесь над тем, что отражает, то вы должны будете проделать
следующий ход рассуждений…
– Если считать отражение не отражением объекта, а отражением его
субстрата…
Но мне достаточно одного термина «отражение». В чем смысл слова
«отражение»? Тут возможны два ответа.
Согласно первому из них мы не находим в отражении ничего сверх того, что
есть в объекте – ни по содержанию, ни по форме, ни по субстрату. Тогда,
спрашивается, чем восприятие отличается от ощущения, а мысль – от
восприятия? Мы сталкиваемся с тем, что мы не можем видеть скорость
более трехсот тысяч километров в секунду, но мы ее мыслим.
А если в отражении появляется нечто «сверх», тогда спрашивается, откуда и за
счет чего оно берется. Причем, эту добавку можно понимать как угодно. У Канта,
например, это организация в единой форме многообразия содержаний.
– Почему вы представляете эту схему статичной?
А что значит «статичной»?
– Ведь эта схема создавалась постепенно.
Какое мне до этого дело? Я не хочу заниматься какими-то частными шагами в
истории этой схемы, потому что мне всегда могут сказать: ведь это не самое
последнее слово, мол, после Юма был Кант, а после Канта – Вундт. Я беру
результат – эту схему на 1965 год. Мне сейчас важно только одно: эта схема не
выдерживает критики по такому количеству параметров, что тут можно ввести
тысячу и один нюанс, и все равно она критики не выдержит. Мы остановились на
том, что должна появиться добавка. За счет чего она может возникнуть? Она может
возникнуть за счет взаимодействия и переработки одного в другое.
Вундта интересовало другое: чем детерминируется эта переработка?
Детерминируется ли она объектами? Если до некоторой степени так, то нужно
указать механизмы, а никакого механизма, кроме вышеописанного никто не
обнаружил. И Вундт давал единственно возможный ответ: ничем не
детерминируется, кроме физиологического субстрата.
Тогда его спрашивали: почему же восприятие отражает объект? Он говорил: а
оно не отражает, и мышление не должно отражать. Ведь если есть активная
переработка данных в коре головного мозга, то либо нужно объяснить, чем
детерминируется эта переработка, либо отказаться от идеи отражения. И все, кто
продумывал эту схему детально, отвечали на этот вопрос так: никакого отражения
нет и быть не может. Те, кого такой ответ не устраивал, должны были выдумать
механизм. Но никакого механизма до сих пор не придумали.
Итак, мы пришли к выводу, и нет фактов, противоречащих этому выводу, что никакого
воздействия объектов на анализаторы не существует. Наоборот, есть активность анализаторов. И
если не будет активной работы глаза, то не будет и зрительного ощущения. Эта связь оказалась не
такой, как предполагали: идущей не от объекта, а наоборот – от анализатора.
Рассмотрим теперь другую связь: переработку в мыслительные образования.
Локк считал, что мы расчленяем наши восприятия, группируем их, обобщаем, и
появляется обобщенный образ – концепт, мысль, понятие. Но ни Локк не мог
сказать, что представляют собой механизмы анализа, сопоставления, обобщения, ни
много позже Резников не может ответить, каковы работающие здесь механизмы. Не
то чтобы доказать существование таких механизмов, а хотя бы придумать маломальски удовлетворительную гипотезу.
Но такой гипотезы, способной выдержать рациональную критику, на данный
момент в науке не существует. Существующие модели восприятия и ощущения
ничего не объясняют. Эта связь так и остается невыясненной.
Рассмотрим далее, каким образом мысли выражаются в знаках? Построить
такую модель тоже никому не удалось. Существует, наконец, еще связь между
знаками и объектами, связь обозначения. С ней дело оказалось еще сложнее. Повидимому, она-то и дает ключ к новому взгляду на объект. Каким образом ее можно
анализировать?
Ассоцианисты говорили (их схема строилась иначе, чем сейчас трактуют):
имеет место совпадение объекта и слова во времени и пространстве. За счет этого
совпадения образуется ассоциация. Они переводили вопрос об этой связи в чисто
искусственный план генезиса, становления этой связи, т.е. в план воспитания
индивида, его онтогенеза. Но есть еще план филогенеза, т.е. проблема
происхождения языка и мышления. С этой точки зрения и была сделана попытка
свести мысль к понятию образа. У ребенка – это понятно. А каким образом можно
объяснить это в плане филогенеза, с точки зрения исторического происхождения,
как впихнуть в мысль структурную схему образа? Я говорил уже, что исходным
было задание того, что отражается, того, в чем отражается, и связки между ними.
Предполагалось наличие таких элементов, как объекты, чувственные образы,
мысли, знаки, и связей между ними. Из этих элементов мы и составляли
комбинации разного рода. Например, объекты поставить сюда, знаки сюда, потом
давать чувственные образы, потом строить мысль или выбросить мысль. То есть все
приводилось к такой схеме, и ставился вопрос, какую принципиально связку здесь
принять.
Все варианты должны были удовлетворять некоторым внешним требованиям.
Например, надо было принять такую связку, чтобы можно было развернуть
историческое происхождение языка и мышления, и, наоборот, если начнем отвечать
на вопрос, как исторически возникают язык и мышление, то чтобы этот анализ
привел нас к той или иной связке или дал бы некоторые дополнительные
соображения в пользу той или иной связки элементов исходной структуры.
Таким образом, проблема была предельно схематизированной: заданы основные
элементы – объекты, знаки, чувственные образы, мысли, концепты, если таковые
существуют; нужно было выяснить, каким образом из них можно образовать
абстрактную структуру. В каких отношениях они стоят друг к другу? И поглядеть
на все это с точки зрения, скажем, формирования психики ребенка.
– Насколько мы можем, находясь в рамках этой схемы, ставить вопрос об
отношении знаков к объектам? Ведь эта схема дает объекты совершенно
определенным образом.
Это правильно. Но это критика этой схемы с более высокой точки зрения. Меня же это не
интересует. Ты спрашиваешь: откуда берутся платоновские идеи? Если говорить об абстрактных
объектах, то, по Абеляру, они находятся в голове у человека. Это концепты или мысли, а в объект это
не попадает. Мы закрыли «плоскость» мозга, а все эти связи нам надо получить на такой
структурной развертке, и нам не важно, какие механизмы обеспечивают эти связи. Какую
структурную развертку надо принять? Весь этот ящик мы свернули в один блок.
Такова была логика движения. Мы с этим имели дело четыре года. А я сейчас
это сокращенно излагаю. И сейчас, в 1964 году, я знаю всего три группы людей,
которые исходят из активности субъекта. А все остальные рассматривают субъекта
как пассивного. Из них одна приговаривает, что субъект активен, не пытаясь
реализовать это в конкретных исследованиях, потому что у них программа такая.
Они считают, что философствование – это высказывание общих истин без реализации их в практике
исследования. Это Ильенков и Батищев. Они много говорят об активности субъекта. Но если их
спросить, за счет каких механизмов все это реализуется, они говорят: это дело специальных наук,
наше дело сказать, что субъект активен, и ссылаются на Маркса. Поскольку ссылка очень мощная, то
это попадает в преамбулу многих работ. А потом берут схему пассивности и начинают с ней
работать.
Бернштейн сделал попытку объяснить такой механизм. За счет чего? У него
есть такой блок – блок программного устройства. И он говорит: а как этот блок
формируется, меня не интересует. То есть активность собрана и представлена в
одном блоке. И это дает возможность свернуть схему активности в схему
пассивности.
Или кольцевая схема: раздражитель включает сигнал, начинает работать
программный блок, запускает программу, которая в нем уже есть, затем начинается
корректировка, т.е. посылка в направлении к цели, схема обратной связи, и по
кольцу все идет.
Третья группа получила возможность рассматривать активность только за счет
того, что она все это зачеркнула и не стала этим заниматься. И только за счет этого
стало возможным изучение активности.
– Обсуждался вопрос о механизмах... На каком основании теперь перешли к
другому вопросу?
Я убежден, что если исходить из этой схемы, то будешь ставить вопрос о
механизмах или не будешь, все равно получишь ноль. Потому что схема сама
заведомо ошибочна. Возникает вопрос, как отказывались от этой схемы...
– Не как отказывались, а почему стали играть в блоки этой схемы...
– Очевидно, решили посмотреть: может быть, она вообще не работает.
Нет. Если речь идет о психологических основаниях, то это обычно происходит
следующим образом. В работе каждого исследователя существует несколько
параллельных линий работы. Если в течение двух-трех месяцев ничего не
получается, наступает психологическая усталость, начинаешь думать о другом. Так
обычно бывает, сплошь и рядом. Смотришь с какой-то другой стороны. Потом с
третьей. А потом начинают между этим представлениями устанавливать связи,
начинают накладывать одни представления на другие. Тогда обрезается лишнее и
появляются новые инородные куски. Это о психологии работы.
Была эта схема, она была нарисована, ее развертывали в линейные цепочки,
свертывали в кольца, чтобы посмотреть, что ней можно делать.
Когда решали другую задачу, о происхождении языка и мышления, то из этой
схемы исходили как из средства. Когда ее соотнесли с проблемой происхождения,
обнаружили парадоксальную вещь. Возник вопрос: а где собственно «произошло»
мышление? Глядя на эту схему, можно ответить только одним способом: оно
произошло в голове у субъекта. Другого ответа быть не может.
Где произошел язык и как он произошел? Язык произошел вне головы, в стаде,
в коллективе. Но это только одна половинка ответа. Потому что там произошел не
язык как выражение мысли. Он не мог произойти как выражение мысли, он должен был
произойти сам по себе. А выражение мысли в языке должно было произойти в голове у обезьяны.
Работы Выготского прозрачны с этой точки зрения. Сперва формулируется первоначальный тезис о
единстве языка и мышления. Нет языка и мышления – есть речевое мышление. Значение есть
единица и языка, и мысли. А где находится значение? Он говорит: в голове. Тогда начинается новый
круг – генетические корни языка и мышления. Язык и мышление одно, а произошли они поразному, там разные генетические корни.
Почему они произошли по-разному? Потому что то, что произошло в голове,
подчиняется одной логике, а то, что произошло вне головы, подчиняется другой
логике. У языка как системы обозначающего материала одна линия происхождения,
а у мышления как заключенного в голове и опирающегося на физиологический
субстрат – другая. Их этого круга нельзя выйти, если исходить из этой схемы.
Поэтому я сейчас сформулирую принцип.
С моей точки зрения, основной удар по этой схеме наносит не отсутствие какихлибо знаний о физиологических или психологических процессах. Тут можно
говорить, что это еще впереди. Истинный удар по этой схеме наносит
невозможность совместить ее с историческим подходом к человеку, к человечеству,
с тезисом о социальном происхождении языка и мышления.
И в этом плане, с моей точки зрения, вся современная наука членится на два
большие направления, которые принципиально противопоставлены друг другу.
Направление, которое отвергает исторический и социологический подход как
лежащие за пределами их науки и которое работает в схемах индивида, его
физиологического субстрата, психологических процессов, там происходящих. И
другое направление, которое пытается понять человека как некоторое
действительно социальное образование. Не просто приговаривает о социальной
природе человека, а делает это исходным принципом и на этой базе объясняет
психику человека и все знаниево-мыслительные образования.
В частности, это означает, что необходимо совместить представление о
структуре ставшего целого – языкового мышления – с проблемой социального
происхождения языка и мышления. Если вы признаете, что язык и, следовательно,
мышление появляются в межиндивидуальной среде, что они суть продукт
коллектива, труда и объединения, социализации, то их надо мыслить как
проявления социального целого, некоторого организма.
Вместе с тем давно выявлено, что социальный организм должен
рассматриваться как одна единица, а не как сумма составляющих его частей,
элементов. А если вы задаете социум как некоторое глобальное целое и помещаете
индивидов – наряду с машинами, знаками и т.п. – внутрь него, то вы должны
сказать, что и язык с мышлением появляются внутри этого целого. При этом мне не
важно, что находится внутри этого целого: индивиды или что-то еще. Я признаю их
наличие в данной структуре, но выводить дальнейшее надо из всего целого, а не из
них. Из целого как такового, а не сведенного к сумме элементов.
– Но наличие индивидов – вполне законное явление.
Я спорю с другим. Я говорю, что начинать надо не с них и выводить все не из
них. Мы с чего-то должны начать. В качестве такого начала мы имеем некое
социальное целое, фиксируем, что оно произошло, и вот после этого, из этого
целого можно выводить все, что угодно. Более того, двигаясь таким образом, вы
обязаны отпочковать язык, отпочковать языковое мышление, отпочковать
индивидов, личность, культуру, науку, искусство – все, что угодно. Но от чего это
все можно отпочковывать, из чего выводить? Только из этого социального целого.
И если вы признаете этот принцип, будьте любезны с самого начала исходить из
этого целого и все из него объяснять.
– Но индивиды – элементы этого целого.
Правильно. И не только элементы, но и средства этого целого. Современный
индивид, особенно если он посажен на министерское кресло, становится средством целого, хотя
очень часто в то же время он это целое использует как средство.
– На этот счет есть хорошая цитата из Маркса о том, что индивид может
существовать только в обществе.
Конечно, конечно... Но теперь важно с этой точки зрения рассмотреть наши
научные подходы. Вопрос ведь в том, сможем ли мы положить сформулированный
принцип в основу нашей работы? Между тем, девяносто девять процентов
исследователей вообще не учитывают того, что я здесь отмечаю, и рассуждают,
используя другие схемы.
Если вы начнете рассматривать все это с точки зрения истории, то вы никогда
не объясните происхождение языка и мышления на базе той схемы, которую они
используют. Вы должны будете рассуждать совершенно иначе.
Я сейчас расскажу, откуда взялась эта линия рассуждения и к чему она ведет.
Но предварительно я сформулирую следующий тезис: чтобы убедить меня в
правильности вашей точки зрения, вы должны будете объяснить происхождение
языка и мышления и связать объяснение их происхождения с вашей
физиологической схемой. Если вам это удастся, я сдаюсь.
– Но ведь расчленение социума также происходит исторически и осознается в
ходе развития науки.
Это тоже верно. При этом считается, что за нас это осознание проделывали
Платон, Аристотель и т.д. Но меня сейчас эта сторона дела не интересует. Мы
действительно используем их представления о социуме как о товариществе
индивидов. Но на самом деле расчленение этого целого надо еще произвести, а не
брать готовую схему расчленения. И для нашего расчленения надо выработать
адекватные научные основания. Речь идет именно об этом.
Но меня сейчас интересует более узкий вопрос, а именно: каким образом
соединить различные, исторически возникшие в рамках традиционных наук точки
зрения? При этом надо иметь в виду, что этот процесс интеграции наук реально
происходит. Мы имеем историческую, социальную точку зрения со своими
понятиями и другую, скажем, психолого-физиологическую точку зрения,
исходящую из индивидов. До какого-то момента наличие таких различных точек
зрения возможно, и в каждой из них мы можем получать реальные результаты.
Но затем возникает задача увязки воедино как самих точек зрения, так и
связанных с ними научных результатов. Мы давно подошли к этой проблеме и
сейчас должны ее решать. При этом оказывается, что, когда мы начинаем
производить этот синтез, или, другими словами, пытаемся объединить социологоисторическую точку зрения с индивидуально-психологическими представлениями,
это не удается осуществить, не отказавшись от тех расчленений, которые были
исходными для указанных точек зрения.
– А зачем тогда соотносить эти точки зрения?
Мы обязаны это делать. Что значит соотносить, конфигурировать? Это значит,
что если у нас есть пара изображений, то мы должны построить третье,
объединяющее их, и не только объединяющее, но и объясняющее. Это третье
изображение должно фиксировать и объяснять и то, что в исходной паре
изображений было истинным, и то, что там есть ошибочного. Но как только мы
начинаем соотносить, то мы невольно вынуждены отдать предпочтение одному из
исходных представлений, рассматривать его в качестве исходного и основного. Я
исхожу из того, что таким объединяющим представлением является социологоисторическая точка зрения. Я это утверждаю по многим причинам, в том числе и
потому, что эта точка зрения является более общей, задает более широкое целое.
Дело в том, что когда мы увязываем воедино два различных представления, то
предпочтение должно быть отдано той точке зрения, которая задает более широкое
целое, ибо это целое будет определять функции, а потом и структуру входящих в
него элементов. Следовательно, мы должны исходить из социально-исторического
представления, а из него уже выводить другую точку зрения.
– Сначала нам сказали, что имеется два направления, две точки зрения, а
затем говорят, что одной из них надо отдать предпочтение. Но это совершенно
не очевидно.
Я действительно считаю, что все науки, исходящие из индивида при
исследовании «духа» и вообще «человека», являются анахронизмом, хотя, может
быть, этот анахронизм и просуществует еще сотни лет. Причем его существование
зависит от того, насколько нам будет нужна настоящая наука. Возможно она нам
окажется ненужной. Тогда этот анахронизм может существовать бесконечно долго.
Но все это уже сейчас анахронизм, все это вымирает и вымрет, если наука,
действительная наука, будет развиваться.
– А может быть это зависит от задачи?
Нет. В зависимости от задач внутри данного нам целого будут вычленяться
новые науки. Вычлененные из структурного представления о нашем объекте, они
будут тем самым с ним неразрывно связаны. Тот опыт, который у нас уже сейчас
есть, показывает, что при этом кардинальнейшим образом меняются исходные
схемы. В частности, становится очевидной полная несостоятельность той схемы, о
которой я говорил выше. Причем несостоятельность этой схемы заключается не в
том, что она не может объяснить, фактически, ни одну из связей, ибо здесь можно
надеяться, что сработает принцип «мы еще не поняли, но со временем поймем».
Нет, оказывается, что самих этих связей не существует, что мы имеем совершенно
не тот объект, который изображается исходными схемами.
– Это все надо еще выяснить.
Эта сторона вопроса выяснена. Не только в математике, но и в эмпирических
науках существует то, что можно назвать соотношениями неразрешимости. Можно
не обнаружить искомые связи, но можно также показать, что каких-то связей
вообще не может быть. Такое доказательство будет исходить из более широких
соображений. И то, что этих связей до сих пор нет, происходит не потому, что мы
их еще не обнаружили, а потому, что их не может быть вообще и они никогда
обнаружены не будут.
Как же мы будем объяснять, исходя из всего того, что здесь говорилось,
происхождение языка и мышления? Здесь сталкиваются две принципиально
различные схемы. Очень четко и точно обе эти схемы зафиксированы в небольшом
сообщении В.В.Давыдова, которое было опубликовано несколько лет назад в
Докладах АПН. Статья Давыдова называлась «О структуре мыслительного акта».
Есть две различных позиции в понимании мышления. Одна позиция
заключается в следующем: мы смотрим на объекты, и у нас появляются мысли. Эти
мысли мы выражаем в знаках языка.
Итак, есть объекты. Я элиминирую все промежуточные звенья. Это сейчас не
важно. Важно только зафиксировать, что от объектов идет мысль – как образ этих
объектов. Эту самую мысль люди затем выражают в знаках. Давыдов анализирует
различные психологические теории происхождения мысли и показывает, что суть
их всегда сводилась к одному – к тому, что мы отражаем объект, а потом то, что мы
отразили, мы понимаем. Тем самым задается и подход к проблеме происхождения.
Тогда мы должны сначала объяснить происхождение мысли и параллельно
происхождение языка, а затем связку того и другого. При таком подходе можно сказать,
что уже обезьяны научились выражать мысли в знаках языка.
Принципиально другая точка зрения состоит в том, что объекты замещаются
другими объектами или знаками. При этом появление этого самого отношения
замещения и есть появление мысли. И никаких других мыслей, кроме как
происходящих таким образом, быть не может. Но, принимая такую схему, мы,
естественно, не обсуждаем проблемы происхождения мысли в голове человека как
чего-то такого, что идет от объекта. Такой схемы вообще не возникает. Здесь можно
двигаться исключительно в сфере социума, только, так сказать, в
межиндивидуальном эфире, и при этом объяснять необходимо совершенно другое,
а именно то, как появляется в системе трудовой деятельности обезьян,
становящихся людьми, это отношение замещения одних объектов другими
объектами. И последующую фиксацию отношения замещения в знаках.
Совершенно иначе ставится тогда и вопрос о том, каким образом в объектах
выделяются те или иные стороны и каким путем происходит их отражение. Не
потому мы выделяем что-то в объекте, что поворачиваем его различным образом и с
помощью головного мозга отражаем различные стороны этого объекта в мыслях,
понятиях или концептах, а потому, что мы замещаем один объект другим, в
принципе на него не похожим (хотя первоначально они могут быть довольно
сходными, хотя бы с точки зрения их практического использования). За счет того,
что схватывается такая связка между двумя объектами, и происходит реальное и
независимое от нашей головы (вначале, во всяком случае) выделение некоторых
сторон в объектах.
Отношение замещения носит двухсторонний характер: тождества и различия.
Это зависит оттого, что вы хотите делать, какова линия вашей практической
работы. Либо вы зафиксируете тождество, и тогда у вас первый объект будет
выражаться во втором объекте, при этом выражаться будут одинаковые стороны,
либо вы каким-то образом должны будете выделять их различие.
– Говоря об «объекте», вы употребляете это слово как функциональную или
как материальную характеристику? Другими словами, может ли здесь в функции
объекта браться действие?
В принципе, действие так рассматриваться не может, ибо объект понимается
материально, а не функционально.
– А вот это отношение замещения возникает где-то в индивидах или вне их?
Это возникает не в индивидах, это происходит в трудовой деятельности ...
– А может быть, отношение замещения все-таки возникает не в
деятельности, а в связи с индивидами?
Это все вопросы из следующих глав. Пока мне важно задать исходную идею.
– Какие из схем, о которых говорилось, появились первоначально?
Сначала появилась схема «объект – знак», точнее, «действительность – знак».
При этом действительность здесь понимается не как то, что задано в эмпирическом
материале, а как то, что получается потом. Эта схема испытала ряд трансформаций
и перешла затем в схему объектных замещений. Как все это происходило, я буду
сейчас говорить.
– Если принимается эта схема отношения замещения, то существенным ли
является вопрос, где происходит замещение – в индивидах или вне индивидов, гделибо еще?
Это очень существенно. Больше того, я бы сказал, что это и есть самое главное.
В схеме этот момент пока действительно не отражен. Мне сейчас важно затвердить
исходную мысль. Дальнейшее строгое логическое развитие этой идеи
представляется мне достаточно трудным. Но я надеюсь, что мы это проделаем.
Я напомню основной смысл того, что сейчас говорилось. Я утверждал, что
введение и использование этой схемы (объективное содержание – связь замещения
– знаковая форма) содержит в себе концентрированные противопоставления целому
ряду традиционных подходов.
Я
обещал
рассмотреть
эти
противопоставления
в
некоторой
последовательности. Сейчас мы рассмотрели первый, исходный смысл
обсуждаемой схемы. Она является отрицанием традиционной сенсуалистической
точки зрения, утверждающей существование активного объекта и пассивных ощущений и
восприятий, а также представлений об активной мысли, возникающей в результате мозговой
работы. Эта традиционная сенсуалистическая схема представляла знак как выражающий мысль и
как обозначение объекта. Самым главным возражением против этой схемы было ее несоответствие
историческим и социологическим представлениям. Это отчетливо выяснилось при анализе
происхождения языка и мышления.
Я опустил историю четырехлетних попыток объяснить происхождение языка и
мышления на основе другой схемы и сразу перешел к результатам этого движения.
Эти неудачные попытки заставили нас пересмотреть само понимание мышления.
Мы, во-первых, вынуждены были отказаться от субстанционалистского понимания
мысли как некоторого концепта, или, другими словами, как некоторого
физиологического или психологического образования, находящего в мозгу
человека. Как я уже говорил прошлый раз, ни физиологические, ни
психологические исследования подобного образования не обнаруживают ни в
мозгу, ни вообще где бы то ни было.
Во-вторых, мы вынуждены были пересмотреть всю схему и поставить после
объекта не его отражение в ощущениях, восприятиях и т.д., а поставить после
объекта знак. При этом, если в традиционной схеме знак рассматривался как
конечный этап этого длительного, проходящего через голову процесса, то мы знак,
замещающий объект, и связь между исходным объектом и замещающим его знаком
поставили в самом начале – как исходное образование.
Причем это образование ничем из мыслительной сферы не опосредовано, а
наоборот, само является исходным и задающим все дальнейшее. Не потому знак
относится к объекту, что он (знак) выражает мысль, – мысль возникает потому, что
в некоторых особых условиях знак начинает обозначать объект. Знак начинает
обозначать объект, еще будучи не связанным с мыслью. Мысль возникает потом.
Значит, сам факт обозначения, или, как мы говорим, замещения, должен быть
объяснен исходя из чего-то другого, а не из мысли. Мы следуем той линии, которая
стремится объяснить возникновение мышления из трудовой деятельности. При этом
мы движемся, минуя рассмотрение всего, что относится к психолого-физиологической сфере. В этом состоит первый и основной смысл изложенного мной принципа –
как некоторого знамени.
– Правильно ли понимать, что в развиваемой схеме знак понимается как
объект, находящийся в функции замещения.
Я сейчас отвечаю на этот вопрос коротко, ибо в дальнейшем буду этим
заниматься. Знак понимался в двух смыслах. Во-первых, он понимался как объект
замещающий. Но так как это было слишком широкое определение, ибо существуют
и такие замещающие объекты, которые не суть знаки, то всегда также
присутствовал и в интуитивной сфере работал второй признак, собственно
эмпирический признак знака как такового. Знака как знака, а не объекта. Поэтому,
когда мы говорим, что знак есть то, что замещает объект, то мы этим самым не определяем знак, а
просто вставляем знак, уже имеющий определение, в некоторую более широкую структуру. Мы
говорим, что основная функция знака есть замещение, а то, что его делает знаком, необходимо
специально исследовать.
Здесь я хотел бы вылить ушат холодной воды на весь тот энтузиазм, который
был в моих словах до сих пор. Ведь я, по существу, рассказывал о том, что
объяснить происхождение языка и мышления, пользуясь схемой опосредующей
работы мозга, не удалось. Это заставило нас исходить из другой структуры
отношения между объектом и знаком. Так в качестве исходной структуры
появилось отношение замещения. В этом движении, и это совершенно очевидно,
было много субъективного и психологического. Работа, исходящая из одной схемы,
оказалась безрезультатной. Приняли другую.
Но в этот начальный период новая схема была еще настолько обща и
абстрактна, что давала возможность ставить вопрос, который был задан мне в
прошлый раз: «Ну и что?». Действительно – ну и что? Естественно, возникает
вопрос, который тогда же был поставлен: «Так вы думаете, что эта ваша схема
“объекты – связь замещения – знаковый материал” есть отражение всего
мышления? И вы думаете, что на базе этой тощенькой схемы изобразите и
объясните сложнейший мыслительный процесс и сумеете это сделать, отвлекаясь от
индивида, от работы его мозга, пренебрегая всем этим и запрещая даже
разговаривать об этом?».
Здесь надо отвечать, что, конечно же, нет, не так. Объяснить мышление во всей
его полноте на базе нашей исходной схемы не удастся. Но мы к этому и не
стремимся. Дело в том, что мы исходим из совершенно другого понимания
механизмов развертывания научной теории.
Обратите внимание на ход всего этого движения. Смысл выделения той
структуры, которую я называю мышлением, из какого-то гораздо более широкого,
интуитивно чувствуемого целого, заключается в том, что был задан особый
абстрактный предмет.
Вместо очень сложной структуры, содержащей разнородные элементы, мы
получили сравнительно простой предмет, содержащий всего два образования и
одну связь. Оба эти образования имели то преимущество, что они существуют
объективно. Нам не требуется залезать в голову и совершенно не нужны какие бы то ни было
гипотезы относительно того, что в этой голове происходит. Это явления, которые даны нам
объективно, т.е. вне головы человека, и которые поэтому можно объективно рассматривать и
изучать. Мы уже в этот момент знали – и это является вторым результатом, полученным
Зиновьевым, – что подобные сложные структуры анализируются методом восхождения от
абстрактного к конкретному.
Это означает (я сейчас говорю очень кратко), что подобные структуры нельзя
раскладывать на составляющие элементы. Мы уже знали, что при движении по
методу восхождения от абстрактного к конкретному надо брать какую-то одну
исходную структуру, заданную в виде особого абстрактного предмета. Эта
структура должна удовлетворять одному двухстороннему требованию: во-первых,
она может быть понята безотносительно ко всем тем связям, из которых она
вырвана; во-вторых, все другие связи не могут быть поняты безотносительно к
нашей исходной структуре.
Из этого следует, что, развертывая исходную структуру путем восхождения от
абстрактного к конкретному, мы можем и должны присоединять к ней какие-то
другие связи. Что здесь принципиально важно? Здесь важно противопоставление
такого движения методу анализа и синтеза. Я обычно рисую это таким образом:
если мы имеем структуру А,B и т.д., то мы не выделяем отдельно А, затем В и т.д., а
берем сначала А, затем подсоединяем к нему B и получаем
,
затем
подсоединяем С и получаем
. При этом мы подчеркиваем, что В не может
существовать без А. Существование В становится возможным только на базе
существования А, а потом мы берем С, существование которого возможно только
на базе существования В, а следовательно, и А. В этом и состоит сущность метода
восхождения от абстрактного к конкретному.
Когда такая структура была выделена, то в качестве основного встал вопрос:
действительно ли мы выделили здесь такую связь, которая может быть понята
независимо от всех остальных, скажем, независимо от связи чувственного
отражения, и действительно ли это такая связь, что мы сможем построить, исходя из
нее, все другие связи, имеющиеся в том сложном целом, которое мы называем
мышлением? На оба эти вопроса мы ответили утвердительно. Мы считали и
считаем, что мы получили возможность не апеллировать к чувственной связи не
потому, что таких связей не существует в природе (в реальности эти связи,
вероятно, существуют), а потому, что выделенная нами связь по своему генезису и
происхождению в социуме действительно является определяющей и задающей все
остальные.
Из этой выделенной нами связи и на ее основе возникли все другие. А
следовательно, выведение надо начинать с нее. Выделенное нами образование
получило условное название «языкового мышления». «Языковое мышление»
бралось нами в отличие от «мышления» как более сложного эмпирически заданного
образования, в котором, помимо выделенной нами структуры, содержится еще
масса всяких других структур, по-видимому, другого рода, но которые должны
быть выведены из языкового мышления как из исходной структуры.
Выделенное нами образование было названо «языковым мышлением» не
потому, что с нашей точки зрения существует еще и какое-то другое, неязыковое
мышление. Это чисто условное название, являющееся во многом неудачным,
поскольку оно вызывает подобные ассоциации и противопоставления. Надо было
бы придумать другое название, но в последние десять лет это словообразование
закрепилось и вошло в употребление.
Когда я в прошлый раз высоко оценивал требование Зиновьева о применении
категории «форма – содержание» и сравнивал его по значению с открытиями
Галилея относительно движения, то я при этом и имел в виду отмеченные мной два
момента.
С одной стороны, удалось выделить абстрактный предмет. Когда мы говорим об
абстрактном предмете, это значит, что развертывая такой предмет, нельзя
рассчитывать на непосредственное его совпадение с эмпирическим материалом. Не
похож наш абстрактный предмет на то, что мы имеем в эмпирической
действительности, точно так же, как никогда и нигде на Земле не реализуется
открытый Галилеем закон, что все тела падают на Землю с одинаковым ускорением.
Не падают они в действительности с одинаковым ускорением, в действительности
они падают с разными ускорениями. И, тем не менее, механика строится на законах
Галилея.
Точно так же и здесь, в нашем случае. На самом деле, наверное, даже такой
связи не существует. Но это есть исходная связь того абстрактного
предмета, построив который и конкрет изируя который, мы придем к
структуре, объясняющей эмпирические явления и позволяющей ими
управлять. Поэтому я утверждаю, что языковое мышление есть
исходная абстрактная структура для изучения более широкого целого
называемого мышлением вообще. Языковое мы шление – в нашем
условном употреблении этого словосочетания.
– В самом начале было сказано, что выделяемая связь имеет объективное
существование, а в конце говорится, что она в реальной действительности не
реализуется, а является только связью, вычленяемой в абстрактном предмете.
А кто, где, когда сказал, что объективность равнозначна отнесению к
эмпирической действительности.
– Тогда возникает вопрос: что такое объективность?
Объективность здесь понимается в очень узком смысле. Это все то, что
существует вне пространства, ограниченного кожным покровом человека.
Объективно – в смысле не субъективно, т.е. то, что существует вне субъекта.
– В чем представлена та система, из которой выделяется исходная
абстрактная структура?
Она очерчена той областью мыслительных явлений, которые на данный момент
выделяются человеком как относящиеся к области мыслительного. При этом
возможно, что на основе разворачивания нашей схемы мы какие-то вещи не сможем
объяснить. Но тогда мы наберемся окаянства и заявим, что человечество ошиблось
и что это вообще не мыслительное, а нечто другое. Хотя надо стремиться к
максимально возможному охвату.
Но это не все. Кроме того, эта область еще очерчивается нами внутри как
относящаяся к сфере языкового мышления. Здесь, между прочим, появляется
различие между эмпирическими и экспериментально наблюдаемыми фактами.
Подобно тому, как Галилей сформулировал свой принцип равноускоренного падения тел вне
зависимости от их массы и тем самым дал возможность Ньютону, Торричелли и другим поставить
соответствующие эксперименты, доказывающие сформулированное положение – подобно этому
мы, развертывая свою схему, будем особым образом соотносить ее с эмпирическим
материалом и создавать особые искусственные экспериментальные ситуации. Такие
экспериментальные ситуации, в которых исследуемые явления выступали бы в
чистом виде.
– Что выступает в качестве клеточки, которая в дальнейшем будет
развертываться? Сама абстрактная схема или некий конкретный представитель,
репрезентирующий выделенную связку?
Задаваемый вопрос имел бы смысл, во второй своей части, если бы уже не было
дано ответа на его первую часть. Первоначально, примерно до 1957 года мы
полагали, что сама эта структура может выступать в роли клеточки. Но в 1957 году
выяснилось, что по целому ряду признаков она в качестве клеточки выступать не
может.
В частности, этот вопрос обсуждается в моей диссертационной работе. В ней я
воспользовался различением клеточки и единицы. Мы взяли у Выготского
различение элемента и единицы и дали ему новое употребление.
Таким образом, я отвечаю: клеточка – это ни то, ни другое.
Разница же между абстрактным представлением и конкретным воплощением
весьма существенна, но она требует обсуждения в другом контексте. Эта проблема
во многом связана с вопросом о функции употребляемых нами изображений.
Вопрос, кстати, во многом еще не выясненный.
– Здесь произошла подмена того вопроса, который я задавал.
Вы уверены, что я не ответил на ваш вопрос?
– Я уверен в этом.
Тогда отвечу иначе. Дело в том, что представить себе развертывание исходной
клеточки не удалось. Попытки такого развертывания потерпели неудачу, и было
выяснено, почему это проделать невозможно. Те же процедуры развертывания,
которые представлялись возможными, были описаны в работе, получившей
название «О принципах построения генетической теории».
Розин В.М. Насколько я понял, ответ на этот вопрос Щедровицкий дает в
другой работе, о взаимоотношениях. В этой работе есть специальная глава об
употреблении и развертывании схем подобного типа.
– Как называется эта работа точно?
Она
называется
«К
методологии
исследования
деятельности
и
взаимоотношения людей».
Двигаемся дальше. Что важно подчеркнуть в качестве второго принципиального
момента? Когда появилась идея замещения и диады замещения, то она применялась
к трем различным областям.
Если стремиться к еще большей точности, то необходимо отметить, что идея
замещения появляется в формальной структуре типа «А есть B» или «Сократ есть
человек». Для того чтобы оказалось возможным подобное суждение, необходимо
должна существовать еще и третья позиция, ибо одно замещает другое по
отношению к некоторому третьему. Этот момент мы будем подробно рассматривать
дальше в другом контексте.
Второй знак «человек» замещал первый знак «Сократ» в отношении к объекту.
При этом сама связка замещения присутствовала, но специально исследователем не
фиксировалась. Этот круг вопросов получил в дальнейшем детальную разработку, в
частности в дискуссиях этого года о позиции наблюдателя и в тех вопросах,
которые задавал В.А.Лефевр.
Мы к этому еще вернемся. Этот момент замещения всплывал, по сути дела, во
всех наших работах. Первоначально это замещение трактовалось очень широко.
Сначала появилось замещение одного знака другим. Затем замещение некоторой
действительности (как мы говорили тогда, теперь мы называем это «объективным
содержанием») знаком. Появилось новое понимание отношения замещения –
замещение одного объекта другим. Стояла задача свести эти разные представления
о замещении к единому основанию, точнее, вывести одно из другого. При этом мы
двигались, так сказать, сверху вниз – от формальных замещений к семантическим и
от них к объектным. А выведение должно было идти наоборот.
Таким образом, была поставлена задача. Для объяснения происхождения языка
и мышления, т.е. появления знака в функции обозначения, надо было вывести его из
трудовой деятельности, т.е. оттуда, где его заведомо нет. Ибо там, где есть
объектные замещения, т.е. непосредственно в труде, там знака нет. В зависимости
от того, на какую область интерпретировалось понятие замещения, оно приобретало
тот или иной специфический смысл. В области семантико-синтаксических
исследований возникла проблема значения. В других областях этой проблемы
значения не было.
Такой сопоставительный анализ, охватывающий все три области, проводился
нами непрерывно, и мы все время имели в виду все три области и необходимость
строить одни замещения на основе других. Одновременно в каждой из этих
областей развертывается свой особый цикл исследований, о которых я буду сейчас
говорить. Но прежде, чем я перейду к этому, нужно сделать одно общее замечание,
несколько опережающее предстоящие выводы.
Мы выяснили, что мышление и «чувственное отражение» не стоят в одной
линии, мышление не есть надстройка над чувственным отражением. Они лежат как
бы в разных линиях и плоскостях анализа.
Здесь вообще нужно сказать, что представление о мышлении как о надстройке
над чувственным отражением в истории философии действительно было, но лишь в
самое последнее время чувственное отражение стали трактовать как особую
ступень познания и говорить о развитии познания. Я думаю, что это сделали
малограмотные преподаватели философии, и притом вопреки основному кругу идей
собственно марксистской философии. Но сейчас это представление получило
довольно широкое распространение. Чувственное отражение и мышление, с нашей
точки зрения, лежат как бы на разных уровнях объекта. Чтобы пояснить это, я
воспользуюсь образом, предложенным В.А.Лефевром. Это «бегущая строка» над
зданием «Известий». Там есть набор электрических лампочек, по которым идет ток
и которые то горят, то не горят по строго определенным физическим законам. Но
если мы будем обращаться к законам электрического тока, то мы никогда не
сможем понять, как возникает то или иное сообщение, почему по электрическому
табло бегут одни, а не другие буквы и слова. Сообщения на этом табло должны
исследоваться совсем в другом предмете. Примерно такое же отношение
существует между чувственным отражением и мышлением. Вообще, подобные
структуры весьма характерны для человеческой деятельности. Например, подобное
же стыкование двух разных структур рассматривают Д.Миллер, Ю.Галантер и
К.Прибрам в самом начале главы VI своей книги «Планы и структура поведения».
Таким образом, сейчас это уже достаточно выявленный и установленный факт.
Поэтому, чтобы объяснить природу мышления, мы не должны обращаться к
анализу тех механизмов чувственного отражения, которые лежат как бы под ним и
на основе которых оно осуществляется.
С другой стороны, и наоборот, все собственно мыслительные механизмы можно
объяснить, рассматривая схемы объектных, знаковых и формально-знаковых
замещений. А уже на этой основе можно объяснить многие явления,
обнаруживаемые нами в истории науки. И все это можно сделать без всякого
обращения к чувственному отражению и его механизмам.
При этом, объясняя природу мышления, мы не должны обращаться к
чувственному отражению и искать какие-либо «добавки» и «дополнения», которые
превращают чувственное отражение в мышление. Сама идея поиска добавок
возникает потому, что мы неправомерно сравниваем мышление с чувственным
отражением и стараемся объяснить первое через последнее. Чтобы объяснить бег
словесных сообщений над зданием «Известий», нужно рассмотреть те структуры
объединения разных процессов, которые создала человеческая выдумка,
человеческая конструктивная деятельность. В каком-то плане это совпадает с
аристотелевским понятием материала и формы.
Мышление есть особая «форма», которая накладывается на материал
чувственного отражения, хотя по механизмам своим оно возникает и
осуществляется иначе – особым образом структурируя чувственное отражение и
включая его внутрь себя в качестве элемента.
Вернемся к основной линии нашего движения. Объектные замещения, как вы
уже догадываетесь, вводятся крайне просто. Если вы берете какие-либо вещи,
используемые в практике, то они очень скоро гибнут, разрушаются. Чтобы
продолжить деятельность, нужно заменить исходный, разрушившийся объект
другим, таким же. Таким образом, происходит непрерывное функциональное
замещение объектов, включенных в нашу практическую деятельность. Совершенно
независимо от человеческого сознания или мышления складываются ряды
замещения объектов, неотличимых друг от друга с точки зрения той деятельности, в
которую они включены:
.
.
.
О
О
2О
3О
4
k
1О
Но таким образом, как вы видите, мы очень просто объясняем происхождение
объектного замещения. Оно необходимо должно происходить, чтобы
осуществлялось воспроизводство деятельности. Основанием для идентификации,
или отождествления, объектов служит действие. Мне важно подчеркнуть, что эти
замещения происходят независимо от осознания самих отношений замещения и
природы того продукта, который в результате получается, – ряда замещений. Но
когда такие ряды сложились, то, по сути дела, появилась новая действительность, и
она может стать объектом анализа и осознания. Сам по себе ряд замещений,
возникший в периодически повторяющейся деятельности, еще не объект, но он
может стать объектом сопоставления, если возникнут соответствующие действия
сопоставления.
Когда такие сопоставления возникают и ряд замещающих друг друга объектов
практической деятельности становится объектом этих сопоставлений, то это значит,
что возникает собственно мыслительная деятельность. При этом, как правило, и
если не с начала, то довольно рано, из этого ряда выделяется особый объект –
эталон, который становится образцом при изготовлении других объектов. Здесь
может возникнуть возражение, что и первый ряд замещений был создан
сознательно. Я слышу такое возражение.
Но здесь нельзя путать друг с другом деятельность и естественные процессы
или продукты, возникающие в результате этой деятельности. Каждое замещение
«стершегося» объекта другим, новым – это сознательный акт. Сознательной
является сама замена одного объекта другим. А ряд есть бессознательно
возникающий продукт, и, чтобы он вошел в сознание, нужно еще сделать его
объектом нашей специальной деятельности. Именно как ряд. Здесь интересно, что
сделать ряд объектом деятельности – это не значит взять его весь, целиком;
достаточно взять один фрагмент ряда, скажем, одно или пару отношений
замещений. Но тем самым мы возьмем именно ряд, т.е. отношение замещения,
именно как новый и особый объект.
Здесь, наверное, важно подчеркнуть все те принципиальные изменения и
переломы позиции, которые происходят, когда мы переходим от выборки и подбора
замещающих объектов к их изготовлению, т.е. к производству. Здесь происходит
масса интереснейших преобразований, каждое из которых может и должно стать
предметом обширных и сложнейших исследований. Но я сейчас отвлекаюсь от
всего этого. Меня будет интересовать лишь чисто феноменологическое указание на
сам этот факт – появление, необходимость появления нового объекта, нового
действия с рядом как таковым и связанное с этим возникновение собственно
мыслительной деятельности и базы для появления специфически мыслительных
замещений.
Мне важно также подчеркнуть, что здесь происходит выделение особого
образования, называемого обычно «культурой». Это, прежде всего, те эталоны,
которые выталкиваются из подобных рядов замещений объектов и служат, с одной
стороны, как бы представителями этих рядов и всех объектов, расположенных в
них, а с другой стороны – образцами для производства новых объектов такого же
рода. Но это значит, что вытолкнутый объект, объект-эталон, начинает выступать в
особой производственной функции. А вместе с появлением производства
развивается и особая сложная деятельность сопоставления различных объектов с
эталонами по многим и различным свойствам и характеристикам.
Задав эталоны и особые способы их употребления, мы делаем следующий шаг в
псевдогенетическом (и, следовательно, весьма искусственном, в рамках особого
предмета) выведении мышления. Здесь важно также, что в структуре
отождествлений всегда появляется еще особое отношение к третьему объекту,
объекту-индикатору.
Следующим шагом довольно естественно выводится знак. Уже сам эталон,
поскольку он берется как элемент культуры и в своей функции эталона, является
знаком. Это еще не языковой знак, и, чтобы вывести последний, нужно, во-первых,
объяснить источники, из которых берется материал речевых знаков, а во-вторых, те
ситуации, в которых этот материал начинает сопровождать употребление эталонов
и вступает с ними в связь именования.
Эти вопросы отчасти разбирались в моей статье по методологии происхождения
языка. Существует, как известно, много теорий, объясняющих происхождение
материала языка. Мне совершенно неважно, какая из них победит и окажется
правильной. Лично мне больше всего импонирует теория «трудовых шумов». Но
сейчас это совершенно неважно. Главное, что такой материал появляется. Важно
объяснить, каким образом возникает связь между ним и объектами, начало
употребления некоторого материала в качестве знака. Здесь важно, что я разделяю
два момента: первое – появление связки именования и второе – появление
отношения замещения объектов эталоном. Двух этих компонентов достаточно,
чтобы затем объяснить развитие всех других форм языково-мыслительного
употребления материала словесных знаков.
Таким образом, мы начинаем с того, что фиксируем в эмпирическим материале
три различных вида замещений. Наша задача заключается в том, чтобы увязать их
все в единой системе и вывести либо одни из других, либо же все три вида из чегото особого, от них отличного. Мы сделали это, задав прежде всего поле
деятельности, которое своим протеканием осуществляет идентификацию объектов.
Возникшие таким образом ряды замещений становятся новым объектом, особым
образом в эту деятельность включенным.
При этом выделяется и как бы выталкивается в более высокую плоскость
множество объектов-эталонов. Складывается, по сути дела, двухплоскостная,
точнее, двуплановая структура. Потом над всем этим и в связи непосредственно с
эталонами появляется третья плоскость – речевых или словесных знаков. Она
возникает из условий коммуникации, и ее происхождение должно быть объяснено
именно в этом предмете – коммуникации.
Знаковая функция в своем простейшем виде появляется благодаря появлению
функции эталона. Эталон – это уже в каком-то смысле знак. Но затем знаковая
функция должна быть перенесена на другой материал. Когда это произойдет, то
изменится и сама функция.
Таким образом, происхождение знаковой функции обозначения не связано
органически со специфическим материалом речи – звуками, движениями или
графикой. Первоначально знаковая функция возникает на чисто объектном
материале, у объектов-эталонов, и лишь затем ее перенимает специфически речевой материал –
звуки, движения или графика.
Иными словами, эталон благодаря своим основным функциям приобретает еще
и побочную функцию – быть обозначающим, знаком. Когда мы говорим: «Сделай
это», – то объект-эталон, на который при этом указывают, выступает и как образец вещи, которую
нужно сделать, и как обозначение.
Итак, функция эталона влечет за собой функцию обозначения. А выделяется и
приобретает особое самостоятельное выражение и существование функция
обозначения потом, когда появляется новый, особый материал, предположим,
трудовых шумов, который – а он возникает в особой связи коммуникации – может
нести на себе лишь функцию обозначения и не может нести на себе функцию
эталона.
Конкретно эти процессы разбирались нами на материале числа. Там особенно
отчетливо выявился механизм, при котором речевой знак отрывается от эталона и
начинает нести на себе одну лишь и отдельную функцию обозначения. Мы
называли этот процесс отщеплением функции за счет появления второго материала,
сопричастно работавшего вместе с первым материалом; а само сопричастие второго
материала обусловливалось необходимостью коммуникации.
Мне очень важно подчеркнуть – и это будет важнейшим пунктом в дальнейшем
изложении, – что таким образом деятельностью человека осуществляется
структурирование мира. Это происходит благодаря выталкиванию набора эталонов,
отнесению всех других объектов к эталонам и установлению особых связей между
эталонами. Я хочу здесь сказать, что так называемый человеческий мир, на мой взгляд, очень
напоминает фантастические проекты городов будущего, когда вся земля уже застроена и нет ни
одного природного явления, которое не было бы искусственно создано и не служило бы
человеческой деятельности, в частности, производству.
Подобное структурирование мира начинается с нижних «этажей» самих
объектов и поднимается все выше и выше, сначала в ряд эталонов, потом дальше – в
ряды все новых и новых надстраивающихся друг над другом знаков. Знаки
принимают на себя сначала функцию обозначений, а потом также и функцию
изображений.
Мы начинаем говорить о знаковых моделях. Так постепенно идет вверх, все
выше и выше, структурирование мира. Так строится искусственный мир, в котором
мы стремимся установить простой порядок и гармонию, распланировать его как
систему пересекающихся стритов и авеню. Именно эта система и есть то, что может
быть названо социальной действительностью человека. Часто именно эту
действительность и называли действительностью «понятий».
На нижней плоскости функциональных объектов мы создаем, благодаря
действиям сопоставления, различные группировки объектов, а затем замещаем их
одним знаком и тем самым представляем в нем новое содержание, созданное
действием сопоставления. Мы переходим из одной плоскости в другую. Но в
следующую плоскость попадает не сам новый объект-группировка, не структура,
созданная сопоставлением, а один знак, замещающий эту структуру.
Этот знак точно так же может выступить в качестве функционального объекта, он организуется
в новые структуры сопоставления – это могут быть таблицы, матрицы и т.п. – и снова замещается
одним знаком. Новая структура опять свертывается в одном объекте, и это создает условия и
возможность для появления новых действий и способов оперирования. Фактическим объектом
приложения этих действий являются структуры объектов, или, еще точнее, созданные таким
образом содержания. Но реально и актуально мы прикладываем это действие не к ним, а к
замещающему их одному объекту.
Розин. Все эти рассуждения проходят, если при этом не дается объяснение
того, что такое свертывание.
Я говорю здесь о замещении, и, на мой взгляд, это очень хорошее объяснение,
делающее на время ненужным объяснение того, как происходит свертывание.
Точнее, именно тот факт, что мы замещаем структуру сопоставлений одним знаком,
а потом относим этот знак к одному элементу этой структуры как его обозначение и
форму фиксации, и есть объяснение механизма замещения.
Розин. Все равно непонятно, что такое замещение. Значит ли это, что
материал знаков привязывается к структурам сопоставлений? Если у нас была
деятельность с одним объектом, а потом на место первого объекта вступил
другой объект, то это понятно, и понятно, что здесь происходит замещение.
Между первым и вторым объектом нет никаких связей. А когда ты говоришь о
замещении объективных содержаний знаком, то это понимается как связь.
Можно ли и в этом случае понимать замещение таким образом, что с одним
начинают работать вместо другого? Если так, то ты никогда не получишь
знаний.
Ты прав. Знаний таким образом я не получу, но я и не собираюсь их получать.
Мне важно подчеркнуть только один момент. Подобно тому как в практической
деятельности один объект вступает на место другого, так и здесь знак вступает на
место структуры объектов и затем одного из объектов этой структуры. Разница
между этими случаями и тем, что мы имеем в практической деятельности, состоит в
том, что здесь одна деятельность – с определенными объектами – замещается
другой деятельностью – со знаками.
Если вы спросите меня, каким образом осуществляется подобное замещение
одной деятельности другой деятельностью, как все это вообще возможно, то я
отошлю вас к специализированной линии исследований происхождения. Мне важно
пока не анализировать эту сторону дела, а просто зафиксировать, в чисто
феноменологическом плане, сам факт замещения. Я понимаю, что при этом
совершенно опускаются или не могут быть исследованы многие стороны той
действительности, о которой мы сейчас говорим.
Например, меня уже давно занимает и волнует вопрос о том, как мы переносим
некоторые характеристики индикатора и изменений, происходящих в нем, на
исходный, исследуемый объект. Когда исходный объект окрашивает лакмусовую
бумажку в красный цвет, то мы говорим о свойстве или способности этого объекта
окрашивать лакмус. Лакмусовая бумажка покраснела, а мы, осуществляя
удивительную мистификацию, говорим, что исходный объект обладает свойством
окрашивать лакмусовую бумажку. Иначе, мы говорим: исходный объект есть
кислота, т.е. объект, окрашивающий лакмус в красный цвет.
Мы говорим это и при этом не краснеем. Может быть, именно в этом заключена
основная тайна мышления и все мистификации, которые оно создает, его успехи и
его «неточности». Какими основаниями и средствами нужно обладать, чтобы из
факта покраснения лакмусовой бумажки заключать о некоторых свойствах самого
объекта?
Для современной физики это – одна из основных методических проблем (см.,
например, статью Руммера и Рывкина в журнале «Вопросы философии», 1964, №
7). В теоретическом плане эта проблема формулируется так: является ли свойство
отношением или отличается от него? Здесь надо заметить, что само понятие
свойства нужно нам для того, чтобы прогнозировать наш опыт.
Следовательно, мы на основании одного фиксированного отношения должны
судить о других, будущих отношениях. Именно для этого вводится понятие
«свойство». Но как вводятся свойства, как они работают, чем они являются в
онтологическом плане – все это еще не объяснено. Здесь мы сталкиваемся с
проблемой объекта и объектности, а также того, что «свойственно».
Теперь я вернусь к замечаниям Розина. Ведь здесь, по-моему, надо очень четко
различать две деятельности. Деятельность по созданию группировок и структур
сопоставлений, выделяющих определенное содержание, – это одно. А потом мы
должны подняться в более «высокий» слой деятельности и оперировать с этими
структурами или содержаниями, посредством них выделенными. Ясно, что здесь
нужна уже иная деятельность, нежели та, посредством которой мы создавали саму
эту группировку и выделяли новое содержание. Если это должна быть другая
деятельность и если это понятно, то все твои вопросы, по сути дела, снимаются.
Мне здесь важно, что эта деятельность с новым содержанием должна быть впервые
создана, и она строится в соответствии с характером выделенного содержания.
Особенность знаков состоит в том, что их материал лишь в некоторой степени
определяет характер действий с ними.
Таким образом, знаки – это объекты, идеально пригодные для того, чтобы
подставлять их в качестве заместителей или репрезентантов исходных содержаний.
Они хороши тем, что не имеют своей собственной суверенной воли и выступают во
вновь сконструированной деятельности как чистые метки содержания. Поэтому,
когда я говорю, что деятельность со знаками замещает деятельность с
содержаниями, то это известная натяжка, ибо действий с содержанием нет и они не
могут быть созданы.
Действия со знаками есть форма, в которой осуществляются действия с
содержаниями, и ни в какой иной форме они и не могут осуществляться. Поэтому
правильнее говорить не то, что действия с содержаниями замещаются действиями
со знаками, а то, как я это и делал с самого начала, что они осуществляются в форме
действий со знаками.
Мне важно подчеркнуть двойственный и сложный характер понятия
содержания. Нередко мы говорим, что оно вычленяется в исходном, изучаемом
объекте. Но это лишь одна сторона дела. Другая, более важная, состоит в том, что
мы создаем некоторую группировку или структуру из объектов, и, фактически, она
становится тем, с чем работают и действуют потом. Содержание, таким образом,
создается деятельностью человека. Содержание есть, по сути дела, более широкая
структура, нежели исходный объект; она его объясняет; это структура, созданная
сопоставлениями объектов. Но сама эта структура, созданная сопоставлениями,
особым образом центрирована. Элементы в ней неравноправны; одни из них занимают особое
место, благодаря тому, что к ним мы затем относим замещающий знак и выражаемое в нем знание.
Именно эта процедура и создает содержание как свойство объекта, она же
создает, выделяет сам объект (в узком смысле этого слова). Таким образом,
свертывание, о котором ты говоришь, происходит за счет мистической роли знака.
Исходная структура сопоставлений обозначается знаком, а знак затем относится к
объекту. Таким образом, решение той методической задачи, которую не могут решить
Руммер и Рывкин на пути анализа объектов как таковых, легко решается в другом «пространстве», в
пространстве «предметов», создаваемых связкой структур объектов с замещающими их знаками.
Мне важно подчеркнуть, что мы фиксируем в знаке не просто объект Х, а то,
что мы изображаем как Х. Но это и есть особое символическое изображение для
того, что выступает как структура сопоставления.
Итак, некоторое время мы движемся и работаем в нижней плоскости объекта.
Потом мы поднимаемся в более высокую плоскость, на следующий этаж того
здания, здания мира, которое строится людьми. На этом следующем этаже
находятся знаки и действия, прикладываемые к ним. Складывается, таким образом,
структура или иерархия вида:
(А
)
Х
Когда все это уже сложилось, мы приступаем к логическому анализу и хотим
понять, что такое (А) и что такое (А), и что такое Х. Мы хотим понять, чем
являются так называемые значения, смыслы и содержания знака. Я хочу
подчеркнуть, что понятие содержания при таком способе движения отнесено не к
объектам, а к знакам и знаниям. Мы говорим не о содержании объекта или в
объекте, а о содержании знака или знания. И здесь нам приходится ответить – если
сделать скидку на некоторую неточность постановки самой проблемы,
обусловленную тем, что мы ставим вопрос о содержании отдельного,
изолированного знака, – что это содержание заключено в той структуре
сопоставлений объектов, которая была создана в нижележащей плоскости.
Розин. Это непонятно. Если ты говоришь, что знак используется вместо
структуры сопоставления объектов, то это не пройдет.
Я уже говорил об этом выше. Здесь не может быть замещения в том смысле, в
каком ты употребляешь это слово. Здесь знаком и действием, приложенным к нему,
замещается не структура объектов, взятая в действиях, ее создающих, а те действия,
которые должны были бы быть приложены к созданному таким образом
содержанию, если бы мы хотели им оперировать. Таким образом, действие со
знаком замещает некоторое мнимое, подразумеваемое действие с содержанием,
которого еще нет, которого не может быть, которое может появиться только как
действие со знаком.
Снова повторяю, что ты здесь постоянно делаешь одну и ту же ошибку, полагая,
что содержание существует именно как содержание, отдельно от формы, и что
между формой и содержанием устанавливается связь, подобная связи между двумя
вещами. Если ты откажешься от этой ложной мысли, то все станет на свое место и
твои вопросы просто отпадут.
Розин. По сути дела, говоря о замещении, ты всегда привносишь сюда особые
моменты. Ты говоришь, что мы фиксируем содержание в знаке или что мы
относим знак к объекту и т.д. То есть ты каждый раз переходишь на иной язык.
Ты здесь всюду начинаешь говорить о мистической функции и роли знака. Ты
начинаешь пользоваться иными понятиями, нежели понятие замещения.
То, что ты говоришь о разных языках, имеет бесспорный реальный смысл, и над
этим надо подумать. Но я много раз уже говорил об условности употребления здесь
термина «замещение». Возможно, что употреблять этот термин и отождествлять его
или даже как-то сопоставлять с замещениями объектов и практической
деятельности неправильно. Все это, повторяю я, нужно подробно обсудить.
Но в этом контексте все это для меня несущественно. Мне нужно
зафиксировать и объяснить лишь строение двух плоскостей, расположенных одна
над другой, и зафиксировать сам факт перехода в ходе развития мышления от одной
плоскости к следующей, более «высокой». Я снова повторяю, что в следующем
докладе я специально разберу способ рассуждения, продемонстрированный
В.М.Розиным; я постараюсь показать, что так рассуждать нельзя. А сейчас мне важно передать
вам свое общее представление об этой действительности.
Я утверждаю, что понять природу знаков и объектов, с которыми работает
человек, не учитывая того, что человек вообще всегда живет в искусственном, им
построенном, структурированном и иерархированном мире, невозможно. Мы
должны исходить из структуры, содержащей ряд плоскостей, или слоев замещений.
Я утверждаю: если вы хотите понять, что такое форма и содержание, то вы прежде
всего должны взять всю эту структуру в целом.
Чтобы доказать факт существования такой структуры и объяснить ее
устройство, нужно провести специальные генетические исследования. Я этим
сейчас не занимаюсь. Я исхожу из существования этой структуры, как из данного. Я
анализирую ее, показывая, каким образом мы вводим понятие формы и содержания
на этой структуре и зачем нам нужно введение этих понятий.
Несмотря на то, что Розин является для нас крупнейшим специалистом по
генетическим исследованиям, несмотря на то, что именно ему принадлежит
большое число работ, объясняющих происхождение и становление этой структуры,
он, утверждаю я, не сумел понять сути и природы абстракций формы и содержания
и не умеет пользоваться ими правильно. Суть проблемы заключается в следующем.
Слева у нас охарактеризованная выше структура. Мы особым образом
подходим к ней и пытаемся проанализировать ее, пользуясь категорией формы и
содержания. В чем суть этого анализа и как мы его осуществляем?
A
A
X
“
ф
о
р
м
а
”
“
с
о
д
е
р
ж
а
н
и
е
”
Пока мы ввели лишь термины «форма» и «содержание». Мы хотим понять, что
именно они обозначают, или, иначе, что именно с их помощью выделяется и
фиксируется. Ответить на эти вопросы – это и значит ответить на вопрос, что такое
содержание и форма. В частности, мы должны решить вопрос, существует ли
содержание в виде некоторой субстанции. Иногда говорят, что содержание – это
деятельность. Но это неправильно, ибо ведь в изображенной слева структуре мы
имеем только статические образования: внизу, в плоскости содержания –
определенные структуры сопоставлений, а наверху , в плоскости формы
– отдельные знаки или знаковые системы. И нам нужно ответить на
вопрос, почему, собственно, одно мы называем содержанием, а другое –
формой.
Мне кажется, что употребление понятия деятельности в этой связи создало ряд
неправильных интенций и что это нередко приводило нас к ошибкам. Мы провели
большой цикл исследований, которые важны в том плане, что они позволили нам понять, в чем наша
ошибка, и уточнить исходные понятия. Но сами исходные понятия и попытки интерпретировать
изображение левой (на схеме) структуры как структуры деятельности были ошибочными. Я буду
говорить об этом дальше.
Нам ясно, что в качестве субстанции содержание существовать не может. Но
если это не субстанция, то тогда, говорят, это – деятельность. Я утверждаю, что и
этот тезис – неправильный, что содержание есть некоторая структура, созданная
действиями сопоставлений объектов. Эта структура является некоторой
целостностью и некоторой единицей.
Мистификация содержания и попытки трактовать его как деятельность
возникли, мне кажется, из-за того, что мы ввели символическое изображение Х. А
эта трактовалась и понималась нами как момент деятельности, часто – как
операция. И сколько мы ни говорили, что содержание есть фактически не одно , а
Х и что я мог бы поставить все это в квадратные скобки и заместить одной буквой
С и тогда тот факт, что содержание есть структура сопоставлений, выступал бы
отчетливо, тем не менее, эта сторона дела недостаточно осознавалась, и мы
продолжали трактовать содержание как деятельность, а не как чистые отношения и структуры.
Здесь мне хочется обратить внимание на один момент, который и образует
основу той мистификации, которую призвано осуществлять мышление.
Сопоставление объектов осуществляется за счет действий. Именно действия
сопоставления мы фиксируем в значках черточек в схеме сопоставлений. Когда
действие сопоставления осуществляется, то можно считать, что эта структура
существует, когда же действия сопоставления осуществились и закончены, то
структуры сопоставлений больше нет. Ее больше нет, но мы при этом перескочили
к знаку и начинаем работать с ним. Отношения замещения больше нет, и, чтобы оно
образовалось, нужно знак отнести обратно к каким-то элементам объективной
плоскости. Но к чему, спрашивается, вы будете его относить? Вы можете
отнести знак либо к исходному объекту, к Х, либо к объекту -эталону,
либо к индикатору. Но к индикатору, как я уже говорил, он отнесен
быть не может: по его изменениям мы судим о свойствах исходного
объекта или объекта -эталона.
Поэтому нам остается относить его только к тому, что есть и осталось,
следовательно, не к структурам сопоставлений, а либо к исходному объекту, либо к
объекту-эталону. Но в этой новой ситуации между ними, фактически, нет никакой
разницы, они абсолютно одинаковы – как объекты, неразличимые с точки зрения
определенной деятельности.
В более сложных структурах сопоставлений объект-эталон неравнозначен
исходному объекту, например, часы как эталон движения неравнозначны другим
движениям, и потому, что они стандартизированы, и потому, что они особым
образом сконструированы, в частности имеют циферблат. Поэтому в этих более
сложных случаях мы никогда не познаем и не сознаем в качестве объекта эталоны, а
всегда относим знак к исходному объекту.
Но тогда единственным образом решается и вопрос о том, где и как может
существовать содержание. С одной стороны, содержание есть структура
сопоставлений, в которую исходный объект Х входит в качестве элемента – и в этом
плане, наверное, точнее и нагляднее было бы рисовать все это как
x
– а с другой стороны, оно может существовать лишь в том, что остается после
сопоставлений и к чему относится в конечном итоге наш знак, то есть оно может
существовать лишь в объекте Х. Именно с этого места – а мы его должны
запомнить – я начну в следующий раз обсуждение того способа рассуждения,
который нам представил в свое время В.М.Розин.
Итак, я пытался ответить на вопрос, что такое объективное содержание.
Причем, не столько рассмотреть его именно в функции содержания и объяснить,
почему оно является содержанием – это требует специального обсуждения, –
сколько в плане того, что это вообще такое. Далее я должен ответить на вопрос, что
такое знаковая форма и, главное, что такое связь замещения. В частности, что
изображают две стрелки, которые мы обычно вводим в эти схемы. При обсуждении
этого круга вопросов, мне придется полемизировать с другими подходами, которые
были в нашей истории.
28.06.1965
Схемы и объекты в деятельностной онтологии
Как обычно, я начну с краткого резюме основных положений двух прошлых
докладов.
Мы ввели в качестве исходной схему:
Объективное содержание___________ знаковая форма
связь значения
Я говорил, что эта схема несет на себе много различных смыслов, которые
сложным образом переплетаются и содержат целый ряд противопоставлений
другим точкам зрения и концепциям. Затем я начал систематически разбирать все
эти противопоставления. Прежде всего эта схема и способы ее употребления в
анализе были противопоставлены традиционному формально-логическому подходу
к анализу знаковых текстов. В самом суммарном и грубом виде различие этих двух
подходов может быть изображено следующей схемой. Способ работы формального
логика может быть представлен примерно так:
текст1
текст2
логик
см
ы
сл
Имеется некоторый текст. Это – знаковая цепочка, с которой работает
исследователь. Прежде всего он подходит к этому тексту, как всякий другой
мыслящий человек. Он понимает этот текст, а это значит, что за материалом
значков он видит некоторый смысл. Мы пока не знаем, из чего складывается этот
смысл, но всякий человек, знающий данный язык, так или иначе понимает
подобный текст. Если мы спросим такого человека, в чем именно состоит смысл
читаемого им текста, и таким образом поставим перед ним задачу передать этот
смысл каким-то иным способом и в иной форме, нежели то, как он выражен в уже
имеющемся тексте, то он, по-видимому, даст нам какой-то другой текст или какоето другое знаковое выражение этого же самого смысла. Обычно считается, что это
второе изображение будет изображением того же самого смысла, и в практике
нашей работы мы обычно бываем удовлетворены этим, т.е. подобным двояким
представлением одного и того же смысла. Мы говорим, что человек сказал нам «то
же самое, но другими словами». Когда у нас есть два таких текста – первый и
второй, выражающие один смысл, – то за счет особого их сопоставления мы
начинаем отделять смысл как таковой от его выражения, или от плана выражений.
Один текст мы начинаем рассматривать как выражение смысла как такового, другой
– как форму его выражения. При этом не важно, какой именно текст выступает для
нас в качестве смысла, а какой – в качестве формы его выражения. Каждый раз
второе знаковое выражение будет считаться другим выражением того, что
представлено в первом тексте. Вот позиция формального логика.
Для того чтобы отделить нашу позицию от этой, мы к первому изображению
добавим изображение еще одного логика, который сознательно и принципиально
подходит к анализу этих текстов иным путем и способом. Объект рассмотрения
второго логика – вся первая ситуация, т.е. и тексты, и первый логик, их читающий и
понимающий. Схематически это можно представить так:
(А)
Х
текст
логик2
логик1
смысл
В качестве призмы, через которую второй логик смотрит на всю эту ситуацию, призмы,
задающей сам способ видения этой ситуации, выступает схема, которую мы изобразили
выше – связи знаковой формы с объективным содержанием. Эта схема выступает как шаблон, или
трафарет, через который второй логик видит сам текст. Мне важно подчеркнуть: не понимание
текста первым наблюдающим, нет, а сам текст. Благодаря этому текст выступает как
двухплоскостное образование.
Далее, второй логик может поставить особую группу вопросов: как текст,
имеющий такую структуру, понимается первым логиком? как в таком тексте
выделяется смысл? – и т.п. Но все это будут следующие этапы работы, относящиеся
уже к другим предметам. Все знания, получаемые о процессе понимания, будут
относиться им не к тексту как таковому, а к ситуации чтения и понимания текста
первым логиком. Значит, поставив вопрос о понимании текста, второй логик
переменит объект исследования. Мне важно также подчеркнуть, что он должен
будет относить это понимание к тексту, представленному в двух плоскостях, и,
возможно, к еще более сложным структурам предмета.
Из сопоставления двух приведенных выше рисунков следует, что объективное
содержание в моем понимании отнюдь не равнозначно смыслу. Это – два разных
понятия, относящиеся к разным предметам. Смысл – это то, что видит и выделяет
человек, читающий текст, а объективное содержание – это элемент самого текста.
Точно так же нетрудно заметить, что если мы ставим вопрос о природе и
объективном строении текста, то на первом этапе мы должны будем вообще
отбросить понимающего человека и тот смысл, который он выделяет в тексте. Мы
должны будем понимать текст как образование, объективно имеющее
двухплоскостную структуру, независимо от того, включено оно в процесс
понимания его каким-то индивидом или не включено.
Именно здесь, таким образом, происходит отделение собственно логикосоциального плана анализа от психологистического плана анализа, привносящего в
анализ знаков понимающего их индивида. Именно последняя позиция приводит к
тезису, что не существует значений знаков вне людей и процессов понимания ими
этих знаков.
С точки зрения второго плана анализа как объективные содержания знаковых
текстов, так и их значения существуют совершенно безотносительно к работе
понимания текстов теми или иными индивидами. Знаки объективно имеют
значение, и только поэтому они – знаки. А уже затем эти объективно
существующие содержания и значения понимаются индивидами и предстают перед
ними как некоторый смысл. Но это будет уже второй, дополнительный предмет.
Я кратко изложил первую линию противопоставлений нашей схемы другим
точкам зрения. Она докладывалась вам в позапрошлый раз. Сейчас мне важно было
еще раз резюмировать этот результат, так как, несмотря на резко проведенное
противопоставление двух возможных точек зрения, по-прежнему вставали вопросы,
можно ли говорить о значениях и содержаниях знаков как о чем-то объективно
существующем и независимом от процессов понимания. Я старался показать, каким
образом нами вводятся различные абстракции и при какой именно абстракции мы
получаем право говорить о содержаниях и значениях как о чем-то объективно
существующем. Я сейчас не обсуждаю вопрос, соответствует ли это
действительности, так как в контексте нашего движения он не имеет смысла. Мне
важно было показать, каким образом мы приходим к такой абстракции и задаем
наши предметы изучения.
Второе принципиальное противопоставление, которое рассматривалось мной во
втором докладе, касалось классической сенсуалистической схемы познания,
сводящей его к разным уровням отражения. Напомню вам, что в самом грубом виде
она предстает как схема следующего вида: есть объекты, которые действуют на
органы чувств человека, в анализаторах возникают ощущения, они затем
перерабатываются в восприятия, последние перерабатываются в мысли или в
концепты, мысли выражаются в знаках, а знаки относятся к объектам, благодаря
чему складывается связь обозначения. Последняя связь – обозначения – выступает
как продукт и результат всего процесса отражения, изображенного этой схемой, как
продукт психической работы индивида, как продукт работы его головы.
В прошлый раз я говорил вам о том, что самый тяжелый, можно даже сказать,
сокрушительный удар сенсуалистической схеме мышления наносит даже не столько
то, что все ее элементы и связи оказались необоснованными с эмпирической точки
зрения и противоречат всему тому, что мы получаем в разных науках, и даже не то,
что эта схема, фактически, так и не была построена как некоторая модель с
достаточно правдоподобными механизмами, а то, что развертываемое в ней
представление о механизмах отражений и познаний не могло быть согласовано с
социолого-исторической точкой зрения. Я говорил о том, что во многих из
бытующих сейчас и господствующих концепций эклектически соединяются
совершенно
разнородные
вещи:
вульгарно-материалистическая
и
сенсуалистическая схемы познания с Марксовым представлением о социальной
природе языка и мышления. Но они соединены быть не могут. В этой связи я
говорил, что сейчас все работы в области наук о духе распадаются на две резко
противостоящие друг другу группы.
Одну группу представляют работы, в которых делается попытка рассмотреть
все предметы, в том числе язык и мышление, на основе действительно
социологических представлений – как некоторое социальное явление, как явление,
носителем которого является социум как таковой.
Другую группу – те работы, которые пытаются оживить и использовать эту
вульгарно -материалистическую схему. Это – собственно психологистическая,
или, как иногда говорят, физиологистская точка зрения, представляющая
теоретически давно опровергнутые, а практически очень живучие взгляды. Она
возобновляется все вновь и вновь, в первую очередь благодаря попыткам
инженерного анализа и конструирования машин, воспроизводящих мышление.
Анализ неудач, связанных с использованием этой схемы заставил нас поставить
вопрос о совершенно ином задании предмета исследования. Я говорю о том, что
нечто, представленное нами в виде связи между знаками и объектами, нечто,
лежащее вне головы индивида, может быть выделено в качестве основной и
исходной связи, в качестве особого предмета исследования, и для объяснения (как
своего происхождения, так и своего функционирования) совершенно не нуждается в
ссылках на мыслящую человеческую голову. Наоборот, все ссылки на мыслящую
голову привносят в изучение этого предмета массу затруднений и парадоксов,
вообще делают невозможным развертывание этого предмета, ибо все апелляции к
голове до сих пор являются мистическими и, по сути дела, ненаучными.
Я утверждал в прошлый раз, что если мы выделим этот предмет и начнем его
развертывать, то мы таким образом получим то, что образует основу, или ядро, всех
тех процессов и явлений, которые обычно называются мышлением. Я подчеркивал,
что все попытки связать происхождение этого предмета с работой головы, с тем,
что происходит там или оттуда проистекает, ложны. Здесь очень точным, на мой
взгляд, является высказывание А.Н.Леонтьева. Он сказал, что мышление не
продуцируется головой, а проходит через голову, вступая в нее извне и затем
выходя из нее опять вовне. Можно сказать, что мышление существует вне головы
индивида, там оно возникает и там же, как правило, протекает. А то, что появляется
в голове, есть уже отражение того мышления, которое сначала существует вне ее.
Итак, именно в связке между объектами и знаками существует то, что образует
сердцевину и ядро мышления.
Обсуждая весь этот круг вопросов, я подчеркивал, что, строя теорию
мышления, мы все время исходили из идеи вос хождения от
абстрактного к конкретному. Мы понимали, что отнюдь не все стороны
и свойства реально существующего мышления могут быть поняты при
ограничении предмета исследования лишь тем, что выражено на этой
схеме связки объектов и знаков. Но мы полагали, что на основе этой схемы,
исходя из нее и развертывая ее, можно будет затем понять и все другие стороны и
свойства мышления, в том числе, подключая голову, и те, которые происходят в ней
и характеризуют индивидуальное приспособление отдельных людей к социальному
человеческому мышлению. Мы полагали, что все остальные свойства мышления
должны объясняться на основе этой исходной структуры. Вопрос, следовательно,
заключался только в том, как ее построить, чтобы затем можно было осуществить
названную программу.
Итак, отношение объектов и знаков есть исходный предмет нашего
анализа. Но когда мы говорим: отношение между объектами и знаками,
то мы задаем лишь некоторую установку, некоторую интенцию на
предметную область. Мы еще ничего не говорим о том, как должен
строиться и развертываться этот предмет. И поэтому вопрос
заключается в том, как его нужно построить и развернуть. Здесь мы
переходим к собственно методическому вопросу о средствах, путях и методах
построения науки вообще и научной теории в частности.
Развернуть предмет некоторой науки – это значит построить, создать особые
структурные схемы, которые бы задавали модели, или систему моделей, этого
предмета. Затем нужно оправдать эти схемы как задающие некоторую онтологию
развертываемого предмета с точки зрения более широкого целого. Для нас это
означало, что исходные схемы языкового мышления нужно было поместить внутрь
схем социального целого. После этого нужно было построить собственно знания,
описывающие разные стороны этой действительности, знания, которые мы могли
бы использовать в каких-то практических ситуациях.
Но, чтобы ответить на вопрос, как построить подобный предмет и как его
развернуть, мы должны предварительно поставить вопрос еще более общего
характера. Мы должны поставить вопрос о том, как вообще развертываются
подобные предметы, чем мы при этом пользуемся. Этот вопрос имеет прямое
отношение ко многим из тех замечаний и реплик, которые были сделаны на двух
предыдущих докладах. Здесь важно подчеркнуть, что, говоря о связке между
объектами и знаками, я указываю отнюдь не форму представления предмета моих
исследований, я лишь указываю примерно на ту область эмпирического материала,
которая должна быть описана в новой теории.
Я говорю, что наше исходное определение языкового мышления задает
примерно ту область, которая должна быть описана, а потом я спрашиваю, как же,
собственно, должен быть построен соответствующий предмет. Поэтому, если
схематически изображать то, что я делаю, то нужно задать сначала наше исходное
структурное изображение, по нему определить эмпирическую область, видеть эту
эмпирическую область как то, что изображено в исходной схеме, потом как бы
стереть эту схему и считать, что мы имеем черный ящик, который еще должен быть
каким-то образом структурно представлен и описан в знаниях:
знаки
схема:
объективное содержание
область предмета,
который мы строим
эмпирическая
область
Итак, я должен начать с обсуждения вопроса, как вообще может происходить
развертывание предмета науки и как мы вообще работаем при задании подобных
предметов.
Первое, что должно быть подчеркнуто, это примат схем, задающих предмет и
область эмпирической обработки.
Схема вида:
объективное содержание __________ знаковая форма
является первой схемой, которую мы вводим в теории языкового мышления.
Она задает нам, с одной стороны, область эмпирического материала, а с другой –
все дальнейшие схемы предмета.
Но здесь необходимо спросить в собственно объективном плане: что же именно она задает?
Дело в том, что наряду с этой схемой мы имеем еще эмпирическую область, которая задавалась
отнюдь не нашей схемой, а всеми теми представлениями о мышлении, которые были накоплены в
истории науки. Поэтому кроме схемы и того, что она задает в эмпирическом материале, у нас
имеется еще один, особый способ задания эмпирического материала, относимого нами к сфере
мышления.
И здесь возникает целый ряд довольно сложных вопросов особого рода. Мы
будем относить к эмпирическому материалу различные тексты, в которых
зафиксированы результаты мыслительной работы различных людей; возможно,
сюда нужно будет отнести и еще какие-то, иного рода, проявления, например сами
акты мышления, если мы их сможем схватить в каком-то непосредственно данном
материале, отличном от самого текста.
Мне сейчас не важно, что именно попадает в эмпирическую область. Мне важно
очертить сам функциональный блок эмпирического материала и подчеркнуть, что
его определение и ограничение является отнюдь не простым делом и задается
всегда несколькими различными процедурами. Мне важно сказать, что всегда
существуют
особые
описания
эмпирического
материала,
заданные
предшествующими научными разработками.
Вполне возможно, что эти описания сами входят и должны быть включены
нами в эмпирический материал. Этот вопрос, очень интересный сам по себе, не
может анализироваться мной сейчас. Я рассматриваю не строение эмпирической
области, а лишь ее содержание. И здесь важно подчеркнуть неопределенность
очерчивания, или ограничения, области эмпирического материала для мышления.
Это значит, что на первом этапе мы не можем быть уверены в том, что
правильно и достаточно полно очертили эту область, что в нее попали все акты
мышления и вместе с тем не попали какие-то другие явления, по сути дела, не
являющиеся мышлением. Вы понимаете, что сказанное в полной мере относится и к
описаниям эмпирического материала.
Итак, вводимые нами схемы с самого начала существуют как бы в
треугольнике:
о
п
и
с
а
н
и
е
э
м
п
и
р
и
ч
е
с
к
о
г
о
м
а
т
е
р
и
а
л
а
с
х
е
м
а
э
м
п
и
р
и
ч
е
с
к
и
йм
а
т
е
р
и
а
л
Теперь возникает вопрос: как мы будем работать с таким схематическим
изображением, что, собственно, с ним будем делать, развертывая предмет
исследования?
В позапрошлый раз я уже говорил, что этот вопрос довольно подробно
разбирается в моей работе «К методологии исследования деятельности и
взаимоотношений людей», выполненной около года назад. Я не буду повторять всех
рассуждений, проведенных там, лишь очень коротко повторю основные моменты.
Схема может использоваться прежде всего как некоторый трафарет, который
накладывается на некоторые фрагменты эмпирического материала и вырезает из
него «куски», соответствующие этой схеме. Тогда где-то, образно говоря, «между»
эмпирическим материалом и схемой будет строиться ряд или колонка «схемизображений». С помощью них мы будем вырывать из эмпирического материала
отдельные фрагменты, соответствующие схеме. Если мы накладываем наши
схемы-средства на эмпирический материал – а, по сути дела, мы как бы
выуживаем таким образом некоторые куски эмпирическ ого материала, –
то каждая из полученных таким образом схем -изображений предстает
перед нами как некоторый кусочек эмпирического материала с
наложенной на него схемой, т.е. как кусочек эмпирического материала,
организованный этой схемой. При этом эмпиричес кий материал как бы
штампуется, т.е. расчленяется и объединяется в соответствии с этой
схемой, а сама схема, как мы обычно говорим, специфицируется
благодаря этому эмпирическому материалу.
Это значит, что, помимо того значения, содержания и смысла, которые она
имела раньше как схема-средство, она приобретает еще все то, что имелось в
соответствующем эмпирическом материале, всю сумму зафиксированных в нем
признаков объекта. Наша схема, таким образом, как бы насыщается «мясом»
эмпирического материала.
Итог этой работы – никак не связанный между собой набор отдельных схемизображений, фиксирующих отдельные фрагменты того, что мы называем
мышлением. Нетрудно сообразить, что характер всех этих единиц заранее задан
характером нашей схемы-средства. Таким путем мы не можем получить ничего
структурно большего, чем то, что было заложено с самого начала в этой схеме.
Поэтому вся область эмпирического материала, которую мы обрабатываем,
распадается на множество совершенно одинаковых с точки зрения структуры
образований, относимых к разному эмпирическому материалу и представляющих
его.
Совершенно очевидно, что таким образом нельзя построить ни теории, ни
предмета нашего исследования. Но такое утверждение – это уже переход к
следующим, другим функциям схем, а мне пока важно отметить, во-первых,
функцию трафарета, в которой выступает схема-средство, а во-вторых, функцию
изображения некоторого эмпирического материала, которую эта же схема
приобретает, благодаря отнесению ее к эмпирическому материалу.
На мой взгляд, одним из очень важных достижений нашего семинара было это
различение названных выше функций и его закрепление в нашей работе. Мне важно
подчеркнуть также, что это различение не является столь уж простым и
тривиальным, как это может показаться на первый взгляд. Здесь самое главное, что
применение схемы-трафарета ничего не меняет в самой этой схеме. От того, что мы
использовали ее в качестве штампа и наложили на эмпирический материал, в самом
штампе ничего не изменилось. Результат употребления штампа – появление
некоторого нового образования – схемы-изображения. Смешение этих двух
образований и, соответственно, двух разных функций схемы происходит очень
часто, чуть ли не у всех и приводит к большим затруднениям и ошибкам в анализе.
Как я уже сказал, путем наложения отдельных схем-средств на эмпирический
материал нельзя получить системы предмета и нельзя развернуть теоретическую
картину изучаемой действительности. Поэтому эти же, в принципе, схемы – а я с
самого начала рассматривал их как исходные – должны выступать в качестве
материала для получения более сложных схем-средств, они должны стать
«клеточками», из которых мы будем затем развертывать тело нашего предмета.
Классический пример такого использования схем – «Капитал» К.Маркса. Уже
Маркс и Энгельс дали нам весьма существенное и важное осознание методов своей
работы, понятие клеточки и идею восхождения от абстрактного к конкретному,
которая в дальнейшем анализировалась А.А.Зиновьевым и Э.В.Ильенковым.
Здесь можно и нужно поставить вопрос о том, каким образом развертываются
подобные схемы и, в частности, в какой мере при этом используется эмпирический
материал, в какой мере сама процедура дедуктивного развертывания исходных схем
связана с движением по этому материалу. Это очень интересная тема, но я сейчас
полностью отвлекаюсь от нее. Мне важно подчеркнуть лишь один момент: как бы
ни строились эти процедуры развертывания, в конечном счете они обязательно
должны выступать как зафиксированные в некоторых правилах работы и
определяемые ими.
Мне важно зафиксировать также сам факт, что в результате этой работы из
исходной схемы должна родиться другая, более сложная схема. Потом, на основе
той же самой процедуры или какой-либо другой, заданной нами аналогичным
образом, должна быть получена еще одна, третья схема, более сложная, чем вторая,
и т.д. Вполне возможно, что на первых этапах переходы от первой схемы ко второй,
от второй к третьей и т.д. осуществляются на основе анализа самого эмпирического
материала, и сами схемы выступают как изображения этого материала. Внешним
образом дело выглядит так, как будто мы просто находим вторую схему,
изображающую новый эмпирический материал; примерно так:
э
м
п
и
р
и
ч
е
с
к
и
й
м
а
т
е
р
и
а
л 1
с
х
е
м
а1
э
м
п
и
р
и
ч
е
с
к
и
й
м
а
т
е
р
и
а
л 2
с
х
е
м
а2
От обычного подбора схемы для какого-то выделенного эмпирического
материала эта работа отличается только тем, что вторая схема строится в связи с
первой, из тех же аналогичных элементов и связей. Построение второй схемы
может опираться и сначала всегда опирается на содержание и движение в нем, но
поскольку вместе с тем учитывается связь с первой схемой и эта связь предполагает
какие-то структурные отношения и соответствия, то тем самым создаются условия
и предпосылки для установления между первой и второй схемой также и
формальных, собственно объектных, собственно структурных связей и
формулирование их в определенных правилах. Сначала эти соответствия лишь
витают перед глазами исследователя и учитываются им, а все движение
осуществляется по самому содержанию. Но затем, когда несколько таких схем уже
построено и можно анализировать их как объекты, находя структурные связи между
ними, тогда появляется возможность выделять и формулировать сами процедуры
переходов, фиксировать их как некоторые регулярные переходы и таким образом
переходить к собственно дедуктивным процедурам.
Примером подобных
правил можно считать
идею расщепления
противоположностей через противоречия, использованную Марксом при
развертывании исходной схемы товарного отношения в «Капитале». Сейчас мы уже
отчетливо поняли, что подобный механизм ни в коем случае нельзя искать в
объектах как таковых, в единичных объектах. Им обладают лишь идеальные
предметы. В этом случае сама категория противоречия (в отличие от,
например, противоречия между классами) является не чем иным, как
определенным формальным правилом и регулятивом для развертывания
формальных теорий генетического
типа. Эта категория дает
возможность в рамках особой, генетической, теории воспроизводить
процессы развития, не анализируя и не изображая действительных
исторических механизмов этого развития. В этом смысл и назначение
подобных категорий.
Возвращаясь несколько назад, надо заметить, что в таких случаях характер
схемы-2, затем схемы-3 и т.д. определяется нашей исходной группировкой
эмпирического материала, а сама эта группировка и его расположение в
соответствии с тем или иным принципом (например, хронологическим) является условием и
предпосылкой выработки соответствующих схем и дедуктивных процедур их развертывания. Это
было отчетливо выявлено уже в генетической биологии (ботанике и зоологии) и специально
анализировалось Б.А.Грушиным в его книге «Очерки логики исторического исследования».
Если у нас имеется одно подобное регулярное правило, то система теории
развертывается очень просто, можно сказать, автоматически, потому что каждая
последующая структура определена характером предыдущей и правилами самого
развертывания. Но чаще всего мы не можем получить достаточно богатых схем и
правильного изображения механизма развертывания сложных объектов. Обычно в
таких случаях мы подключаем еще целый ряд правил и формальных процедур,
которые задают не одну возможную линию дедуктивного развертывания, а целый
ряд линий, которые определяются различными комбинациями наших
формализованных процедур и, образно говоря, ведут в разные стороны, к разным
структурным схемам.
Собственно, это и получилось у Маркса. В первых главах «Капитала» он
развертывал товарное отношение на основе одного механизма – поляризации и
расщепления функциональных сторон товара. Но таким образом не удавалось
вывести и получить многие, зафиксированные в эмпирических описаниях моменты
буржуазного общества. Поэтому уже с середины первого тома «Капитала» строгая
линия применения одного этого отношения заканчивается и в игру вступают другие
механизмы и способы развертывания схем, другие способы рассуждений, которые
не были им так четко осознаны и формализованы, как механизм противоречия.
Я уже говорил здесь, что М.К.Мамардашвили сделал попытку исследовать эти
более сложные схемы рассуждений, но не довел этого дела до конца и не получил
нужных результатов. Я хочу подчеркнуть, что это очень интересная работа, которая
еще ждет своих исполнителей.
Говоря о нескольких возможных линиях развертывания исходных схем, я хочу
подчеркнуть, что в таком случае развертывание схемы чисто формальным путем
уже невозможно, требуется непрерывное обращение к эмпирическому материалу.
Точнее говоря, мы можем провести работу такого формального развертывания, но
лишь в рамках математики, а не эмпирической науки. Это будет чистая
комбинаторика, которая либо задаст нам многообразие возможных (с формальной
точки зрения) структур, либо же сформулирует некоторые правила самого
комбинирования.
Но на этом пути нам не удастся построить ни одной эмпирически значимой и
интерпретируемой на какую-либо объектную область теории. Чтобы получить
эмпирически интерпретируемую теорию, мы должны будем с самого начала
ориентироваться на эмпирически зафиксированный материал и развертывать наши схемы в связи с
этим материалом.
Здесь, как уже ясно из предыдущего, особенно важное значение приобретает
предварительная обработка и группировка этого эмпирического материала, особая
организация. Простейший пример такой организации в случае генетических теорий,
как я уже говорил – чисто хронологическая организация. В этом случае,
развертывая схемы, мы начинаем ориентироваться на этапы появления
эмпирического материала и из всех возможных формализованных нами процедур
развертывания схем выбираем те, которые могут дать нам схемы, адекватные
выбранному эмпирическому материалу.
Мы имеем, таким образом, совершенно очевидную «подгонку» сглаживаемых и
выбираемых нами процедур развертывания схем к эмпирическому материалу. Но в
этом, как вы легко сообразите, нет ничего плохого, так как наша задача и
заключается в том, чтобы систематизировать весь этот эмпирический материал и
облечь его в форму единой структурной теории. Совершенно очевидно, что здесь
появляется целый ряд возможных вариантов (возможных с точки зрения
эмпирического материала) и начинаются дискуссии о том, какой же из них
нужно выбрать.
Я сейчас не вступаю в обсуждение всех тонких и дискуссионных
вопросов, возник ающих в этом контексте. Мне важно подчеркнуть
только одно – новую, третью функцию наших схем, а именно то
обстоятельство, что они должны удовлетворять всем тем требованиям,
которые задаются соответствующей формализованной процедурой
развертывания.
Наконец, подобные схемы должны удовлетворять еще четвертому требованию
и, соответственно, выступать в четвертой функции. Когда мы начали развертывать
наши схемы и получили из них несколько достаточно сложных и разветвленных
структур, когда мы к тому же наложили их в качестве трафаретов на эмпирический
материал (это могло делаться как в ходе развертывания, так и после него), перед
нами встает задача соотнести все эти схемы, взятые в более простом или в более
сложном виде, со схемами той, более широкой, действительности, часть или
сторону которой они представляют. Иными словами, мы должны вписать весь этот
ряд развертывающихся схем в структуру более широкого целого.
Если, к примеру, мы строим теорию мышления, или мыслительной
деятельности, то потом мы должны соотнести все схемы мышления со схемами
социальной, или, как говорили, «массовой», деятельности вообще и найти там, в
более развитых структурах деятельности вообще, место мыслительной
деятельности.
Если же, например, мы строим теорию обучения, то, задав для нее исходные
схемы, мы должны затем вписать их в более широкие структурные схемы
трансляции деятельности вообще. Тем самым мы определим место обучения в
более широкой системе целого и те требования, которые предъявляет это целое к
обучению.
Подобная процедура отнесения схем развертываемого нами предмета к более
широкому целому выступает как построение онтологии этих схем и как
обоснование этой онтологии и, вместе с тем, как средство более точного и тонкого
ограничения эмпирического материала, ибо построение более широкой структуры
объемлющего наш предмет целого выступает как самое мощное средство оценки
эмпирического материала, его расчленения и оценки как относящегося или не
относящегося к нашему предмету.
Выше я уже говорил, что развертывание схем создаваемого нами предмета
определяется задачей охватить весь эмпирический материал; если в этот материал
попали инородные образования, то мы получим ложную установку в развертывании
наших схем. Поэтому разбор и оценку эмпирического материала надо производить
еще до того, как мы начнем строить или окончательно построим наши схемы и
правила их развертывания.
Существуют какие-то наиболее выгодные точки и этапы развертывания схем
предмета, в которых и на которых мы должны производить оценку выбранного
эмпирического материала. И это делается всегда в соответствии с более широкими
схемами. Именно на этих этапах и нужно проводить соотнесение создаваемых нами
схем со схемами более широкого целого.
В дальнейшем я постараюсь показать, что в развертывании схем «формы –
содержания» мы в последний год, по-видимому, достигли как раз такого уровня,
когда стали необходимыми отнесение их к более широкому целому и критическая
проверка с точки зрения онтологической картины, задаваемой этим более широким
целым.
Здесь нужно специально отметить органическую взаимосвязь всех этапов и подразделений
нашей исследовательской работы. Я уже говорил, что характер исходных схем и процедуры их
развертывания определяются предварительной разбивкой эмпирического материала на некоторые
подобласти и определенной их группировкой в соответствии с тем или иным «объективным»
принципом, например хронологическим.
Но, с другой стороны, нетрудно заметить, что и сама разбивка эмпирического
материала на области и группы часто учитывает возможные и допустимые линии
развертывания схем, фактически, исходит из них. Здесь отчетливо проявляется
зависимость как будто бы предварительных этапов работы от казалось бы
последующих этапов. Вместе с тем, появляется сомнение в так называемой
объективности самих принципов группировки эмпирического материала, ведь они
фиксируют, по сути дела, возможные линии формально дедуктивного
развертывания схем.
Мы не сможем разобраться с этим вопросом, если не будем учитывать
классического различения «кажимости» и «действительности», проведенного уже в
античной философии и развитого затем в неокантианстве, в частности в известной
книге Э.Кассирера «Познание и действительность». Здесь возникает целый ряд
тонких вопросов, связанных, в частности, с понятием единицы и целостной области,
которые очень интересны, но которые сейчас было бы очень сложно обсуждать.
Точно так же необходимо отметить двустороннюю связь и зависимость,
существующую между процедурами определения эмпирического материала, его границ, с
одной стороны, и процедурами построения схем – с другой. Раньше я уже говорил – и мы чертили
соответствующую схему, – что каждое из средств и особых блоков науки по-своему
определяет границы эмпирического материала. Поэтому очень часто мы называем
относящимся или принадлежащим к данному предмету то, что зафиксировано нами
в соответствующих схемах.
Например, мы называем языковым мышлением в объектной области все то, что
соответствует нашим схемам языкового мышления. Схематически это можно
представить так:
и
м
я
-о
б
о
зн
а
ч
ен
и
е
с
х
ем
ы
-м
о
д
е
л
и
о
б
ъ
ек
тн
о
-эм
п
и
р
и
ч
еск
а
я
о
б
л
а
сть
Фактически, по этой схеме работает любая наука. И тогда, естественно,
возникает тот парадокс, на который обычно указывают и который точно так же уже
не раз отмечался здесь в репликах: чтобы правильно построить схему-модель, мы
должны заранее знать, что в эмпирической области является мышлением, а то, что
является мышлением в объектно-эмпирической области, мы определяем через
соответствие его нашим схемам.
Как обычно в подобных случаях, преодоление парадокса осуществляется методом
последовательных челночных приближений. Мы попеременно отдаем преимущество и
определенную роль то схемам – и тогда по ним корректируем область эмпирического материала, –
то эмпирическому материалу – и тогда по нему корректируем и перестраиваем сами схемы.
Нередко также спрашивают, куда нужно отнести наши собственные
эмпирические описания изучаемого объекта. Это весьма непростой вопрос. Прежде
всего очевидно, что наши собственные описания занимают особое место. Мы могли
бы отнести их к эмпирическому материалу, но тогда внутри него нужно было бы
выделить особый «мешок», в который они помещены. Ведь чужие описания
являются для нас эмпирическим материалом, поскольку мы их обрабатываем.
Наши собственные описания чаще всего выступают в другой функции –
как то, что мы получили на основе работ со схемами. Если же сами
наши описания будут обрабатываться, станут материалом, то тогда
между ними и чужими описаниями уже не будет никакой
принципиальной разницы.
Здесь важно также отметить, что в ходе нашей работы со схемами мы
непрерывно перерабатываем доставшиеся нам в наследство описания в новые, наши
собственные описания. Но этот вопрос я только отмечаю и совершенно не буду его
обсуждать и анализировать.
Точно так же особый интерес представляет вопрос об условиях и механизмах
перехода к дедуктивной процедуре. Когда у нас уже есть, с одной стороны,
некоторые регуляторные правила развертывания схем, а с другой стороны, задана
область эмпирического материала, которую надо объяснить, то мы всегда стоим
перед выбором чего-то одного в качестве неизменного и определяющего – либо
эмпирического материала, либо самих схем.
В зависимости от тех или иных условий мы отдаем предпочтение одному или
другому. До сих пор это делалось обычно на основе чистой интуиции, а теперь эти
моменты должны быть проанализированы и формально описаны. Надо также
отметить, что никогда заранее не определено число формальных правил, которые
мы будем использовать в создаваемой нами теории. Так, эта теория может быть
более идеализированной и меньше соответствовать эмпирическому материалу, но
зато более компактной и простой в употреблении или же, наоборот, она может быть
более точной и детализированной, но зато менее компактной и более громоздкой в
употреблении. В зависимости от тех или иных условий, мы выбираем тот или
другой вариант.
Нужно также отметить, что процесс развертывания исходных схем в более
сложные отнюдь не всегда строится по схеме развертывания «клеточки» и,
соответственно, восхождения от абстрактного к конкретному. Лет семь-восемь лет
назад мы не видели других форм развертывания исходных схем. Но теперь нам
начинает казаться, что даже сам Маркс не провел сформулированного им принципа
движения в «клеточке» и из «клеточки» вполне последовательно.
Анализируя этот вопрос дальше, мы пришли к убеждению, что объекты такого
рода, как социальное целое вообще, по-видимому, не допускают подобного
построения предмета. В этой связи мы сделали попытку рассмотреть сложные
теории такого вида, в которых разные предметы как бы надстраивались друг над
другом. При этом, с одной стороны, появилось понятие конфигуратора и план-карты предмета,
заранее учитывающей подобную координацию нескольких различных предметов исследования, а с
другой стороны, мы изменили само понятие клеточки, сузив один из его признаков в том плане,
что она должна охватывать не все специфические явления целого, как этого требовал Маркс, а
только некоторые из них, объединенные одним частичным предметом.
На этом критика принципа клеточки не остановилась, и сейчас я отнюдь не
уверен, что понятие клеточки должно формулироваться именно так, как его
формулировал Зиновьев. Вполне возможно, что в дальнейшем, когда будет
накоплен больший эмпирический материал, нужно было бы различить разные виды
клеточки и говорить о разных типах исходных схем и разных способах их
развертывания.
Вполне возможно, что многие из исходных схем такого рода уже не будут
удовлетворять тем требованиям, которые на них наложил Маркс. К этому надо
добавить, что клеточка отнюдь не обязательно должна соответствовать генетически
исходной форме изучаемого целого. Но это утверждение уже во многом тривиально
и давно известно, ибо на это не раз указывали и Маркс, и Энгельс. Надо сказать, что
здесь вызывает сомнение само понятие исторически исходного. Оно требует
специального анализа. В этой связи мы вынуждены были специально анализировать
категорию происхождения.
Когда мы рассматриваем происхождение буржуазного общества, то прежде
всего обнаруживаем, что нельзя говорить о том, что феодальное общество
переходит или преобразуется в буржуазное общество, а последнее может и должно
рассматриваться как надстройка над первым.
Кстати, уже сам Маркс указывал, что первоначально буржуазные отношения
развиваются как бы в порах, внутри феодального общества, и затем как бы
вытесняют и поедают сами феодальные отношения. Точно так же Маркс указывал,
что товарные отношения появляются и начинают функционировать задолго до
появления буржуазных отношений и буржуазного общества.
Таким образом, товарные отношения отнюдь не были исходной формой
буржуазного общества, хотя можно говорить, что в каком-то смысле буржуазные
отношения возникают (возможно!) из товарных отношений. Таким образом, здесь
мы сталкиваемся с особым кругом проблем, касающихся собственно методов и
категорий исторического исследования. Необходимо рассмотреть, что можно иметь
в виду, говоря о происхождении какой-то системы: каковы механизмы
происхождения, какими методами они могут быть исследованы и в каких
структурах они могут быть изображены. Начав исследование этого круга проблем, мы
пришли к довольно резкому и принципиальному выводу, что «история», «псевдогенезис» и
«происхождение» суть принципиально различные механизмы и, соответственно, принципиально
различные категории. Мы выяснили, что гегельянский историзм был на самом деле
псевдоисторизмом и, во всяком случае, не раскрывал механизмов действительного исторического
развития.
Большая заслуга в выяснении этих вопросов принадлежит К.Марксу, и если
сейчас мы понимаем несколько больше, чем понимал Гегель, то это благодаря тому,
что в работах Маркса были резко разведены два вопроса: развертывание структуры
буржуазного обмена, исходя из какой-то исходной структуры, в данном случае
товарного отношения «Т – Т», и анализ исторических механизмов развития
буржуазного общества. Я думаю, все вы знаете и хорошо помните, что в главе 24
первого тома «Капитала» Маркс попытался даже рассмотреть механизмы
исторического развития буржуазного общества.
Поэтому сейчас мы очень резко различаем: а) описание механизмов
исторического развития какого-либо объекта, т.е. воспроизведение в теории
некоторого исторического процесса и б) «генетическое» построение теории.
Генетическое построение теории, с нашей точки зрения, есть вид дедукции, т.е.
некоторый формальный механизм или формальный метод, позволяющий строить
теорию иным образом, нежели традиционные аксиоматические методы в
математике.
– В одном случае связка «знаковая форма – объективное содержание»
выступала в качестве средства нашей собственной работы. Мне неясно,
сохраняет ли такая структура эту функцию средства в тех случаях, когда она
служит исходной схемой для развертывания более сложных структур?
Однажды я уже отвечал, и сейчас я попробую развернуть это более подробно,
что предмет, задаваемый этой схемой, не развертывается и не может
развертываться.
– Следовательно, если мы все же осуществляем процедуру, подобную такому
развертыванию, то это значит, что мы переходим или перешли в другой предмет.
Сейчас я буду обсуждать это более подробно.
– Наверное, здесь вообще нельзя говорить о том, что мы переходим из одного
предмета в другой, так как мы здесь еще вообще не имеем предмета.
Совершенно верно. Мы еще не имеем предмета. Мы его только должны
построить.
Итак, в предшествующей части я изложил некоторое общее представление о
том, как мы будем работать с этой исходной схемой, имея в качестве эмпирического
материала описания каких-то текстов или сами тексты и имея целью простроить
некоторый научный предмет, а в нем – определенную научную теорию.
Очевидно, указанные нами способы работы с исходной схемой накладывают
определенные требования на вид самой схемы. Наверное, отнюдь не из всякой
схемы можно получить все то, о чем я выше говорил. Наоборот, чтобы все это
получить, схема должна иметь строго определенный вид. Тогда нам приходится
спросить себя, с одной стороны, что, собственно, мы делали, имея в качестве
исходного средства схему «знаковая форма – объективное содержание», а с другой
стороны, что мы должны были бы делать. Вместе с тем, мы должны будем ответить
на вопрос, что, собственно, мы сумели получить.
Прежде всего я сформулирую общий тезис о том, что, наверное, схемы такого
типа, к которому принадлежит указанная схема, не могут выступать в качестве
исходных схем для развертывания теорий, о которых я выше говорил. Это
объясняется прежде всего тем, что указанная выше схема является чисто
функциональной. Это значит, что пока ей не приписаны никакие материальные
определения. Поэтому такая схема может нами комбинироваться, но она не может
развертываться (в точном смысле этого слова). Но, вместе с тем, в такой схеме была
заложена одна возможность, которую мы не очень осознавали. Именно она
использовалась нами, когда мы думали, что на ее основе осуществляем
восхождение. Характеризуя этот процесс, я буду отвечать на вопрос, что же,
собственно, нами было сделано.
Одним из неожиданных результатов анализа явилось понимание того, что схема
такого рода вообще не может быть наложена на эмпирический материал. Я
надеюсь, вы помните, что наложить схему на эмпирический материал – это значит
вырвать некоторый фрагмент его и провести членение в соответствии с этой
схемой. Конкретно – поставить один кусочек эмпирического материала на место
содержания, а другой кусочек – на место знаковой формы, а затем связать их друг с
другом особым образом.
Но тогда оказалось, что если мы берем некоторый текст, например
математического рассуждения, то мы не можем решить, в какой из этих функций –
формы или содержания – выступают выделяемые нами определенные знания
(особенно отчетливо это выступило при анализе работы Аристарха Самосского). Когда мы в
нем выделяем те или иные виды знаков и части знаковых цепочек, то мы никогда
априори не можем сказать, в какой роли они выступают.
Поэтому, чтобы добиться все же возможности производить эмпирический
анализ, мы прежде всего дополнили указанную выше схему другими и особым
образом соединили их. Благодаря этому мы получили схемы, обладающие
некоторыми структурными характеристиками самого материала.
Здесь на семинаре не раз высказывалась мысль, что схема
(А)
Х
является лишь вариантом и некоторой конкретизацией исходной схемы
з
н
а
к
о
в
а
я
ф
о
р
м
а
о
б
ъ
е
к
т
и
в
н
о
е
с
о
д
е
р
ж
а
н
и
е
В одном смысле это правильно, а в другом – нет. Мне важно подчеркнуть, что
первая из указанных здесь схем была действительно получена из второй, но не
путем выведения и развертывания, а путем добавления определенного
специфического содержания, извлеченного из других кусков эмпирического
материала и задающего такие его характеристики, которые не имеют уже никакого
отношения к связке объективного содержания и знаковой формы.
Можно заметить, что даже в тех случаях, когда мы вводим такие структурные
дополнения, то все равно наша схема пока не может накладываться на
эмпирический материал. По сути дела, все те критические замечания, которые я
делал в отношении схемы «знаковая форма – объективное содержание», в полной
мере относятся и к этой конкретизированной схеме. Достаточно заметить, что
момент самой операции, т.е. , в тексте не фиксируется. Но здесь более интересным
является то, что произошло дальше.
Имея конкретизированную схему
(А
)
Х
мы начали затем строить из нее сложные комплексы. В частности, мы брали
знаковую форму (А) и рассматривали ее как некоторый объект. К этому объекту
применялось новое действие сопоставления ΄. Над созданным таким образом
содержанием надстраивалась новая плоскость замещения. Точно таким же путем
мы могли построить третью, четвертую плоскость и т.д. И точно так же мы
пытались развертывать эти схемы линейно, как бы прикладывая их друг к другу. У
нас получались разнообразные комплексы:
(
А
)
Х
(
А
) (
(
С
)
B
)
Х
Y
Z
1
3
2
Наконец, на основе этих схем могли конструироваться длинные цепи
формальных преобразований, с исключением промежуточных элементов-связок;
этот метод был использован в работах по атрибутивному знанию.
Таким образом, в этой схеме мы получили простейший «кирпич», или элемент,
из которого затем начали строить композиции, или комплексы, разного рода. Вопрос
заключался только в том, какие связи задавать между этими исходными элементами, или
кирпичами. Число возможных комбинаций определялось, во-первых, характером связей между
элементами, а во-вторых, числом сцеплений элементов. Таким образом, мы получили мощнейшее
средство формального построения схем разного типа. Но, вместе с тем, вся эта работа полностью
укладывалась в рамки выделения некоторых фрагментов эмпирического материала, о которых я
говорил раньше.
Какую бы сложную композицию этих схем мы ни строили, она всегда
оставалась отдельной и изолированной структурой, и, какой бы сложности она сама
ни была, мы могли наложить ее на эмпирический материал только как отдельную
структуру и притом на такой фрагмент эмпирического материала, который мы
вырываем из общего контекста путем самого этого наложения. Ставить здесь
вопрос о каком-либо систематическом развертывании целостного предмета было бы
не корректно.
Как видите, я все время аргументирую и обосновываю тезис, что указанная
процедура не имеет ничего общего с процедурой восхождения от абстрактного к
конкретному, а представляет собой совсем другую конструктивную процедуру,
которой мы, собственно, все время и пользовались.
К более подробному обсуждению этих схем я вернусь позднее. Сейчас мне
лишь важно подчеркнуть, что в эмпирическом материале мы всегда могли увидеть
только то, что было заключено в этих схемах или их комбинациях. Каждая из этих
схем строилась отдельно от других. При этом мы очень много «приговаривали» по
поводу этих схем. За счет этих приговариваний получалось впечатление, что сами
схемы обладают некоторой «жизнью». Но на самом деле они были такими схемами,
которые сами по себе никакой жизнью не обладали. Другими словами, сами по себе
они не могли развертываться в соответствии с какими-либо правилами. В
частности, даже в тех случаях, когда мы на основе простой схемы строили более
сложные, многослойные ее варианты и ставили в третьей или в четвертой плоскости
обозначение какой-либо знаковой формы, мы всегда предполагали, что она уже есть
или может возникнуть. А каким образом – этот вопрос мы не обсуждали.
Другими словами, мы никогда не могли ставить собственно генетические
вопросы, не могли выводить более сложные схемы из более простых, мы не могли
имитировать исторический процесс в псевдогенетической форме. Больше того, если
нам и приходилось ставить подобный вопрос – если, например, спрашивали, откуда берется
операция или ее материал, – то мы сразу же оказывались выброшенными за рамки того предмета,
который задавался нашими исходными схемами.
Здесь нам приходилось уже говорить о механизмах развертывания действий
сопоставления. Мы пытались найти некоторые генетические закономерности и механизмы в
области операций и действий. Аналогичным образом мы вынуждены были ставить вопрос о
происхождении материала в тех или иных знаках. При этом мы обращались к эмпирической
истории, но что бы мы ни делали, мы каждый раз были вынуждены выйти за рамки наших схем и
задаваемого предмета.
Крах не наступал лишь потому, что у нас было очень мощное понятийное и
словесное обслуживание этих схем – со всеми входящими сюда интерпретациями,
истолкованиями, разговорами о деятельности; мы каждый раз осуществляли этот
выход довольно просто. Правда, благодаря этому появилась очень своеобразная
раздвоенность между тем, что мы знали и понимали, с одной стороны, и тем, что мы
изображали в рисунках – с другой.
Но эта раздвоенность, весьма отрицательная в определенных аспектах, в этом
случае помогала нам осуществить такой выход за рамки ограниченного предмета,
который нам был нужен – обстоятельство, на которое уже в течение двух лет
постоянно обращал внимание О.Генисаретский, ругая всех нас как по отдельности,
так и скопом.
Таким образом – я как бы подытоживаю все сказанное выше, – нам так и не
удалось наложить на все эти схемы механизм восхождения от абстрактного к
конкретному. Дальше мы поймем, что такой результат бы совершенно
закономерным, ибо все то, что изображалось в этих схемах вообще, как теперь мы
понимаем, не могло иметь развития. Поэтому нельзя было наложить на эти схемы
механизм псевдогенетического развития.
Но когда мы – здесь я перехожу к самому важному пункту моего сегодняшнего
сообщения – построили достаточное число подобных структурных схем и начали
прикладывать их к разнообразному материалу – а это приложение шло в основном
по двум линиям: с одной стороны, удалось объяснить какие-то моменты развития
математики, с другой стороны, эти схемы оказались весьма продуктивными в
психолого-педагогической области и позволили нам смоделировать некоторые
моменты мыслительной деятельности детей, в частности процессы решения
арифметических задач, работу с пирамидками и т.д., – когда, повторяю, мы начали
прикладывать эти схемы к разнообразному эмпирическому материалу, тогда у нас
сложилось совершенно особое представление о той деятельности, которая по идее
должна была изображаться в этих схемах. Этот момент требует несколько более
подробного разъяснения.
У нас, таким образом, были, с одной стороны, простейшие схемы вида:
(
А
)
(
B
)
Х
а с другой стороны, значительный набор эмпирических явлений, которые мы
относили к явлениям мышления, и мы, во-первых, строили из этих схем более
сложные комплексные схемы, а во-вторых, мы прикладывали и эти усложненные, и
простые схемы к фрагментам эмпирического материала и с их помощью достаточно
хорошо изображали и объясняли выбранные нами куски. Конечно, при этом мы
каждый раз ставили строго определенные задачи; в частности, мы спрашивали,
какова структура того или иного рассуждения с точки зрения этих схем. Вы
понимаете, что мы, конечно, могли увидеть в эмпирическом материале только то,
что уже знали. На этом пути мы смогли решить целый ряд занятных историконаучных, методических и психолого-педагогических проблем.
Но, как всегда бывает в таких случаях, этого оказалось мало, и мы, стремясь
обобщить выделенные нами фрагменты эмпирического материала, постоянно
ставили вопрос: какова структура той действительности, которая в этих схемах
изображается? Мы стремились построить единую картину той действительности,
которая схватывается и представляется нами в подобных схемах. Собственно, эту
онтологическую картину я и начал рисовать перед вами в прошлый раз.
Вы помните, что на это последовало замечание, что я делаю всю эту работу не
систематически и лучше ее в таком виде не делать. Поэтому я вернулся назад и
постарался разъяснить все те методические ходы, которые объясняют, почему и
каким образом появилась эта картина. Сейчас я вновь могу к ней вернуться.
В прошлый раз я уже говорил, что главным на этом этапе была идея
замещения, замещения некоторого операционально выделенного
содержания Х знаком (А). Знак (А) обязательно должен быть включен
в деятельность. Поэтому сразу же возник вопрос, что чем замещается:
замещается ли оперирование с объектом Х соответствующим
оперированием со знаком (А) или же знак (А) уже снимает в себе
содержание Х, а опер ирование со знаком привносится дополнительно
и образует какое -то новое специфическое содержание?
Но как бы там ни было, главным была сама идея замещения. А так как у нас в
схемах было много плоскостей и эти плоскости, взятые попарно, образовывали слои
– и у нас, следовательно, были многослойные структуры, – то мы, естественно,
должны были саму эту действительность, т.е. мир человеческой деятельности,
представить по образу и подобию наших схем. Поэтому мы создали
соответствующую онтологическую картину. При этом само замещение мы
обобщали и говорили не только о замещении некоторого содержания, выделенного
на реальных объектах, знаком, но также и о замещении одних объектов другими, о
замещении одних знаков другими знаками и т.д.
В результате у нас появилась в онтологии достаточно сложная слоеная картина,
в самом низу которой лежали объекты практических преобразований. Все объекты,
включенные в одну и ту же деятельность и не различимые с точки зрения этой
деятельности, уже в соответствии с закономерностями и механизмами самой
производственной деятельности непрерывно замещали друг друга.
Этот факт фиксировался в новой, надстроечной сфере эталонов. Длинный ряд
замещающих друг друга объектов выражался в одном эталонном объекте. Вопрос о
том, как объект выталкивается в эталоны, я сейчас не обсуждаю, он рассматривался
нами по-разному и на разном материале. Мне важно отметить лишь тот момент, что
эталон всегда привязывался к определенному знаку. Следовательно, в третьей
плоскости нашей действительности появлялись знаки, и к ним применялись другие
деятельности; эти деятельности со знаками замещались другими знаками, знаками
следующего уровня и т.д.
Описывая всю эту картину, я говорил вам, что она представляет здание того
мира, который конструируется человеческой деятельностью, и если мы хотим
получить изображение этого здания, то должны представить себе и описать все его
улицы, переулки, переходы между этажами улиц – все то, посредством чего
человеческая деятельность структурировала природу и тем самым создала
собственно предметный мир человечества, в свою очередь определяющий
человеческую деятельность.
Предметный мир человечества, как бы захватывающий природу и меняющий ее
лицо, это и есть примерно такая структура, включающая массу разнообразных
элементов и переходы между ними. Если теперь вы представите себе, что все это
скомпоновано и организовано в пространстве не так, как мы строим наши здания, а
таким образом, что разные структуры как бы вложены друг в друга, пересекаются
друг с другом, существуют в одном пространстве и на одном материале – образно
это можно представить так, что одни связи и образуемые ими структуры окрашены
в синий цвет, другие – в красный, третьи – в зеленый и т.д. и что все они смыкаются
и стыкуются друг с другом в материале знака, – если вы представите это в
дополнение к образу здания, то вы получите достаточно точную картину мира
человеческих предметов, или картину предметного мира. И вокруг этого мира, на
его основе непрерывно течет и развертывается кинетика человеческой
деятельности.
Это и есть та онтологическая картина, которую требовали все эти
схемы и которая была нами в конце концов задана. По сути дела,
названные схемы с самого начала задавали подобную картину
действительности, но нужно было еще освободиться от фетишизма
натуралистического представления.
Мне здесь хотелось бы обратить ваше внимание на то, что обычно называют
«опредмечиванием человеческой деятельности». Мы не раз ставили вопрос о связях
между объектами и деятельностью и при этом подчас недоумевали, каким образом
деятельность подстраивается к объекту, каким образом она находит свои объекты.
Но это, по-видимому, неверная постановка вопроса.
Удивительно не то, что деятельность связывается с объектом, удивительно и
требует своего объяснения то, что вообще существуют объекты, что существует
такая форма виденья и сознания всего мира. Если мы начинаем свой анализ с
универсума деятельности, то объяснению подлежит застывание ее в форме
объектов. Приходится объяснять, как вообще возможны и существуют объекты,
каким образом многие пересечения разных деятельностей создают то, что мы
называем объектом.
Если обратиться к нарисованной нами разноцветной картинке, то проблема
выступит так. Имеется «красная» структура деятельности, и какой-то объект лежит
в точке пересечения ее связей. Эта система деятельности выделяет и фиксирует
свой особый набор содержаний, смыслов и даже «свойств» объекта. Но, кроме того,
этот же объект, во всяком случае в плане материала, лежит в точке пересечения
связей синей структуры деятельности со своим набором содержаний, смыслов и
«свойств» объекта.
Такое описание можно было бы продолжить. Следовательно, не существует
объекта как чего-то строго определенного и отграниченного от всего другого, а есть
какое-то размытое пятно, которое существует примерно в узле пересечения разных
деятельностей. Этот вывод о размытом пятне будет тем более очевиден, что
деятельность представляет собой непрерывную кинетику и соответственно этому –
даже в обычном натуралистическом сознании – объекты непрерывно изменяются,
текут, перестраиваются и уже поэтому должны представляться нами как нечто
размытое.
В каждой системе деятельности объект будет представать особым образом и
существовать в особом виде. В системе «красной» деятельности он будет обладать
одними свойствами, в системе «синей» деятельности – другими свойствами и т.д., и
т.п.
Таким образом, когда мы рассматриваем все это в едином потоке деятельности,
то оказывается, что объекты, собственно говоря, не нужны и поэтому не
существуют. В каждой системе деятельности существует лишь то, что открывается
этой деятельностью. Если, к примеру, в «красной» деятельности объект Х ставится
в отношение к индикатору I и при этом происходят изменения, либо в самом
объекте, либо в индикаторе, то это единственное, что мы можем зафиксировать:
поведение обоих членов отношения взаимодействия.
Подобные единички взаимодействия и образуют то, что принято называть
основанием человеческого опыта,
– человеческую практику. Полученный
благодаря этим взаимодействиям опыт должен быть использован для
прогнозирования предстоящего опыта. Очевидно, что в последующих
взаимодействиях будут иные индикаторы, скажем К, М и т.п.
Таким образом, каждый объект выступает в сети разных взаимодействий и
взаимоотношений, примерно так, как это описывали Пономарев или Румер и
Рывкин в своей недавней статье в журнале «Вопросы философии». По сути дела,
они натолкнулись на проблему свойства, примерно в той же постановке ее, какая
была у Демокрита.
Задача состоит в том, чтобы свернуть все уже установленные взаимоотношения
и взаимодействия в определенное представление об объекте и при этом наделить
объект свойствами, трактуемыми как способности. Но из этого следует, что объект
сам по себе и как таковой нас не интересует. Нас интересуют взаимодействия или
изменения объекта. С ними мы имеем дело в деятельности, их мы должны
фиксировать и прогнозировать. Нас интересует веер возможных поведений объекта
во взаимодействиях. Но для того чтобы представить и предсказать эти поведения,
оказывается, нужен объект, и именно объект как нечто определенное, закономерное
и необходимое, а не просто размытое пятно взаимодействий и взаимоотношений.
Попросту говоря, взаимодействий и взаимоотношений много, так
много, что их не опишешь, а опыт должен быть фиксирован компактно
и единообразно; поэтому должен бы ть объект и притом один. Это
значит, что все деятельности и устанавливаемые посредством них
отношения между объектами должны быть зафиксированы не в виде
деятельности, а в виде чего -то статического, в виде каких -то
инвариантов, то есть постоянно сохраняюще гося и неизменного.
Но, установив необходимость такого рода, мы еще не объясняем, почему она
должна реализовать себя в виде «вещей» на нижних уровнях, или плоскостях,
деятельности и в виде «объектов» на более высоких уровнях. Непонятно, почему
мы фиксируем категорию вещи и объекта, и непонятно, как мы это делаем.
Неясно, почему все должно выступать в виде субстанции или субъекта, неясно,
почему разнообразные свойства – часто полученные независимо друг от друга –
должны свертываться в категориальную форму вещи и объекта с доминированием в
них некоторой субстратности, или субстанциональности.
Вот одна из главных тайн нашего мышления и вообще всей нашей деятельности
и нашего сознания.
Теперь мы должны поставить вопрос о том, как от системы взаимоотношений и
взаимодействий объектов, развертывающихся на нижнем или нижних уровнях, мы переходим затем
к более высоким уровням и этажам «предметного мира».
Оказывается, что мы свертываем все это в особую форму «объекта». При этом
надо различать объекты оперирования, объекты изучения, объекты отнесения и
объекты деятельности. Но вопрос все равно звучит в своей общей форме: как
появляются «объекты», «объекты» любого вида? Оказывается, что объект
появляется и может появиться только за счет знания, и еще более точно – за счет
знака, обозначающего или именующего нечто.
Мы привыкли считать, что если речь идет об отношении обозначения, то всегда
сначала должно существовать то, что обозначается, а потом оно именуется, т.е. к
нему, как уже существующему, относятся знаки. Подобные утверждения, бесспорно
справедливые в каком-то одном аспекте, совсем не очевидны в том тотальном смысле, в каком их
употребляют. Знак может именовать вещь, а объект может появляться уже из дополнительного и
вторичного анализа отношения обозначения.
Именно это я показывал в серии работ об атрибутивных структурах. Сначала в
знаке фиксируется ситуация сопоставления и входящие в нее отношения
взаимодействия и лишь затем, благодаря особому действию отнесения, мы
вынуждены выделять и выделяем объект отнесения как таковой. Лишь в очень
редких случаях объекты оперирования, входящие в сопоставление, оказываются, вместе с
тем, и объектами отнесения; как правило, они бывают разными. Именно отнесение знака к
объекту создает и задает постоянство объекта, его идеальное, непространственное и
вневременное существование. Это в полной мере относится ко всем объектам, в том
числе и к «вещам». Именно так создается и конструируется человеческая
действительность.
Я сознательно не затрагиваю вопроса о том, как создается действительность
детской жизни на базе восприятия. Лично я не уверен, что такое конструирование
объектов как таковых в принципе возможно. Но это, конечно, специальный вопрос,
требующий специального и строгого рассуждения. И, конечно, в этом плане нужно
тщательнейшим образом проработать концепцию Ж.Пиаже.
Из сказанного мной следует, что размытость полей и сфер действительности в
какой-то из нижележащих плоскостей на более высоких уровнях и этажах мира
деятельности приобретает постоянство в лице знака, который сохраняет свое
постоянство.
Мы можем называть знаками не только языковые знаки, но также и эталоны,
входящие в систему культуры. Благодаря тому, что меняется способ их употребления и сами
они выступают как форма, фиксирующая опыт нашей деятельности, они являются знаками в
подлинном смысле этого слова и в этом плане столь же консервативны, устойчивы и неизменны.
Таким образом, деятельность приобретает особое, как бы субстанциальное
существование именно в знаках, а не в чистых элементах природы. Вместе с тем
приобретают субстанциальное и как бы вещное существование в знаке связи и
отношения взаимодействия, создаваемые деятельностью.
Я надеюсь, вы понимаете, что мои рассуждения весьма не строги и не
систематичны прежде всего из-за того, что я не различаю в достаточной мере
проблемы происхождения и развития. Я все время говорю таким образом, как будто
некоторые знаковые образования возникают в какой-то момент из потоков
деятельности, не включающих в себя других знаков и объектов.
Конечно, такого не бывает и не может быть. Деятельность развивается из одной
формы в другую и при этом перерабатывает одни организованности в другие. Но
чтобы пояснить саму мысль, я должен изображать деятельность с
организованностями
низшего
уровня
как
некоторый
неоформленный,
неорганизованный поток. Тем самым я разделяю две группы вопросов. Одна
касается реального происхождения того или иного знака и, соответственно, того
или иного объекта. Этот круг вопросов я сейчас не обсуждаю. Другая касается
содержания той или иной знаковой формы и, соответственно, того или иного
«объекта». Эта проблема и есть то, что сейчас меня занимает.
Чтобы оттенить ее смысл и четко сформулировать основной тезис, я вынужден
пока отвлечься от проблем реального происхождения и развития и знаков, и
объектов. Только благодаря этому я и получаю возможность говорить о содержании
и способах его выражения и фиксации в формах знаков и объектов.
Со знаками, как вы знаете, тоже начинают действовать. При этом возникает
очень интересная двойственность, которая уже давно попала в центр интересов
философов, психологов и логиков.
С одной стороны, это есть действие с теми системами действий, их продуктами,
системами операций, которые лежат в более низкой плоскости. Но, как вы хорошо
понимаете, действовать и оперировать с системами действий невозможно.
Оперировать можно только с объектами. Но мы уже выяснили, что системы
деятельности реально приобрели объектное существование в знаке, их
фиксирующем. Поэтому, оперируя с ним, человек оперирует с системами
деятельности, как с объектами, – с системами деятельности, представленными
объектно.
При этом, как мы уже хорошо знаем, на следующем, более высоком уровне
создаются свои особые матрицы сопоставлений. И на этом уровне, таким образом,
устанавливаются свои особые отношения и связи между знаками. И хотя они
устанавливаются искусственно, конструктивно, тем не менее, и здесь создается
впечатление естественно и необходимо действующей силы, принуждающей именно
к таким, а не другим сопоставлениям. Мы уже хорошо понимаем, что это – сила
деятельности, и если можно говорить о каком-то естественном процессе в ней, то
это процесс сознательного конструктивного развертывания самой деятельности.
Натуралистические трактовки важны, но ничего не объясняют. Деятельностная
природа всех этих сопоставлений естественным образом объясняет для нас
необходимость таких сопоставлений, а не каких-либо иных. Важно, чтобы
создавались новые типы отношений, а уже затем в них и через них мы сможем
увидеть объекты и объективность.
Новые матрицы сопоставлений и созданных ими отношений между знаками
вновь свертываются и фиксируются в знаках более высоких уровней и плоскостей.
Так мы поднимаемся от одной плоскости и от одного этажа этого здания к другим.
Такова та онтологическая картина, которая родилась, была осознана и выражена
на том этапе наших логических и методологических исследований. В конце моих
докладов я специально буду обсуждать ее функции и место в более широкой
картине и постараюсь обсудить вопрос о том, в чем именно мы, на мой взгляд,
ошибались, что недоучли и не поняли, какие интерпретации и истолкования были
неточными. Я постараюсь провести параллели с предшествующими философскими
концепциями, касавшимися, по-видимому, того же самого. Но сейчас мне важно
другое.
Существенно то, что, я нарисовал всю эту онтологическую картину,
совершенно не пользуясь категорией формы и содержания. Поэтому встает
естественный вопрос, нужна ли нам категория формы и содержания и не была ли
она тем психологическим моментом, который характеризует не столько объект и
истину, сколько наше собственное развитие. Вполне возможно, что она была лишь
тем средством, которое позволило нам построить схему замещения как единичку
общей картины мира. Вполне возможно, что теперь эта категория должна быть
отброшена как ненужная для дальнейшей работы.
С моей точки зрения, чтобы анализировать и описывать, уже не в онтологии, а в
собственно теоретической картине, эту систему слоев и этажей предметного мира и,
вместе с тем, мира деятельности, категория формы и содержания необходима. Она, конечно,
не может исчерпать всех тех категориальных средств, которые необходимы нам для
такого анализа, но она будет важным средством в ряду других. Если отказаться от
этой категории, то это, на мой взгляд, приведет ко многим ошибкам.
Мне кажется, что одной из типичных ошибок такого рода было то, что нам
рассказывал М.А.Розов не далее как в прошлый понедельник, обсуждая вопрос о
знаково-предметных инверсиях. Постараюсь объяснить это.
Стыкования разных плоскостей друг с другом могут быть самыми
различными. Очень ва жно четко определить и охарактеризовать все эти
виды стыковки плоскостей. Когда мы поставили такую задачу, то потом
очень скоро выясняется, что к ее решению можно подходить разными
способами. Представьте себе, что перед нами некоторая достаточно
простая структура: определенное сопоставление объекта Х фиксируется
в знаке (А), а знак (А) включен в оперирование . Когда мы далее
строим некоторое новое сопоставление ΄, то возможны по меньшей
мере три варианта истолкования и интерпретации того, что при этом
происходит.
Можно считать, что мы прикладываем операцию ΄ к материалу знака (А),
элиминируя при этом оперирование и, вместе с тем, всю область содержания,
созданного путем сопоставления объекта Х. Таким образом, мы сможем
зафиксировать некоторое новое содержание, которое выразим в знаке (а); будем
также полагать, что со знаком (а) оперируют, и обозначим соответствующие
операции знаком
(а)
{ (А) }
Х
(а)
{ (А) }
Х
(а)
[ (А) ]
Х
Нетрудно выяснить, что если содержание знака (а) образуется таким образом, то
это специфическим образом задает отношение знака (а) к исходному объективному
содержанию Х. Назовем такой способ выделения содержания знания и его
отнесения к исходному объекту символически материальным или просто первым
способом.
Но точно так же можно считать, что операция ΄ прикладывается не к
материалу знака (А), а к знаку (А), взятому вместе с приложенным к нему
оперированием . Тогда в более высокой плоскости, мы получим знаки с иным
содержанием, которое, соответственно, потребует иных оперирований и процедур.
Они должны быть иными, потому что они будут фиксировать иное содержание и будут иметь иной
объект.
Наконец, мы можем взять (А) в качестве выражения содержания Х. Тогда
сопоставления ΄ будут выделять третий тип содержания, а предметом, на который
будет обращено действие ΄, будет вся связка замещения и обратного отнесения,
объединяющая знак с содержанием Х.
Рассмотрим с этой точки зрения сообщения М.А.Розова, посвященные, скажем,
изображению динамики точки. Он задает несколько векторов, изображающих
скорость. Затем он начинает оперировать с этими векторами, как с отрезками,
перенося на них все «геометрическое» содержание. При этом векторы
рассматриваются не как изображения или выражения скоростей: М.А.Розов
несколько раз специально подчеркивал, что это именно отрезки, а не скорости.
Именно в этой связи была сделана попытка различить «знаково-предметную
инверсию» и «не-знаково-предметную инверсию». Но это и было, как мне кажется,
различение двух из названных мной трех случаев перехода в более высокую
плоскость знакового оперирования.
Мне представляется, что факты, указанные М.А.Розовым, являются
кардинальными, но их еще нужно сформулировать в обобщенном виде. Вместе с
тем, мне представляется, что важнейшей задачей и проблемой в развертывании
схем этого вида будет как раз определение всех возможных типов связок между
слоями знакового замещения.
Но главное, что должно привлечь наше внимание, состоит даже не в этом – не в
стыковании слоев замещений, не в типах переходов от одного слоя к другому, а в
появлении специфически идеального в мышлении, которое сначала выступает в
качестве побочного и вспомогательного элемента, а потом становится главным и
ведущим, специфическим для самого мышления. Мы должны более подробно
обсудить проблемы, связанные с исследованием этого образования.
В схемах такого типа, какие я рисовал, можно выделить типичную структуру.
Представьте себе некоторый объект О i, включенный в некоторую систему
сопоставления. Будем предполагать, что сопоставления «приложимы» к этому
объекту. На основе другого, собственно познавательного типа сопоставления
объекта, Оi замещен другим объектом-эталоном, а содержание, выявленное
посредством этого сопоставления, замещается каким-то знаком.
Благодаря этому объект Оi будет включен в еще одну систему сопоставлений и
преобразований. Это будет система знаковых замещений и преобразований.
Совершенно очевидно, что оперирование со знаками не может быть самоцелью, оно
всегда имеет служебный характер, т.е. дает возможность провести такие
преобразования, которые нельзя было совершить с самими объектами, но вместе с
тем всегда предполагает возвращение назад к исходным объектам.
Оперирование со знаками имеет лишь тот смысл, что оно расширяет
возможности нашего оперирования с объектами, оно создает особые способы
оперирования с объектом Оi, благодаря тому, что прикладывается к материалу
знака. Такой способ оперирования был бы невозможен на материале самого
объекта.
Поэтому, развивая все то, что я говорил выше об объекте, нужно сказать, что
объект – это не только все то, что раскрывается или создается благодаря
практическим преобразованиям и практически устанавливаемым отношениям
взаимодействия, но также и многочисленные способы оперирования со знаками,
замещающими этот объект, все те матрицы сопоставлений, которые мы производим
со знаками. Поэтому объект, как мы его конструируем, должен быть возможностью
и потенцией не только для всех практически устанавливаемых взаимодействий и
свойств в плоскости оперирования самими объектами, но также и для всех тех
взаимоотношений и свойств, которые мы устанавливаем на всех плоскостях
замещения этих объектов знаками.
Поэтому, всякое оперирование с объектом путем оперирования с замещающими
его знаками выступает как идеальное оперирование, в отличие от материального
оперирования с самим этим объектом, происходящим в его собственной плоскости.
Конечно, я должен здесь снова сделать такую же оговорку, какую я делал выше
по поводу различения отношения знака к содержанию и отношения его к
предшествующим знаковым организмам. Всякое оперирование, с которым мы
реально имеем дело, является идеальным, и мы никогда не можем увидеть и
выделить в человеческой деятельности собственно материальное оперирование.
Всегда и всюду человек действует и мыслит в многоплоскостных
схемах. При этом он, конечно, оперирует и с самими объекта ми, более
того, все, если смотреть особым образом, предстает перед нами как
объект. Дело не в том, с чем оперируют, а в том, в какой системе
оперируют, по законам каких плоскостей замещения и каких
иерархированных систем.
Само понятие материального оперирования является крайней абстракцией.
Чтобы ввести ее, мы предполагаем, что есть какой-то предельно низкий слой, в
котором внизу лежат не предметы нашей деятельности, а чистые объекты. Это,
таким образом, понятие, появляющееся в результате особого разложения систем
замещения на элементы. Но из того факта, что материального оперирования не
существует в человеческой деятельности, не следует, что сама эта абстракция не
нужна или малопродуктивна. Она нужна, поскольку дает нам возможность
разложить реальные процессы деятельности и мышления на составляющие.
Я надеюсь, вы заметили, что мне во всех этих рассуждениях важна пока лишь
одна мысль. Я хочу сказать и показать, что в выявлении свойств объекта
существенную и определяющую роль играет не столько оперирование с ним самим,
сколько оперирование со знаком. Конечно, из всех возможных оперирований со
знаками мы выделяем только те, которые «соответствуют» объекту, то есть могут
дать некоторый прагматический эффект в сложных системах и организмах
человеческой деятельности, замыкающихся на социализированную практику.
Но это обстоятельство не устраняет принципа, что свойства выявляются не в
объекте непосредственно, а путем оперирования с замещающими знаковыми
выражениями. Это оперирование неизбежно носит обобщенный характер и
выявляется нами не для того или иного единичного объекта, а для всего множества
объектов. Здесь мы подходим к известному тезису, что познание каждого
единичного или отдельного объекта есть функция от общего развития средств и
форм познания. Мы не столько познаем те или иные объекты, сколько развиваем
наши знания, наше мышление, нашу деятельность. И в этом имманентном процессе
развития деятельности и мышления мы создаем все новые и новые предметы,
ассоциируя таким образом новые объекты и старые объекты по-новому.
При этом они отражают и свертывают в себе не только свои собственные
свойства – я говорю здесь в натуралистической терминологии, – но также, и в еще
большей мере, формы и способы оперирования со знаками. Процедура подобного
свертывания также определяется имманентными закономерностями развития
деятельности – необходимостью постоянного уплощения непрерывно растущих
вверх систем.
С этой точки зрения, бессмысленно говорить, что свойства объектов есть то, что
они содержат в своей «материи». Свойства объектов – это то, что содержится в
деятельности, то, что ею было создано, а потом свертывается и приобретает
организационную форму существования в виде особых конструкций – объектов.
Все характеристики, столь привычные для нас: «вещь обладает количеством»,
«вещь обладает величиной», «вещь обладает структурой», – все это характеристики
вещей, полученные за счет того, что человечество создало особые, искусственные
способы работы со знаками. И затем наделила объекты «свойствами»,
фиксирующими и снимающими в себе эти способы оперирования.
Из этого следует, что если мы вырвем какой-либо ряд или какую-либо
плоскость оперирования из общей системы, то они теряют всякий смысл.
Социальный и предметный мир людей существует лишь как органическое единство,
каждый элемент внутри него представляет собой определенный орган, исторически
сложившийся и в функционировании неразрывно связанный с другими. И это
единство, характерное для самой деятельности, переносится на мир вещей,
являющийся одним из срезов деятельности.
В этой связи я хотел бы обратить ваше внимание на многочисленные «теории
предметности», так называемые Gegenstandstheorien, идущие от Мейнонга, через
критических реалистов и Гуссерля к Николаю Гартману и дальше. Эти теории
представляют собой очень интересную попытку схватить законы предметности.
Но я думаю, вместе с тем, что они снимаются и делаются ненужными после
того, как достаточно развивается теория деятельности, которая дает объяснение
природе и характеру предметов. Я бы даже сказал, что переход от теории предметов
к теории деятельности диктуется сейчас необходимостью дальнейшего развития
всех наук и техники; их дальнейшее развитие нуждается в новой философии.
Такой философией будет философия деятельности, и сегодня ее отсутствие
служит тормозом в развитии многих наук и техники. Мне хочется специально
подчеркнуть тот момент, что мы должны здесь ввести понятие объекта
оперирования и постоянно им пользоваться. В каждой плоскости, в каждом слое
этого ряда есть свой объект оперирования. Но, в зависимости от того, какую
деятельность мы строим в каждом из этих слоев, наш объект оперирования
приобретает тот или иной вид.
На одной плоскости, или в одном слое, появляется «вещь». В соответствии со
всем сказанным выше, я могу утверждать, что вещь существует отнюдь не
изначально и не в природе. Как и все остальное, она создается благодаря
определенным формам знакового замещения и оперирования со знаком. «Вещь»
есть некоторый принцип синтеза разнообразных способов оперирования и
замещений. Чтобы в логическом анализе реконструировать вещь, надо еще
определить, какое количество плоскостей, способов оперирования в них, связей
между плоскостями и т.п. в ней снимается.
Сегодня, не имея соответствующих логических представлений, мы совершенно
потеряли меру отнесения объектов к вещам. Мы стремимся впихнуть в вещь все,
что можно и чего нельзя. Но если давать строгое философское и логическое
определение вещи, то нужно очень точно ограничить число захватываемых ею
плоскостей и слоев деятельности. Подобно всем другим категориальным образованиям вещь
есть определенный принцип синтеза, задаваемый опять-таки строго определенным набором слоев и
систем деятельности. Кроме «вещи», существует еще много других принципов синтеза, точно так же
задаваемых определенными слоями деятельности.
Наконец, если мы переходим к анализу идеального как некоторой связки
замещений, управлений и отображений – а это соответствует нашему пониманию
«предмета», – то становится, как мне кажется, ясно, что анализировать его без
нашего трафарета «форма – содержание» вряд ли возможно. Переходя от одной
плоскости замещения к другой, мы должны непрерывно фиксировать переход и
переструктурирование формы в содержание и содержания вновь в форму.
Чтобы задать идеальные способы работы с некоторым объектом, мы должны
обязательно перейти в следующую, более высокую плоскость. Поэтому связка двух
плоскостей, создающая основу для идеального, и есть та единица, с которой только
и можно работать и опираясь на которую только и можно что-то объяснить. Если
мы будем вырывать отдельные плоскости из систем человеческой деятельности и
предметного мира, то мы никогда ничего не объясним.
Но это, с другой стороны, означает, что в самой этой единице мы должны
объяснить переход от одной плоскости к другой, и это будет переход от формы к
новому содержанию за счет специфических процедур деятельности. Все эти
переходы должны быть заданы рекурсивно. Иными словами, мы должны двигаться
по всем плоскостям, слоям и уровням подобной системы. Именно эту задачу, как
мне кажется, решает категория формы и содержания, представляемая нами в идее
связки. Она дает нам возможность переходить с одной плоскости на другую, брать
пару плоскостей как одну структурную единицу и показывать, каким образом
некоторый кинетический момент в нижней плоскости выражается в некотором статическом
моменте в более высоких плоскостях.
Но тогда легко видеть, что если мы накладываем схему «форма – содержание»
на какое-то одно место системы, а затем поднимаем его на один слой выше, то при
этом мы производим переструктурирование в самих плоскостях: мы превращаем
материал формы в объект оперирования и, тем самым, в элемент содержания.
Из этого следует, в частности, что за счет самой процедуры наложения понятие
формы и содержания специфицируется нами определенными морфологическими
моментами. По сути дела, в наших понятиях и представлениях уже заданы
механизмы перевода форм в содержания и объекты. Конечно, там еще многое
требует исследования, мы до сих пор не знаем тонких механизмов,
осуществляющих эти процессы, но уже существующие идеи, как мне кажется,
открывают огромное поле для исследований.
В этом месте мне хочется напомнить вам о целях и смысле моей работы. Я не
излагаю историю развития наших идей. Я хочу лишь выделить те моменты
интерпретации, которые кажутся мне сейчас устаревшими и ввести новую
интерпретацию наших схем и понятий. При этом я стараюсь вставить наши модели
и соответствующие им идеальные объекты в более широкое представление.
Параллельно я хочу объяснить, что, собственно, мы делаем и показать, почему
наши ошибки и неточности в истолкованиях были в каком-то смысле неизбежными
на ранних этапах работы.
Вкратце суть моего основного тезиса сводится к тому, что то, что мы раньше
исследовали, это еще пока не деятельность, а, скорее, основы теории предметов,
или теории «предметного мира». Чтобы сделать такое утверждение, как вы
понимаете, я уже должен иметь более широкую точку зрения, более широкое
представление. Чтобы сказать, что нет ничего, что не является деятельностью, я уже
должен в какой-то мере представлять себе, что есть деятельность.
Вместе с тем, вы, конечно, понимаете, что я не могу систематически и строго
сейчас ввести основные схемы и понятия теории деятельности; я могу лишь
набросать самые общие моменты нового представления о деятельности. И только.
Но этого мне вполне достаточно, чтобы рассмотреть смысл нашей предшествующей
работы.
Я хотел бы обратить ваше внимание еще на один момент, объясняющий схему
моего движения. Представьте себе, что у нас имеется некоторая масса
эмпирического материала, имеются разнообразные описания этого эмпирического
материала, имеются исходные схемы, которые мы используем конструктивным
образом и в качестве некоторых моделей объекта. Мы использовали эти схемы для
выделения некоторых фрагментов эмпирического материала. Эту работу
сопровождало описание получающихся «наполненных» схем. Я беру
сконструированные и наполненные эмпирическим материалом структуры в
качестве изображений различных частичных предметов нашей работы. Затем я
задаю вопрос: какая онтологическая картина соответствует всем этим схемам,
моделям и т.п.? Я отвечаю на этот вопрос и рисую соответствующую
онтологическую картину. Но, проделав всю эту работу, я начинаю новый цикл
рассуждений и новую работу. Вы хорошо знаете, что всякое научное исследование
строится на употреблении определенных схем. Само употребление производится в
соответствии с онтологической картиной. Сейчас мы уже достаточно хорошо знаем,
что так называемое «наложение» схем на эмпирический материал производится с
помощью онтологических картин. Именно онтологическая картина задает способ
расчленения эмпирического материала, заданного в соответствующих описаниях.
Теперь, используя все имеющиеся у нас схемы, мы должны не только
развертывать предметы исследования, конструируя все более сложные
онтологические картины, но также и получить систему соответствующих знаний. Я
надеюсь, вы помните, что научный предмет включает в свой состав наборы схем,
выступающих в качестве средств конструирования, онтологические картины и
системы знаний.
Конечная и «продуктивная» цель научной работы состоит в том, чтобы
получить систему знаний. Именно этот вопрос я и стал далее обсуждать,
предполагая, что у нас уже есть, с одной стороны, набор схем, с другой стороны,
необходимая онтологическая картина, но, чтобы получить на базе всего этого
необходимые знания, нужно произвести еще специфический анализ. При этом
придется накладывать схему на эмпирический материал в соответствии с
имеющейся у нас онтологической картиной. <…>
Я хотел бы разобрать – как очень типичный пример – обоснованное во многом
рассуждение, которое провел Розин, критикуя эти исходные схемы. Результатом его
критики было предложение или тезис о том, что надо ввести в эти схемы метод
табло, который в свое время при анализе управления был введен Лефевром. В чем
состоит эта схема рассуждения?
Прежде всего Розин рассматривает выработку самих схем и
оперирование с ними как анализ и исследование деятельности. Как он
рассуждает? Он показывает, что действие сопоставления складывается
из нескольких действий: сопоставление некотор ого объекта О х с
объектом-индикатором О и – первое действие; отождествление О х с
объектом-эталоном – второе действие; и отнесение выделенного
свойства к определенной знаковой форме – третье действие.
Что здесь происходит?
Прежде всего, то, что мы рассматривали как некоторое отношение
сопоставления или систему отношений сопоставления, раскладывается на ряд
действий. Возникает вопрос №1 о последней, или конечной, единице анализа:
можно ли такое отношение сопоставления раскладывать на действия внутри этой
системы слоев? С моей точки зрения, если мы будем пользоваться понятием формы
и содержания, то так раскладывать нельзя.
Почему? Дело в том, что в реальном анализе мы всегда движемся не снизу
вверх, не от содержания к форме, а наоборот, от формы к содержанию. Если мы
зафиксировали один знак или поставленные в ряд знаки, то мы должны затем от них
спуститься к некоторой единице, им соответствующей. Если мы просто переходим в
нижнюю плоскость, то должна быть задана единица. Дальнейший ее анализ будет
лежать уже в другом предмете, если он будет задаваться.
Таким образом, если мы начинаем раскладывать на особые единицы действия,
то мы невольно переходим в другой предмет анализа, теряем исходную категорию и
задаваемую ею систему принципов и, следовательно, совершаем логическую
ошибку. Выявленные в процессе изучения деятельности характеристики были
использованы для того, чтобы установить отношения между содержанием в
структурной схеме и эмпирическими проявлениями знаний.
То есть, с точки зрения Розина, можно использовать эту схему Х (А) для
наложения на некоторый текст, репрезентирующий эмпирический материал,
отождествляя его с содержанием в этой схеме. Я думаю, что это неправильно.
Потому что никаких процедур наложения на эмпирический текст с выделением
содержания не было. При этом рассуждали так: содержание каким-то образом
связано с объективной действительностью, с деятельностью. Вероятно, содержание
фиксирует эти объекты. Поэтому стали говорить, что содержание фиксирует
объекты, включенные в определенные операции.
На чем здесь ударение? Можем ли мы говорить, что некоторое содержание
фиксирует объекты, включенные в действия? Мне хотелось показать, что само это
суждение – что содержание фиксирует некоторые объекты – с точки зрения
введенных нами понятий, если их понимать так, как я их излагал, не может быть
высказано. Содержание и есть эта единица, она ничего не фиксирует. Объекты
действительно являются ее элементами, а саму эту структуру мы фиксируем в
знаковой форме. Полученные знания мы отнесли к структурной схеме, что
позволило ее перестроить и получить схему Х (А) , т.е. речь идет о том, как из
схемы «форма – содержание» получилась эта схема.
Стали говорить, что эта схема Х (А) является операциональным изображением
знания. Здесь возникает вопрос: а действительно ли в структуру знания входят
такой элемент, как объект, и такой элемент, как реальное действие, или реальная
операция?
Обычно говорят так: имеется объект Х, этот объект включается в действие
сопоставления, которое вычленяет в этом объекте объективное содержание. Я
спрашиваю: действительно ли отношения сопоставления вычленяют в объекте
некоторое объективное содержание? Или сама структура и есть объективное
содержание?
Кстати, мы действительно говорили, что содержание вычленяется в объекте.
Что здесь произошло? Дело в том, что содержание как некоторая единица,
неструктурная, существует только в форме, оно не имеет самостоятельного
существования.
Что происходит? Уберите отношение «форма – содержание», оставьте
структуру объектов и отношений сопоставления. Можем мы называть это
содержанием? Не можем. Дело в том, что сами понятия «форма» и «содержание» были введены
как некоторая единица, далее неразложимая. Вы оборвали это значение, и у вас, вроде бы, все
распалось на форму и содержание. Нет, просто ничего не стало, все улетучилось. Потому что сами
понятия содержания и формы функциональны.
Теперь происходит интересное отождествление. Когда мы накладываем эту
функциональную структуру на структуру Х (А) или на соответствующий
эмпирический материал, то происходит интересное сочетание функциональных
характеристик с материальными характеристиками, структурными. Больше того,
оказывается, что отнесение чисто функциональных структурных схем на
эмпирический материал предполагает выделение в этом эмпирическом материале, в
его фрагментах таких атрибутивных свойств, которые нами увязываются особым
образом с этими структурно-морфологическими и функциональными свойствами. И
в этом особенность работы этой категории.
У нас до сих пор не разработана и не формализована логика оперирования с
такими схемами. А оперирование с ними предполагает определенные жесткие
правила работы с функциональными определениями такой схемы, с ее структурноморфологическими определениями и с атрибутивными схемами того субстратного
материала, который в них вкладывается. Научиться работать с этими схемами –
значит освоить совершенно новый способ мышления, примеров которого еще не
было в истории развития науки. Некоторые попытки такого анализа были сделаны
Гегелем. В частности, нам предстоит в начале следующего года заслушать на этот
счет доклад Генисаретского с объяснением особенностей гегелевской диалектики.
По-видимому, гегелевские рассуждения как раз и строились на особом сочетании
функциональных и морфологических характеристик в одном языке. То есть был
построен такой язык, где это не разделялось.
В чем состояла ошибка Розина? Он задал функциональное определение формы
и содержания и, беря термин «содержание» как самодостаточный, стал спрашивать,
где же существует содержание. При этом в вопросе, где существует содержание,
предполагалось субстрат-атрибутивное и морфологическое существование. В то
время как оно существует лишь в функциональной схеме – как содержание. А если
мы говорим о его «мясном» наполнении, материальном, тогда это не содержание, а
нечто другое.
Допустив такую ошибку в пользовании этой схемой, Розин начал ее
развертывать следующим образом. Он взял эту схему и начал говорить, что есть
объект Х, затем он преобразуется в некоторое содержание, а затем это содержание
преобразуется в некоторую знаковую форму. И таким образом, Розин разложил эту
единую схему, фактически, на два преобразования.
Для чего это ему нужно было? Здесь мы переходим к принципиальному
моменту. Дело в том, что дальнейшая наша работа показала, что существует еще
одна область, которая может анализироваться точно так же, как мы анализировали
отношения замещения, а именно схемы преобразования некоторых объектов в
практической деятельности. Мы провели ряд эмпирических исследований по
анализу конкретных форм осуществления объектных, или вещных, преобразований.
<...>
Между теми и другими схемами существовал разрыв, т.е. объектные
преобразования существовали сами по себе, а знаковые замещения – сами по себе.
Встал вопрос, нельзя ли все это свести в единую структуру. И тогда Розин начал
раскладывать схему Х (А) по модели этих объектных преобразований, для того
чтобы представить это как одну структуру. Тогда перед нами встал вопрос, что
означает здесь стрелочка от Х к (А). При этом не вставал вопрос, что означает
кривая стрелочка в объектных преобразованиях; ясно, что это означает
преобразование объекта (предмета труда) в некоторый другой вид – продукт труда.
А что означает эта стрелочка? При этом еще все время существовала интенция
на деятельность, и поэтому вставал вопрос, что означает эта стрелочка как
деятельность. По-видимому, точно так же, как мы не спрашиваем, что такое
стрелочка в объектных преобразованиях, мы не должны спрашивать, что такое
стрелочка в схеме Х (А) . По-видимому, «замещение» есть исходное понятие в той
системе, которой мы пользуемся. Как я старался показать, мир, по-видимому,
состоит из двух связей или из двух преобразований: из преобразований в одной и
той же плоскости, причем, неважно – знаков или вещей, и перехода от одной
плоскости к другой, т.е. замещения.
И вот эти две связи – как минимум – и образуют структуру человеческого мира.
И в этом смысле замещения и объектные преобразования суть одно и то же,
функционально. Здесь возникает, уже в совершенно другом предмете, особый и
сложный вопрос: каким образом соединяются друг с другом в одном объекте
разные виды его ассимиляции человеческой деятельностью, т.е. каким образом
стыкуются, или связаны, эти практические преобразования вещей и их
познавательные замещения, какие связи существуют между ними?
По-моему, ответить на этот вопрос можно, только развертывая систему самой
деятельности. Хотя обратным ходом можно будет перевести полученные
результаты и на это знание, задав некоторые способы стыкования систем разного
рода. Здесь мы должны поставить очень важный вопрос о стыковании инженерной
или какой-то другой ассимиляции и собственно познавательной деятельности и
указать место познанию.
Здесь я должен зафиксировать два пункта. Что же у нас получалось? Когда мы
развертывали эти схемы, то у нас был эмпирический материал – мышление. Мы с
самого начала знали, что мышление есть деятельность. Это нам сказал Зиновьев, и
мы в это твердо верили. Затем у нас были схемы, о которых я говорил. Мы их
накладывали на эмпирический материал, развертывали и т.д. Эта работа всегда
сопровождается некоторым словесным описанием, и за счет этого живут наши
схемы, т.е. то, как мы работаем со схемами, фиксируется в словесном описании.
Поскольку же в описании все время фигурировало слово «деятельность»,
создавалась иллюзия, что мы, строя эти ряды, анализируем мыслительную
деятельность.
Кроме того, мы трактовали эти схемы как некоторые знания об объективно
существующем. Поэтому в работах 1955 – 1958 гг. писалось, что мышление можно
рассматривать в двух планах: либо как знания, либо как деятельность.
И эти схемы мы тоже трактовали двояко: либо как знания, либо как
деятельность. И мы были горды тем, что показали, каким образом деятельность и ее
продукты по существу изоморфно накладываются друг на друга, хотя страшными
словами ругали формальную логику за то, что у нее получается то же самое.
Таким образом, во-первых, мы рассматривали мышление как деятельность, вовторых – как знание, и в-третьих, само знание – как то, что переходит в голову
индивида и там существует, т.е. интериоризируется. Причем, получалось это
очень просто, потому что описания содержали огромную долю
эмпирического материала. И мы никак не могли осуществить эту
научную норму: считать, что в материале есть только то, что мы сумели
в схемах изобразить. За э то нас ругали.
Розин. Ты считаешь, что можно работать со схемами без описания.
Нет. И на каком-то этапе это было оправдано. Но теперь, когда мы стали
проводить параллель с объектными преобразованиями
.
.
.
О
1О
3
2О
и знаковыми замещениями Х (А) и
поставили их в один ряд как однопорядковые образования, мы теперь задним ходом
можем понять и природу этих образований.
Что такое преобразование объекта? Это есть некоторый продукт деятельности.
Она осуществляет эти преобразования. Она их осуществляет, потому что
существуют верхние слои, которые задают потенцию таких преобразований.
Совершенно ясно, что если я разбил свой магнитофон, то фиксация его состояния
не есть описание деятельности. Когда мы брали схему Х ( А ) , то над нами
довлела иллюзия мыслительной работы. Кто замещает знаком? Человек.
Что
это
такое?
Мышление.
Мышление
есть
деятельность,
следовательно, это есть изображение мыслительной деятельности, т.е.
оперирование со знаками, с символами. А это не есть изображение
мыслительной деятельности, а есть некоторые объектно -знаковые
замещения. И в этом смысле это – функциональные преобразования, т.е.
тоже продукт деятельности.
Таким образом, это есть, с одной стороны, продукт деятельности, заданной в
виде огромного здания, а с другой стороны, это есть система, нормирующая все
другие производственные деятельности. В этом плане эти системы преобразования
объектов по функции тождественны знаковым преобразованиям – тому, что мы
сейчас называем оперативными системами. Числовые преобразования или
чертежные – это системы этажей, построенных в этом здании. С этой точки зрения
логика никогда не исследовала того, что называется мыслительной деятельностью,
она исследовала правила символических этажей. Мы сейчас расширяем это
логическое представление.
То есть мы задаем ей некоторое место в качестве изучающей эти
этажи и правила оперирования с ними. Вместе с тем, сама формальная
логика, в том числе и математическая, оказывается лишь звеном по
отношению к общему представлению этого здания, т.е . системы
предметов, и должна войти в это представление, поскольку она будет
таким образом построена. Принципиальной добавкой по сравнению с
формальной логикой будет введение, кроме систем формальных
преобразований, собственно объектных преобразований, а т акже
переходов в соответствии со связью замещения.
В следующий раз я хочу рассмотреть, во-первых, ошибочность трактовки
структур как знаний, рассмотреть позицию индивида в этом отношении, а потом
коротко изложить другую линию анализа, намечавшуюся с самого начала – анализа
мышления как процессов, – и рассмотреть, почему там тоже ничего не удалось
толком сделать, и, вместе с тем, почему эта линия дала возможность сделать шаг к
анализу деятельности.
05.07.1965
Две онтологические картины социума:
предметный мир и мир деятельности
Напомню общую схему и план моего предшествующего движения, а
также основные положения, которые были получены в ходе этого
движения. Я говорил о том, что в числе основных принципов,
выдвинутых Зиновьевым в 1951 –1952 гг., были два принципа, или
требования, к эмпирическому анализу текстов. С одной стороны, это было
требование анализировать тексты с точки зрения категории формы и содержания в
том смысле, какое придал Зиновьев этим понятиям, а с другой стороны, требование
рассматривать тексты с точки зрения понятия процесса.
Первоначально у Зиновьева и у тех, кто следовал этим принципам, эти понятия
– формы, содержания и процесса – были теснейшим образом связаны друг с другом.
Их применение было лишь моментом анализа мышления как действия. Но,
фактически, эти две линии в своих внутренних связях развалились и
развертывались независимо друг от друга. Это и дало мне возможность резко
разделить эти понятия и провести анализ истории развития наших идей только на
материале понятия «форма – содержание».
Вместе с тем, из за того, что в осознании эти две линии развертывались
одновременно, создавалась совершенно неправильная установка в позднейшем
объяснении и интерпретации полученных результатов. Мы все время говорили об
анализе мышления как деятельности и характеристики мыслительной деятельности
переносили на те схемы, которые были получены в первой линии анализа,
проводившегося в соответствии с категорией формы и содержания.
В ходе своего движения я соединил категорию формы и содержания с
операциональным представлением содержания знания. Такое соединение привело к
появлению схем
(А)
Х
т.е. к появлению многоплоскостных схем с определенным изображением
структуры содержания и формы. Вместе с тем я подчеркивал, что если мы будем
жестко разделять, с одной стороны, средства, которыми мы пользуемся, а с другой
стороны, изображение эмпирического материала, то мы схему «форма –
содержание» и другую схему, содержащую операциональное представление Х(А),
должны будем в блоке средств поставить раздельно.
Их соединение происходило в другом блоке – изображений эмпирического
материала, а также в блоке развертывания этих изображений при построении общей
теоретической системы. Если мы сейчас представим себе эту картину, то у нас
получится следующее: у нас были эти схемы в качестве исходных трафаретов, они
определенным образом соединялись друг с другом, и мы прикладывали эти схемы к
эмпирическому материалу. Такое приложение членило эмпирический
материал на отдельные фрагменты и давало возможность объяснять эти
фрагменты и представлять их в схемах.
Эти схемы применялись, с одной стороны, в исследованиях по методологии
науки, а с другой стороны, в психолого-педагогических исследованиях при
объяснении деятельности детей. Вместе с тем, рядом строились на базе этих
исходных схем сложные комбинации или структуры. Это давало возможность
вычленять в эмпирическом материале более сложный и богатый материал, который
не укладывался в простые схемы. В ходе построения более сложных схем у нас
получались многоплоскостные структуры замещений.
В нижней плоскости строилась некоторая структура содержания за счет
применения к объектам действий сопоставления, и она фиксировалась в верхнем
слое, как бы останавливалась путем введения знаков, которые фиксировали
построенные здесь структуры содержаний.
Затем к знакам применялись другие действия сопоставления, здесь создавался
новый уровень содержания и новый его категориальный тип, и он тоже
фиксировался в знаковых структурах – другого типа, в некоторых новых способах
оперирования с самими знаками.
Короче говоря, появлялись такие многоплоскостные структуры. Сам принцип
их построения неизбежно должен был привести в какой-то момент к попытке
построить особую картину мира, особую онтологию, исходящую из этих схем.
Такая онтология и была построена.
В прошлом докладе я характеризовал некоторые моменты общих
онтологических схем или онтологической картины того мира, который выражался в
этих схемах. Параллельно этому шло описание, причем, между описаниями и
схемами не было необходимого изоморфизма. В описаниях мы говорили о
деятельности и имели на это право, поскольку сами описания непосредственно
относились к эмпирическому материалу, т.е. к текстам, в которых зафиксирована
мыслительная деятельность.
Следовательно, в описаниях витало деятельностное представление мышления.
С другой стороны, сами схемы, которые мы строили, тоже накладывались на
эмпирический материал, но в нем они вычленяли только то, что они содержали в
своей собственной структуре, только то, что они фактически могли вычленить.
Описание, далее, мы относили к схемам. Описание работало в двух функциях: в отнесении к
эмпирическому материалу, где витала деятельность, и в отнесение к схемам и через них к
эмпирическому материалу, на который эти схемы накладывались. И здесь мы тоже говорили о
деятельности, хотя в этих схемах деятельность не вычленялась.
После того как схемы, наборы схем построены и построена соответствующая
им онтологическая картина мира, должна быть проделана особая работа.
Необходимо поставить вопрос: что же есть на самом деле, в отличие от того, что
схватывается в этих схемах и в построенной на их основе онтологической картине?
Эта работа по своему смыслу – философская. В любой науке возникает такая
проблема, поскольку в науке пользуются математическим аппаратом и вычленяют в
действительности только то, что в этом математическом аппарате уже
зафиксировано.
Но эта деятельность должна быть вписана в более широкую картину. И,
следовательно, помимо онтологической картины мира, построенной на основе схем,
должна быть построена более широкая картина, в которой изображения из первой
картины нашли бы свое место. Возникающие здесь вопросы относятся к проблеме
обоснования той или иной науки. В эмпирических науках такое отнесение к более
широкой картине обычно связано с экспериментальными исследованиями. Повидимому, эксперимент впервые появляется в этой процедуре. И только здесь мы
имеем эксперимент в отличие от наблюдений. Такая задача встала перед нами. Мы
должны были выяснить, что схвачено в наших схемах и включить эту
онтологическую картину в более широкую систему. Такая более широкая область,
фактически, определялась нашей манерой выражаться, т.е. описанием нашей
работы. В описании мы все время рассматривали мышление как деятельность.
Поэтому было естественно поставить вопрос: чем с точки зрения системы
деятельности являются построенные нами многоплоскостные схемы и та
действительность, которая в них схватывается?
Розин. Может быть, онтологическая картина у тебя относится только к
одноплоскостной схеме, а о многоплоскостных схемах, наверное, говорить нельзя.
Я не рассматривал развертывания в многоплоскостные схемы, а выдвинул лишь
формальный принцип: образования некоторых структур содержаний, того, что мы
сейчас называем дельта-компонентой, и использования отношения замещения. Я
предполагаю, что на всех этажах будет реализовываться только одно это простое
отношение. Если бы у меня были другие схемы, то я должен был бы поставить
вопрос об обосновании иной онтологической картины. А в данном случае вопрос
некорректен.
Розин. По-видимому, вопрос о том, что собой представляют эти схемы,
может задаваться только в том случае, если мы имеем неудовлетворительное
положение с этими схемами, когда мы относим, например, схему к тому, к чему ее
относить нельзя. Или ты считаешь, что этот вопрос может встать сам по себе?
Здесь есть два разных момента. Конечно, такой вопрос возникает в особых
ситуациях. Например, когда возникает противоречие при наложении на
эмпирический материал или когда возникает противоречие между описаниями и
самими схемами. Одно из таких противоречий у нас выражалось так: мы не могли
соотнести два аспекта рассмотрения мышления – как знания и как деятельности. Сначала
мы разделили мышление на процесс, приводящий к продуктам, и продукты этого
процесса – знания.
Но оказалось, что в схемах это выражается единообразно. Схему Х (А) мы с
одной стороны трактовали как знание, а с другой стороны, как некоторую
процедуру. То есть противоречия могут возникать между тем смыслом терминов,
используемых для описания схем, который интуитивно схватывается при их
отнесении к эмпирическому материалу, и другим смыслом этих терминов – при
отнесении к схемам.
Кроме того, противоречия могут возникнуть, когда появляются другие
изображения и встает задача соединить их в рамках одного представления. У нас
такая двойственность была за счет того, что мы пользовались понятием формы и
содержания и понятием процесса. Но меня сейчас не интересуют эти отдельные
причины, которые заставили поставить такой вопрос. Мне кажется, что теперь мы
можем ставить такой вопрос безотносительно к тем или иным парадоксам,
поскольку мы знаем, что такое вообще должно быть и будет продолжаться до тех
пор, пока мы не сумеем охватить все сущее. Именно так была сформулирована
задача четыре года назад: поставить границу сущему.
Розин. Когда переходят к основанию чего-либо, то остаются в том же
предмете или переходят в другой? В какой предмет переходит логик при
обосновании своего старого предмета?
Всякое обоснование предполагает выход в другой предмет. Мне тезис
Гильберта о том, что обоснование математики есть дело математики,
представляется ложным. Обоснование может осуществляться в самом общем
предмете – в философии.
Тогда встает вопрос обоснования философии. Но, по-видимому, никакого
обоснования философии не существует. Мамардашвили в своей статье в «Вопросах
философии» ругает Ясперса, у которого, с его точки зрения, неправильное
понимание философии, поскольку Ясперс не видит научной природы философии.
Но, по-видимому, философия не наука. Философия занимает особое место в
системе познания, и природа ее такова, что она быть обоснована не может. Повидимому, все науки вычленяются из ничего в работе философствования. Наверное,
философию нужно определить как такой род деятельности, с помощью которого
выделяются и создаются предметы научного исследования.
Задача философии – создавать такие предметы. В таком ее понимании она
создает их, по сути дела, из ничего. Если тот или иной предмет создан в рамках
философской работы, а потом мы ставим вопрос о его обосновании, то мы тем самым
автоматически выталкиваем этот предмет из области философии в область положительных наук. А
уже само обоснование и задание более широкого предмета выступает как философия. То есть
философия обосновывает науки и самое себя.
– Зачем нужно обоснование?
Для того, чтобы соотносить полученные знания со знаниями, полученными из других
предметов. Все науки создают разные предметы, развертывая свои схемы тем или иным способом.
Затем их все нужно соотнести друг с другом, поскольку во всех этих науках мы занимаемся
изучением природы. И есть некоторая единая целостность, которая ими изучается.
Поэтому, если получается много предметов, то нас это не может устраивать, и
мы должны сводить их в единую картину. За счет сведения всех этих предметов в
одной картине мы можем говорить о ложности попыток соединить некоторые
знания, поскольку они лежат в разных слоях. И именно для этой работы нужен
эксперимент.
Верхняя онтологическая картина имеет своим основанием схемы, развернутые в
рамках первого предмета. Она фиксирует, таким образом, ту действительность,
которая была схвачена в соответствующих схемах. Вторая картина предполагает
заведомо более широкую систему. Вторая онтологическая картина, таким образом,
представляет и изображает как бы всю – я подчеркиваю это слово – схваченную
нами до сего времени действительность. Первая онтологическая картина всего этого
– и это вполне естественно – должна быть помещена внутрь второй. Если второй,
более широкой системы действительности нет, то она должна быть построена с
помощью определенных рассуждений. Между прочим, одним из моих следующих
шагов будет переход от сравнительно узкой картины к более широкой картине
мира, к картине которую мы называем универсальной.
Здесь интересно отметить, что первую картину мира нельзя рассматривать как
часть второй. И первая, и вторая картины являются полными. Это обстоятельство, в
частности, проявляется в том, что мы не можем непосредственно вложить первую
картину внутрь второй. Мы должны это сделать, но мы не можем осуществить этого
непосредственно.
Чтобы проделать такую процедуру, нужно перестроить первую картину,
произвести новое ее переосмысление в соответствии с характером второй. Поэтому
мы можем говорить, что и первая, и вторая картины являются в равной мере
полными, но вторая более конкретна, нежели первая, первая более абстрактна,
нежели вторая.
Поэтому первая картина остается такой, какая она есть, в рамках своего
собственного научного предмета, и, вместе с тем, ее содержание и смысл, уже в
новой форме, переносится во вторую картину. Нередко при этом первая картина
членится на фрагменты и элементы, они переносятся во вторую картину в новом
языке, в новой форме и при этом между ними устанавливаются иные связи и
отношения.
– Как понимать ваше утверждение, что наука требует обоснования, а
философия не требует обоснования?
Я не хочу сейчас обсуждать вопрос о том, что такое наука, ибо он сам по себе
достаточно сложен. То, что я выше сказал, ни в коем случае нельзя рассматривать
как определение науки и философии. Это лишь их частные характеристики, причем,
взятые по отношению друг к другу. Я говорил лишь, что наука всегда предполагает
обоснование. Научное знание – это знание, прошедшее через специальные
процедуры обоснования, а философия – это чистое или непосредственное знание,
которое не обосновывается, а наоборот, само обосновывает другие знания. Если и
можно говорить об обосновании философского знания, то только через
употребление и применение его.
Между научным и философским знанием всегда существует что-то вроде такого
отношения. Но это, повторяю, не их определение. Чтобы дать определение науке и
философии, надо построить весьма конкретные теоретические изображения
массовой деятельности и уже через них определять как науку, так и философию.
Иначе говоря, нужно будет построить изображение универсума деятельности и в
нем определить место науки и философии. Это и будет подлинным определением
науки и философии.
– Как проверяется соответствие схем эмпирическому материалу? Если мы
наложим схемы на эмпирический материал, то по каким основаниям мы можем
судить о соответствии или, наоборот, не соответствии их?
Наложение схем на эмпирический материал всегда дает нам то, что мы хотели
получить. Сам факт наложения ни коим образом не свидетельствует об истинности
схем или об их адекватности объектам. Мы так выбираем эмпирический материал и
так строим схемы, чтобы они соответствовали друг другу. Правильность
(историческая), истинность (историческая) подобных схем определяются лишь
общим историческим процессом развития нашего знания и методов познания.
Каждая схема оценивается с точки зрения ее роли в дальнейшем развитии теоретических
представлений. Это и есть ее характеристика с точки зрения исторической истинности.
– В чем разница между схемами и описаниями объекта?
Прежде всего – в способах оперирования с соответствующим знаковым
материалом. Но, конечно, мой ответ очень абстрактный, и требуется более
подробное и детальное обсуждение, в которое я сейчас не могу входить. Для этого
нужно будет задать изображение структуры науки и основных процедур научного
исследования. Только такое изображение позволит определить схемы и описания в
общем виде; без него нам придется лишь тыкать пальцем в некоторые примеры и
говорить: это – схема, это – описание и т.д.
– Связано ли как-нибудь наложение схем на эмпирический материал с онтологическими
картинами соответствующих объектов? Можно ли считать, что онтологические картины
возникают для того, чтобы обеспечить эту процедуру?
Это очень сложный вопрос. Если судить по тому, что мы сейчас знаем, то
можно утверждать, что онтологические картины играют какую-то важную роль в
процедуре наложения схем на эмпирический материал.
Вместе с тем, пока у нас нет никаких оснований утверждать, что
онтологические картины возникают именно для того, чтобы обеспечить эти
процедуры. Наверное, пути и способы образования онтологических картин весьма
многообразны. Здесь важно также учитывать изменение и развитие самих
онтологических картин. Одни служат основанием при развертывании схем, другие,
наоборот, возникают из и на основе схем, выражая заключенный в них новый
смысл.
Сейчас мы уже достаточно хорошо знаем, что именно онтологические картины
образуют тот узловой пункт, вокруг которого строятся все остальные элементы
научного предмета и науки. Поэтому можно говорить, что содержание и
развертывание онтологических картин является одной из важнейших задач науки.
Это имманентная цель науки, в то время как ее внешней целью является создание
знаний, употребимых в практике. Все аккумулируется в онтологической картине, и
из нее же в науке начинается новое движение.
– А какое отношение к этому имеет онтологизация средств?
Онтологизация средств – совсем особый процесс, о котором я сейчас не хотел
бы говорить.
Однако вернемся к основной линии моего изложения. Я надеюсь, что вы
помните то, чем я кончил. Были построены схемы, и затем мы стали создавать
процедуры развертывания этих схем. Но здесь в самой нашей работе появилось
разветвление, и поэтому в своем докладе я должен буду воспроизвести и
имитировать его. Проделав движение по одной ветви дерева, я затем вернусь назад и
проделаю движение по второй ветви. Поэтому вы должны четко зафиксировать саму развилку и в
дальнейшем отметить для себя возвращение к ней.
Двигаясь по первой ветви нашей работы, я должен буду рассказать о тех
важных результатах, которые были получены в ходе развертывания исходных схем,
в ходе их наложения на эмпирический материал, с одной стороны, и их
конструктивного развертывания – с другой.
Теперь мы должны выяснить, что было основным и важнейшим в этом
движении как с точки зрения методологии, так и с точки зрения собственно
теоретического содержания.
Чтобы приступить к обсуждению этих вопросов, мы должны прежде всего
выяснить, что было заложено в рядах плоскостей замещения. В прошлый раз я уже
говорил, что вся эта система замещений есть, по сути дела, тот мир, который
создается человеческой деятельностью, людьми. Это – мир социального
существования. Я уже говорил, что в ячейках или узлах плоскостей замещения
заложены объекты разного категориального типа.
При этом существует строгое соответствие между типом тех преобразований,
которые совершаются в каждой плоскости, и характером объекта, способом его
представления. Я говорил о том, что всякий объект, в рамках указанной системы,
предстает как некоторый способ синтеза, как некоторая синтезирующая схема. В
зависимости от того, на каком пересечении этой иерархии он лежит, и в
зависимости от того, какие преобразования применяются к знакам в каждой такой
плоскости, мы получаем разные категориальные характеристики этого объекта.
Где-то внизу могут лежать еще не расчлененные ситуации деятельности и
общения, ситуации, образующие содержание и объект примитивных форм
мышления. Выше, над ними, появляются свойства и таблицы свойств, фиксируемые
как явления. Еще выше появляется то, что мы называем вещью. Вещь всегда
связана уже с достаточно сложным синтезом накопленных характеристик. Еще
выше появляются свойства, теперь уже не как явления, а как свойства вещей,
свойства во втором смысле – количество и качество, число, изменение и т.д. Одним
словом, каждая плоскость замещения имеет свою особую категориальную
характеристику. Или, иначе говоря, особый способ представления объекта.
Вместе с тем – здесь предполагается уже несколько иной подход – каждая такая
плоскость выступает как определенная оперативная система, т.е. как некоторое
множество знаков, связанных между собой определенными регулярными
преобразованиями. Если мы будем двигаться в плоскости вещи, то это будет
совокупность оперативных систем, задающих существующие в нашем мире и
нашем производстве способы преобразования вещей. Если мы движемся в числе, то
это будут те преобразования, которые мы совершаем в оперативных системах
арифметики. Если это будет величина, то это будут, соответственно,
преобразования теоретической арифметики или алгебры, с помощью которых мы
движемся в величинах. Дальше это будут дифференциально-интегральные
исчисления и т.д., и т.п. Все это будут разные оперативные системы.
Поэтому перед нами возникает задача – если мы хотим изучить все эти системы
– описать все эти образования. Это значит каким-то образом охарактеризовать
принципы их построения или организации, а также характер тех преобразований,
которые в них осуществляются.
Но этого мало. Если мы имеем дело с плоскостями замещения, лежащими
достаточно высоко – а обычно мы имеем дело именно с ними, – то
проанализировать оперативные системы такого рода всегда означает
проанализировать все их системы значений, а это значит расчленить и
проанализировать все системы значений, фиксированные в плоскостях замещения,
лежащих ниже исследуемого.
Если мы, к примеру, имеем дело с системой арифметики, с числом,
находящимся в числовом ряду и в разнообразных арифметических соотношениях,
то проанализировать эту или эти оперативные системы означает, среди прочего,
проанализировать и вывести все те значения, которые имеет число и за счет своего
существования в числовом ряду, и за счет своего места во всех разнообразных
арифметических соотношениях, и за счет своих подстановок в различные
буквенные выражения, а также за счет всех тех преобразований, которые мы производим с
объектами, обозначаемыми числами и имеющими отношение к величине и количеству. Именно эта
проблема и оказалась у нас основной и главной в ходе развертывания исследований, связанных с
предметами такого рода.
Когда предметом специального изучения стали атрибутивные структуры, то
есть некоторые структуры организации языка, соответствующие тому, что
традиционно изучалось формальной логикой, то главным пунктом затруднений
оказались именно значения и системы значений знаков, входящих в атрибутивные
структуры.
Вы знаете, что сейчас в ходе развития логики, вместе с появлением проблемы
знака, ставшей особенно острой со второй половины XIX столетия, одной из
основных логических проблем является проблема значения. Основанием здесь
служит трехплановое расчленение на синтактику, семантику и прагматику,
предложенное в 1936 г. Ч.Моррисом. Считается, что в современной математической
логике развиты методы экстенсионального анализа семантических значений и
методы анализа синтаксических значений. Экстенсиональные методы анализа
семантических значений противопоставляются интенсиональным, которые, как
признается, развиты весьма слабо. Подчеркивается также, что почти совсем не
развиты методы прагматического анализа значений. Говорят даже, что прагматика
до сих пор лежит за пределами того, что исследовалось в подлинном смысле этого
слова.
В анализе атрибутивных структур мы полностью отказались от этого принципа
трехпланового членения значений. Все так называемые синтаксические значения
выводились нами из исходных семантических значений. Я не буду сейчас в
подробностях напоминать вам эти работы, ибо вы можете познакомиться с ними по
журнальным публикациям (Доклады АПН РСФСР, 1958, №1, 4; 1959, №1, 2, 4;
1960, №6) и по более развернутой и обширной рукописной работе 1958 года. Я
остановлюсь только на самих принципиальных методологических моментах.
Принципиально важно, что в нашем анализе соображения, относящиеся к
механизмам познания, органически объединялись с соображениями, относящимися
к условиям и механизмам коммуникации. При этом очень четко фиксировалось
различие позиций индивидов, строящих сообщение и получающих его.
Был разработан метод – если следовать традиции, то он может быть назван
диалектическим, – позволяющий анализировать и развертывать значение отдельных
элементов структур и их организации.
Выяснилось, что так называемые синтаксические значения являются
модификациями исходных семантических значений. Таким образом, нам удалось
связать значения, образуемые отношениями замещения и отнесения знаков, т.е.
отношениями, связывающими разные плоскости, со значениями, развертываемыми
в плоскости замещения в ходе создания соответствующих оперативных систем.
Анализ атрибутивных структур дал новое направление нашим исследованиям.
Выяснилось, что один и тот же знак, занимающий определенное место в
синтагматической цепочке, имеет разные функции и соответственно значения, во-
первых, в зависимости от того, как он используется и работает в коммуникации и
общении, а во-вторых, в зависимости от того, какие системы сопоставлений
объектов он замещает. Из этого следовал вывод, что все значения знаков задаются,
по сути дела, употреблениями знаков.
Здесь мы столкнулись – хотя по-настоящему поняли это лишь позднее – с
основным принципом школ лингвистического анализа, работающих в Англии и
считающих себя последователями Витгенштейна второго периода. Они также
выдвинули и поддерживают тезис, что значения знаков создаются их
употреблениями. Я не знаю, насколько им удалось продвинуться дальше самого
принципа и смогли ли они реализовать свои идеи в конкретных исследованиях. По
своему смыслу и значению этот принцип направлен против традиционных логикосемиотических представлений о значениях как семантических, синтаксических и
прагматических.
Понятие употребления как основания для значения должно снять все эти
различения. Но для того, чтобы оно действительно стало таким, нужно еще
разработать специальные методы единого и единообразного анализа значений на
основе анализа употреблений.
Насколько мне известно, работа об атрибутивных структурах была первой
попыткой превратить этот принцип в конкретную методику анализа. Она достигла
известных успехов, но, вместе с тем, породила общий вопрос о типах употреблений
и общих методах их анализа. Именно эти проблемы стали важнейшими для нас в
последующие годы, 1959 –1963. Эти исследования, как оказалось, имели куда более
широкое значение, нежели это предполагалось сначала.
Когда была сделана попытка применить принцип употребления к истории
числа, то сразу же оказалось, что он дает возможность проанализировать не только те или иные
знаки, употребляемые в синтагматических цепочках, но и вывести необходимым образом способ
организации знаковых систем.
В качестве интересного примера можно привести чисто конструктивный
подход, предложенный В.А.Лефевром, когда он рассматривал пример с числамизарубками в условиях достаточно расширившегося государства. Взяв в качестве
исходного материала палки разной длины с разным числом насечек или зарубок, он
показал необходимость такой организации всего этого множества палок, которая бы
приводила их всех к некоторому единому образцу, содержащему одинаковое число
зарубок. Основная идея состоит здесь в том, что с тогдашними числами,
представленными на палках, надо было действовать и эта последующая
деятельность задавала способ их организации. При этом, что очень интересно,
оказалось, что «суммирование» в неорганизованном множестве и организованной
системе – разные действия.
Таким образом, если раньше я говорил о том, что мы сделали попытку
отвергнуть противопоставление в исходном пункте семантического и
синтаксического планов и вывести синтаксические функции из семантических и что
нам это удалось, то здесь я должен сказать нечто большее. Если мы описываем
некоторую знаковую систему, которая замещает определенные содержания,
выработанные на нижележащих плоскостях, исходя из этих содержаний и
отношения замещения, то мы получаем одно представление структурной
организации этой знаковой системы. Но мы, кроме того, можем и должны
рассмотреть еще способы оперирования, накладывающиеся на эту знаковую
систему как бы сверху, иначе говоря, мы должны добавить еще последующую
деятельность по поводу этой знаковой системы и в связи с ней.
И оказывается, что как только мы накладываем это требование – использовать
более широкие системы деятельности, – так моментально получаем новую систему
требований к знаковой системе и ее структурной организации. И таким образом
фиксируем необходимость перестройки этой системы, превращения ее в иначе
организованную структуру.
Вы можете заметить, что дальнейшая линия анализа вырисовывается сама
собой. Теперь, чтобы исследовать структуру знаковой системы и характер значений
отдельных знаков этой системы, которые имеют разные составляющие, мы всякий
раз должны прежде всего перевести всю эту проблему в иную плоскость, мы
должны спросить себя, как именно и в каких деятельностях используются или
употребляются эти знаковые структуры, или, точнее говоря, как они должны
употребляться. Мы начинаем изучать употребление знаков и знаковых систем как
особый вид деятельности – правда, я здесь должен специально оговориться, что
употребления не тождественны деятельности. Это особый, очень узкий способ
видения самой деятельности – через оперирование со знаками. Но как бы там ни
было, мы должны рассмотреть разные виды употребления знаков и знаковых систем
и из анализа способов употребления вывести некоторые требования к организации
самих знаковых систем.
В зависимости от того, сколько разных видов употребления одной и той же
знаковой системы мы найдем, мы получим разные типы знаковых структур и
разные типы значений знаков. Более точно, всякая знаковая структура
оказывается при этом результатом наложения и компоновки различных
по своей организации знаковых структур. Короче говоря, сколько видов
употребления пересекается в одной плоскости замещения, столько
видов и форм организации знаковой системы мы должны будем на этой
плоскости выделить.
Итак, встал вопрос о типологизации и классификации различных видов
употребления знаков и знаковых систем. Они понадобились нам для того, чтобы,
переходя от одних плоскостей замещения к другим, поднимаясь все выше в
тотальном знаковом мире, мы имели бы некоторую путеводную нить и некоторое
руководящее правило для поиска разных видов употреблений знаков в каждой
такой плоскости. Здесь можно было предположить, что существуют какие-то общие
типы употреблений. И действительно, через некоторое время они были найдены.
Здесь наиболее существенными были работы Ладенко, Розина, Москаевой и др. И
сейчас мы имеем достаточно широкий диапазон представлений о различных видах употреблений
знаков и знаковых систем, которые мы применяем при анализе каждой плоскости замещения.
Оказалось, что в знаково-предметном мире человечества каждая плоскость
замещения должна быть включена в четыре, пять или шесть строго стандартных
видов употребления знаков. Скажем, в употреблении знаков при решении задач
можно выделить один набор стандартных требований, при обучении мы получим
другую группу требований к употреблениям знаков и вместе с тем к организации
знаковой системы. В коммуникации мы получим одну группу требований к знакам,
а в трансляции – другую группу требований.
Выяснилось, что разные знаки могут по-разному удовлетворять или,
соответственно, не удовлетворять этим требованиям. Графический материал одних
знаков хорошо приспособлен к требованиям одного типа и совсем не приспособлен
к требованиям другого типа. Часто оказывается, что чем лучше он приспособлен к
одной группе требований, тем больше его сопротивление другим видам требований.
Мы сталкиваемся здесь с ограничениями специализации, столь характерной для
живых организмов.
Нередко между разными группами требований знаков появляются
противоречия.
Например, традиционная химическая символика хорошо приспособлена к
изображению структуры молекулы, с этими схемами очень легко и удобно
оперировать, имитируя соединения, замещения или разложения молекул на группы
и отдельные атомы. Но вместе с тем эта символика почти совсем не приспособлена
для ее передачи в устной речи. Поэтому, наряду со структурной схемой создается
еще одно знаковое описание и соответствующие имена для структур в целом и их
отдельных элементов.
Но тогда возникают специфические и весьма сложные проблемы задания
химической номенклатуры. Сегодня – вы, наверное, хорошо это знаете – усиленно
обсуждается вопрос о том, как должна быть организована химическая
номенклатура, чтобы она, с одной стороны, была удобной в коммуникации, а с
другой стороны, в способах своей организации отображала способы построения
структурных схем. При этом в качестве дополнительного, но важного требования
ставится условие, чтобы мы по названию химического соединения могли бы
зарисовать его структурную формулу. А это, как вы понимаете, возможно лишь в
том случае, если между названием и структурной формулой есть соответствия в
способах построения.
Я сказал, что между разными требованиями к знаковым системам и отдельным
знакам обнаруживаются противоречия. Через ряд промежуточных звеньев это
обстоятельство приводит к тому, что отдельные знаки собираются в группы
однородных знаков, а потом в знаковые системы, выделяются из общего фона
знаков и начинают существовать в виде специализированных по своим функциям и
употреблениям групп. При этом обнаруживается ряд новых, весьма интересных
моментов.
В специальной работе В.А.Лефевра по демонтажу структурных объектов при их
описании в словесном тексте и обратному монтажу структуры объекта по
словесному описанию выявилась возможность жестко детерминировать характер
синтагматических цепочек, выражающих структурные формулы разного рода.
Оказалось, что сложную структуру можно передать в словесном сообщении лишь с
большим трудом. Условием передачи является демонтаж структуры по строго
определенным правилам. Словесная цепочка должна быть построена так, чтобы мы
могли потом смонтировать точно такую же структуру.
Выяснилось, что между словесной цепочкой и исходной структурой даже в
наборе основных элементов не может быть изоморфизма. Сам момент передачи и
задания определенного порядка в деятельности монтажа требует включения в
цепочку сообщения специальных знаков, которые ничего не обозначают в исходной
структуре, а служат лишь для того, чтобы обозначить и определить каким-то
образом порядок самого монтажа. Поэтому в генетическом процессе формирования
знаковых средств, из которых строятся такие сообщения, образуются знаки со
специальной, чисто синтаксической функцией. Такой же результат был получен
Розиным при анализе алгоритмов и других видов математических знаковых
структур; правда, у Розина рассматривалась не столько коммуникация, сколько
трансляция.
Я рассказываю все это, чтобы пояснить общий принцип, сформулированный
выше, а именно: что анализ значений и организационных структур знаковых
систем, располагающихся на разных уровнях системы замещения, привел нас к
более общему принципу, что в основании всего лежат употребления знака, а затем к
принципу множественности этих видов употреблений, привел к анализу групп
требований к знакам и знаковым структурам, задаваемых этими употреблениями, и
позволил, комбинируя разные виды требований, задавать сложные наборы,
определяющие строение знаковых систем, преобразование их материала,
объединение разнородных знаковых групп в единые системы и т.д., и т.п.
Из этого – опять-таки очень естественно – выросла еще одна, третья линия
проблем и исследований. До сих пор я говорил о чисто структурном или
«функциональном» анализе знаковых систем, расположенных на разных плоскостях
замещения. Но, кроме того, мы можем поставить вопрос о том, как идет надстраивание этого
мира, какие знаковые системы появляются и должны появиться вслед за теми, которые уже есть в
нашем знаково-предметном мире, как одни системы определяют появление других и задают
требования к их строению и организации. Действует ли в этом процессе жесткая необходимость или
же, наоборот, характер и строение знаковых систем зависит от произвола тех или иных
исследователей?
Мы выяснили, обсуждая все эти вопросы, что основная масса подобных
наращиваний – я, правда, не утверждаю, что другого не бывает – определяется
достаточно жесткой закономерностью и необходимостью. И в этом плане появление
и развертывание всех последовательных плоскостей замещения в очень многом
предопределено характером взаимосвязей знаковых систем, лежащих в более
низких плоскостях.
Это значит, что определенные наборы знаковых систем, лежащие в нижних
плоскостях, по сути дела, предопределяют характер знаковых систем, возникающих
в более высоких плоскостях.
В дальнейшем я внесу ряд поправок в это утверждение, но пока оно является
совершенно правильным и соответствует всем тем данным, которое мы до сих пор
получили.
Выяснив, что развертывание знаковых систем происходит закономерно и строго
определенно, мы затем, естественно, подняли вопрос о том, как можно выявить,
описать и зафиксировать эти закономерности и этот необходимый порядок и,
опираясь на это, предусмотреть появление новых, еще не существующих структур.
Для этого, очевидно, нужно было сформулировать некоторые правила перехода от
нижележащих знаковых систем к вышележащим.
В этой связи был разработан метод, который мы обычно называем «методом
разрывов». Сейчас мы имеем уже несколько форм этого метода, которые важно
различить. Хотелось бы обсудить этот вопрос более подробно, и я это сделаю, но в
этом месте я вынужден прервать данную линию анализа и вернуться к тому месту,
где наши исследования разветвились, ибо метод разрыва был теснейшим образом
связан с теми представлениями и понятиями, которые развивались по второй линии
и до сих пор мною не обсуждались. Это была линия анализа процедур и процессов
мышления. Именно этот круг проблем я хочу сейчас обсудить, вернувшись назад к
развилке, чтобы потом опять дойти до метода разрывов и обсудить его подробно.
Здесь я вынужден перейти к глобальным, космологическим вопросам. Нам
снова приходится ставить вопрос о том, чем является мир замещающих друг друга
плоскостей вместе с соответствующей ему онтологической картиной. Но теперь мы
должны обсуждать этот мир уже не сам по себе, а по отношению к более широкой
картине, в которую он должен быть помещен.
Выше я уже говорил, что наше представление о более широкой
действительности было, по сути дела, с самого начала предопределено тем, что мы
начали с понятия деятельности и всегда считали его основным и определяющим для
своей работы. Такая интенция определила то обстоятельство, что наши предметные
схемы также трактовались нами как деятельность и ее воспроизведение, во всяком
случае как воспроизведение каких-то моментов деятельности.
Сейчас, как вы заметили, я все время говорю, что схемы замещения и вообще
предметные схемы не являются изображениями деятельности. Это то, что раньше
называлось теорией предметности. Таким образом, наши прежние схемы,
утверждаю я, изображают не деятельность как таковую, а ее продукты и условия,
предметы ею создаваемые, или, точнее, порождаемые. Но если мы принимаем это
утверждение, то перед нами сразу возникают два различных и существенных
вопроса:
Как этот мир предметов относится к миру собственно деятельности?
Каким образом этот мир – а я очень резко утверждаю, что все это и есть
мир социальной человеческой деятельности – относится к миру «природы», к миру
химических явлений, физических процессов и т.п.?
В обсуждении этих вопросов я буду идти в обратном порядке, от второго к
первому, хотя, если говорить точнее, мне придется обсуждать их вместе и
вперемешку.
Рассмотрим структуру мира сквозь призму деятельности. Мы уже не раз
говорили, что этот мир является продуктом человеческой деятельности. Он был
создан в ходе развития деятельности. Но такое утверждение представляется
очевидным лишь в том случае, если мы будем исходить из знаний как таковых.
Очевидно, что они появлялись постепенно, по мере развития человеческой
деятельности и мышления. Мы говорим, что этот мир представляет собой не что
иное, как отпечаток самой деятельности, и что он развертывается в той мере, в какой
развертывается человеческая деятельность.
Но если мы охарактеризуем эту структуру только как продукт человеческой
деятельности, то мы ухватим только одну его сторону и, может быть, не самую
важную. Этот мир, как я уже сказал выше, является, кроме того, условием
человеческой деятельности. Но это дает нам возможность с самого начала сказать,
что, изображая все плоскости замещения с их разными знаковыми системами и
способами оперирования, мы, вместе с тем, опускаем какой-то мощнейший
механизм, в котором протекает и развертывается подлинное движение человеческой
деятельности, механизм, который начинает с мира, изображенного в схемах
замещения, как со своего условия и своей предпосылки и приходит затем к
развертыванию всей этой системы, к наращиванию новых этажей и слоев, к
перестройке уже существующих и т.п. По отношению к этому механизму все
изображаемое нами есть лишь стратифицированная совокупность средств и условий
и, вместе с тем, – совокупность продуктов и арсенал, в который она помещена. А
где-то рядом существует кинетика деятельности, т.е. деятельность в ее
подлинности. Именно она образует нерв и суть социального существования.
Так мы естественно приходим к вопросу: что же представляет собой эта
деятельность, ее кинетический аспект?
Итак, поставив вопрос об отношении предметного мира к деятельности, мы
вынуждены с самого начала нарисовать рядом с миром предметов еще одну, пока не
понятную нам сферу, или область, пока без определенной структуры, без
определенных механизмов, но бесспорно существующую и своим существованием
определяющую жизнь и изменения систем предметного мира.
М
и
р
д
е
я
т
е
л
ь
н
о
с
т
иП
р
е
д
м
е
т
н
ы
й
м
и
р
Таким образом, мы получили новое «вместилище», новую сферу
действительности, которую мы должны «как-то заполнить», т.е. описать ее
элементы, структуры, механизмы и т.п. Неясно также, где будут проходить границы
этой новой сферы. Ведь до сих пор я ввел ее чисто механически и поэтому поместил
рядом с предметным миром, а это отнюдь не очевидно. Вполне возможно, что
деятельность охватит целиком и то, что мы называем предметным миром. Это не
значит, что границы между ними исчезнут. Мы все равно должны будем их
проводить, но вопрос состоит в том, как это сделать правильно.
Именно здесь мы естественным образом приходим к вопросу об отношении
между предметным миром, создаваемом людьми, и миром природы, который, по
предположению, существует до и независимо от мира человеческой деятельности.
Этот вопрос затрагивает не только логические и гносеологические проблемы, но
также онтологические и космологические.
Я приношу свои извинения за то, что не буду рассматривать историю этой
крайне интересной проблемы – я знаю ее очень слабо, явно недостаточно, чтобы
начать обсуждение. Я лишь выскажу несколько соображений, которые необходимы
мне в контексте обсуждаемой мной проблемы и кажутся достаточно
правдоподобными.
Если мы рассматриваем мир как бесконечный во времени и в пространстве, то в
этом мире не может быть развития. С этой точки зрения тезис элеатов о том, что
бытие неизменно, неподвижно и всегда одно и то же, т.е. вечно, сформулированный
где-то на заре античной философии, содержит и тот смысл, который я только что
выразил.
Когда в рамках натуралистических концепций говорят о биологической и
социальной организации, то рисуют ее как очень забавную иерархированную
систему. Внизу помещают физические и химические формы движения материи,
потом где-то в границах заданного таким образом мира помещают небольшими
островками «более высокие» формы движения материи, которые локализуют в
малых частичках мирового бесконечного пространства. Так появляется ареал
живого, а внутри «живого», захватывая часть этого ареала, находится человечество.
А сам мир природы остается бесконечным в своей протяженности и в своем
времени. В другом участке природного мира может проявиться нечто подобное – такой же
островок живого и, может быть, даже подобия человеческого общества. Но это
опять сгусток, локализованный в небольшом пространственном ареале.
Такой мир, как выяснилось, не может иметь развития. Поместить в такой мир
развитие невозможно. Давайте обсудим это более подробно.
Что, собственно, входит в понятие «развитие»? Оказывается, что понятие это
задано таким образом, что оно с самого начала предполагает резкую и
определенную ограниченность того, что развивается. Кроме того, мы должны иметь
в виду и подразумевать два разных состояния того, с чем мы имеем дело и что мы
рассматриваем. Первое состояние исчезает, второе состояние появляется, причем,
мы говорим, что первое переходит во второе.
Если мы с точки зрения этих признаков подойдем к нарисованной нами картине
и выделим в качестве интересующего нас объекта «биологическое», то, чтобы
ввести сюда понятие развития, нам придется произвести абстракцию такого рода,
которая, по сути дела, будет противоречить нашей исходной абстракции и даже
отрицать ее.
Дело в том, что нам придется, во-первых, ввести временной вектор, во-вторых,
от выделенного нами биологического объекта как бы «спуститься» по этому
временному вектору к другому состоянию мира; нам придется выделить и
зафиксировать другой участок мира – я подчеркиваю, что именно участок, а не весь
мир, – в котором до этого не было «биологического», и затем рассмотреть, каким
образом выделенный нами небиологический объект превращается в объект
биологический.
Только задав такую структуру, мы сможем ввести понятие развития. Но,
спросим себя, о развитии чего мы будем в этом случае говорить? Очевидно, о
развитии сгустка небиологической материи в биологическую материю. Это не будет
тождественно развитию физической материи в биологическую. Мы не сможем
этого говорить, потому что у нас всегда, с точки зрения нашего
понимания, остается значительная часть физического мира, которая ни
во что не переходит, остается существовать так, как она существовала,
не переходит в биологическое. И она точно так же существует и здесь.
Когда говорят о развитии, существующем в мире, то, как правило, располагают
в ряд разные формы и рассматривают сначала, например, физический мир, потом –
как более высокую его форму – биологический мир, затем социальный мир и т.д.
Считается, что все их нужно поместить как бы в одной плоскости, наряду друг с
другом – так, что одно развивается в другое. Предполагается, что этот ряд можно
сделать предметом некоторого рассмотрения, т.е. что все эти миры можно
рассматривать как лежащие в рамках одного предмета. Тогда, по сути дела, как живое, так и
социальное оказываются лишь разными моментами общего или природного.
Но я хочу обратить ваше внимание на то, что в природе нет «законов вообще».
Одни законы действуют в той части, которая отграничена «биологическим», другие
действуют в области физического, и есть законы, действующие в области
социального. Здесь мы сразу сталкиваемся с двумя парадоксами. Оказывается, что
узкая область имеет законы разного порядка: она подчиняется и законам
физического, и законам химического, и законам биологического, и законам
социального. И эти законы расположены иерархированно: один над другим ...
–…
Мне важно подчеркнуть, что мир не развивается по этим ступеням. В лучшем
случае, мы можем говорить, что кусочек физического мира превратился в
биологическое. С точки зрения логических условий понятие развития предполагает
некоторую замкнутую систему, границы которой определены, и переход от одной
формы этого целого к другой. Мы не можем применять это понятие к миру, о
котором говорят, что он бесконечен.
–…
Мне кажется, что здесь нарушается принцип соотношения объекта и предмета
изучения. Когда ведут подобное рассуждение, то выделенные ранее предметы
начинают рассматривать как локализованные в пространстве, как локализованные
во времени и располагают как элементы некоторого единого реального мира. Когда
мы эти предметы вкладываем в пространство и одновременно проецируем
временные отношения на пространственные, то смешение предмета и объекта
изучения приводит к парадоксам.
Я все это рассказываю для того, чтобы ввести иную вещь. Полтора года назад я
ставил вопрос о том, как относятся друг к другу две картины: социальная, или
деятельностная, и природная. Я тогда высказывал предположение, что социальный
подход, задающий деятельность как единый предмет, может оказаться
доминирующим по отношению к натуралистическому подходу.
Мы должны включить понимание природы в систему описания деятельности. А
как к ней должна быть отнесена природная действительность? Когда я рисую сейчас
систему, то это, по сути дела, один из возможных ответов на вопрос об отношении
социальной действительности и природной действительности. Социальная
действительность – это что, действительность, подчиняющаяся тем же законам, что и природная
действительность, и лежащая как бы внутри нее? Я спрашивал, является ли такой подход
действительно правильным. Может быть, можно сделать наоборот: выделить деятельность как
исходный пункт и вписать в нее природу? И недавно Лефевр решил эту проблему, дав ее рисуночек.
Розин. Разве Фихте не то же самое сделал?
Я недавно перечитал «Философию как строгую науку» Гуссерля и
увидел, что Гуссерль тоже эту проблему давным -давно решил. Но
раньше, без этого рисуночка, я этого не видел.
Что сделал Лефевр? Он нарисовал две картинки:
П
р
и
р
о
д
а
С
о
ц
и
а
л
ь
н
о
е
С
о
ц
и
а
л
ь
н
о
е
П
р
и
р
о
д
а
И сформулировал следующий тезис: когда мы движемся в первой картинке, то
тут нет субъективности, вообще нет субъекта, и нет социального. Здесь действуют
только законы природы. И тогда оказывается, что противопоставление
субъективного и объективного здесь не действует, потому что и субъект, и социум
точно так же объективны, как все остальное, и лежат внутри природы. А если в
другой картине мы задаем субъективное в смысле социального, тогда там все – социальное, и
тоже нет противопоставления субъективного и объективного.
Возникает вопрос: а где оно существует? Оно существует лишь в
психологическом представлении мира, а значит, психологическое представление
мира не имеет права на существование, поскольку с его помощью нельзя объяснить
ни
объективного,
ни
субъективного.
Тогда,
следовательно,
этого
противопоставления вообще не должно быть. Если я хочу рассмотреть социальную
деятельность, то какую из этих онтологических картин я должен выбрать?
Вы помните, что в предшествующих докладах, когда я обсуждал эти вопросы, я
предполагал, что нужно менять точку зрения. Мы рисовали большой круг и
говорили: это – универсум социальной деятельности. Вне ее находится то, что мы
обозначаем природой, и происходит непрерывное захватывание этой природы
социальной деятельностью. При этом мы предполагали, что она и есть та самая
природа, в которой действуют природные законы.
Теперь я бы написал здесь: не природа, а среда. Если мы хотим исследовать
социум как некоторый универсум, то мы должны задать его с того момента, когда
он уже сложился и существует в своих специфических моментах. Сама постановка
вопроса о развитии этого универсума из предшествующих форм в рамках такого
предмета является незаконной. Если мы все же хотим поставить такой вопрос, то
это означает, что мы должны перейти к особому предмету рассмотрения, который
будет называться «происхождение человеческого общества». Если мы будем решать
эту проблему происхождения, то мы должны будем сделать трюк. Когда мы
говорим о биологическом по отношению к нижележащему физическому и об
отношении социологического к нижележащему биологическому, то это нужно
понимать только в том плане, что появляется некоторая структура, которая
объединяет и структурирует элементы предшествующих форм.
Тогда получается, что нет биологического образования, которое переходило бы
в социологическое, меняя законы своей жизни. Этот переход, если о нем говорить
как о некотором происхождении, должен рассматриваться не как появление или
возникновение, обусловленное предшествующими структурами, а как первое, как
изначальный толчок. Как появление некоторой структуры, которая накладывается
на элементы какого-то другого материала.
Поэтому, если мы берем в рамках нашего предмета эту действительность, то в
ней может быть только один тип законов, например, только социальные законы.
Когда мы берем элементы, расположенные в природе, то, хотя они раньше, на более
низком уровне, имели свои особые биологические законы, но в тот момент, когда
они захватываются этой структурой и структурируются ею, они получают только
один вид законов, задаваемых самой этой новой структурой, т.е. социальные
законы.
Если же нужно говорить о тех законах, которыми они как целое обладали на
более низком уровне, то нужно переходить в другой предмет, чтобы не получать
противоречий. Но тогда мы находим ответ на вопрос об отношении этого
социального, построяемого человеческой деятельностью мира и мира природного.
Мир природный существует как некоторая среда, как материя, на которой
паразитирует социальный организм. Он дробит ее, разрушает ее структуру, а потом
вводит в качестве элементов в новые структуры, подчиняющиеся новым законам.
Другими словами, социальная деятельность вычленяет особые элементы,
разрушая тем самым законы существования этой среды, втягивает их в себя в
качестве некоторого материала и элементов своей собственной жизни. Поэтому,
когда мы выделили социальную деятельность, то уже не может быть никаких
природных законов. Есть только один вид законов – социальные законы, и вещи в
социальной деятельности живут не по своим природным законам. Стулья, столы и
все остальное живет не по законам природного, они живут по законам социальной
человеческой деятельности.
–…
С моей точки зрения, здесь сталкиваются две позиции: эмпирически-объектная
и теоретически-предметная. Когда вы говорите, что он живет и по своим
физическим законам, то это так только с точки зрения, к которой мы привыкли, с
точки зрения натуралистического подхода. Кажется, что это действительно так и
что он живет по физическим законам. Я дальше постараюсь объяснить, почему это
неверно. Я пока утверждаю только одно: когда говорят, что предметы живут и по
своим физическим законам, то при этом подменяют предмет и создаются основания
для массы парадоксов. При этом оказывается невозможным научное, теоретическое
движение. Хотя эмпирически вы правы. И даже больше того, этот предрассудок
имеет некоторое основание. Кроме того, нужно учесть, что я говорю не о
существующем реальном мире, потому что в нем есть все, все то, что мы открыли и
чего не открыли. Я делаю свои утверждения, рассматривая существующий мир сквозь
призму его научного анализа. А это значит – сквозь призму создания некоторых предметов
изучения.
–…
Мы знаем, что для того, чтобы объединить различные представления, нужно
строить более общие представления, по отношению к которым предыдущие были
бы или проекциями, или частями. Когда мы построили это более общее
представление, то мы приходим к необходимости соединить его с другими
представлениями такой же общности. И нетрудно заметить, что, продолжая это
движение дальше, мы в конце концов либо уходим в дурную бесконечность, либо
мы должны придти к всеобщему предмету. Я с этого начал свое обсуждение. Я
сказал, что есть два подхода к синтезу различных представлений: один – когда мы
задаем бесконечный в пространстве мир, вписываем в него как часть биологическое
и т.д. и пытаемся все объяснять на основе иерархии законов: физических,
биологических, социальных... Если вы возьмете современные исследования живого
или социологические, или психологические работы, то всюду встретите эту
традицию. Это позиция натуралиста.
С моей точки зрения, возможна другая позиция, когда как глобальное целое
берется социальная деятельность, т.е. деятельность как мир в целом.
Что мы благодаря этому получаем? Тогда мы с неизбежностью приходим к
тезису: если эта деятельность представляет собой организм, который поглощает
среду, перемалывая и ассимилируя ее, и затем структурирует ее по-новому, то
структурированные элементы среды не могут иметь своих собственных законов.
Когда же я задаю этот предмет, то я, с моей точки зрения, задаю единственно
возможный способ синтезирования разных представлений природного и
социального.
В чем он состоит? В том, что мы не пытаемся соединить физическое и
социальное как рядом лежащие, а исходим из одного и выводим другое. И здесь я
формулирую тезис: если мы будем исходить из деятельности, как из исходного и
определяющего, то мы объясним и то, как люди открывают природу, как нечто
подчиненное единым общим законам в пространстве и времени, и как они создают
некоторую картину природного и культурно-исторического, духовного. При этом,
если вы всерьез обратитесь к истории развития человеческого мышления, то вы
увидите, что существовал период (а это фиксирует даже Леви-Брюль), когда люди
еще никакой «природы» не открыли.
Люди еще не имели природы, точно так же как люди еще не открыли истории.
В этом смысле их жизнь не имела природного основания. И в этом же смысле ни
прошлая история не влияла на деятельность, ни перспективы будущего не влияли на
деятельность. Хотя происходило некоторое естественноисторическое развитие. С
какого-то момента в контексте развертывания этой деятельности появляется
необходимость развертывания особого мира «природы».
Собирая различные элементы среды, охваченной деятельностью, люди
начинают придумывать законы, по которым эти крупинки живут как бы сами по
себе, как если бы они не были включены в деятельность. Но дело в том, что сама эта
установка – открыть их законы, как если бы они не были включены в деятельность
– всегда остается по реальному осуществлению иллюзорной. Потому что люди
никогда не могут освободиться от своей собственной деятельности. Так или иначе
экспериментируя с этими образованиями для создания картины природной
действительности, они, фактически, всегда включают их в свою деятельность, но
затем хотят отделить прибор от объекта, найти законы объекта, как если бы он жил
сам по себе.
Следовательно, сама задача отделения объекта как такового возникает где-то на
сравнительно высоком уровне структурирования социального мира, и, наоборот,
оказывается, что то, что вы хотите объяснить как природную точку зрения, само
объясняется на каком-то уровне развития социального организма как необходимый
орган, механизм и одно из приспособлений этой социальной деятельности. Только
таким образом, мне кажется, можно решить задачу синтеза, о которой вы говорите.
Новая картинка (на которой «социальное» объемлет собой «природу»), хороша
не только тем, что она объединяет уже сделанное ранее, но она открывает новые
возможности. Анализируя массовую деятельность, мы столкнулись с проблемой
управления. Именно в русле попыток ответить на этот вопрос, были сделаны доклады
Лефевра по теории рефлексивных игр, по линии анализа табло и структуры табло.
Кроме того, некоторые интересные попытки сделал Генисаретский. Я уже
говорил, что в структуре социального мира соединяются две группы
преобразований: с одной стороны, некоторые преобразования объектов среды,
которые мы производим в ходе нашей деятельности, с другой стороны – замещения.
Оказывается, что деятельность выступает как то, что управляет этими
преобразованиями. Здесь возникает интересная задача. Имеем ли мы дело с
экспериментами в инженерном деле или в естественной науке, или просто с
практическими преобразованиями, мы должны иметь некоторые знания о
допустимых преобразованиях. Причем эти знания затем фиксируются нами в двух
формах: в форме собственно инженерной, т.е. в технологических знаниях по
созданию конструктивных объектов типа магнитофона и т.д., и в форме,
возникающей за счет вычленения натуральных естественных законов.
Здесь и возникает двойственное представление магнитофона. С одной стороны,
это есть нечто, построенное по конструктивным законам и, следовательно, элемент
социальной действительности. Причем, мы все время расширяем этот мир. Мы
создаем такие реакции, такие соединения, которых раньше в нашем мире не было. С
другой стороны, магнитофон это механическое движение масс вокруг центров
тяжести, протекание электрических токов в проводниках и т.д. по законам природы.
Встает задача: каким образом сочленяются эти два типа знаний и каким образом в
организации нашей деятельности переустройства мира мы используем и сочленяем
знания того и другого рода.
Теперь поставим основной и решающий вопрос: в каком отношении
они находятся друг к другу? Когда мы движемся в этом предмете,
можно ли рассматривать эти знания как наряду лежащие? Оказывается,
что при описании деятельности мы должны задавать в ней такую
иерархическую структуру, в которой знания того и другого типа лежат
не наряду друг с другом – они занимают разные места в этой иерархии,
и они по -разному сочленя ются в организации самой этой деятельности.
Если воспользоваться языком структур, то эта структура на два порядка ниже.
Поэтому, если мы захотим представить эти знания как элементы структуры
деятельности, то мы должны будем рассматривать не их содержание, а просто
представить сами эти знания в отдельном блоке структуры деятельности. Например,
натуралистические знания будут образовывать особый блок. Это будет некоторое
знание о деятельности, которое мы будем использовать, строя эту деятельность.
Чтобы затем перейти к знаниям о природе, мы должны особым образом раскрывать
сам этот блок. Там мы выделим содержание, форму, отнесенность к природным
явлениям. Как же нужно представлять общую схему деятельности? Если мы
очертим универсум деятельности, вне которого находится среда, то мы внутри этой
структуры должны вычленить то, что мы называем биоидом – компоненту
биологического материала.
Затем рядом мы должны выделить группу объектов или элементов,
заимствованных из среды, которые не познаются, а просто присваиваются
биологическим материалом либо в виде предметов деятельности, либо в виде
эталонов. Кроме того, существует еще область объектов, которые познаются. При
этом они каким-то образом относятся к предметам, которые присваиваются
непосредственно. Сама эта схема представлена очень условно. Иногда мы можем
выделить такие объекты материально. Например, метр, часы нами не познаются,
они есть эталоны, по отношению к которым познается все остальное. Затем
складываются особые слои деятельности, суть которых состоит в познании. Этот
организм непрерывно движется, растет, ассимилируя все новые составляющие из
среды.
Мне это нужно для того, чтобы поставить один принципиальный вопрос. Мы
говорим, что хотим рассматривать этот универсум как некоторую деятельность.
Фактически, позиция деятельности была нам задана в исходном пункте. Возникает
вопрос, почему мы должны рассматривать это как деятельность и какая точка
зрения задает позицию рассмотрения, называемую «деятельностной». Должны
существовать задачи, которые могут быть в этом предмете решены. И это, конечно,
отнюдь не все задачи. Есть задача выделить некоторое целое, через которое мы
рассматриваем все остальное. Но откуда следует, что это целое должно быть
рассмотрено в категории деятельности?
До сих пор, говоря о массовой деятельности, мы пытались ее рассмотреть
именно как деятельность. Наверное, нужно теперь разыграть и другие линии
анализа этого образования как организма. В нашей работе мы постоянно
сталкиваемся с двойственностью этих двух представлений. И до сих пор мы не
знаем, к какому из них относить те или иные частные представления. Например, к
чему должно быть отнесено понятие управления? Или, например, схема
воспроизводства с помощью которой мы рассматривали механизмы трансляции и
коммуникации.
А действительно ли их нужно рассматривать как деятельность? Может быть,
гораздо эффективнее рассматривать их с точки зрения понятия функционирования и
развития организма. К чему относится понятие табло, введенное Лефевром? К
понятию массовой деятельности или оно взято из организмического анализа? В
этой связи встает более общий вопрос: что такое организм? Что такое популяция – в
отличие от организма? Что такое машина в отличие от них обоих?
Если мы будем рассматривать социальный организм как организм, то где-то
внутри, если мы перейдем к структуре искусственно построенного социального
мира, нам придется пользоваться понятием машины. Мы ставим перед собой задачу
разработать такие методы, которые позволили бы нам описать механизмы
выдвижения целей этим организмом, некоторых идеальных установок, и такую
организацию самого функционирования внутри них, которое дает возможность
кратчайшим образом достигать выдвинутые цели. Таким образом, перед нами стоит
задача разработать методы такого управления социальным организмом, которые
позволили бы реализовать поставленную задачу.
Основной вопрос, который здесь возникает: на каком пути мы можем лучше
всего решить эту задачу? Может быть, не нужно анализировать социум как массовую
деятельность, может быть, значительно эффективнее рассмотреть его как организм, с его
функционированием и развитием. Мне кажется, что для того, чтобы ответить на этот вопрос
реалистично, нужно прежде всего разобраться с самим понятием организма.
Теперь мы должны вернуться и посмотреть, исходя из этих представлений, а
что мы сделали в этом плане, анализируя это целое как деятельность. Я напомню
вам, почему нам понадобится ход, который я сделал. У нас были исходные схемы
замещений и преобразований. Мы уже поняли, что эти схемы изображают отнюдь
не деятельность, а в лучшем случае, продукт этой деятельности, условия и средства
этой деятельности. Мы поняли также, что если эта картина занимает только часть
общего представления социума, то мы прежде всего должны заполнить другую,
неизвестную нам сейчас часть.
Вместе с тем, перед нами здесь возникает еще один вопрос. Как обратил
внимание Розин, эта онтологическая картина построена на двух принципах:
принципе выделения содержания через отношение сопоставления и принципе
замещения. Я утверждал, что эти два принципа дают нам возможность построить
онтологическую картину социального мира. Теперь мы должны себя спросить,
действительно ли мы получили все возможное. Действительно ли эти два принципа
задают всю систему? Здесь я имею в виду те критические выступления, в которых
показана ограниченность анализа уже готовых структур с помощью этих
понятий, где говорилось о том, что здесь не учитываются
онтологические схемы.
Тогда линия дальнейшего движения связана с получением ответов по меньшей
мере на два вопроса:
Чем еще должна быть дополнена картина предмета социальной
деятельности? Что может быть в нее имманентно включено (говоря «имманентно»,
я имею в виду статический продуктивный подход)?
Как от такого анализа, о котором я рассказывал, мы переходим к
анализу второй составляющей собственно деятельности и как мы к ней переходили
в контексте наших собственных исследований?
Поэтому в этом пункте я должен присоединить вторую линию, которая идет от
понятия процесса, рассмотреть, что, собственно, было получено при анализе
мышления как процесса, построить соответствующую онтологическую картину,
дополнить ее онтологической картиной, которая была получена при анализе схем
формы и содержания. Посмотреть, удалось ли на этом пути понять природу
деятельности. Этим кругом вопросов я буду заниматься в следующий раз.
12.07.1965
Мышление и деятельность: процессы и структуры
Основным результатом предшествующего движения явилась онтологическая
картина того целого, которую мы называем социумом. Если вы помните, мы
последовательно построили два разных изображения этого целого. Наша первая
система изображений, которую мы первоначально трактовали в качестве
изображения массовой деятельности, потом оказалась лишь изображением
продуктов социальной деятельности, «предметом», который порождается
деятельностью, а затем служит условиями и средствами ее нового осуществления. В
ходе дальнейших исследований мы в дополнение к первому изображению
социального мира ввели второе, которое решили во что бы то ни стало
рассматривать как изображение именно деятельности, деятельности как особой
кинетики и особого механизма.
Но мы не ограничились тем, что стали рассматривать два изображения
социального целого. Мы постарались объединить их. И таким образом, та картина, с
которой мы сейчас имеем дело, содержит уже две основных части.
Первая из этих частей уже достаточно определена всеми существующими у нас
представлениями и понятиями. Это – система плоскостей замещения,
надстраивающихся друг над другом. Мы рассматривали ее в трех аспектах и
задавали, соответственно, три группы определений.
Во-первых, она выступила как некоторый продукт или совокупный продукт
деятельности, во-вторых, как условие деятельности, и, в-третьих, наконец, как
средство деятельности. Задача теперь заключается в том, чтобы
рассмотреть вторую часть наших изображений и подразумеваемого за
ней предмета как часть кинетическую, где происходят основные
движения, где система плоскостей замещения и знаковых средств, с
одной
стороны,
выступает
как
средство
некоторого
нового
развертывания этой с истемы, а с другой – предстает как продукт
второго, последующего процесса.
Кроме того, общая система социального целого рассматривалась в отношениях
к своей среде, к тому, на чем она живет и развивается и что она непрерывно
ассимилирует, с одной стороны, непосредственно через производство, а с другой
стороны, через процессы познания. Такая онтологическая картина явилась
основным результатом предшествующего движения. Мы там начинали с некоторой
схемы анализа, из этих схем развертывались определенные знания, а затем
строилась частная онтологическая картина, причем, она строилась как
онтологическая картина, соответствующая схемам замещения. Этот кусок был
заключен построением более общей картины социального целого. Мы
предполагаем, что здесь, внутри заданной сферы, задано все, что может
существовать в социальном целом. Все остальное с точки зрения анализа
деятельности не существует.
Теперь мы начинаем второй возвратный цикл нашего исследовательского
движения. Эта онтологическая картина является общим представлением о том, что
существует. Теперь вопрос может заключаться только в том, чтобы охватить эту
существующую
действительность
некоторой
совокупностью
предметов
исследования. У нас здесь справа будут выделяться предметы исследования,
которые в разных поворотах будут отражать или описывать разные части этой
деятельности.
Чем будет определяться совокупность этих предметов? Во-первых, их будут
определять те практические задачи, которые стоят в обществе. Они отнесены к
этому целому и задают, хотя и частично, характер этих предметов.
С другой стороны, их будут задавать имеющиеся у нас в данный момент
средства и методы. Эти средства и методы будут отнесены к картине целого. Они
точно так же будут определять характер этих предметов. Поэтому между
средствами и практическими задачами будут существовать определенные связи.
Эти отношения могут быть различными. Например, практические задачи требуют
построения предмета i в составе этой совокупности, изображающей заданную нам
социальную область в целом. Но, вместе с тем, нет еще в арсенале науки тех
средств и методов, которые позволяли бы представить эту социальную
действительности в виде предмета k. И в системе практических задач не существует
той задачи, которая требовала бы работы с этим предметом. Либо эта задача исчезла
из системы актуальных практических задач, либо она еще не поставлена.
Кроме отношений соответствия или несоответствия между задачами и
методами, между ними будут существовать и определенные связи – связи, которые
будут объединять их в некоторые целостные связки. Дело в том, что для свободного
оперирования такими предметами уже за пределами самой науки необходимо
жестко зафиксировать соответствия между задачами, средствами и методами и тем
предметом, который строится в соответствии с этими задачами и на базе этих
средств и методов.
По-видимому, эти связки и определяют характер науки и возможности ее
использования. Меня сейчас не интересует механизм возникновения этих связей.
Между практическими задачами и средствами никогда не существует
непосредственной связи. Но существует связь опосредованная. Мне важно
подчеркнуть сам факт наличия связи.
Наконец, рассматривая совокупность предметов, взятых в отношении к задачам,
с одной стороны, и к средствам, с другой стороны, мы должны отметить
возможность их пересечения. При этом мы должны будем выделить связи двоякого
типа. Среди всех этих предметов могут быть такие, которые будут непосредственно
и формально связаны между собой в рамках некоторых цельных теоретических
систем. Это возможно в тех случаях, когда эти предметы – 1, 2, 3 – выделены как
изображающие некоторые части общего целого или проекции его частей, но
отнесенные к некоторому промежуточному модельному представлению, то есть к конфигуратору.
Если такое отношение существует, то предметы или созданы в результате
расчленения этого целого, либо потом приведены к одному общему расчленению.
Но могут быть и другие отношения, отношения пересечения. В этом случае
предметы 1, 2, 3 и предметы l и k не могут быть объединены в рамках единой
теоретической системы. Например, предмет 1 и предмет l могут выделять одну и ту же часть
этого целого, но брать ее с разных сторон, причем, брать таким образом, что создание некоторой
конфигурирующей системы либо затруднено, либо если эта конфигурирующая система создается,
то она делает ненужными сами эти предметы.
В этом случае мы должны разбить всю совокупность предметов на
изолированные, отдельные области и рассматривать их как разные системы
представлений одного целого. Вопрос заключается в том, какие именно
расчленения нам выгоднее всего создать, для того чтобы решать те практические
задачи, которые поставлены или могут быть поставлены.
Здесь важно специально отметить, что движение, о котором я сейчас
рассказываю, является методологическим, или методологическим по отношению к
той теории деятельности, которую мы собираемся и будем строить. Это значит, что
с самого начала, прежде чем строить нашу теорию, мы производим некоторое
движение на других абстрактных предметах и при этом представляем себе те
средства, методы и т.п., возможный характер предметов, которые могут быть
созданы для решения этих задач, соотносим их друг с другом и т.п., – одним
словом, производим такое движение в более высокой плоскости рассмотрения,
которое дает нам возможность дополнительно определить и даже спроектировать
продукт нашей работы. Такое движение дает нам возможность сформулировать к
продукту нашей работы – создаваемой нами теории – дополнительные требования,
которые затрагивают как содержание, так и структуру теории.
Если вы вспомните, что целый ряд требований к этой теории я уже задавал
раньше, когда рассматривал функции схем построения научной системы, когда я
рассматривал требования, которые задаются процедурой наложения схем на
эмпирический материал, когда я рассматривал процедуры комбинирования схем, и
если вы к этим формальным требованиям добавите новые требования, идущие от
содержания будущих теорий, то вы получите, по сути дела, весь набор требований,
определяющих строение создаваемой нами теории. Мне важно отметить, что эти
требования членятся на две группы: требования формальные и требования
содержательные. Эти две группы требований, по сути дела, целиком и полностью
определяют характер теоретических систем и образующих их предметов, которые
мы будем строить.
Надо сказать, что такая работа вообще представляет собой характерный момент
развития современной науки. Сегодня мы настолько хорошо представляем себе
возможные типы систем, соответствующие тем или иным типам объектов, которые
мы описываем, что можем уже заранее выдвигать достаточно обширные и
разветвленные системы требований и определений, задающих характер и тип
создаваемых нами теорий.
Чем больше таких требований задается, тем более целенаправленной и
эффективной может быть сама работа создания научной теории. Чем более
детальным и развернутым, более богатым и мощным будет наше методологическое
движение, тем быстрее и тем точнее будут построены нужные нам требования.
Именно такую работу мы и проводим сейчас в отношении к создаваемой нами
теории деятельности. Имея определенное представление о системе социального
целого, исходя из общего требования, что оно должно быть рассмотрено как
деятельность, как система деятельности, мы должны проделать методологическое
движение по конструированию намечаемых предметов изучения заранее и
предварительно, прежде чем мы построим эти предметы актуально, соотнести их
друг с другом и выделить из всех возможных областей те, которые являются
наиболее целесообразными с точки зрения возможных практических и
теоретических задач, соответствуют имеющимся или создаваемым нами средствам
и могут образовать в связи друг с другом единую теоретическую систему.
Я хотел бы специально остановиться на последнем пункте. Если какие-то, в
данном случае функционально-практические, направления исследования могут
ограничиваться построением того или иного отдельного предмета, решающего ту
или иную задачу – вы понимаете, что она может быть достаточно обширной и
может представлять собой разветвленную систему задач, – то теоретическое
исследование и, тем более, исследование, начинающееся с метатеоретического
анализа, должно все время руководствоваться принципом, что предметы
исследования должны быть таковы, чтобы они структурно объединялись в одну
теоретическую систему без последующей работы по созданию специального
конфигуратора. Тем самым, с самого начала элиминируется очень сложная и
громоздкая работа построения конфигураторов после того, как мы произвольно, без
учета требований системности построили те или иные предметы изучения и
фрагменты теоретических систем.
Вернемся теперь к нашей теме. Вспомним, что мы имеем уже заданную
предметную область. Мы фиксируем, что можем снять с нее разные проекции – А,
В, С и т.д. Каждая из этих проекций, или систем знания, задавалась той или иной
задачей и каждая из этих систем знания решала свою специфическую задачу.
Поскольку – а это условие моего методологического анализа – все эти проекции
относятся к одному объекту, постольку в конце концов обязательно должна быть
поставлена задача свести их в единую систему. Вы знаете, что подобная задача
решается путем построения где-то в стороне от всех этих проекций структурной
модели объекта, к которой сводятся все эти проекции-знания, а потом на основе
этого сведения осуществляется их формальный синтез в рамках одной
теоретической системы.
Как правило, построение такой модели является очень сложным и трудоемким
делом. И, тем более, сложным делом является построение в дальнейшем
синтезирующей теории. Если же мы проводим методологическое, то есть
метатеоретическое движение, то мы можем с самого начала учесть необходимость
этого последующего шага и производить расчленение очерченной нами предметной
области, пользуясь тем или иным онтологическим представлением с самого начала
таким образом, чтобы разные проекции уже были отнесены к этому
онтологическому представлению, которое в этом контексте выполняет функцию
модели-конфигуратора, но не того конфигуратора, который создается после
появления разных проекций и в связи с задачей их синтеза, а того конфигуратора,
который здесь, по сути дела, выступает уже в роли принципа, определяющего сам
способ получения проекций и, вместе с тем, способ связи их друг с другом в рамках
единого теоретического представления.
Итак, я обсуждал ту работу, которая должна быть нами выполнена. Нам нужно
и придется задать такое расчленение целого, чтобы все предметы, которые мы
будем строить относительно него, с самого начала были заданы таким образом,
чтобы они автоматически или даже механически конфигурировались в некоторую
единую целостную систему, которая и будет максимально полным теоретическим
изображением всего этого целостного объекта, задаваемого в онтологической
картине.
Но в дополнение к этому привносится еще то требование, которое я
сформулировал в конце моего прошлого сообщения и с повторения которого я
начал сегодняшнее рассуждение. Мы уже имеем некоторое специфическое
расчленение данного нам целого. Это расчленение задано не столько
соображениями, касающимися сути дела, сколько нашей собственной историей.
Поскольку мы начинали со схем замещения и они нам задали наши первые онтологические картины
и, вместе с тем, первые продуктивные линии исследования, постольку и в силу этого у нас
получилось, что в картине социального уже выделена некоторая часть, некоторая статическая часть,
которая и изображается в этих схемах. Это – продукт или условие того, что мы называем
деятельностью. Мы принимаем это изображение в качестве изображения части и тогда должны
внутри принятой нами картины социального целого заполнить другую часть, которую мы называем
собственно кинетикой социального целого, собственно деятельностью.
В этом месте я должен поставить вопрос, по сути своей чисто риторический,
поскольку ответа на него пока нет. Является ли принятое нами расчленение
действительно соответствующим существу того объекта, который мы называем
социальным целым, или же это результат нашей печальной личной судьбы и
истории? Может быть, это глубоко неправильно и трагично, что к изучению
деятельности мы подошли через анализ систем замещения?
Но как бы там ни было – а пока я выделяю этот вопрос и выношу его за скобки,
– мы вынуждены будем двигаться от этого расчленения. У нас нет другого начала,
которым мы могли бы воспользоваться, но мы все равно должны все время иметь в виду отнюдь не
бесспорный его характер и должны быть все время готовы к тому, чтобы принять иную точку
зрения и начать все наше движение с другого исходного пункта.
Итак, мы имеем представленной и изображенной одну часть социального
целого, а именно его статическую, или продуктивную часть, представленную в
системах замещения, и мы должны проанализировать и воспроизвести ту область,
которая задает кинетику деятельности.
Здесь я ставлю самый общий, основной и решающий вопрос: что такое
деятельность как особый вид действительности, деятельность в ее подлинности, и
каким образом, в каких средствах и формах мы можем ее изображать?
– Можно ли понимать саму постановку этой проблемы как предположение,
что мы можем на достаточно абстрактном уровне получить такое
представление кинетики деятельности, которое определит всю нашу дальнейшую
работу и существенно продвинет нас в исследовании?
Да, я предполагаю, что в ходе движения в метатеоретическом слое, то есть слое
методологического движения, мы сможем сформулировать целый ряд требований к
изображению кинетики деятельности, сформулировать их заранее и таким образом,
чтобы они соответствовали характеру необходимых нам предметов.
Дело в том, что мы имеем уже ряд достаточно развернутых и мощных
предметов, которые создавались нами в соответствии с общим тезисом
исследования деятельности, деятельности как таковой. Я предполагаю, что все эти
предметы как-то ухватывали разные стороны того, что мы называем деятельностью,
одни хуже, другие лучше, но ни от чего из этого мы не можем отказаться. Мы не
можем брать их как таковые при описании деятельности. Мы должны всем им
найти место, и мы должны их в какой-то мере перестроить или, во всяком случае,
интерпретировать иначе.
Именно эта тема обсуждается во всех моих нынешних сообщениях. Но сейчас
мы зайдем несколько иначе. Мы прежде всего спрашиваем, как относятся друг к
другу все эти предметы и лишь затем через призму этого вопроса мы выходим ко
второму вопросу, наиболее важному и существенному для нас: как все эти
предметы относятся к тому, что мы можем назвать деятельностью? Но как бы мы не
формулировали этот второй вопрос, мы независимо от него можем обсуждать
вопрос о том, как относятся друг к другу все уже имеющиеся у нас предметы:
относятся ли они к одним и тем же частям объекта или же к разным? Если они
относятся к одним и тем же частям объекта, то нужно выяснить, в каких поворотах
они его берут.
Таким путем мы объясним, почему у нас получаются разные схемы и разные
изображения предмета. Решая задачу изображения деятельности как таковой, я буду
двигаться в совокупности уже набранных нами предметов.
– А если эта совокупность очень мала?
Если эта совокупность слишком мала, то соответственно этому у нас мало
шансов на успех, и, наоборот, чем больше для данного объекта эта совокупность,
тем больше у нас шансов на успех.
Розин. Но могут ли все эти предметы совпасть и конфигурироваться? Чем
гарантируется возможность этого?
Успех этой работы гарантируется моей практической установкой. Я должен так
их сопоставлять и анализировать, чтобы осуществить в результате
конфигурирование, а раз я должен так делать, то я буду так делать, а раз я буду так
делать, то я в конце концов что-то получу, ведь я не успокоюсь до тех пор, пока не
решу свою задачу или не покажу, почему она не может быть решена, или не
переведу ее в другую систему задач.
Я должен буду объяснить, почему у меня не получилось. И это послужит
основанием для новой, более правильной постановки задачи. В.М.Розин, как мне
кажется, имеет здесь в виду нечто другое. Его интересует, имею ли я метод
подобной работы. Тогда, полагает он, я должен его обнародовать и, кроме того, я
должен его оценить с точки зрения поставленной мною задачи. Но такой метаметасистемы у меня нет, и поэтому удовлетворить вопросы и запросы В.М.Розина я
не могу. Пока что эта мета-метасистема существует лишь в моем поиске, в моей
интуиции, в моей гибкости. Я должен пробовать, честно фиксировать то, что у меня
получается, снова пробовать, снова фиксировать неудачи и т.д. Главное, я не
должен быть упрямым и не должен упорствовать в каких-то ограниченных точках
зрения и позициях. Но, вместе с тем, я должен быть упорным и доводить каждую
гипотезу до всех ее основных следствий, я не должен бросать ни одну гипотезу на
полдороги. И таким образом я должен работать до тех пор, пока не найду то или
иное решение. Чем интенсивнее я буду это делать, сочетая свою работу с работой
других людей, тем быстрее мне удастся получить удовлетворительное решение
задачи.
Розин. Меня интересует здесь взаимоотношение между онтологическими
картинами и предметными схемами, которые тоже, наверное, могут быть
названы онтологическими и на базе которых строятся различные предметы.
В исходном пункте методологического анализа мы всегда имеем некоторый
набор уже построенных предметов и образующих их систем знания. Эти знания и
эти предметы точно так же в практике исследовательской работы каким-то образом
соотносятся друг с другом, и за счет этого, фактически, в процедурах деятельности
устанавливается единство их объекта. Когда начинает свою работу методолог, то он
исходит из этого положения, т.е. он с самого начала вводит гипотезу, что есть
единый объект и предполагает между ним и полученными знаниями определенное
отношение. Мы чаще всего фиксируем в качестве такого отношения отношение
проекций. Но предположение об объекте имеет чисто логический или
методологический смысл. Мы еще не знаем, что это за объект, мы только
предполагаем, что такой объект должен быть. Таким образом, разные знания уже
даны нам и мы можем их исследовать, а объект мы только предполагаем, и он у нас
еще фактически не существует ни на эмпирическом, ни на теоретическом уровне.
Он существует только в нашем методологическом предположении.
Именно в этой ситуации встает задача конфигурирования. Мы должны, исходя
из наличных знаний, построить модель объекта. Эта модель объекта, по
определению, не может соответствовать ни одной из предметных схем. Модель
объекта представляет собой синтез тех смыслов или онтологических картин в
первом смысле, которые получаются из предметных схем и знаний и на их основе.
Значит, здесь мы идем таким путем: сначала предметные схемы и знания, потом –
их смысл, получаемый с помощью схематизации и выражаемый в соответствующих
предметных онтологиях, и, наконец, модель-конфигуратор объекта.
Когда же мы начинаем специальное методологическое движение по
проектированию создаваемой нами теории, то мы идем в обратном порядке. Мы
сначала создаем единую онтологическую картину, изображающую весь объект
исследования. Но, кроме того, мы предполагаем и знаем, что этот объект не может
быть описан с помощью и в рамках какого-то одного предмета. Мы знаем, что его
описание предполагает целый ряд предметов. Поэтому мы с самого начала ставим
задачу получить набор таких предметных схем и соответствующих им
онтологических картин, которые бы в совокупности покрывали объект,
представленный нами в исходной онтологической картине. Очень часто, исходя из
этого онтологического представления и создавая набор покрывающих его
предметов, мы будем создавать также и частные предметные модели. Когда эти
предметы-проекции уже созданы и мы можем в них двигаться, то мы начинаем
исследовать эти модели, получаем о них новые знания, при этом часто выходим за
пределы и границы уже имеющейся онтологической картины – той общей
онтологии, с которой мы начинали – и тогда в какой-то момент вновь должны
ставить задачу конфигурирования этих знаний в рамках одного объекта и,
соответственно, одного онтологического представления.
Но эта конфигураторная работа, очевидно, будет идти иначе, нежели в других
случаях. Невыгодно и просто неправильно оставлять здесь без внимания исходную
онтологическую картину, значительно целесообразнее и выгоднее постараться ее
развернуть и так перестроить, чтобы она охватила вновь полученные знания. Таким
образом, в этом случае мы имеем не только задачу конфигурирования, но также
исходное представление, причем, всегда достаточно разветвленное и богатое,
которое нам нужно перестраивать, чтобы получить нужный нам продукт.
В данном случае, создавая исходную онтологическую картину, мы
формулируем одно важное требование, а именно требование, чтобы она была
всеобщей. Именно с этой точки зрения я в прошлом своем сообщении рассматривал
и сопоставлял друг с другом натуралистическую, историческую и социологическую
картины мира. Я обосновывал тезис, что именно система деятельности и только она может
претендовать на удовлетворение этому принципу всеобщности.
Поэтому я ее определил как ту онтологию, к которой мы должны приводить все
остальные онтологии.
– Какую роль в формировании предметов изучения играют практические
потребности?
Весьма существенную, но мы не можем считать, что практические потребности
целиком и полностью определяют все эти предметы, во всяком случае, зависимость
предметов от практической потребности не является прямой и непосредственной.
Важно и существенно, что в ряде случаев при теоретической работе, мы вообще
можем отбросить практические потребности и запросы и считать, что теоретическая
работа идет чуть ли не имманентно.
Все эти моменты мы изображаем на схеме, проводя черточки-связи от задач к
онтологии, от задач к средствам, от средств к онтологии, но мы нигде не можем
провести черточки-связи от задачи к предмету.
Практические потребности и запросы определяют характер предмета неявно.
После того как предметы сформировались, они выделяют свои группы задач,
определяющие их развитие. Часто мы должны отбросить практические задачи и
ориентироваться лишь на задачи специфически теоретического толка. И в этом
бывает заключен успех всей дальнейшей работы. Нередко практические задачи
бывают бессмысленными с точки зрения возможности их теоретического решения.
Например, задача машинного перевода.
– Вы сказали, что хотите с самого начала так строить предмет, чтобы
потом не приходилось конфигурировать все другие, уже существующие предметы.
Не кажется ли вам, что и в этом случае вы все равно решаете задачу
конфигурирования?
Совершенно правильно. И в этом случае я по существу дела решаю задачу
конфигурирования, но я ее решаю, не осуществляя самого конфигурирования.
Попробую двинуться дальше. Мы фактически приведены к задаче рассмотреть
те ходы мысли, которые мы проводили, пытаясь выделить, проанализировать и
каким-то образом описать кинетику деятельности и ее механизмы. Рассматривая эти
ходы мысли, мы будем каждый раз задавать определенный предмет деятельности и затем будем
оценивать его с точки зрения отношения его к другим предметам и с точки зрения отношения его к
нашей общей онтологической картине.
Первый такой ход был задан понятием процесса. Рассказывая об истории
возникновения основных идей содержательно-генетической логики, я уже говорил,
что первый этап анализа фактически предопределялся и задавался двумя
понятиями: с одной стороны, понятием «форма-содержание», а с другой стороны,
понятием «процесс».
По эмпирическому материалу оба эти понятия относились нами к текстам и
должны были выступить как средства их анализа. Уже в диссертации А.А.Зиновьева
понятие процесса используется как одно из основных понятий. Я бы даже рискнул
сказать, что у него оно было первым понятием. Он говорил о таких процессах, как
восхождение от абстрактного к конкретному, как сведение и выведение, о различных
подразделениях и этапах общего движения. Затем понятие процесса было основным в моих
собственных работах 1953–1957 гг. Н.Г.Алексеев ввел даже специальную терминологию – двойкапроцесс, тройка-процесс и т.д. Одним словом, мышление рассматривалось нами сквозь призму
категории процесса.
Однако первые же шаги Зиновьева в исследовании мышления как процесса
привели, по сути дела, к отрицанию этого понятия. Тогда мы не очень осознавали
все это, но сейчас можем видеть все уже достаточно отчетливо. Как всегда бывает в
подобных случаях, процесс осознания шел очень медленно и в превратных формах.
Вплоть до 1959 года результат, полученный, по сути дела, уже в 1958 году, не
ассимилировался: мы тупо делали попытки анализировать и представлять
мышление как процесс.
Расчленив процесс восхождения от абстрактного к конкретному на два
подразделения или на две части – сведение и выведение, – Зиновьев тут же
обнаружил, что процесс сведения, осуществляемый раньше, чем выведение,
полностью детерминируется и определяется характером процесса выведения,
который еще только должен быть произведен, которого, следовательно, еще нет.
Когда встал вопрос о том, чем же собственно задается эта странная связь,
определяющая характер того, что мы делаем, тем, чего еще нет и что еще только
должно быть, то вполне естественным было обращение к содержанию и к характеру
того объекта, который анализируется. Зиновьев и все другие, работавшие в этой
концептуальной системе, должны были указывать на некоторую зависимость
внутри предмета, зависимость между тем, что выделяется в сведении, и тем, что
должно быть построено путем выведения. Тем самым Зиновьев фактически
элиминировал понятие процесса как основного объяснительного понятия и перенес
всю проблему в план структуры некоторого содержания.
Позднее, в работах М.К.Мамардашвили и Б.А.Грушина, в работах
В.А.Костеловского и моих собственных этот переход постоянно осуществлялся, не
будучи достаточно осознанным и нормированным.
Лишь значительно позднее это противоречие в методах нашей собственной
работы стало предметом специального анализа и было осознано. Вместе с тем
предметом специального анализа стало и само понятие «процесс». Мы вынуждены
были поставить вопрос о том, что такое процесс и какие признаки мы вкладываем в
понятие процесса. Мы должны были вместе с тем выяснить, что значит
проанализировать нечто как процесс. Если бы мы смогли ответить на этот вопрос,
то смогли бы в дальнейшем соотносить категорию процесса с некоторыми
представлениями действительности деятельности, представленной нами в других
онтологических схемах и картинах.
Здесь я должен сказать вам, что совсем недавно я очень подробно рассмотрел
этот вопрос в специальных лекциях «Процессы и структуры в мышлении»,
прочитанных мною в МИФИ. Эти материалы отпечатаны, и поэтому я не буду здесь
повторять их содержание, я отсылаю всех интересующихся к материалам этих
лекций. Я перечислю лишь самые важные моменты, чтобы как-то очертить перед
вами предметы и темы моих суждений.
Проанализировать нечто как процесс означает разложить это целое на некоторые части, каждая
из которых будет единицей по отношению ко всему целому. Единица, как вы понимаете,
противопоставляется элементу. Всякая единица обладает теми же свойствами, какие мы
обнаруживаем в целом. Поэтому разложить нечто в соответствии с категорией процесса – это значит
иметь возможность разбивать его на части, каждая из которых содержит свойства целого, то есть
является единицей. Это – первый необходимый признак понятия процесса.
Вы понимаете, что мы не можем говорить о процессе, как о некотором изначала
данном нам объекте и характеризовать его как нечто, таким образом данное.
Процесс есть то, что мы представляем таким образом, как я об этом рассказывал и
дорасскажу.
Второй существенный признак понятия процесса – это то, что между
выделенными таким образом единицами могут быть установлены определенные
связи во времени, то есть определенная стыковка их в одно целое.
Этот признак является значительно более сложным, чем первый; он содержит
ряд планов. Например, если мы берем плоскость моделей, то там мы стыкуем
разные единицы пространственно, работая в том графическом материале, который
нам дан. Но такая стыковка не будет еще связью во времени и не будет
специфической для процесса. Говоря об этой стыковке как о связи во времени, мы
переходим к определенной ее интерпретации, а следовательно, к другим планам
представления самой этой стыковки – либо к содержанию, либо к другим
операциональным представлениям.
Возможно, что определение связи единиц во времени предполагает особое отношение к другим
членам, в частности – соотношение в способах организации результатов разных последовательных
членений. Именно здесь мы приходим к проблемам точечного представления процесса и к
проблемам математической атомистики. Но их нужно обсуждать особо.
Поэтому, оставив в стороне специфические проблемы времени, я
охарактеризую сами эти связи между единицами только в одном, предельно общем,
аспекте. Произведя членение на единицы, мы должны затем, чтобы вернуться к
целому, особым образом их связать, или, что тоже самое, установить определенные
связи. Процесс, таким образом, есть нечто такое, что сначала особым образом
расчленяется, причем, для объединения результатов этого расчленения вводится
связь особого типа – связь следования во времени, и что, благодаря этой связи,
опять предстает как то же самое целое.
Таким образом, то, что мы называем процессом есть особая сеть связей между
характеристиками целого – А, В, С и т.д., – с одной стороны, между
характеристиками выделяемых в нем частей-единиц – А΄, В΄, С΄ и т.д., – с другой
стороны, и определенный способ синтеза последних характеристик и перехода от
них к первым.
Генисаретский. Тогда не может быть траектории как уже нарисованной и
существующей в пространстве.
Я согласен с этим замечанием. Но в истории науки получилось иначе. На мой
взгляд, до сих пор ученым, по сути дела, не удавалось исследовать или изучить
процессы. Во всяком случае, им не удалось объединить с тем логическим способом
представления, о котором я говорил, общий интуитивный смысл представления о
процессе как о чем-то движущемся. Уже Аристотель хорошо понимал – и в какойто мере это показано в моей статье о развитии понятия скорости, – что некоторую
кинетику спроецировали на траекторию, по отношению к траектории применяли те
процедуры, о которых я сейчас говорю – это значит, что кинетический объект
заменялся статическим представлением или статической моделью, – а затем
полученные таким путем знания переносились на кинетический объект.
Отсюда совершенно естественно вытекало, что в пространственных
статических представлениях не оказалось времени, а связи между единицами,
устанавливаемые на уровне статических моделей, должны были еще специально
интерпретироваться и истолковываться в отношении к содержанию, то есть к
кинетическому объекту; при этом смешались и перепутались те характеристики,
которые должны быть отнесены к кинетическому содержанию, и те подлинные и
самые главные характеристики, которые должны быть отнесены к самому
отношению между формой и содержанием, к отношению замещения или
представления кинетики в статике.
Можно добавить, что при этом не были выделены и не исследовались
специально те отношения и связи, которые устанавливались между «кусочками»
единой траектории и разными траекториями одного и того же или разных
движений. Все это я имею в виду и поэтому согласен с замечаниями
Генисаретского.
Генисаретский. Мне интересно еще дополнительно выяснить, в качестве чего
строится нарисованная здесь картина, представляющая процесс – строится ли
она как онтологическое представление. Если так, то она должна снимать в себе
способы работы с этим отрезком, а это предполагает интуитивное
представление о процессе и поэтому отличается от работы с этим отрезком как
с пространством. Значит, если она строится как онтологическое представление, то должна
снимать в себе и как-то фиксировать интуитивный момент процессуальности. Если же это не
онтологическое представление, то, наверное, все наши предположения и соображения должны
быть какими-то иными.
Я понял суть вопроса и даже, как мне кажется, в тех его подспудных
основаниях, которые не были здесь обнародованы. Это очень сложный вопрос, и
сейчас я мог бы ответить на него лишь неполно.
Онтологическое представление, о котором говорил Генисаретский, существует,
но я не уверен в том, содержит ли оно такой интуитивный момент и должно ли его
содержать – это вопрос, который мы не можем решить, не обсуждая соотношения между
схемами замещения, объектами оперативных систем и полями деятельности. Я думаю, что ссылки
на этот интуитивный момент не внесут ничего принципиально нового в мои рассуждения. Скорее
даже, я изображаю сейчас процесс не на онтологическом уровне, а на модельном, и те операции,
которые я обсуждаю, скорее относятся к плану объективного содержания, нежели к плану всей
структуры деятельности.
Но все это, повторяю, – очень сложные вопросы, требующие специального
обсуждения. Ведь, кроме всего прочего, трудности с категорией и понятием
процесса обусловлены тем, что до сих пор не было построено никакой
удовлетворительной онтологии, дающей основание для того и другого. Фактически,
Гиббс привел нас к парадоксальным результатам. Все дело еще более запуталось в
связи с работами Эйнштейна и квантово-механическими представлениями. До сих
пор мы не имели внутренне непротиворечивой онтологической схемы.
Генисаретский. Это вполне естественно, ибо Гиббс и Эйнштейн переносили
на онтологию времени теоретико-множественные представления пространства.
Понятие процесса построено, по сути дела, на представлениях о пространстве.
Я понимаю то, о чем ты говоришь. Я готов предположить, что возможно
понятие процесса, не похожее на то понятие, которым мы пользуемся сейчас. Я
верю, что оно будет создано довольно скоро, и, может быть, мы сами примем
участие в этой работе. В этом плане было бы интересно проанализировать все
факты, на которые указывает в своих работах Уорф. У народов с языком типа хопи
не было нашего понятия времени и, соответственно, понятия скорости; у них был
совершенно иной способ представления кинетических явлений, в частности, они
работали на понятии, близком к понятию интенсивности.
Но некоторое, пусть даже противоречивое, понятие процесса у нас сложилось и
употребляется. Мы не можем от него отмахнуться и должны его анализировать.
Двигаясь именно в этом русле, я стараюсь сейчас показать, пользуясь теоретикомножественными представлениями, или, скорее, тем, что потом стали называть
теоретико-множественными представлениями, специфику той связи межу
единицами-частями процесса, которая устанавливается на уровне модельных схем.
Я стараюсь показать влияние этой связи на способы сопоставления и синтеза
свойств частей и свойств целого.
Генисаретский. Но здесь нужна та оговорка, что онтологические
представления устанавливаются не по рефлективным отношениям, а на основании
анализа способов работы. Не нужно далеко ходить за примерами, не нужно, в
частности, апеллировать к языку хопи, чтобы зафиксировать, что уже есть, в
частности, в самой математике способы работы, когда переменная сама
изменяется. Это означает такой способ оперирования со значками, что в него уже
внесен процессуальный элемент, не сводимый к теоретико-множественным
представлениям.
Именно поэтому я специально спросил, является ли ваше изображение
онтологическим представлением. Если да, то в нем нужно учесть всю
совокупность оперирований, а не рефлективно зафиксированных понятий.
Замечание Генисаретского я понимаю таким образом, что мы не можем
надеяться понять структуру понятия процесса, ограничиваясь первыми исходными
расчленениями, а надо рассматривать другие уровни знакового замещения, где, как
он считает, – и именно с этим я не согласен – снимается не только то исходное
расчленение, которое я изобразил, но также вводится дополнительно, на этих
уровнях замещения, нечто такое, что дает нам возможность выразить тот
интуитивный момент, который мы схватываем в понятии процесса, и работать на
более высоких уровнях замещения не по логике исходных расчленений, а по
какому-то другому, дополнительному содержанию.
Кстати, эта мысль очень точно соответствует основной идее Генисаретского о
необходимости различать -компоненту содержания и то, что привносится
вышестоящим онтологическим представлением. Такое, наверное, есть, но все это
нужно рассмотреть еще более подробно. А пока почту за лучшее убежать от дискуссии,
поскольку она далеко выводит меня за область непосредственно значимых для меня вопросов.
Я напомню вам то, что мне важно и нужно. На одном уровне есть членение
объекта или его модели на части-единицы и особая процедура синтеза их в
целостности, в другой плоскости есть две группы параметрических характеристик –
целого и частей-единиц, – соотносимые и связываемые друг с другом как внутри,
так и вне групп. И вот такое представление накладывается нами на мышление. Если
вам не нравится мое представление процесса и понятие о нем, которым я
пользуюсь, вы можете заменить их любыми другими известными вам и параллельно
с моей работой накладывать на мышление то понятие и ту категорию процесса,
которые нравятся вам больше. Я думаю, что вы получите тот же самый результат,
что и я. Только это мне и важно.
Если мы возьмем психологические представления о мышлении, которые – во
всяком случае, уже с конца прошлого столетия – очень резко противопоставляются
логическим представлениям, то характерным моментом, начиная с ассоцианистов и
кончая Ж.Пиаже, будет именно это представление о членениях и связях, но с
некоторой специфической добавкой. Суть этой добавки состоит в том, что они, как
правило, говорят, что в процессах мышления существует причинная детерминация.
Это значит: то, что произошло в предшествующий момент, причинно определяет и
детерминирует то, что будет в следующий момент, то есть течение самого
мыслительного процесса.
Такой подход к мышлению они называют специфически-психологическим, в
противоположность логическому подходу, который берет мышление как некоторые статические
структуры содержания. Они имеют в виду здесь в первую очередь обстоятельства, указанные уже
Платоном, а именно то, что идеи и понятия, то есть некоторые единицы содержания, не имеют
временных и пространственных характеристик. От себя я бы добавил: как некоторые одномоментно
данные структуры.
Если мы хотим рассмотреть мышление как некоторый процесс, то, даже
отбросив специфически-психологический момент причинного обусловливания
последующего предыдущим, мы должны будем рассматривать его состоящим из
частей-единиц, развертывающихся в некоторой временной последовательности:
одна часть вслед за другой.
С этой точки зрения показался очень парадоксальным и многими был встречен
с недоумением наш тезис, сформулированный в 1954 г. и опубликованный в 1957 г.,
что мышление должно рассматриваться как некоторый процесс. Первое и основное
возражение, которое было сформулировано тогда же, состояло в том, что такой
подход де сразу переводит исследователя из области логики в область психологии,
ибо только психологический анализ может давать такое членение – в виде процесса,
в то время как логика занимается содержанием мышления вообще, знаний, в
частности и в первую очередь, и имеет дело со смысловыми структурами,
существующими вне времени и пространства. Поставив перед собой задачу
изучения мышления как процесса, вы тотчас же – говорили нам наши оппоненты –
обязаны перейти в область психологического изучения, независимо от того, хотите
вы этого сознательно или нет.
Это положение стало одним из составных элементов известного тезиса
Зиновьева о том, что содержательно-генетическая логика это – «неудачный гибрид
логики и психологии» (Об одной программе исследования мышления // Доклады
АПН РСФСР, 1959, №2).
Следующее, на что мы должны обратить внимание, после того как выясним
смысл самого понятия процесса, это два вопроса.
Первый: существуют ли в мышлении процессы в подлинном смысле этого
слова, т.е.можно ли в мышлении найти нечто такое, что соответствовало бы
указанному представлению о процессе, что могло бы быть так разложено и затем
связано в целостность подобными связями?
К самому этому вопросу нужно добавить несколько пояснений. Когда я
спрашиваю, существуют ли подобные образования в мышлении, то мой вопрос
неизбежно несет на себе печать некоторого догматизма и наивности. Представление
какого-либо объекта как процесса или структуры зависит в первую очередь от
используемых нами средств, а если соответствующие средства есть, то, в принципе,
любой объект может быть представлен каким угодно, по сути дела, произвольным
образом. Даже если мы положим перед собой какой-либо одномоментно данный
отрезок и начнем измерять его, то тем самым, хотим ли мы этого или нет, мы
установим определенное отношение между одномоментно данным отрезком и
самой процедурой измерения, то есть процедурой выкладывания его с помощью
эталона-единицы.
Уже благодаря этому устанавливается обратимое отношение между
процессуальными моментами нашей деятельности, то есть некоторой
кинетикой измерительной работы и нашими знаковыми изображениями
отрезков. Спрашивать затем, существует ли в самом объекте нечто
такое, что может быть представлено в виде процесса, уже не совсем
правильно и точно, ибо объект дан через наши процедуры работы с ним,
и он допускает эти процедуры, следовательно, в нем существует то, что
этим процедурам соответствует, и поэтому мы можем трактовать наш
объект как то, что создано благодаря этим процедурам и соответствует
им.
Таким образом, на что угодно мы можем наложить наш операциональный и
соответствующий
ему
смысло-онтологический
трафарет
и
получить
соответствующий результат.
Правда, кроме того, в системе знаний существуют еще специальные
употребления полученной знаковой конструкции и, в частности, употребление ее в
качестве модели. Есть также онтологические представления самого объекта,
которые мы разводим с онтологическим представлением смысла, тоже в первую
очередь за счет употребления их в качестве поля, из которого мы вырезаем модели.
Если мы учтем эти составляющие совокупного знания, то наш вопрос приобретает
направленность и смысл.
Именно в этом плане я и задаю свой вопрос, этим определяется его
подоплека.
Я
не
сомневаюсь,
что
мы
можем
осуществить
соответствующую процедуру и представить что -то из мышления в виде
процесса, но я спрашиваю затем, и предполагая все это, что позволит
сделать такая процедура и что именно в мышлении мы можем объяснить
с помощью полученных таким образом представлений и знаковых
моделей.
Вот что я имею в виду, когда спрашиваю: существует в мышлении что-то, что
может быть представлено в виде процесса?
История психологических учений довольно убедительно, на мой взгляд,
показывает, что все попытки представить таким образом мышление ни к чему
хорошему еще ни разу не привели и вряд ли когда-нибудь приведут.
Я не могу утверждать, что это вообще принципиально невозможно, я даже могу
показать те частные проблемы и задачи, для решения которых такое представление
было необходимым или сыграло положительную роль. Но система наших
современных представлений о мышлении достаточно наглядно показывает и
объясняет, почему процессуальное
представление мышления является
непродуктивным. Но показ всего этого – дело дальнейшего, а пока я лишь ставлю
сам этот вопрос и поясняю его смысл.
Второй вопрос: можно ли рассматривать в качестве некоторого выражения
процесса мышления то, что мы обычно называем «текстом» и что обычно образует
основное ядро того эмпирического материала, с которым мы имеем дело в наших
логических исследованиях?
Таковы два основных вопроса, на которые, как мне кажется, может быть
расчленена исходная проблема.
Чтобы вы могли отбросить сомнения в нашей добросовестности, я должен
сказать, что в 1952 году и далее, вплоть до 1958 года наверняка, а может быть, даже
и до 1960 года, мы беззаветно верили в то, что мышление можно представить в виде
процесса и точно так же вплоть до 1958 года мы беззаветно верили, что текст
является выражением некоторого мыслительного процесса.
Я говорю об этом для того, чтобы у вас не возникало сомнений в том, что мы не
подгоняем наши результаты под заранее имевшиеся схемы. Наоборот, как видите,
нашей исходной схемой была схема процесса, и мы усиленно подгоняли материал
под нее, и лишь потому, что это не удавалось нам сделать, несмотря на все
старания, и так и не удалось, мы вынуждены были сменить саму схему.
Но долгое время мы верили, что мышление та к можно представить,
непрерывно пытались представлять его таким образом, а когда у нас не
получалось, мы видоизменяли и перевертывали схемы и снова пытались
представить его как процесс, и делали так много -много раз.
Понадобился очень мощный толчок, чтобы м ы приостановили эту тупую
работу и задумались, почему же у нас ничего не получается. Очень
поздно мы начали прозревать и подозревать, что дело, наверное, в том,
что такое вообще невозможно и что поэтому у нас ничего не получается
и никогда не получится.
Розин. Шла ли речь о том, можно ли мышление в целом представить как
процесс, или же о том, чтобы некоторую его сторону представить как процесс?
В те годы вопрос ставился в отношении мышления в целом. В то время была
весьма глобальная или претендующая на глобальность установка – рассматривать
все мышление в целом как деятельность. Интуитивно мы понимали, что это – самая общая и
самая принципиальная характеристика мышления. Но затем вставал вопрос, что
такое деятельность. Мы отвечали на него так: деятельность есть кинетика,
активность, а следовательно, процесс.
Так получилось представление, которое мы исповедовали тогда и которое до
сих пор исповедуется подавляющим большинством людей, которые занимаются
этим кругом проблем, причем не только психологами, но также и логиками,
поскольку они хоть в какой-то мере выходят за рамки своего непосредственного
предмета. Именно поэтому мы пытались представить в виде процесса мышление в
целом, а не какую-то его часть или сторону.
На базе этих представлений нами был проведен ряд исследований. Я перечислю
лишь некоторые из них.
Была сделана попытка выделить и описать процессы построения физических
теорий – молекулярно-кинетической теории газов и других.
Были сделаны попытки рассмотреть в виде процессов решения
геометрических задач, задач по арифметике и алгебре.
Четыре года ушло на то, чтобы попробовать представить в виде процесса
рассуждение Аристарха Самосского, в котором он определял отношение расстояний
«Земля – Солнце» и «Земля – Луна». Мне достаточно сказать, что в самом сжатом
виде изложение тех ходов, которые мы сделали, анализируя полстраничное
рассуждение Аристарха Самосского, заняло более трехсот страниц текста, а потом
еще обсуждение полученных результатов и неудач заняло около полутора тысяч
страниц печатного текста. Таким образом, попыток исследований и ходов анализа
было сделано достаточно много, хотя бы уже на одном этом материале.
Каков же результат всех этих работ? Я с полной определенностью могу сказать,
что нам не удалось представить как процесс ни текст Аристарха, ни другие тексты
или группы текстов.
– Как можно представить мышление как процесс, не имея физической модели
мышления?
Мне представляется, что этот вопрос не корректен. Мы находимся в несколько
необычном положении. Его своеобразие состоит в том, что мышление выступает
перед нами прежде всего как некоторое черное тело. Мы имеем, правда, набор
средств анализа разных объектов, выработанных человечеством. Мы предполагаем,
что мышление есть деятельность – я не обсуждаю сейчас те основания, которые
дают нам возможность выдвинуть это предположение. Пока вы можете
рассматривать этот тезис как символ нашей веры. Как всякая вера она может быть
замещена другой верой. Но пока мы исповедуем именно эту.
Объекты, которые до того анализировались людьми с помощью имеющихся
средств, зафиксированы в различных категориях – вещи, свойства, отношения,
процессы и т.п. Наша ситуация сильно напоминает ту ситуацию, которую описывал
Станислав Лем в «Солярисе». Имеется нечто желеподобное, которое изменяется и
течет перед нами. Не понятно, что это такое: то ли океан, то ли одно разумное
существо, то ли еще что-то. Люди, прилетевшие на эту планету, пытаются с
помощью имеющихся у них средств войти во взаимодействие с океаном и познать
его. Но это очень сложное взаимодействие, потому что в нем, прежде всего, не ясно,
является ли этот океан объектом, который мы можем исследовать, либо же
субъектом, с которым мы должны вступить в контакт. Но это лишь первая
трудность, потому что независимо от характера ответа мы не знаем ни того, как его
потом можно исследовать, ни того, как с ним потом можно вступить в контакт.
Люди могут действовать только тем набором средств, который у них есть.
Теперь представьте себе такой случай – а он, по-видимому, соответствует тому,
что есть на деле, – что этому объекту, будь то океан Соляриса или мышление, не
соответствует ни одно из имеющихся у людей средств, что это объект
принципиально новый. Таким образом, мы оказываемся перед двойной задачей: мы
должны исследовать новый объект и, вместе с тем, чтобы иметь возможность его
исследовать, должны вырабатывать новые понятийные и знаковые средства. Вы
помните, наверно, чем кончилось столкновение землян с Солярисом?
Провозившись долгое время и не зная, что делать, люди сбросили на Солярис
атомную бомбу, уничтожили часть океана, но через некоторое время она
восстановилась, а потом, еще через некоторое время оказалось, что не люди
изучают Солярис, а Солярис изучает людей, материализуя их образы.
Вопрос, который мне задали, звучит примерно так: как вы можете обсуждать
вопрос о том, что представляет собой мышление – является ли оно или не является
процессом, – не имея соответствующей модели мышления? Действительно, вопрос
может показаться естественным и даже законным. Но реально мы находимся в еще более
сложном положении, чем вы это себе представляете. Мы не только не имеем модели мышления, но
мы и не знаем, как ее вообще можно построить.
Именно потому, что мы не имеем такой модели и не знаем, как ее строить, мы
обсуждаем те вопросы, которые я поставил, то есть пытаемся выделить и
определить набор категорий, с помощью которых эту проблему можно было бы
решить. Поэтому работа, которую я проделываю, должна представляться как очень
сложное челночное движение, при котором я, с одной стороны, исследую объект, а
с другой и одновременно – вырабатываю средства для такого исследования. В
частности, в рамках этого движения я обсуждаю вопрос, может ли категория
процесса служить тем средством, с помощью которого и в рамках которого нам
удастся исследовать и описать мышление. И вообще всякую деятельность.
Вы помните, ибо я уже говорил выше об этом, что мы долгое время верили в
мощь и силу категорий процесса и представляли в виде процесса или выражения
процесса тексты рассуждений. При этом мы, конечно, понимали, что изложение
некоторых результатов не совпадает целиком и полностью с процессом или
процедурой получения этих текстов, что между тем и другим будут известные
расхождения и поэтому мы всегда стремились выбрать такие тексты, в которых бы
это расхождение, по предположениям, было минимальным. Мы верили, что сами
тексты можно так проанализировать, чтобы вычленить в их элементах
характеристики, относящиеся, с одной стороны, к изложению, с другой стороны – к
получению некоторого знания и таким образом представить сам текст как
выражение – а позднее стали говорить «оформление» – процесса мышления.
Кстати, очень интересны изменения в употреблении слова «оформление».
Сначала мы говорили, что это – «оформление процесса», а потом стали говорить
просто «оформление», неизвестно чего, т.е. превратили это слово из фиксирующего
форму существования некоторой субстанции в слово, фиксирующее саму
субстанцию, в самостоятельное имя. Вместе с тем, этот термин стал употребляться
для обозначения текста как чего-то самостоятельно существующего
безотносительно к процессу мышления. Отношение его к процессу мышления вновь
было поставлено под сомнение.
Основной результат, который мы получили в результате долгих проб и усилий,
состоял в том, что нельзя расчленить текст на части, а затем связать их таким
образом, чтобы эта связка задала бы некоторую целостность процесса мышления
вместе с детерминирующими его механизмами, т.е. некоторую органическую
целостность. Наши попытки не удались не потому, что мы не смогли применить все
процедуры, характерные для категории процесса – это мы сделали, – а потому, что
при анализе текстов как выражений процессов мышления мы обнаружили в них
такие элементы и такие связи (т.е. структуру), которые противоречили самой
категории процесса.
Эти элементы и эти связи обнаруживались на очень широком материале, и
потому сомневаться в их существовании мы не могли. Но все они были таковы, что
полностью отбрасывали категорию процесса. Другими словами, при анализе
текстов как выражений процессов мышления мы выявили такие конфигурации и
структуры элементов, которые дали нам совершенно недвусмысленный ответ: текст
выражает не процесс мышления, а нечто другое, подобное связке из многих
процессов.
– Вы все время говорите о процессе, иногда называя его процессом мышления,
но мне все время хочется спросить: процесс – чего? Ибо мышление здесь
выступает не как субстанциальная характеристика процесса, а как видовая
спецификация его.
Вы совершенно правы, но я не случайно употребляю все выражения именно так,
как я их употребляю. А ваше понимание категории процесса, хотя и совершенно
оправданное традиционными и обыденными представлениями, меня не устраивает.
Я показывал, в частности, что выражение «процесс чего-то» является лишь одной из
понятийных форм соответствующей категории процесса, что, говоря о процессе,
имеют в виду просто процесс, а не процесс чего-то, то есть не процесс изменения
характеристик объекта, не процесс изменения структуры объекта и т.п.
Обратите также внимание на следующее: ведь я утверждаю, что в мышлении
нет ничего, на что можно было бы разумно и осмысленно наложить категорию
процесса. Как видите, я говорю о категории процесса, а следовательно, она и по
содержанию должна быть представлена как нечто такое, что оторвано от тех или
иных частных субстанций и видовых характеристик. Должна быть категория
процесса вообще, у нее есть свое особое содержание, не сводимое к
процессам в чем -либо, кроме того, должно быть много разных объектов,
в которых могут протекать процессы. Но это последнее утверждение
является и должно быть результато м наложения категории на
представление того или иного объекта.
Я хотел бы еще более уточнить свою позицию. Я не утверждаю, что в
мышлении вообще нет ничего такого, что можно было бы представить как процесс.
Возможно, что что-то такое там есть. Я утверждаю лишь то, что целостность
рассуждения, приводящая к некоторому знанию как результату этого рассуждения,
не может быть представлена и изображена в виде процесса. Чтобы
проанализировать текст как процесс, нужно действительно выделить к нем какуюто субстанцию, изменения которой дали бы нам процесс. Но я как раз и утверждаю,
что в тексте не удавалось выделить такую субстанцию и что, больше того,
оказалось, что должна быть такая субстанция, которая будет коррелировать уже не с
понятием процесса, а с другими понятиями.
В каком-то смысле этот результат, если рассматривать его ретроспективно, был
само собой разумеющимся и тривиальным. Если мы сейчас вспомним о
двухплоскостной структуре, которая была постулирована нами с самого начала
наших работ, то должны будем прежде всего поставить вопрос: к чему мы хотим
применить схему членения и связи, соответствующие категории процесса – к
плоскости формы или к плоскости содержания? Уже такая постановка вопроса
говорит о двойственности возможного решения и о необходимости как-то сочетать
эти два решения. Кроме того, вы помните, что мы с самого начала постулировали,
во-первых, необходимость определенной связи между плоскостями содержания и
формы, а во-вторых, отсутствие изоморфизма или параллелизма между ними.
Поэтому, если мы предполагаем, что для мышления специфично движение
сразу в двух названых выше плоскостях и что это движение охватывает как
движение по плоскостям, так и связь между ними, то мы сможем рассчитывать по
меньшей мере на три разные изображения процессов, которые вместе будут в
какой-то мере фиксировать или изображать то, что там происходит. Другим
вариантом решения будут попытки представить рассуждение как движение в одной
лишь форме или в одном лишь содержании.
Замечу мимоходом, что в традиционной логике обычно так и поступали,
дополняя теоретические или модельные схемы некоторыми методологическими
принципами или правилами, которые определяли способ связывания частей-единиц
процесса и таким образом заменяли механизм и представление механизмов. Это
был путь, синкретически соединяющий теоретические модельные изображения с
методологическими принципами, привносимыми самим деятелем, и поэтому он не
может удовлетворить подлинную теорию мышления. Но это – замечание
мимоходом и в сторону.
А в основной линии, после фиксации неадекватности одноплоскостных
представлений, мы должны были, естественно, пытаться приложить категорию
процесса к двухплоскостному движению, взятому как одна целостность. Но это
либо в принципе невозможно, либо если осуществляется, то зачеркивает основной и
определяющий тезис о двухплоскостном характере мышления. Ведь, по сути дела,
принцип двухплоскостности был первым вариантом и формой утверждения, что
мышление представляет собой структуру. Поэтому – и в ретроспекции это очевидно
– представление мышления в качестве многоплоскостной структуры и категория
процесса исключают друг друга.
Если бы мы могли выделить в двухплоскостных схемах какие-то единицы,
охватывающие сразу фрагменты из двух плоскостей и связи между ними, и если бы,
кроме того, мы могли представлять мышление как последовательность перехода от
одних единиц такого типа к другим, то это означало бы, что тезис
двухплоскостности является слишком большим и ненужным усложнением и должен
быть отброшен. Другими словами, это означало бы, что возможно и существует
такое
представление
мышления,
которое
делает
ненужным
идею
двухплоскостности.
Надо сказать, что именно так мы первоначально представляли дело, хотя
полагали, что два разных представления мышления – многоплоскостное и
операциональное – взаимно дополняют друг друга и между ними должны
существовать отношения соответствия или отображения. То, что в многоплоскостных
представлениях не могло быть представлено как процесс, то в значках операций – 1, 2, 3, 4 … –
может быть представлено как линейная последовательность и смена
одних операций другими, то есть как процесс. В 1953 – 1955 гг.
подобные изображения последовательности операций должны были
изображать
сложные
операции,
снимающие
в
себе
противопоставленность формы и содержания.
Кстати, когда сами значки были интерпретированы как изображения действий
сопоставления, то я специально обсуждал вопрос о возможностях непосредственной
организации их в единую цепь, минуя действия отнесения, которые должны были
переорганизовывать результаты действий сопоставления в знания и таким образом
задавать им двухплоскостную структуру; вы можете посмотреть на этот счет
специальные работы, которые, как мне кажется, не потеряли еще интереса, хотя и в
другом контексте, нежели проблема процесса мышления.
Во всяком случае, именно потому, что нам не удалось организовать процессы из
операций, мы вставили сами операции внутрь систем двухплоскостного знания, то
есть внутрь соответствующих предметов и тем самым фактически зафиксировали
невозможность процессуального представления мышления. Именно соединение
этого значка как изображения операции и объекта, складывающегося независимо от
этого понятия о сопоставлении, задало новый смысл и новое направление всей
нашей работы. Но когда двухплоскостное изображение стало основным и
определяющим для всей нашей работы, когда мы стали исходить из него и
развертывать понятие процесса в связи с этой схемой, то тогда мы и должны были,
по сути дела, отказаться от понятия процесса. Мы должны были бы это сделать,
если бы правильно понимали смысл своей собственной работы и все следствия,
вытекающие из наших постулатов. Но мы этого не понимали, и поэтому выявление
подлинного смысла уже полученных результатов шло крайне медленно и
зигзагообразно.
В частности, зафиксировав двух- и многоплоскостные схемы, мы затем
выявили, что само содержание может существовать и существует не только в виде
некоторых операций и операциональных образований, но также и в виде некоторых
статических структур. При этом возникло поначалу удивительное, но весьма
многозначительное расхождение между плоскостями формы и содержания. Если
содержание складывалось из единиц, существующих статически в своей
целостности, то форма, напротив, развертывалась последовательно в некотором
времени. Это был первый кардинальный результат, полученный в этом контексте.
Если психологи пытались представить движение мысли как определяемое причинной
детерминацией между предшествующими и последующими моментами мышления, то логики, в
противоположность им, уже давно зафиксировали – и это обстоятельство выступило для нас как
совершенно очевидное в новом заходе, – что переход от предыдущих единиц мышления к
последующим, если такие единицы удавалось выделить, детерминирован не связями между этими
единицами, а их отношениями к чему-то другому, лежащему вне самой
последовательности, реализующейся во времени в виде процесса.
Таким образом, чтобы объяснить мыслительное движение, нужно было
обращаться к каким-то особым образованиям, лежащим вне элементов и единиц
самого этого движения. Эти особые образования заранее и до самого процесса
определяли способ связи между разными элементами и единицами этого процесса.
Если теперь в анализе, имея дело с этой последовательностью элементов-единиц,
мы пытались понять детерминирующие ее факторы, то должны были, естественно,
выходить за рамки самой этой последовательности.
Таким образом, анализируя текст как последовательность подобных шагов, мы прежде всего
столкнулись с тем фактом, что никакие смысловые связи, определяющие течение этого процесса, не
могут быть выявлены в последовательности или линии самих этих шагов. Детерминирующие связи
оказывались всегда лежащими как бы перпендикулярно к самим этим шагам. Одним из важнейших
результатов нашей работы был тезис, что при таком способе анализа все так называемые процессы
мышления предстали перед нами как сочленения Т-образных структур. При этом с самого начала
намечалось по крайней мере четыре типа разнонаправленных движений.
Это было, во-первых, движение от конца к началу в поисках нужного решения
задачи. Во-вторых, это было какое-то движение в задачах, которое располагалось
неизвестно каким образом по отношению ко всему движению. В-третьих, это было
некоторое «перпендикулярное» движение, которое имело своим продуктом куски
текста, выражающего решения. Наконец, это было обратное движение, от начала к
концу, фактически, по уже составленной схеме решения, при получении
непосредственного решения, то есть конечного продукта – специального знания или
чего-то в этом роде.
При этом я совсем не говорю о тех зависимостях, которые проявлялись в
структуре всего этого движения и которые, наверное, тоже должны были как-то
прослеживаться в ходе самого мышления.
Генисаретский. Проведенное сейчас рассуждение, как мне кажется,
противоречит положению, высказанному в первом докладе. Поскольку в этой
схеме составляющие заданы функционально и других определений пока не имеют,
на них не имеет смысла что-либо накладывать. Как только начинает что-то
накладываться, так тотчас же вместо функционально заданных определений
подставляется нечто, не предъявляемое нам. Поэтому проведенное рассуждение
не является корректным.
Я не понимаю, в чем здесь противоречие, о которым вы говорите.
Генисаретский. Поскольку форма и содержание заданы функционально
относительно друг друга и поскольку они не имеют других определений...
Они заданы функционально относительно друг друга, но они задают некоторую
структуру, как бы общий трафарет с пустыми местами.
Генисаретский. Это как раз то кантовское понимание формы и содержания,
которое было подвергнуто критике в первом докладе.
Я не думаю, что это понимание формы и содержания совпадает с кантовским
пониманием.
Генисаретский. У Канта отношение между формой и содержанием не было
функциональным, а следовательно, речь не шла о «пустых местах», в остальном
же ...
У Канта не было функционального отношения, а значит, не было трафарета из
двух связанных между собой пустых мест. У Канта была весьма сложная смесь из
функциональных и материальных определений... У Канта форма накладывается на
содержание или охватывает содержание как бы в одной плоскости. Это сам по себе
очень сложный вопрос. Форма у Канта была, по сути дела, структурой, которая
организовывала многообразие содержания.
При этом неизбежно должны были встать проблемы материала и формы, с
одной стороны, материала-наполнения и структуры, с другой. Недостаточная
определенность соответствующих категорий позволяет нам трактовать кантовские положения по-
разному. Но одно ясно: Кант не разносил форму и содержание в два противопоставленных друг
другу и вместе с тем связанных друг с другом материальных образования.
Генисаретский. Важно, что перед наложением форма выступала как нечто
другое, нежели содержание, лишь потом она накладывалась.
Но ведь смысл моего утверждения состоит в том, что, хотя форма и содержание
заданы чисто функционально и материал не вставлен в соответствующие пустые
места, тем не менее, в самом функциональном отношении задается не просто
функциональное противопоставление формы и содержания, но и некоторая связь
между ними, которая имеет объективную интерпретацию, то есть считается, что
есть некоторый объективный процесс, связывающий форму и содержание, а не
только действие сопоставления, устанавливающее отношение функционального
противопоставления между ними.
Генисаретский. Но я не понимаю, на что может накладываться здесь
представление о процессе, если они определены друг через друга, а там мы должны
выделить их как единицы, содержащие признаки целого. Здесь целое, кроме как
противопоставлением, никак не задано и тем более никак нельзя выделить эти
единицы с признаками целого.
Тогда я не совсем понимаю суть твоего возражения. Мне кажется, ты
доказываешь то же самое, что и я.
Генисаретский. Я говорю, что проведенное теоретическое опровержение, на
мой взгляд, некорректно. Проводить его, апеллируя, с одной стороны, к схеме
«форма – содержание», а с другой стороны, к тому представлению процесса,
которое здесь нарисовано, нельзя.
Я понял утверждение, но пока не могу понять, почему проведенное
рассуждение некорректно. Во всяком случае, надо зафиксировать твое заявление.
Генисаретский. Тогда я хотел бы задать еще один вопрос. Уже Гегель, а вслед
на ним и Маркс показали, что нельзя рассматривать историю гражданского
общества как естественную историю. Что там с необходимостью выделяется
момент искусственного, конструктивного. Я не знаю точно, как обстояло с этим
в истории психологии, но думаю, что там также было рассмотрение процесса
мышления как искусственного процесса. Но даже если этого не было, то вы,
выросшие из Маркса, должны были рассматривать процесс не только как
естественный процесс, но и как процесс искусственный, построяемый. Тогда при
изложении категорий процесса вам нужно было бы нарисовать другую схему,
нежели та схема линейного следования, которую вы сейчас нарисовали, и тогда
опять-таки ваше рассуждение не прошло бы.
Поэтому я спрашиваю: анализировалось ли мышление как процесс с точки
зрения его искусственности, а не как физический процесс?
Здесь есть два разных момента. Опыт показывает, что условием понимания
Гегеля и Маркса является знание того, о чем они писали. В противном случае
можно читать и при этом ничего не понимать и не видеть. Хорошо, когда сейчас ты
имеешь нарисованные нами схемы естественного и искусственного и на основе
этого точно знаешь, как структурно одно отличается от другого.
Благодаря этому, ты «видишь», что если к мышлению подходить как к
некоторому искусственному образованию, то никакого понятия процесса того типа,
о каком я говорил, вообще не может быть в этой области.
Сейчас ты это знаешь и поэтому видишь. А нам увидеть все это, вырастая из
Маркса, как ты выразился, было очень трудно. Конечно, я не стал бы отрицать, что
у Гегеля и Маркса уже были зародыши различения естественного и искусственного.
Но я думаю, что сами эти различения имели у них другой смысл и характер.
Достаточно взять известный тезис К.Маркса о том, что он будет
рассматривать
развитие
экономических
отношений
как
естественноисторический процесс. Во всяком случае, различение
естественного и искусственного не было для них столь зримым и
очевидным, как для нас, хотя и мы, как мне кажется, не очень хорошо
понимаем все многообразие отношений между тем и другим.
Сейчас ты очень уверенно говоришь о том, что естественное может быть
представлено как «физический процесс», а искусственное не может быть
представлено как физический процесс, но зато может быть представлено как
«искусственный процесс». Но мы на тех этапах нашей работы и нашего развития
ничего этого не знали и не представляли. Кроме того, я и сейчас не уверен в том,
что можно создать морфологическую конструкцию «искусственного процесса» и
что при этом мы по-прежнему сможем пользоваться традиционной категорией
процесса.
Если бы ты сформулировал свой вопрос таким образом: анализировалось ли
нами понятие деятельности у Гегеля и было ли выяснено, что уже Гегель
рассматривал деятельность как производство некоторых продуктов, а следовательно
– если сейчас смотреть сквозь призму нашего понимания, – что оно с самого
начала уже и у Гегеля не могло быть представлено как процесс, хотя все
еще называлось этим именем? – то я на это смог бы ответить только одно:
Ю.Давыдов, Г.Батищев, Э.Ильенков детальнейшим образом изучали Гегеля, они
всюду цитируют его положение, касающееся деятельности, и не видят, что
деятельность не может быть представлена как процесс в собственном смысле этого
слова.
Когда на нашем семинаре, как раз во время моего доклада о понятии
деятельности, присутствовал Г.Батищев, то в ответ на мои заявления, что понятие
деятельности исключает как представление о взаимодействии между субъектом и
объектом, так и представление о процессе, он закричал: неправильно, может быть
представлено и как взаимодействие, и как процесс. Я привожу этот пример для того
лишь, чтобы подчеркнуть, что проблема не столь очевидна и прозрачна, что
непосредственно у Гегеля все то, о чем ты говорил, не вычитывается сразу и
непосредственно.
Поэтому я и сейчас не уверен в том, что когда Гегель обсуждал механизмы
исторического процесса, то он имел достаточно четкое и отчетливое представление
о различии естественных и искусственных процессов. Больше того, если бы ты
сейчас достаточно четко и точно понимал разницу между естественным и
искусственным, то, как мне кажется, ты должен был бы сказать не то, что ты
говоришь, а то, что никакие искусственные образования, по-видимому, не могут
быть представлены в виде процессов.
Искусственное образование не может быть представлено как процесс. Можно
посмотреть, в каких ситуациях и в связи с какими задачами создавалось понятие
процесса, и показать, что оно было создано так и таким образом, что уже не
допускает распространения на искусственные образования без потери того
содержания, которое в исходных пунктах было для него специфическим. Может
быть, раньше эти ограничения области применимости понятия процесса не были
определены достаточно точно, но они были, существовали в самом способе
создания этого содержания.
Теперь мы подошли к осознанию и четкому выявлению этих границ. Я думаю,
вскоре мы дойдем до понимания того, что в мире существует масса явлений,
которые вообще не могут быть адекватно охвачены этой категорией. Категория
процесса оттесняется другими категориями, в частности категорией структуры.
Когда мы сейчас применяем категорию процесса к структурным объектам, то это
происходит, в общем, от нашей неграмотности и крайней ограниченности тех
средств, которыми сейчас располагает человечество. Поэтому, когда сейчас я
говорю о чем-либо, что это не процесс, а, скажем, структура или механизм, то таким
образом я никого не обижаю, не унижаю, а лишь немножко поднимаюсь над тем
низким уровнем представления, который мы слишком обобщаем и слишком широко
распространяем именно потому, что бедны средствами.
Структура как таковая не может быть сведена к процессу, а если мы хотим
переходить от структурного представления к процессуальному, то должны
выработать и определить специальные, достаточно сложные переходы. Вот в чем
пафос моих утверждений, как в отношении мышления, так и в плане чисто
категориальных различений.
Таким образом, я утверждаю, что мышление не может быть представлено в виде
процесса, а требует для своего изображения и представления категории структуры.
Точно так же искусственное не может быть процессом, и потому выражение
«искусственный процесс», на мой взгляд, подобно выражению «круглый квадрат».
Хотя этим самым я не отрицаю возможности употреблять это словосочетание в
специальном, искусственном смысле.
– Когда вы говорите, что мышление – не процесс, то дальше, наверное, вы
будете говорить о цели, механизмах управления и т.п.
Все это, конечно, входит в проблему, и об этом хотелось бы поговорить, но сейчас у меня для
этого нет ни времени, ни средств, и поэтому специально касаться этих вопросов я не буду.
– Можно ли понимать ваше утверждение так, что изображение мышления в
виде процесса представляет собой его абстрактное, одностороннее изображение?
Я принял бы такую трактовку, но лишь с той добавкой, что это не просто
одностороннее представление, а такое, которое не схватывает сути и специфики
мышления, то есть тех самых сторон, ради которых мы мышление изучаем. Это все
равно, как изображение человека в виде точки – его тоже можно считать
односторонним изображением: схватывается единичность, целостность человека и
т.п., но только человеческого в таком изображении уже ничего не осталось.
Таким образом, в результате длительных попыток представить мышление как
процесс мы выяснили: первое – нельзя свести все составляющие мышления,
выраженные в тексте, к линейной последовательности элементов-единиц; второе –
если даже выбрать подобные элементы-единицы, то нельзя затем организовать их в
единую линейную последовательность так, чтобы в этих связях между элементамиединицами фиксировался механизм, посредством которого мышление создается и
осуществляется. Стремясь воспроизвести и объяснить течение мысли в виде
процесса, мы неизбежно выходим за пределы этих линейно организуемых единиц и
должны фиксировать какие-то иные образования, органически входящие в этот же
процесс мышления или рассуждение, определяющие связи между этими единицами
и связанные с ними уже не линейно, а как бы перпендикулярно по отношению к
линии организации этих единиц.
Больше того, мы выяснили, что объяснение механизма процесса мышления
требует обращения ко многим специфически мыслительным образованиям, которые
существуют вне текста и никак не могут быть в него вставлены. Я повторил это все
еще раз, потому что мне кажется, что именно это было важнейшим результатом,
определившим кардинальный поворот в направлении наших поисков и
исследований.
Поскольку мы пользовались категорией процесса, постольку мы расчленяли
текст на составляющие его операции; результат был уже задан и предопределен
нашими средствами. Но объяснить механизм мышления таким образом мы не
смогли. Пользуясь категорией процесса несколько раз, мы получили представление
о сложной связке процессов, фигурно организованных и причудливо сплетающихся
друг с другом. Но разложение только тогда может считаться осуществленным и
оправданным, когда есть обратная процедура сборки или синтеза всего того, что
получается при разложении, в целостность.
Но именно эту обратную процедуру сборки или синтеза нам и не удавалось
осуществить, во всяком случае так, чтобы схватить естественный механизм
осуществления мышления. И это заставило нас подвергнуть сомнению саму
процедуру разложения. В то время мы уже достаточно хорошо понимали, что
процедура разложения зависит от последующей процедуры сборки – это было
прекрасно описано в диссертации А.А.Зиновьева – и поэтому не могли считать
правомерной процедуру разложения, пока она не дополнена соответствующей
процедурой сборки.
Условием реконструкции механизма мыслительного процесса оказались
многочисленные другие образования, которые детерминировали и определяли
связывание операций и суждений в единое рассуждение. Но они именно определяли
и детерминировали связывание единиц в последовательные цепи, а сами при этом
не входили и не могли войти внутрь этих цепей. Другими словами, они
определяли процессуальность мышления, но не могли быть вставлены в
сам процесс.
Два вопроса, которые я сформулировал в начале сегодняшнего занятия,
оказались тесно связанными друг с другом. Из сложившегося положения было
много выходов. В плане одного из них мы могли, например, утверждать, что текст
не является выражением процесса мышления. Зафиксировав это и не отказываясь
вместе с тем от категории процесса, мы должны были бы искать нечто иное, что
подчинялось бы законам процессуального анализа. Мы искали решение и на этом
пути.
В плане другого решения мы должны были прежде всего ответить на вопрос, что
представляет собой текст, чем он является в системе мышления или вообще в системе деятельности.
В третьем плане, поскольку мы выделили кроме линейно организованного
текста еще дополнительные образования, которые определяли его конструирование
и построение, мы должны были и текст, и эти дополнительные образования
рассмотреть вместе, как одну целостность. Это – процедура, типичная для научного
исследования. Выделив какую-то область и описав ее в некоторых конструктивных
элементах или единицах, мы стараемся построить из них некоторый целостный
механизм, описывающий и объясняющий эту область. Если нам это не удается и в
ходе работы мы выявляем какие-то дополнительные элементы или образования, то
мы должны расширить исходную область, включить новые элементы в эту
целостность – с тем, чтобы с их помощью построить этот механизм и найти
определенные закономерности его жизни. Следуя этой схеме анализа, мы выяснили,
что область, заданная существованием текста как такового, не полна, если мы
ставим вопрос о механизмах мышления или механизма рассуждения, дающего в
своих результатах некоторое новое знание. Во всяком случае, мы не смогли найти
такие механизмы и закономерности в границах текста и поэтому должны были
собрать некоторое новое целое. Выход за границы первоначально очерченной
области является в такой ситуации совершенно общим законом и принципом
мышления.
Этот результат и стал в дальнейшем центром нашей работы. Именно его я
отмечаю как наиболее важное и естественное достижение.
Из этого следовал вывод, что деятельность вообще и мыслительная
деятельность в частности являются, по-видимому, в принципе не процессами, а
некоторыми структурами, то есть некоторыми образованиями, по своему
категориальному существованию принципиально отличными от того, что мы
называем процессом. Таков был результат наших восьмилетних исканий.
Итак, деятельность не является процессом – в лучшем случае, процесс
составляет лишь одну часть или один элемент деятельности, – а в целом
деятельность является структурой. Понятие структуры есть иная категория, нежели
категория процесса. Поэтому сказать, что мыслительная деятельность есть
некоторая структура, это, вместе с тем, значит сказать, что она не является
процессом. А все это ведет к кардинальному изменению тех средств, приемов и
методов анализа, которые мы применяем в исследовании мышления, а также к
изменению наших представлений о виде и характере конечных продуктов нашего
исследования.
Утверждение, что деятельность является структурой, нуждается в ряде
пояснений.
По своему смыслу оно является формальным. Мы не могли представить
мышление как процесс, мы столкнулись со многими затруднениями и парадоксами,
получили какие-то дополнительные образования, лежащие вне изображения
процесса, и таким образом зафиксировали, что категория процесса не срабатывает.
Мы обратили внимание на то, что у нас получилось, по сути дела, несколько разных
элементов, которые мы должны были как-то соотнести и связать друг с другом, и
таким путем мы оказались приведенными, причем, приведенными чуть ли не
насильственно, к понятию и категории структуры.
Нам, по сути дела, не оставалось ничего иного, как обратиться к этой категории.
Мы вынуждены были сказать, что деятельность есть структура, поскольку мы
получили много разных элементов. Таким образом, утверждение, что деятельность
есть структура, первоначально выражало лишь тот довольно банальный смысл, что
мы не смогли решить задачу с помощью категории процесса и что у нас получилось
несколько разных частей-элементов, которые надо было как-то связать друг с
другом. Никаких других оснований утверждать, что деятельность есть структура, у
нас не было.
Иначе я мог бы сказать, что между несколькими выявленными нами элементами
или частями мышления обнаружилась известная зависимость понимания: мы сами в
понимании одного вынуждены были обращаться к другому. Из этой
зафиксированной нами зависимости понимания мы сделали вывод, что между
этими образованиями должны существовать также и некоторые объективные связи.
Таким образом, подход к деятельности как к структурному образованию не
содержал пока никаких новых ходов мысли, кроме одного: что рассмотрение
нашего объекта как структуры полностью убирает или элиминирует подход к нему
как к временной последовательности частей объекта. По сути дела, мы наложили на
изучаемый нами объект двусторонние зависимости нашего понимания, которые уже
по характеру и происхождению своему были вневременными. Из того факта, что
мы не могли организовать их во временную последовательность, мы
сделали вывод, что должны рассматривать все эти элементы как
одновременно данные и взаимосвязанные. Следующий шаг заключался в
утверждении, что они должны рассматриваться как структура.
Таким образом, положительный смысл нашего нового утверждения –
деятельность есть структура, а не процесс – заключался лишь в полагании того, что
понятие времени уже не может играть свою прежнюю роль и что пока мы вообще
не можем его использовать.
Время – само по себе очень сложная категория. Мы еще должны будем его
тщательно анализировать. Сейчас оно применяется где нужно и где не нужно, и
поэтому, в порядке чистки нынешних нехороших представлений, мы лично должны
стремиться к тому, чтобы выбрасывать его отовсюду, откуда его можно выбросить.
– Если я правильно понял сказанное, то ход ваших рассуждений был таков:
зафиксирована зависимость понимания некоторых образований друг от друга, а от
нее вы должны перейти к фиксации объективных связей, но пока вы этого
перехода не делаете.
Это правильно, но с той лишь оговоркой, что я употребляю выражение
«зависимость понимания» в логическом, т.е. объективно-содержательном, а не в
психологическом, т.е. субъективном, смысле. Я мог бы поэтому сказать не о
зависимости понимания, а о зависимости исследования, и это было бы, наверно,
точнее. По сути дела, я имею в виду лишь то, что анализ одного в плане
реконструкции механизма предполагает обращение к другому.
Итак, мы дошли до понимания того, что деятельность есть структура. Но какая?
Уже в ходе анализа текста Аристарха Самосского были обнаружены, кроме
линейной последовательности самого процесса, во-первых, большой блок
«средств», которые отличались от самого процесса и должны были быть
представлены как лежащие отдельно от него, но, вместе с тем, как некоторым
образом связанные с ним, во-вторых, «задача» или «задачи», точно так же лежащие
отдельно как от процесса, так и от средств.
Но самое интересное, что, кроме текста, с неизбежностью появился еще
«объект», причем, этих «объектов» появилось сразу три разных: объект оперирования, объект
исследования, объект отнесения. Это было продуктивным, но в остальном вся работа по анализу
текстов с помощь понятия процесса зашла в тупик. Но поскольку в анализе уже появились новые
образования и были заданы новые элементы, характеризующие мыслительную деятельность, то,
естественно, началось развертывание новых направлений и циклов исследований.
В частности, оказалось, что очень продуктивной и поддающейся
изолированному исследованию является связь между тем, что мы раньше называли
процессом, и тем, что мы теперь назвали средствами. При этом текст мог
рассматриваться как форма выражения фиксации как одного, так и другого. Таким
образом, средства и процессы мыслительной деятельности стали предметами
специальных, весьма интенсивных исследований. Эти исследования и начали
развертываться в первую очередь.
Ясно, что мы не могли пройти мимо вопроса о том, чем является текст по
отношению к этим образованиям – средством или процессом. Поскольку само
понятие процесса было поставлено под сомнение, поскольку мы таким образом
автоматически пришли к побочному выводу, что текст, по-видимому, не является
процессом, то возникла вполне естественная мысль: не является ли текст
выражением и оформлением некоторого продукта деятельности?
Мы начали, довольно часто, рассматривать текст подобно зданию, которое
строит человек в своей деятельности. Это был принципиальный перелом в
представлении. Текст уже не был тем, что фиксировало шаги процедуры или
процесса деятельности, а был тем продуктом, который появляется в результате
деятельности и как всякое сооружение является сугубо статическим образованием.
Конечно, и в готовом здании мы можем увидеть отпечаток некоторого процесса
его строительства: сначала клался нижний обвод кирпичей или плит, потом –
следующий и т.д. Но вы сами понимаете сколько ошибок будет в таком
представлении, если обратить его, скажем, на строительство зданий, имеющих в
своей основе стальные конструкции.
Во всяком случае, новая трактовка текста как продукта деятельности
автоматически перевела нашу двучленную схему «средства – процесс» в трехчленную
«средства – процесс – продукт». Частным случаем такого трехчленного представления
было двучленное представление в виде связки «средства – продукт».
Вместе с тем – и это нужно здесь специально оговорить, – текст не укладывался и не
хотел укладываться в понятие продукта. Поэтому потом появилось понятие
оформления, которое сначала использовалось В.Розиным как понятие «оформления
мыслительного процесса», но потом, когда выяснилось, что текст не может быть
оформлением мыслительного процесса в прямом и точном смысле этого слова, это
выражение стало употребляться как просто «оформление», без ссылки на то, что
именно оно оформляло или должно было оформлять. Наверное, это – очень
неудачный термин, поскольку по исходному грамматическому смыслу подобное
слово всегда требует прямого дополнения.
Когда появилось представление структуры деятельности, сначала в виде двух
блоков, потом – трех, четырех и т.д., то перед нами сразу же стал вопрос о том, что
такое структуры как таковые и какими могут быть средства и способы их
изображения. В частности, очень важным стал вопрос о том, что представляют
собой блок-схемы как особый вид изображений, могут ли они изображать
структуры в подлинном и точном смысле этого слова. Затем этот вопрос, естественно,
перешел в ряд более узких и точных вопросов, в частности – в вопрос о том, чем являются знаки
связей в блок-схемах и как можно их объективно интерпретировать. Возникло сомнение, можно ли
вообще вводить связи в блок-схеме представления?
Я хочу специально отметить, что это – весьма общая проблема в современной
логике науки. Сейчас блок-схемные изображения используются в самых разных
науках, включая биологию, психологию, социологию и теорию познания, но до сих
пор не ясно, что изображают и что могут изображать графические схемы из блоков
и линий, их связывающих. Не знаю, в частности, каково отношение блок-схем, с
одной стороны, к функциональным структурам объекта, и, с другой стороны, к его
материальной организации.
Естественно, что эти проблемы приобрели большое значение в работе нашего
системно-структурного семинара. Но к этим вопросам я постараюсь вернуться
позднее. Сейчас мне важно подчеркнуть, что первоначально блок-схемные
изображения выступили у нас в качестве своеобразных «разборных ящиков». Если
раньше мы пытались расчленять и представлять мышление как процессы, причем,
эта категория относилась к мышлению в целом, то теперь в мыслительной
деятельности появилось два принципиально разных образования. Хотя мышление в
целом включало эти два образования и складывалось из них, каждое из них могло
обладать и обладало такими характеристиками, каких не было у другого и у целого.
Вместе с тем, у целого, очевидно, были такие характеристики,
которыми не могло обладать ни одно из двух образований,
представленных соответствующими блоками.
Осознавая все это, мы добавили к нашему первому положению, что
деятельность есть структура, второе утверждение, что это – структура, включающая
неоднородные элементы, то есть неоднородная структура. Это было очень важное и
принципиальное дополнение, в чем вы не раз убедитесь в дальнейшем.
После появления двух- и трехблочных схем сам текст стал раскладываться и
расчленяться таким образом, чтобы выделенные в нем части-элементы могли
заполнять как первый, так и второй «ящик» блок-схемы.
Как видите, процедура анализа, связанная с блок-схемным представлением
объекта, принципиально отличается от процедуры анализа, связанной с категорией
процесса.
Вместе с тем, сразу же и автоматически возникли трудности с различением
функционального и материального употребления блоков схемы. Когда текст
рассматривался как процесс, то его дулжно было членить на однородные части,
которые не имели ни специфических функций в системе целого, ни специфического
материала, зависящего от этих функций, а когда появилось два разборных ящика,
связанных между собой функциональным различением и противопоставлением, –
причем, материал, относимый к одному из них, должен был отличаться от
материала, относимого к другому, и, вместе с тем, и тот и другой должны были
наличествовать и присутствовать в тексте как его части, – то сразу возник вопрос о
формах представительства этих функций в однородном материале текста.
При этом оказалось, что функции и материал существенно разошлись в плане
своей жизни. Одни и те же части текста должны были в разных формах и по-
разному присутствовать в обоих блоках. При этом между ними возникала
неравновесность и взаимная дополнительность. Можно было разложить текст так,
что основная часть его попадала в процесс и при этом почти ничего не попадало в
средства, а можно было сделать то же в ином отношении. Еще более сложным был
случай, когда весь текст должен был присутствовать в равной мере и тут и там.
Выяснилось, что функциональное разнесение материала по блокам не
соответствует пространственно-временному различию самого материала и,
наоборот, формы организации материала в каждом из блоков не имели уже ничего
общего с формами пространственно-временной организации в тексте. Одним
словом, блок-схема как вид структурного изображения представляла уже нечто
принципиально иное, нежели структурную организацию самого текста.
Произошло отделение текста, текстуальности, от мышления и мыслительности.
По сути дела, мышление отделилось от текста, благодаря появлению двухблочной
схемы, следовательно, благодаря особой структуре, отличной от цепочки и форм
организации текста. Именно блок-схема стала теперь представителем мышления
как такового в противоположность тексту; в блок-схеме мышление получило свое
новое идеальное существование.
Таким образом, в ходе анализа текста мы все больше удалялись от анализа
самого текста и все больше приближались к анализу лежащего за ним мышления.
Из самого факта появления разборного ящика вытекало, что мы должны были
разрабатывать две разных процедуры членения текста. Одна процедура нужна была
нам при заполнении блока средств и другая – при заполнении блока процесса или
процедуры. Кроме того, сразу же появилась третья процедура – процедура задания
связей между блоками; ведь нельзя говорить о структуре, а работать с двумя
разборными ящиками. Если мы имеем два разных блока и при этом говорим о
некотором целом, ими образуемом, то между этими блоками нужно еще установить
связи; без этого все разговоры о структуре повиснут в воздухе.
Но тогда сразу же возникал вопрос: какие именно связи могут быть
установлены между блоком средств и блоком процедуры?
Если пользоваться аналогией с практической человеческой деятельностью, то
оказывается возможным задать по меньшей мере два типа связей. Для
строительства здания нужны, прежде всего, конструктивные элементы, то есть
кирпичи. Но чтобы сложить здание, нужно осуществить соответствующую
процедуру, т.е. каждый кирпич положить из хранилища на соответствующее ему
место в будущем здании. Таким образом, процедура выкладывания здания
предстает как последовательность одноактных действий переноса кирпичей с
одного места на другое.
Вы можете попытаться представить всю эту работу как функционирование
некоторой машины. Такая попытка была предпринята В.Розиным, когда он ввел
понятие о «мыслительной машине», но об этом я буду специально говорить позже.
Интересно и характерно – это мне хотелось бы отметить уже сейчас, – что, по сути дела, Розин своей
собственной исследовательской работой имитировал процессы мышления. Но это – особая линия, и
ее нужно специально разбирать.
Понятие мыслительной машины появилось сравнительно поздно, а
первоначально мы пошли по иному пути в анализе связей между блоками схемы.
Об этом я сейчас должен буду рассказать, но предварительно изложу некоторые
общие соображения.
Оказывается, что когда заданы пусть даже всего два блока, виды связей между
ними все равно могут быть весьма различными. Их характер будет зависеть в
первую очередь от вашей точки зрения. Вообще, как характер связей, так и
истолкование самих блоков определяются в первую очередь тем, как вы видите все
то целое, которое является объектом и предметом вашего анализа, то есть в данном
случае – систему деятельности.
Это представление о целом как бы витает перед вами – во всей совокупности
известного вам эмпирического материала, в ваших представлениях о том, что может
быть или чего, наоборот, быть не может.
Кроме того, у вас имеются еще практические задачи и потребности, ради
которых вы осуществляете всю свою аналитическую работу, и, наконец,
определенные средства и методы анализа. Все это, в совокупности, определяет
процедуру формального задания связей и последующей объективной
интерпретации их, а это, в свою очередь, придает особый и специфический смысл
самим блокам, их объективному истолкованию.
Чтобы быть еще более точным, я повторю это несколько иначе. Категориальное
представление деятельности как структуры требует, чтобы у вас были элементы и
связи, а какими они будут, зависит, с одной стороны, от того, как вы «видите»
изучаемую вами действительность, а с другой стороны, от того, какими
специализированными средствами и методами вы располагаете.
В этой связи я хочу напомнить вам об одном пункте, о котором я рассказывал
раньше. Речь идет о тех требованиях, которые мы выдвигаем в отношении
создаваемой нами теории объекта, исходя из некоторых общих норм строения,
функционирования и развития теории. Поскольку мы с самого начала исходили из
убеждения, что мышление является исторически развивающимся объектом, мы
должны построить такую теорию мышления, которая бы схватывала это
развитие.
Это означало для нас, что такая теория должна была строиться методом
восхождения от абстрактного к конкретному. То есть мы должны были сначала
задать некоторые простейшие системы мышления, а затем мы должны были найти
формальные правила, по которым эти исходные системы развертываются в более
сложные системы.
Вся процедура при этом выступала как последовательность ряда однородных
или неоднородных шагов. Проделав определенное число таких шагов – в принципе,
достаточно большое, – мы должны были в конце концов придти к теоретическому
представлению всей системы мышления в целом. Метод восхождения от
абстрактного к конкретному, как правило, применяется к органическим объектам. А
органические объекты опять-таки, как правило, являются – так учил на первых
этапах Зиновьев, и нам это казалось достаточно очевидным – исторически
развивающимися объектами.
В дальнейшем мы несколько расширили это представление о методе
восхождения и ввели особое понятие генетического, или псевдоисторического,
анализа, специфически применимого к развивающимся объектам. В связи с этим
понятие восхождения приобретает дополнительные спецификации и расчленения,
становясь вместе с тем более абстрактным и обобщенным. Но и само восхождение
представляет собой лишь один метод из тех, посредством которых формируются
модельные основания разных наук, и надо сказать – довольно частным методом.
Хотя понятие восхождения было таким образом расширено, сам принцип
генетического, или псевдоисторического, подхода к мышлению сохранялся
неизменным: мы по-прежнему считали, что главная задача состоит в объяснении
механизмов развития мышления. Соответственно этому, мы должны были
рассматривать блок средств и блок процессов с точки зрения генетических
механизмов, или механизмов генезиса.
Выше я не случайно сказал о требованиях, которые мы предъявляли к
сложившейся теории. В соответствии с предположением и требованием у нас
должна была получиться генетическая, или псевдоисторическая, теория мышления,
мы должны были таким образом членить сам объект, выделять в нем такие блоки и
устанавливать между ними такие связи, чтобы в результате получилась структура,
соответствующая некоторому генетическому механизму.
К тому времени мы достаточно хорошо понимали, что целый ряд гуманитарных
наук, таких, как структурная лингвистика, традиционная формальная логика, слабо
развиваются и не дают «адекватных представлений своего объекта», потому что их
исходные абстракции были построены таким образом, что они полностью
исключали в последующем генетический подход и анализ их объекта как
развивающегося целого.
Мы не хотели повторять ошибки названных наук. Поэтому к расчленению
мышления на средства и процессы мы с самого начала применяли генетические
критерии. Мы с самого начала задавали вопрос, в какой мере членение объекта на
два указанных выше блока будет удовлетворять генетическим принципам. Но это
значит, что мы должны были задать некоторый генетический механизм и
генетическую связь, объединяющие блок средств и блок процесса в одно
развивающееся целое, т.е. целое, допускающее генетическое представление. Только
задав такую связь, мы могли быть уверены в том, что мы правильно расчленили
наш объект.
Сейчас проведенное мною только что рассуждение может показаться очень
нестрогим, и можно, наверняка, показать целый ряд других ходов мысли, которые
дадут иное представление самой этой связи. Чуть дальше я сам буду рассказывать о
таких ходах мысли. Но тогда, т.е. в 1952–1960 гг., это требование – удовлетворить
генетическим критериям – было решающим и, по сути дела, именно оно выполняло
роль верховного судьи в оценке произведенных нами исходных абстракций.
В итоге выяснилось, что на базе очерченного выше подхода довольно легко
построить удовлетворительный механизм развития мышления и объяснить с его
помощью многие из тех исторических и генетических парадоксов, которые были
зафиксированы в разных науках, так или иначе исследовавших мышление.
Выяснилось также, что только задание этих двух блоков впервые дает нам
возможность говорить о некотором правдоподобном генетическом механизме в
сфере мышления.
Здесь проблема – общая для логики и для языкознания. Если мы берем какойлибо словесный текст, который по нашим исходным предположениям может
репрезентировать какой-либо процесс, а потом берем другой текст, который по
предположениям репрезентирует другой процесс мышления, а затем начинаем
сопоставлять их друг с другом, то оказывается, что они, взятые в целом, не могут
быть ни отождествлены, ни различены. Каждый текст является сугубо
индивидуальным по своему смыслу, он решает свою особую задачу, описывает свой
особый объект и, в соответствии с этими индивидуальными особенностями,
является индивидуальным, неповторимым образованием.
Но если так, то у нас нет никаких оснований для того, чтобы утверждать, что
между этими текстами могут существовать и существуют какие-то связи
происхождения или развития, т.е. мы не может предполагать, что один текст
появился в результате развития другого. Такого, в принципе, не может быть, ибо
каждый текст является продуктом индивидуального акта деятельности, он
создается, а затем разрушается, гибнет, не производя взамен себя ничего другого.
Именно поэтому лингвистике, как и традиционной формальной логике, были
недоступны какие-либо подлинно исторические и генетические исследования
текстов. Как известно, чтобы сопоставлять тексты друг с другом, выделять их
общий строительный материал, устанавливать какие-либо связи происхождения или
порождения, лингвистика должна была перейти к языку и системам языка. Именно
язык стал основным предметом и объектом ее изучения. Но основные и
исходные абстракции лингвистики все же были выделены таким
образом, что генетическое или псевдо -историческое изучение языка по прежнему исключалось. Это тоже понятно, ибо если мы возьмем
системы языка сами по себе, или, что то же самое, системы средств
сами по себе, то они тоже не имеют механизма развития и
непосредственно, естественным путем, не переходят одни в другие.
Именно э то обстоятельство и было зафиксировано Ф. де Соссюром в его
знаменитом «Общем курсе лингвистики», но думаю, что и до него это
знали и фиксировали многие исследователи.
Мы столкнулись с аналогичными проблемами в сфере логики и пришли на ее
материале к подобным же, в общем и целом негативным, выводам. Исходным
материалом для нас были решения задач, проведенные Гегелем, Эйлером,
Ньютоном, Максвеллом и другими. Установить какие-то генетические связи между
одним текстом и другим, между одним мыслительным процессом и другим
мыслительным процессом было в принципе невозможно. Генетических связей,
которые нам были нужны для построения генетической или псевдоисторической
теории мышления, в этой области просто не оказывалось.
Кстати, именно это обстоятельство привело всех, занимавшихся
историей мышления, начиная с Дж.Вико и далее, вплоть до логиков
варшавско -львовской
школы
–
К.Твардовского,
К.Айдукевича,
Я.Лукасевича, Т.Котарбиньского и других, – к убеждению, что в
развитии мышления нет никакой необходимой связи и, с ледовательно,
не могут быть установлены никакие закономерности. Вико, Тюрго,
Кондорсэ и другие говорили о том, что происходит «прогресс разума»,
накопление новых открытий, но никакой необходимой связи между
открытиями не существует и не может существовать. По их мнению,
исторически зафиксированная последовательность развития знания
была совершенно случайной, могло бы быть иначе, и то, что в
случившейся истории предшествовало, могло оказаться последующим.
Они приходили к выводу, что все дело зависит от талан та того или
иного исследователя, от того, на что он, в силу случайного стечения
обстоятельств, обратил внимание.
Но это было уже объяснение и интерпретация. А подлинное основание для
отказа от научной фиксации генетической или исторической закономерности
лежало в том, что между разными решениями задач не было и не могло быть
непосредственно генетических связей и точно так же нельзя было установить и
сконструировать какие-либо механизмы, объясняющие переход одних средств в
другие, одних понятий в другие понятия.
Очень характерными в этом плане являются работы по истории и логике
развития различных естественнонаучных понятий. Когда в русле этих
исследований, опираясь на эмпирическую историю науки, фиксировали этапы
развития одного и того же понятия, то всегда оказывалось, что на каждом этапе
появляется, по сути дела, новое понятие – с новым содержанием и новыми
формами, а основанием для отождествления их и трактовки как состояний в
развитии одного понятия служили лишь внешние формы организации – общее имя,
зафиксированная преемственность идей и т.п.
Одним словом, когда брали блок средств сам по себе и сравнивали входящие в
него образования в плане их исторической преемственности или когда брали блок
процессов и точно так же сравнивали друг с другом следующие один за другим
решения задач, то никогда не оказывалось генетических связей, не оказывалось
самого развития.
В противоположность всему этому наша двухслойная схема сразу же дала очень
правдоподобный механизм и процесс развития. Мы предположили, что суть
развития состоит в том, что некоторые средства как бы отпечатываются в
определенном решении или тексте в разных, широко меняющихся комбинациях;
при этом в тексте за счет самого комбинирования возникают новообразования, они
выделяются и фиксируются в виде новых средств, откладывающихся опять в блоке средств; блок
средств за счет этого обогащается и может давать новые комбинации, которые опять порождают
новообразования, вновь выделяемые и организуемые в блоке средств.
Схематические весь этот циклический процесс можно представить в весьма
наглядной картинке:
с
р
е
д
с
т
в
аI
с
р
е
д
с
т
в
аII
п
р
о
ц
е
с
сI
п
р
о
ц
е
с
сII
с
р
е
д
с
т
в
аIII
Эта схема, в частности, объясняет, почему оканчивались неудачей все попытки
найти и изобразить развитие, ориентируясь только на процессы или только на
средства: если механизм образования действительно таков, каким мы его выше
изобразили, то в средствах самих по себе или процессах самих по себе нет и не
может быть факторов, определяющих последующие состояния.
Новообразования, возникающие в процессах, определяются не средствами
самими по себе, а теми условиями, которые появляются и существуют в ситуации;
именно они определяют характер комбинирования и связи средств. Но точно так же
характер средств, вновь выделяемых в этих комбинациях и связях, определяется не
характером процессов самих по себе, а их отношением к уже имеющимся наборам
средств.
Чтобы не было недоразумений, я хочу сразу оговориться, что мои утверждения
не предполагают того, что в наборах и системах средств вообще нельзя найти
правил, фиксирующих порядок и закономерность перехода одних средств в другие.
Это сделать можно, и, в принципе, наука уже вплотную подошла к выделению
подобных закономерностей, в лингвистике некоторые из них даже были выделены,
хотя и весьма поверхностно. Но во всех случаях выделение подобных правил и
закономерностей, связывающих одни средства с другими, следующими за ними,
очень сложно и предполагает выход к инвариантам значительно более глубокого и,
в принципе, искусственного характера.
В дальнейшем я буду специально обсуждать эту проблему, когда перейду к
работам 1960–1964 гг. и буду говорить о понятиях естественного и искусственного.
Но все это – значительно более сложные и тонкие вещи, чем те, которые я сейчас
обсуждаю. Кроме того, все они отнюдь не отрицают сформулированные выше
принципы и не противоречат им, а лишь служат дальнейшим их развитием.
Таково, в самых общих и грубых чертах, представление о механизме развития
деятельности, сложившееся у нас где-то между 1956 и 1958 гг. Совершенно
естественно, что оно стало предметом многочисленных обсуждений и
использовалось нами в самых различных направлениях и разными способами. При
этом, в частности, обнаружилось, что трехчленная единица всего этого механизма –
а она является именно трехчленной и включает в себя «средства I – процесс I –
средства II» – может быть интерпретирована совсем особым образом: мы увидели в
ней механизм воспроизводства человеческой деятельности.
Я хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что эти схемы появились у нас
именно в контексте обсуждения генетических проблем, они должны были
изображать основные шаги развития деятельности, и в этом плане эти схемы до сих
пор используются нами, хотя и в значительно более расширенном и усложненном
виде. Все это так.
Но, кроме того, в этой же схеме и через призму идеи развития мы увидели еще
один процесс, принципиально отличный от развития и лежащий, если хотите,
«глубже» развития. При этом изменился характер связей между блоками и,
соответственно, изменилась трактовка самих блоков, но общая конфигурация схемы
и направленность на определенные объективные явления оставались теми же
самыми. Уже эти формальные моменты говорят о том, что между этими
процессами существуют какие -то глубокие органические связи – в
дальнейшем я буду их специально обсуждать и покажу, что это
действительно так, на самом материале, н о сейчас мне хочется
подчеркнуть значение формальных моментов.
Чтобы дать правильную ориентировку в отношении будущего, скажу, что
представление нарисованной выше трехчленной схемы как развития в чистом виде
было, по меньшей мере, неточным. Сейчас мы имеем значительно более развитое и
расчлененное понятие самого развития. Но тогда его еще не было, и мы, как вы уже
заметили, искали не столько сами процессы развития, сколько его механизмы.
Именно в поиске механизмов мы пришли к этой трехчленной схеме, и сейчас
можно сказать, что она выражает как раз механизмы, благодаря которым развитие
осуществляется.
Но этими механизмами и оказались как раз процессы воспроизводства. Точнее,
можно сказать – и именно так мы понимаем это дело сейчас, – что развитие
осуществляется на процессах воспроизводства и через их специфический механизм.
Но тогда мы, конечно, не могли понимать все это таким образом. Мы просто
искали механизмы развития, нашли или сконструировали эту
трехчленную схему, а потом, уже в ходе рефлективного анал иза,
обнаружили, что этот механизм является не просто механизмом
развития, а имеет еще свое собственное специфическое содержание и
свой особый смысл: является механизмом воспроизводства и
производства.
Думаю, что известную подсказку для такой интерпретации мы получили в
работах Ст.Лема, хотя я не уверен, что он видел дело именно так, как это у нас
получилось; думаю даже – если судить по его работам, – что он понимал это не
так, но все равно его образы и высказывания послужили нам подсказкой.
Здесь важно – сейчас мы уже отчетливо видим и понимаем, – что не нужно
апеллировать к механизму развития, чтобы увидеть процесс воспроизводства.
Больше того, сейчас совершенно автоматически возникают многочисленные
аналогии с работами Маркса и всех других экономистов, обсуждавших проблемы
производства и воспроизводства. Но у них не было общей схемы движения от
средств к процессам и продуктам, а от них опять к средствам.
И чтобы соединить их рассуждение о воспроизводстве с общей и
абстрактной схемой воспроизводства, пон адобился этот сложный ход
через идею развития и поиски механизма развития. Но сейчас, когда все
это движение осуществлено, мы видим, что схема воспроизводства
может и должна рассматриваться независимо от проблем развития, ибо
она является более «глубинным » фактором, характеризующим жизнь и
существование
систем
деятельности,
в
частности,
и
любых
организмических систем вообще.
Сейчас, конечно, это утверждение, особенно если брать его само по себе, может
казаться банальным. Но пришли мы не к нему самому по себе. Мы пришли к нему с
определенной схемой, которая могла использоваться в качестве наиболее общей и
абстрактной модели воспроизводства, и мы могли теперь, «разглядывая» и
обсуждая эту схему, выявлять все новые и новые свойства и закономерности
воспроизводства как такового.
Коротко говоря, благодаря этой схеме мы сделали воспроизводство вообще,
воспроизводство как таковое, особой действительностью и особым объектом.
Теперь мы могли оперировать с ним и оперируя изучать. Суть существования
любой социальной системы деятельности состоит в том, что она должна
повториться, она должна повторяться завтра, послезавтра и до тех пор, пока она не
будет заменена или вытеснена какой-то другой деятельностью, имеющей то же
самое назначение, или пока не оборвется существование самой человеческой
деятельности. Но пока этого не произошло, любая деятельность должна
воспроизводиться вновь и вновь, а если она не воспроизводится, то это равносильно
тому, что в социальном плане она просто не существует. Выявив схемы
воспроизводства и воспроизводство как основополагающий факт социальной
действительности, мы, естественно, попробовали затем вновь вернуться к
проблемам развития и соединить эти два подхода друг с другом. Это значит – мы
должны были объединить схемы воспроизводства и схемы генезиса.
Вопрос здесь мог быть поставлен так: какие механизмы и какие условия
обеспечивают воспроизводство деятельности вообще и отдельных систем
деятельности?
Но прежде чем мы приступим к непосредственному обсуждению этого вопроса,
я просил бы вас на некоторое время выйти из намеченного плана нашего движения
и взглянуть на работу, проделанную нами как бы со стороны.
Как вы помните, мы начали с глобального представления деятельности, затем от
всеобщей картины мы перешли к некоторым частным системам и проявлениям
деятельности. Мы стремились спуститься к мельчайшим проявлениям универсума
деятельности. Мы рассматривали решения отдельных задач, мы ставили вопрос, как
можно проанализировать и представить каждый мельчайший кусочек
действительности и деятельности, мы спрашивали, как и в виде чего его можно
изобразить.
Сначала мы увидели процессы решения и пытались их анализировать. Потом в
ходе этой работы мы обнаружили, что нужны еще средства деятельности и другие,
весьма разнообразные элементы. Появилась схема разборного ящика, которая затем
очень естественно превратилась в схему структуры. Чтобы превратить разборный
ящик в структуру, надо было задать определенные связи. Чтобы задать эти связи,
мы обратились к общему интуитивному представлению о том целом, которое мы
разбирали.
Так появились связи развития, за которыми мы видим процесс развития
деятельности. По сути дела, связь между средствами и процессом привносилась
нами извне, из интуитивных соображений, имевших во многом априорный
характер. Когда структура появилась на основе этих интуитивных соображений о
генезисе, мы начали рассматривать ее как бы саму по себе и благодаря этому стала
возможной иная интерпретация уже имеющейся схемы. Появилось понятие о
воспроизводстве, относимое к этим же схемам. Схема получила новую
интерпретацию как на идеальную действительность, так и на эмпирический
материал.
Но после того как схема получила эту новую интерпретацию, казалось вполне естественным
взять ее и снова вернуться к глобальному целому, ко всему универсуму деятельности.
Так появилось утверждение, что универсум деятельности должен
воспроизводиться. Но воспроизводство является лишь одним из проходящих через
него процессов. Кроме того, универсум деятельности должен еще и развиваться.
Если вначале я сказал, что исходной была точка зрения генезиса, а потом в ходе
описанного мною движения появилась точка зрения воспроизводства, то теперь,
когда обе точки зрения и, соответственно, оба процесса были проецированы на одну
картину целого, приходилось решать вопрос о том, что является первичным.
В этом контексте воспроизводство приобрело доминирующее и
основополагающее значение. Когда мы говорили о генезисе, то имели в виду
отдельные элементы универсума деятельности. Мы спрашивали, развиваются ли
эти элементы и если развиваются, то как. Мы задавали этот вопрос относительно
процессов и относительно средств. Выяснив, что ни то, ни другое само по
себе
не
может
развиваться,
мы
перенесли
сам
вопрос
и
соответствующий ему ответ на структуру деятельности. Мы
спрашивали, как развив аются эти маленькие структурки деятельности –
то, что может быть названо актами деятельности. При таком заходе
точка зрения генезиса отдельных структур деятельности и деятельности
в целом была совершенно естественной и не вызывала возражений.
Но когда мы опрокинули на весь универсум деятельности понятие
воспроизводства, то точка зрения развития стала весьма сомнительной или, во
всяком случае, требующей специального обсуждения. Пришлось переосмысливать
само понятие развития. Встал вопрос, что значит применять идею развития к
универсуму деятельности. Поскольку механизм воспроизводства был признан
основным и главенствующим, встал естественный вопрос о том, как механизмы
генезиса относятся к нему.
Но центр тяжести исследований и поисков уже переместился с механизмов
развития на механизмы воспроизводства. Теперь мы должны будем спрашивать
себя: каким образом и как воспроизводит себя универсум деятельности? В чем
состоят процессы, функциональные структуры и материальная организация
воспроизводства? Если раньше у нас было много идущих параллельно друг другу
процессов развития, отдельных структур деятельности, то теперь у нас остался один
глобальный процесс воспроизводства универсума деятельности. Теперь мы стали
говорить о кинетике деятельности как о едином и всеохватывающем процессе
воспроизводства. Теперь мы спрашиваем себя, что такое воспроизводство, каковы
его механизмы, как их можно расчленять, как их можно представлять в разных
предметах, находить закономерности и механизмы воспроизводства. Мы оказались
приведенными к вопросу: как изображение воспроизводства относится к
изображению генезиса деятельности?
Как вы помните, в начале доклада я обещал обсуждать и решать
конфигураторные задачи. Я предполагал обсудить их на методологическом уровне
до построения соответствующих предметов изучения. Вы видите, я не забываю
своего обещания и пытаюсь делать именно то, о чем говорил.
Уже на этом весьма абстрактном уровне я могу, двигаясь от заданного целого,
изобразить предмет, представляющий воспроизводство, а затем предмет,
представляющий генезис деятельности.
д
е
я
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
п
р
е
д
м
е
т
I
:
в
о
с
п
р
о
и
з
в
о
д
с
т
в
о
д
е
я
т
е
л
ь
н
о
с
т
и
п
р
е
д
м
е
т
I
I
:
г
е
н
е
з
и
с
д
е
я
т
е
л
ь
н
о
с
т
и
Двигаясь как бы поверх этой схемы, я могу задать вопрос о том, как
относятся друг к другу два предмета, и при этом буду стремиться
получить ответ на таком же предельно абстрактном уровне. Наверное,
чтобы ответить на поставленный вопрос, нужно рассмотреть, как
получаются сами эти предметы. В частности, интересно выяснить,
может ли быть получен предмет, изображающий генезис, при движении
непосредственно от эмпирического данного целого деятельности, или
же, напротив, он предполагает предварительное построение предмета,
описывающего воспроизводство деятельности.
Таким образом, мы переходим к вопросу: какое отношение должно
быть между двумя изображенными мною выше предметами? При этом
важнейшим становится вопрос: долж ны ли мы рассматривать их как два
разных, лежащих наряду друг с другом, предмета или же эти предметы
связаны друг с другом и предмет, описывающий генезис деятельности,
является вторичным и может быть получен лишь на основе предмета,
описывающего воспроизво дство деятельности?
Выражение «генезис деятельности» я применяю в условном смысле, ибо, как вы
помните, специально оговорился, что применение понятия развития к универсуму
деятельности вызывает сомнение. В частности, это означает, что нужно будет еще
выделить и изобразить ту действительность, которая развивается; может ли
развиваться деятельность как таковая, пока не выяснено.
– Не предполагает ли картина воспроизводства деятельности, все разговоры,
которые вы ведете вокруг нее, понятия процесса?
Вполне возможно, что воспроизводство могло бы быть анализируемо с точки
зрения понятия процесса. Но даже если бы это было так, то это еще не означало бы,
что деятельность является процессом. Наоборот, если вы начинаете говорить, что
воспроизводство есть процесс – а, в принципе, я мог бы с этим положением
согласиться, если бы не некоторые «но», о которых я буду говорить потом, – то это
означало бы не больше того, что мы можем рассмотреть в виде процесса
воспроизводство и только воспроизводство. Поскольку мы говорим о деятельности
как о чем-то отличном от воспроизводства, как об объекте, который
воспроизводится, то мы, скорее, должны отрицать за деятельностью характер
процесса, должны трактовать ее ближе к вещи.
Во всяком случае, принятие тезиса, что воспроизводство есть процесс, ничего
не говорит в пользу того, что и тот объект, который воспроизводится, тоже
обязательно должен быть процессом.
Здесь мне хотелось бы сформулировать одно очень важное для меня положение.
Приняв в качестве основополагающего утверждение, что деятельность
воспроизводится и что само воспроизводство является существенным и
кардинальным для социального существования деятельности – вы помните, я
сказал: то, что не воспроизводится, не существует в социальном плане, – я могу
теперь перевернуть отношение между ними и начать определять деятельность через
воспроизводство. Это крайне важно и принципиально.
Я начал с задания деятельности как неизвестного пока объекта. Я представил
деятельность как структуру, включающую блоки процессов и средств, я ставил
вопрос о том, какой структурой обладает деятельность, и в поисках определяющих
ее факторов вышел к воспроизводству.
Теперь воспроизводство задано, и весь процесс начинается как бы в обратном
порядке. Воспроизводство задано, оно должно существовать и осуществляться, и,
следовательно, сама деятельность в ее структуре должна быть такой, чтобы
воспроизводство могло происходить. Поэтому теперь на вопрос, что такое
деятельность, я могу отвечать принципиально новым, весьма
продуктивным и плодотворным способом : деятельность есть то, что
может воспроизводиться. Это, следовательно, такая структура и такой
объект, которые «пригнаны», приспособлены к воспроизводству и его
механизмам.
Утверждение, что деятельность и есть то самое, что воспроизводится и должно
воспроизводиться в социальном организме, на первый взгляд, кажется банальным и
слишком общим. На самом же деле это очень важное методологическое
утверждение. Ведь из этого утверждения следует, что структура деятельности как
того, что должно воспроизводиться, должна быть подлажена к механизму
воспроизводства, должна соответствовать ему. И из этого вытекает, что мы должны таким
образом рассмотреть деятельность, так ввести ее структуру, чтобы все элементы и связи между ними
вытекали из механизмов воспроизводства, или, иначе, определялись ими.
Иными словами, мы выдвигаем гипотезу, что деятельность и есть такая
структура, которая сложилась в результате передачи, или воспроизводства,
составляющих социального целого, и все ее связи, во всяком случае решающие
связи, заданы этим механизмом передачи. Тогда исследование механизмов
воспроизводства и будет исследованием связей, конституирующих структуру
деятельности.
Выше я говорил о разных направлениях исследования деятельности,
в том числе – об исследовании генезиса фрагме нтов деятельности и об
исследовании
механизмов
воспроизводства
деятельности.
Эти
исследования задают два направления анализа и, соответственно, два
развертывающихся предмета. Но здесь, как следует из сказанного выше,
возможны два случая: эти предметы могут быть либо двумя совершенно
независимыми образованиями, либо же одно из них будет строиться на
основе другого, и тогда, следовательно, мы будем иметь не два
независимых образования, а одно сложное. Именно этот вопрос я и
начал обсуждать, спросив, как схемы генезиса деятельности должны
относиться к эмпирическом материалу – непосредственно или через
схему и теоретическую систему, изображающие воспроизводство.
На первый взгляд кажется, что мое предшествующее движение было
тавтологичным.
Я
получил
схемы -трехчленки,
которые
были
интерпретированы как схемы воспроизводства. На основе этого я
утверждал, что главное для деятельности – это воспроизводство и,
наоборот, сама структура деятельности должна быть получена как то,
что соответствует схемам
воспроизводства. И так, есть идея
воспроизводства, полученная из анализа деятельности, а затем схему
деятельности, казалось бы, нужно получить из воспроизводства.
Но эта тавтологичность является видимостью. Чтобы пояснить это, напомню
схему моего движения. Сначала появилось расчленение деятельности на два блока:
«процессов» и «средств». Затем был поставлен вопрос о механизмах и
закономерностях развития мышления. Была выдвинута гипотеза о характере
генетического процесса, и таким образом получилась схема-трехчленка «средства I
– процессы – средства II». Трехчленная схема стала трактоваться как некоторая
единица, характеризующая деятельность.
Затем выяснилось, что может существовать и другая интерпретация
подобной трехчленки при условии, что мы идентифицируем средства -I
и средства-II (оставим средства постоянными). Когда появилась новая
интерпретация связей в трехчленной схеме, то из этого родилось новое
глобальное представление всего социального целого, родилась идея
воспроизводства. В результате у нас имеется, с одной стороны ,
онтологическая картина всего целого – это некоторые механизмы
воспроизводства, наложенные на «фон» деятельности, а с другой
стороны, блок некоторой единицы деятельности.
Хотя раньше мы, вроде бы, уже знали структуру этой единицы и представляли
ее в виде трехчленной схемы, теперь мы ставим свое прежнее представление под
сомнение и хотим получить новое представление, с самого начала соответствующее
идее воспроизводства. Это означает, что весь блок единицы деятельности мы как бы
замазываем черной краской. Раньше мы знали, как устроена эта единица, какие
элементы и связи она содержит. А теперь мы полагаем, что мы этого уже не знаем.
Из известного и изображенного блок единицы деятельности становится
неизвестным, становится «черным ящиком». Происходит переориентация, а более
точно, как бы перевертывание направления исследования. Схематически это можно
изобразить так:
“воспроизводство”
единица
деятельности
социальное
целое
воспроизводство
деятельности
единица
деятельности
Во втором ряду схемы мы предполагаем, что структура единицы деятельности
должна быть такой, чтобы она соответствовала механизмам воспроизводства,
которые мы видим и исследуем в эмпирически заданной нам системе целого
(представленной слева). Какой именно будет эта структура единицы деятельности,
мы сейчас не знаем. Она должна быть введена по-новому, исходя из наших общих
представлений и анализа процессов социального воспроизводства. На этом этапе мы даже не знаем,
сколько будет подобных схем структур единиц деятельности – три, восемь или еще больше.
Собственно, ведь у нас так и получилось: в структуре единицы деятельности оказалось значительно
большее число элементов, но мы вывели все это из анализа механизмов воспроизводства.
В подобной переориентировке направления исследований заключен
совершенно общий прием научного исследования. При этом, как нетрудно
заметить, изменяется сам предмет исследования, мы переходим в совершенно
новую область. Схема трехчленки была получена из анализа механизмов и
закономерностей развития отдельных фрагментов деятельности, а если говорить
еще более точно – из процедур эмпирического анализа отдельных текстов и
обоснований этих процедур.
Но когда мы оставили точку зрения генезиса и начали говорить о
воспроизводстве в целом, то мы, вместе с тем, оставили и отдельные тексты,
вообще – фрагментарный подход к социальному целому, и перешли к анализу всего
этого целого, приняли, по сути дела, глобальный подход. Весьма характерно – и на
это надо обратить внимание, – что когда мы говорим о механизмах
воспроизводства, то всегда возникает известное недоумение: воспроизводство чего?
И мы отнюдь не всегда можем сказать, что деятельности.
Дело в том, что сама деятельность, как я и подчеркивал в предшествующем
принципе, есть само воспроизводство, есть то, что существует в воспроизводстве.
Иными словами, в некоторых случаях мы можем говорить о воспроизводстве
деятельности. И в этом случае деятельность выступает как нечто постоянное и,
следовательно, почти субстанциальное. В других же случаях воспроизводство и
есть деятельность. Здесь она уже не субстанция, которая передается, а сама
передача, процесс, и в этом плане – нечто развертывающееся и развивающееся, не
остающееся постоянным. Таким образом, механизм воспроизводства оказывается
здесь исходным, а структура деятельности определяется через него. Это и есть то
новое, к чему мы пришли.
Надо отметить, что мы уже не раз сталкивались с этим механизмом и
обсуждали его. Мы называли его тогда «перепредмечиванием», и, по-видимому, он
является общим моментом в процессе развития всякой науки.
19.07.1965
Деятельность как категория
и область эмпирического изучения
Основной результат прошлого доклада может быть сформулирован в двух
положениях. В первой его части я говорил о том, что попытки исследовать
мышление, пользуясь категорией процесса, привели нас к выводу, что мышление,
если его брать в целом, не является процессом, не может быть представлено как
процесс. В связи с этим встал вопрос: должны ли мы применять этот тезис только к
мышлению, взятому в целом, или также и ко всем его частям? Я склонялся скорее к
первой, более узкой точке зрения, что именно мышление, взятое в целом, не может
рассматриваться в виде процесса. Это, с моей точки зрения, не исключало того, что
внутри мышления могли быть выделены такие элементы, которые, возможно,
удалось бы рассмотреть как некоторый процесс. Но этот второй момент остается
пока открытым. Важно, что мышление в целом нельзя рассматривать как процесс,
что к нему должна применяться другая, исключающая понятие процесса, категория,
а именно категория структуры.
Более точным, наверно, было бы даже говорить не «исключающая» понятие
процесса, а включающая его в себя на правах подсобного понятия, относимого к
некоторым элементам. Этот тезис имел прежде всего формальный, методический
смысл. Он означал, что если мы хотим рассмотреть мышление в целом или
некоторые «единицы» мышления, то должны представлять их в виде некоторых
структурных образований, содержащих в себе разнородные элементы и связи между
ними.
В позапрошлом и прошлом докладах этот тезис специализировался еще
положением, что, следовательно, мы не можем подходить к анализу мышления,
исходя из понятия однородного времени. Положительный смысл понятия
структуры заключается прежде всего в том, что оно предполагает разнородное и
разнонаправленное время. А анализ мышления под углом зрения структуры
означает, что нельзя спроецировать явления мышления на одну временную ось.
Методический смысл применения понятия структуры состоял в том, чтобы
исключить попытки анализа мышления, основанного на идее подобных проекций,
исключить всякое предположение о возможности представить его в виде ряда
следующих друг за другом частей, в частности операций.
Но дальше, вполне естественно вставал вопрос, что это за структура, как ее
нужно изображать. Обсуждая этот вопрос, мы проделали ряд шагов. Я говорил о
том, что уже на первых этапах анализа мышления произошло разделение явлений
мышления на две группы: группу, которая в старой терминологии называлась
процессом, и группу средств. Мы получили разборный ящик, содержащий
по крайней мере две ячейки. Я подчеркивал, что при этом происходит
разделение и выделение 1) материального плана анализа мышления и 2)
функционального плана анализа.
Если мы имеем текст в качестве фрагмента эмпирического материала, то все,
что мы в нем обнаруживаем, разносится по блокам введенной нами схемы. При
этом, если наш анализ текста строится по материальным принципам, то мы не
можем разделить текст на ту часть, которая попадает в ячейку процесса, и ту часть,
которая попадает в ячейку средств. Одни и те же части текста, взятые как бы с
разных точек зрения и в связи с разными задачами, будут попадать в одних случаях
в ячейку процесса, а в других – в ячейку средств.
В этой связи перед нами, естественно, встал вопрос о смысле подобных
представлений мышления, т.е. представления его в виде блок-схемы или разборного
ящика. Следующий шаг, который был сделан в этой связи, превращал разборный
ящик в структуру.
Средства, с одной стороны, и процессы, с другой стороны, стали
рассматриваться уже не как ячейки разборного ящика для размещения вычленяемых
в тексте элементов, а как элементы некоторой целостной системы, связанные между
собой. Такое представление неизбежно вело к вопросу о том, что представляют
собой связи в подобном структурном представлении мышления и каким образом их
можно выявлять или конструировать.
В этой связи мы говорили о том, что определение характера связи между
элементами блок-схемы, изображающими мышление, предполагает обращение к
общей интуитивной картине того целого, которое мы изучаем, и реконструкцию,
хотя бы в общих чертах, того, что мы называли онтологией.
Эта новая онтологическая картина должна была быть представлена как
изображение некоторой реально существующей социальной кинетики. В
зависимости от этого представления социального целого мы и должны были
вводить те или иные связи – мы выяснили, что они могут быть нескольких разных
видов, в зависимости от того, в каком плане мы рассматриваем наше целое – и
каждый раз приписывать им тот или иной объективный смысл.
В этой связи я рассматривал сначала одно, первое, истолкование этих слов,
детерминированное нашими общими историческими и генетическими принципами;
согласно этому истолкованию, мы имеем связи развития мыслительной
деятельности или деятельности вообще. Я говорил о том, что двухблочное
представление деятельности мышления открыло перед нами новые возможности
для решения старых и весьма важных вопросов объяснения механизмов развития
мышления и других организаций деятельности. Я особенно резко подчеркивал
тот установленный многими исследователями факт, что рече мыслительные тексты не могут включаться в системы развития и не
могут трактоватьс я, если мы берем их изолированно и сами по себе, как
развивающиеся.
Двухблочная структура «средства – процессы», которую мы структурировали в
единицы «средства I – процесс I – средства II», наоборот, могла быть организована
в весьма простые схемы развития.
Я специально остановился, хотя и не очень подробно, на функциях разных
блоков, или элементов, в общей системе развивающегося мышления. Я показывал,
что блоки средств и процессов подчиняются, по сути дела, разным законам жизни.
Блок процессов выступает как своеобразный смеситель, в котором, исходя из уже
имеющихся средств и на их основе, создаются новые образования разного рода, в
первую очередь – в виде новых связей, но они затем перетаскиваются в блок
средств уже как материально оформленные содержательные элементы, как
собственно средства.
По-видимому, именно блок процессов связан с тем, что мы называем
ассимиляцией объектов. Именно через процессы и процедуры объекты
«схватываются» деятельностью и включаются в ее системы. Я говорил о
рефлексивных процедурах, посредством которых новообразования, возникающие в
процессах или процедурах, «перетягиваются» затем в блок средств.
Я говорил о том, что, построив схемы развития мышления, мы затем дали им
принципиально новое истолкование и стали рассматривать их не как представление
процессов развития, а как представление механизмов воспроизводства
деятельности. Ясно, что с этой, новой, точки зрения должны быть получены новые
истолкования и объяснения связи между блоками схемы. Так мы пришли к точке
зрения воспроизводства деятельности, которая вскоре стала для нас исходной и
определяющей все остальные.
Приняв идею воспроизводства, мы должны были перейти к совершенно новым
формам и способам истолкования всего того, что происходит в универсуме
деятельности. В связи с этим мы начали по-новому смотреть на саму деятельность и
по-новому определять ее структуру.
Если раньше мы исходили из двухблочного представления деятельности в виде
связки средств и процессов, то теперь мы должны были как бы «замазать» целое
деятельности и поставить вопрос заново: если воспроизводство является главным
процессом в универсуме деятельности, то какой должна быть структура
деятельности, взятой как в целом, так и в любых ее отдельных фрагментах и
единицах, чтобы она сделала возможным воспроизводство и наилучшим образом
обеспечила его течение?
Мы взяли на себя обязательство рассматривать жизнь социального целого
прежде всего с точки зрения его воспроизводства. Мы стали говорить, что
структура деятельности должна быть такой, чтобы она могла удовлетворить
механизмам воспроизводства. Идея воспроизводства дала нам в руки путеводную
нить для того, чтобы по-новому определить и задать необходимую структуру
деятельности.
Вполне возможно, что в дальнейшем мы должны будем наложить еще
дополнительные требования, чтобы структура деятельности обеспечивала не только
воспроизводство, но, скажем, также и развитие. Но это можно будет сделать только
в следующих слоях анализа.
Итак, какой же структурой должна обладать мыслительная деятельность, чтобы
непрерывно осуществлялся и не подвергался угрозе разрушения процесс
воспроизводства общественной социальной деятельности? Этим закончился
прошлый доклад и этим же я начинаю свой сегодняшний доклад.
Прежде всего я хочу обратить ваше внимание на то, что такая постановка
вопроса ставит нас в принципиально новую ситуацию по сравнению со всем тем,
что было в наших исследованиях до этого. Раньше предметом нашего изучения
было мышление. Мы предполагали, что мышление есть та область деятельности и
та область эмпирических проявлений, изучение которой даст нам возможность
построить методологию науки и содержательно-генетическую логику.
Именно апелляция к мышлению, как к некоторой идеальной действительности
и, вместе с тем, как к некоторой эмпирически выявляемой реальности, давала нам
возможность говорить о логике и методологии науки как о некоторых
эмпирических областях. Выражение «эмпирическое» я употребляю здесь как
противоположное выражению «математическое». В этих условиях само понятие
деятельности выступало для нас прежде всего как некоторое методическое средство
при исследовании мышления. Эмпирическая область задавалась идеей мышления и
нашими представлениями и понятиями о мышлении. Это была наша первая
эмпирическая область.
Но, кроме того, мы говорили, что мышление надо рассматривать как
деятельность. Это означало, что категория деятельности была для нас средством и с
помощью этого средства мы получали некоторые изображения мышления, как
идеального
объекта,
соотнесенного
с
определенными
эмпирическими
проявлениями. Теперь, когда мы говорим, что социальное целое задается как
универсум деятельности, деятельности вообще, и мы должны найти его структуры,
обеспечивающие воспроизводство, то сама деятельность из разряда средств анализа
переходит в разряд идей, задающих новые идеальные объекты и соответствующую
эмпирическую область. Понятие деятельности, в связи с этим, перестает быть для
нас чисто методическим понятием и средством, а становится объектно
ориентированным понятием, задающим свою особую область эмпирического
материала и требующим, следовательно, точно такого же подхода и такого же
анализа, какой мы раньше применяли к мышлению.
И это было, может быть, одним из самых важных результатов, который мы
получили на этом этапе развертывания наших представлений. Он очень интересен с
методической стороны и в плане оценки того движения, посредством которого мы
пришли к нему. Этот переход может быть охарактеризован как один из регулярных
механизмов развития представлений науки. Поэтому, сказав о том основном
содержательном результате, который у нас получился, постараюсь еще раз обсудить
его более подробно и в собственно методических аспектах.
Когда в 1951–1952 гг. А.А.Зиновьев поставил задачу построения содержательно-генетической
логики, то он прежде всего выделил некоторую область эмпирического материала. Вы знаете, что
особое место в этом материале занимал «Капитал» К.Маркса, структуру которого надо было
проанализировать.
Считалось, что «Капитал» представляет собой образец принципиально нового
построения научной теории и репрезентацию метода восхождения от абстрактного
к конкретному. Средств для анализа этого эмпирического материала, как вы знаете,
почти не было. Поэтому приходилось анализировать «Капитал» и строить его
изображения и как системы теории, и как очень сложного рассуждения, не имея для
этого адекватных средств. В тот период у нас не было четкого различения средств
анализа и изображений некоторого объекта. Больше того, как мне кажется, на том
этапе развития науки и нашего собственного развития этого различения вообще не
могло быть. Но когда затем выделяется новая область эмпирического материала, на
который мы хотели перенести тот же самый способ анализа и некоторые принципы,
которые были интуитивно нащупаны при создании первых изображений изучаемого
объекта, скажем, процесса мышления в «Капитале», то у нас и, по-видимому, всюду
неизбежно начинается раздвоение схем на средства анализа и собственно
изображения. Этот процесс происходит очень естественно, благодаря
происходящей прежде всего смене употреблений или функций. Если по отношению
к первой области эмпирического материала эти схемы, бесспорно, были
некоторыми изображениями – и только такими они и могли быть, – то в отношении
к новому эмпирическому материалу и новой области они неизбежно выступают в
функции уже готовых средств. Средства как таковые уже не являются или не
должны быть изображениями изучаемого объекта; они служат подспорьем для построения
таких изображений, тех, которые будут действительными для нового эмпирического материала.
Аналогичную вещь, как мне кажется, обнаружил В.М.Розин, исследуя историю
развития алгебры и геометрии. В частности, мы обсуждали эту проблему в связи с
«обратными задачами». Когда в геометрии или алгебре решена какая-то задача,
скажем, задача на составление поля из большого числа частей, а затем ставится так
называемая «обратная задача» – разделить уже имеющееся целое поле на части,
находящиеся в определенных отношениях друг к другу, – то, как правило, решение
первой, «прямой» задачи начинает использоваться в качестве средства для
построения решения обратной задачи. Если результат решения первой задачи был
некоторым изображением ситуации или объекта в связи с самой первой задачей, то в
связи со второй задачей он выступает уже как средство, на базе которого строят новые решения.
Дальнейшие наши исследования должны были развиваться и развивались как
бы двумя путями, или по двум траекториям. С одной стороны, мы разрабатывали
средства логико-методологического исследования, а с другой стороны, строили все
новые и новые изображения, входившие в систему самой теории.
Я не буду входить в детальное обсуждение этого вопроса, поскольку он
достаточно сложен, а скажу лишь, что при этом происходило не только
использование старых изображений в качестве средств для нового анализа – это
было бы в каком-то смысле тривиальным по отношению к тем случаям, о которых я
только что рассказал, – но при этом, в добавок ко всему, происходило размежевание
двух областей по материалу самих знаковых схем и способам их отнесения к
онтологическим картинам и эмпирическому материалу.
С какого-то момента разработка средств отделилась от разработки и получения
изображений объекта и стала особой линией нашего теоретического анализа.
Вполне вероятно, что подобное размежевание происходит в связи с некоторыми
дедуктивными процедурами, т.е. не в области приложения уже готовых схем в
качестве трафарета для анализа эмпирического материала, а тогда, когда мы ставим
задачу выделить какую-либо исходную структуру, или «клеточку», чтобы потом из
нее развернуть более сложную структуру, а потом еще более сложную, и это
движение идет во многом безотносительно к анализу эмпирического материала,
который находится как бы рядом.
Я не говорю, что как само это движение, так и разделение схем на схемыизображения и схемы-средства никак не связано с эмпирическим материалом и его
анализом. Такого не бывает и не может быть. Любая дедуктивная процедура,
ориентирующаяся на реально и эмпирически заданные объекты, всегда так или
иначе связана с эмпирическим материалом. Но когда выделяется линия
развертывания схем как средств, то она очень часто – конечно, при определенных
дополнительных условиях – превращается в линию, не связанную непосредственно
с описанием тех или иных единичностей эмпирического материала. Наверное, на
все это накладываются дополнительные моменты осознания схем как средств
особого рода.
В самой первой лекции этого цикла я говорил о том, что любая наука может
быть представлена в виде связки двух цехов. Первый цех выдает те знания, которые
используются либо в практических сферах, либо в других науках. Это – цех выдачи
продукции вовне. Но для получения тех знаний, которое первый цех выдает в
практику, мы должны иметь определенные средства. Только в том случае, если при
производстве знаний существуют и используются определенные средства, мы
имеем науку в отличии от искусства. Но сами средства тоже должны быть
произведены, и этим занимается второй цех «научной фабрики».
На первых этапах развития науки эти два цеха не очень отделены друг от друга
– об этом мы уже говорили – и сами средства производятся путем искусства, с
опорой на опыт, интуицию и фантазию. Нередко средства возникают сами или
производятся случайно. Их не столько изображают и строят, сколько они сами
обнаруживаются и проявляются. Когда средства появились, они служат
некоторым регулятивом и средством для построения знаний в первом
цехе, причем, вся эта работа строится по строгим канонам научного
производства.
Именно так, как я это здесь описываю в общих чертах, получалось все и у нас
самих. Сначала нерасчлененная и недифференцированная фабрика наших
исследований постепенно расчленялась на два цеха. Вместе с размежеванием схем
на изображения и средства происходило размежевание производящих их
деятельностей. На первых этапах проверка правильности или истинности как
изображений, так и средств производилась путем отнесения к исходному
эмпирическому материалу.
Если схемы, полученные на этой фабрике, «работали» в отношении к
исходному эмпирическому материалу и поставленным задачам, то тем самым они
оправдывались. Если эти схемы, выступавшие уже как изображения, производились
с помощью каких-то средств, то этой же процедурой оправдывались и средства. Но
оправдание средств было опосредовано, и поэтому даже во времени оно
отодвигалось от проверки тех знаний, которые с помощью этих средств строились.
Поэтому с какого-то момента – и это было вполне естественным – возникает
тенденция ввести какие-то дополнительные правила, критерии и основания, с
помощью которых можно было бы оценивать правильность и истинность тех
средств, которые мы строим именно как средства, т.е. безотносительно к их
функции изображения некоторого объекта и охвата некоторого эмпирического
материала.
Это должны были быть основания, оценивавшие средства как таковые,
безотносительно к работоспособности полученных на их основе эмпирически
ориентированных изображений и знаний.
Вместе с тем, уже одна такая постановка задач ведет к тому, что над вторым
цехом научной фабрики или рядом с ним начинает надстраиваться третий цех, в
котором производится оценка вырабатываемых средств.
Если на первом этапе средства, производимые вторым цехом, нащупывались и
создавались на основе интуиции и фантазии, если условиями для них были какие-то
определенные эмпирические случаи, то затем, неизбежно, возникает стремление
получать их как знания о чем-либо, т.е. таким же строгим и точным научным путем,
каким мы получаем схемы изображения в первом цехе.
Тогда центр тяжести научной работы смещается на один блок вправо. Средства
в третьем цехе производятся теперь интуитивно, путем искусства, а продукты
второго цеха производятся уже собственно научным путем, т.е. на основе средств,
выработанных в третьем цехе.
Важно выделить здесь возникающую с какого-то момента установку на
эмпирическую проверку схем, вырабатываемых во втором цехе, проверку, которая
производится независимо от какой-либо оценки знаний, вырабатываемых в первом
цехе. Одновременно работа по созданию средств, с помощью которых
вырабатываются знания, превращается в работу по созданию самих знаний, которые
имеют, как обычно говорят, более общий характер и поэтому могут сохранять свою
функцию средств по отношению к знаниям, получаемым в первом цехе.
Для этого, как уже говорилось, работа по конструированию средств должна
быть превращена из искусства, опирающегося на опыт и интуицию, в собственно
научное исследование, использующее специальные средства – те, которые
создаются в третьем цехе.
Чтобы осуществить первый из названных моментов, мы должны найти для
второго цеха свою особую эмпирическую область, т.е., чтобы осуществить второй
цех, нужно построить специальный третий цех.
Именно это, как мне представляется, получилось у нас с понятием
деятельности. Сначала мы должны были создавать знания о мышлении.
Понятие деятельности выступало на этом этапе наших исследований в
качестве средства анализа. Оно было, если хотите, понятием метаслоя в
наших содержательно -генетических исследованиях. Но в дальнейшем
чем больше мы оперировали понятием деятельности и чем больше
появлялось схем, изображающих деятельность, тем острее вставал
вопрос: что такое сама деятел ьность, как она может изображаться,
каковы ее специфические черты?
Когда мы пользовались понятием деятельности как средством, то вопрос, что
такое деятельность, либо вообще не поднимался, либо же ставился в другом
смысле. А если кто-то начинал очень приставать к нам с этими вопросами, то мы
обычно указывали на наши схемы – те схемы, которые в этот период более всего
употреблялись – и говорили: деятельность есть вот это изображение или, точнее, то,
что таким образом изображается.
На первом этапе таким изоб ражением служила «пятичленка», или,
как мы ее называли между собой, «конверт». По сути дела, пятичленка
в этот период ничего не изображала, не существовало никакой
эмпирической области, на которую можно было бы ее относить. Мы не
относили пятичленку на как ую-то эмпирическую область, а применяли
ее в качестве средства собственной работы, причем, не в качестве
трафарета, а в какой -то иной функции, мне кажется, в функции
управления нашей собственной деятельностью. На этом этапе мы
применяли схему пятичленки к другим схемам, в частности к схемам,
изображающим мышление; мы оценивали схемы мышления с точки
зрения схемы пятичленки.
Но чем чаще ставился вопрос, что такое деятельность как объект и каковы ее
эмпирические проявления, тем более интенсивными, естественно, делались
попытки отнести пятичленку на эмпирический материал и начать работать с ней как
с некоторым трафаретом.
Не осознавая достаточно отчетливо своих собственных шагов, мы, по сути дела,
проделывали такую работу в прошлом году, когда мы сделали ряд попыток отнести
схемы пятичленки непосредственно на эмпирический материал и даже начать с
ними работать как с некоторыми дедуктивно выводимыми схемами. По сути дела,
мы начали работать со схемами деятельности точно так же, как мы раньше работали
со схемами знаний и мыслительных процессов.
Естественным результатом всего этого было то, что мы начали искать
эмпирическую область и новый эмпирический материал для того, чтобы оправдать
свои схемы деятельности. Вы помните, я надеюсь, что в докладе В.М.Розина
недавно был сформулирован упрек, что у нас, фактически, нет эмпирического
материала для схем массовой деятельности, и была сделана попытка рассказать, как
искать такой эмпирический материал.
Но все это было лишь разными проявлениями одного процесса, о котором я
рассказывал в общем виде – превращения работы по созданию схем-средств в
работу по созданию схем-знаний, достраивания нашей фабрики еще одним цехом и
смещения центра тяжести исследований на один цех вправо. Но тем самым мы
начали создавать рядом с основаниями теории мышления основания еще одной
науки – теории деятельности.
На первом этапе понятие деятельности было методическим понятием, это был
некоторый способ работы, определенные требования к схемам мышления. На
следующем этапе оно перестало быть просто методическим понятием, а стало также
указанием на некоторую особую область эмпирического материала, на некоторый
новый особый предмет, фактически, на некоторые новые объекты и, вместе с тем, –
установкой на разработку основ теории деятельности. Чтобы изобразить это
схематически, нужно зарисовать:
на первом этапе –
средства
понятие
мышления
понятие
деятельности
онтология
мышления
эмпирическийматериал
на втором этапе –
знания
средства
теории
деятельности
средства
понятие
мышления
понятие
деятельности
онтология
деятельности
онтология
мышления
эмпирический материал
знания
из теории
мышления
эмпирический материал
знания
из теории
деятельности
Важно подчеркнуть, что появление всей правой части является результатом специального
рефлексивного осознания наших средств. В итоге центр тяжести исследований перемещается в
другую область и мы начинаем, как я уже говорил, формировать новую науку – науку о
деятельности (вообще).
Здесь я должен оговориться, что для упрощения всей картины и для того чтобы
сформулировать основные мысли в более резкой форме, я выбросил при
характеристике происходившего процесса несколько существенных звеньев. В
частности, я слишком суммарно рассматривал сами средства, и из-за этого могут
возникнуть всякого рода замечания и недоразумения.
При более детальном анализе сами средства, наверное, надо было бы разделить
на три типа. То, что мы называем деятельностью, должно было бы стоять в самом
верхнем блоке средств. Кроме того, надо было бы ввести в схему блок
метода. Но введение всех этих блоков, фактически, ничего не изменило
бы в моих рассуждениях, поэтому я пошел на ряд огрубляющих
упрощений, чтобы резче выразить основную мысль.
Кроме того, я очень нестрого употреблял такие термины как «средство»,
«понятие», «знание», «онтология», более точное и детализированноее их введение,
конечно, внесло бы определенные коррективы в способы моего
рассуждения, но, как мне представляется, не изменило бы общего
результата.
В результате всего того движения, о котором я рассказал, понятие деятельности
из методического средства, употребляемого в блоке средств, превратилось в
теоретическое понятие, соотнесенное непосредственно с онтологией и
эмпирическим материалом. В результате, когда сегодня мы говорим
«деятельность», мы имеем в виду определенную действительность, в то время как
раньше, говоря это слово, мы имели в виду тот способ, каким предполагали строить
теорию мышления.
Мы говорили: мышление есть деятельность – и таким путем фиксировали
характер наших исследовательских процедур, тип знаний, которые мы
предполагали получить в конце, и тип теории; короче говоря, тогда выражение
«деятельность» использовалось прежде всего или преимущественно в
категориальном смысле.
Теперь же, повторяю, деятельность стала особой действительностью и
объектом, который нам надлежит исследовать. Но при этом, очевидно, аспекты
самого способа или процедур работы в известном смысле теряются, отходят на
задний план, и поэтому мы должны заново ставить все вопросы, касающиеся
метода. Если на первом этапе, говоря, что мышление есть деятельность, мы
предполагали, что тем самым определены способы, какими мы должны исследовать
мышление, а также формы, в которых оно должно изображаться, то теперь,
наоборот, сказав «деятельность» мы должны сразу же спросить себя, как она может
быть изображена и как ее нужно исследовать.
Если брать этот вопрос в практическом плане, то ответ на него предрешен:
может существовать много разных изображений деятельности, их характер будет
зависеть от того, какие практические задачи мы собираемся решать. А в
теоретическом и методологическом плане этот вопрос становится подлинной
проблемой, ибо мы еще должны выяснить, в чем состоят специфические
особенности деятельности и какие категории мы должны применять в ее анализе.
Розин. А можем ли мы после этой смены акцентов и направлений исследования
вернуться к решению исходной задачи, касающейся самого мышления?
Можем и должны. Я постараюсь как-нибудь в дальнейшем показать, как мы,
пройдя весь цикл в описанном выше мною движении, возвращаемся назад к анализу
и описанию мышления и как мы начинаем строить исследования мышления с
учетом всего того, что мы узнали про деятельность.
Розин. Анализ истории науки показывает, что каждый раз, когда происходит
подобное выделение новых предметов, то никогда потом не возвращаются к
старой науке и к старому предмету. Тогда те же самые, казалось бы, задачи
решаются другими методами и способами. Каждый раз получается, что, уходят
как бы для разработки средств, а когда разработают средства, то возвращаясь,
начинают решать другие задачи.
То, что ты говоришь, содержит лишь половину правды и поэтому неточно.
Верно, что, разработав новые средства, начинают решать задачи иначе, чем решали
бы раньше. Но ведь раньше эти задачи очень часто вообще не могли быть решены.
Верно также, что сами задачи получают другой смысл, а часто и другой вид. Но в
контексте деятельности это все же – старые задачи, именно их решают, хотя,
благодаря отнесению к ним новых средств, эти задачи приобретают другой смысл, а
часто и переформулируются.
Но ведь именно ради этого и проделывается все движение. Решить надо именно
старые задачи, но по-новому, и при этом они выступают как новые задачи. Именно
то, что, вернувшись, мы перестраиваем старые задачи в плане и с точки зрения
новых полученных нами средств, и является основным реальным достижением, которое
таким путем получается. Но это не значит, что мы решаем другие задачи. Те же самые задачи
ставятся теперь иначе и решаются как иные задачи.
Розин. Но с помощью новых средств можно решать не только старые задачи, но и ряд
новых задач, которые теперь удается ставить именно благодаря наличию новых средств.
Еще один момент мне хотелось бы подчеркнуть. Если на первом этапе понятие
деятельности было средством при построении мышления, а теперь, при разработке
теории деятельности, мы должны иметь какие-то иные средства, то вполне
естественно спросить, что будут представлять собой эти средства.
Здесь я прихожу к одному довольно парадоксальному выводу и представлению.
Если мы заявили, что деятельность есть некоторая структура и что, следовательно,
мы должны исследовать ее как структуру, то этим самым мы в каком-то смысле
предрешаем и характер тех средств, которые будут употреблены при построении
теории деятельности. Если деятельность есть структура, то ее специфический
момент может заключаться только в типе этой структуры, т.е. в характере блоков,
связей между ними, процедурах оперирования со структурой и в характере тех
естественных процессов, которые мы ей припишем.
Поэтому в блоке средств, необходимых для построения теории деятельности,
мы выходим в общеметодологическую дисциплину, которая называется у нас
обычно «общей системно-структурной методологией» или, кратко, ОССМ.
Поэтому, чтобы развить средства исследования деятельности и, соответственно,
средства построения теории деятельности, мы должны разработать общую
системно-структурную методологию, определить ее основные понятия, задать
нормы построения ее графики, охарактеризовать методику и методы и т.п.
Тогда я получаю возможность и даже вынужден сказать, что, по-видимому,
деятельность как категория и воспроизводство как категория лежат как бы на
разных уровнях или слоях современной науки. Понятие деятельности, как
выясняется, отражается в понятии структуры, а понятие структуры, наоборот,
служит планом и управляющим средством в анализе деятельности.
Розин. Что при этом мы должны делать с понятием развития? Не
предполагается ли, что мы сможем получить это понятие, пользуясь понятием
структуры и другими понятиями, скажем, такого типа как механизм и т.д.?
Когда я говорю, что мы переходим в область ОССМ, то я имею в виду, среди
прочего, также проблему функционирования и развития. В этой связи, я думаю,
нужно вернуться к понятию процесса и проделать специальную работу по
соотнесению его с понятиями структуры, механизма и другими. Но это будет уже не
анализ деятельности как процесса, а анализ деятельности в свете всех
существующих ныне категорий, взятых в определенной системе и связи друг с
другом. Вполне возможно, что некоторые специальные изображения деятельности
или частей деятельности будут строиться в соответствии с категорией процесса.
В этой связи я хотел бы несколько подробнее рассмотреть один пункт. Следуя
нашим основным принципам работы, мы должны теперь зарисовать все, что я выше
сказал. В частности, то, что «деятельность» становится некоторой предметной
областью, а следовательно, она должна фиксироваться в некотором эмпирическом
материале и, вместе с тем, должна иметь много разных изображений.
Соответственно этому, будет весьма широкий набор средств, который будет
члениться как бы по отсекам: в один из них попадут понятия, связанные с
функционированием, в другой – понятия, связанные с развитием, и т.д. и т.п. и,
кроме того, будет задана одна, обобщающая все это, онтология. При всем том, мы
должны будем учитывать те требования, о которых я говорил в начале или где-то в середине этого
цикла докладов, а именно: что все расчленения, как в изображениях, так и в средствах, должны
производиться таким образом, чтобы потом можно было осуществить автоматическое или
механическое конфигурирование всего получаемого материала.
Мы, следовательно, должны будем двигаться таким образом, чтобы установить
иерархию всех вводимых нами изображений деятельности. Я сейчас имею в виду
задачу конфигурирования в самом широком смысле этого слова, а не решение
конфигураторной задачи с помощью модели-конфигуратора. Как мы сейчас
понимаем, конфигураторные задачи могут решаться и другим способом, например
на уровне категориальных расчленений. Но как бы ни решалась эта задача и какими
бы путями мы ни шли, мы должны с самого начала иметь в виду саму эту задачу и
производить все расчленения с ее учетом, чтобы потом нам самим или другим не
пришлось перерабатывать и перестраивать введенные нами схемы. В прошлый раз я
специально подчеркивал, что мы можем учитывать эти требования – и это будет,
вместе с тем, эффективная форма их учета,– если в специальном методологическом
движении заранее проиграем предстоящие расчленения и обсудим возможные
следствия из них и из их соотношений.
Эта методологическая работа даст нам представление о всех тех предметах,
которые могут быть построены в этой области. Мне представляется, что
современная методология уже достигла такого уровня, когда она сможет это делать
достаточно эффективно. Тогда само конфигурирование будет осуществляться не
после получения всего набора конфигурируемых знаний, а заранее, выступая как
норма самих расчленений. Но это означает, что мы с самого начала должны
определить иерархии в наших изображениях деятельности.
Генисаретский. Во всем этом рассуждении о том, как нужно строить
теорию деятельности, она трактовалась как философия или как специальная
наука?
На мой взгляд, смысл философской работы состоит в выделении, или, точнее, в
построении специальных научных предметов. Во всяком случае, один из ее смыслов
и одна из ее задач. Пока знания о деятельности не офо рмились в виде
одного или нескольких связанных друг с другом предметов, до тех пор
вся работа в рамках теории деятельности неизбежно будет
философской; оформление предмета, разработка средств анализа,
задание основных линий исследования и разработка предме тов,
построение общей онтологии – все это будет тем и таким, что
традиционно называлось философией.
Но, вместе с тем, это и будет самоуничтожение философии, во всяком случае, в
данной области. В той мере, в какой будут оформляться предметы и их средства,
теория деятельности будет переставать быть философией и будет становиться
специальной научной дисциплиной.
Генисаретский. Вы собираетесь так делать или так должно быть? Ведь
можно было бы, например, с самого начала отсечь все пути к самоумерщвлению
философии. Тогда теория деятельности с самого начала будет строиться как
философия, ориентированная в первую очередь на методологию. Если отвергнуть
этот путь, то мы сами лишим себя возможности вставать в рефлексивную позицию по
отношению к нашей собственной методологии.
В частности, без такой специальной рефлексии нельзя будет ответить и на
вопрос, почему в качестве средства анализа деятельности была выбрана
категория «структура», а не какие-либо другие. Одно время у нас стал
развиваться тезис, что теорию деятельности надо строить как сугубо
специальную, предметную науку. Но возможен и другой тезис, например, что теория
массовой деятельности будет специальной наукой, а теорию деятельности надо строить как
философскую дисциплину, ориентированную прежде всего на выполнение определенных
методологических функций.
Это очень интересное замечание и, вместе с тем, очень сложный вопрос, в
отношении которого у меня самого нет достаточной ясности. Наверное, его
нужно обсуждать специально и особо. Сейчас я могу сделать лиш ь
несколько замечаний.
Во-первых, как себе я сейчас представляю дело, теория деятельности как таковая
отнюдь не исчерпывает философии, она составляет лишь часть общей философской методологии.
Во-вторых, я понимаю, что всякая предметная дисциплина ставит границы
рефлексии и, в частности, рефлексии собственных методов. Но каковы эти границы
и ограничения, я пока не очень представляю себе. Во всяком случае, как мне
кажется, нельзя говорить о полном исключении рефлексивной работы и, в
частности, рефлексии метода. Вполне возможно, что рефлексия будет даже
непрерывной и постоянно происходящей. Но ее результаты будут откладываться в
виде форм, принципиально определенных рамками теории деятельности.
В-третьих, я убежден, что никаких вечных философий нет и быть не может.
Мне представляется, что понятие философской работы фиксирует некоторую
функцию в рамках всей совокупной познавательной и инженерно-конструкторской
работы, а поэтому формы философии и философствования должны непрерывно
меняться.
Генисаретский. А если мы захотим сделать ее вечной?
Думаю, что это будет совсем пустая затея, даже если мы очень захотим это
сделать. Для меня философия – это отряд людей, функции которых в социальной
жизни состоят в том, чтобы смотреть вперед, поверх всех уже созданных знаний и
через них, создавать новые науки, новые направления инженерии, определять
направления возможного социального развития и т.д., и т.п. Это всегда –
впередсмотрящие и вперед идущие. Перед ними весь необозримый космос,
прошедший, настоящий и будущий, который пока предстает «во мраке», а должен
быть превращен в нечто определенное и ассимилирован человеческой
деятельностью.
Поскольку мрак это ничто, то можно сказать, что они все – предметы исследования,
средства, знания, объекты – создают из ничего. После того как предметы созданы,
они переходят в веденье ученых. Философы – речь идет об индивидах, – создававшие эти
предметы, могут остаться в них и продолжать работу уже в плане предметного
развертывания науки или наук. Но тогда они перестают быть философами, а
становятся учеными-предметниками. А философия, как таковая, идет дальше и
снова и снова повторяет свою работу формирования действительности «из ничего».
В этом плане очень интересен тезис «строгой научности» философии. Его
интересно разбирал Э.Гуссерль в своей статье «Философия как строгая наука». Он
разъяснял, что требование научности философии, как тенденция, весьма
справедливо, оно всегда выдвигается и характеризует самое главное в философской
работе. Но эта строгая научность, вместе с тем, никогда не достигается, ибо, как
только она достигается, мы теряем саму философию.
В частности, этот момент подчеркивал в своей последней статье (Вопросы
философии, №6) М.К.Мамардашвили. Но когда это требование абсолютизируется –
как это сделал и сам Мамардашвили, – то это дает начало позитивизму в широком
смысле, т.е. натуралистическим тенденциям, которые объясняются методом
философствования. Иными словами, требование, чтобы философия была
положительной наукой, доведенное до своей реализации, есть уничтожение
философии в собственном смысле этого слова и уничтожение всякой возможности
философствования.
Но я вновь повторяю, что все это – очень сложный и серьезный вопрос,
требующий специального обсуждения и, естественно, специальной подготовки, а я
сейчас обсуждаю его слишком с ходу.
Э.Г.Юдин. Но нельзя переходить к тезису, что у философии нет ни собственных средств,
ни собственного метода.
А мне, напротив, кажется, что нет таких средств и таких методов, которые
могли бы быть объявлены собственно философскими. В этом плане я бы согласился
с тезисом Ясперса и Хайдеггера. Философия есть некоторый вид деятельности и,
прежде всего, интуитивной деятельности, ибо она впервые создает то, что может
быть названо предметом, средствами и объектом. Конечно, названные мною
философы, как и все другие, говорят о важности и необходимости строгих методов
философии, но, думаю, что это понятие не совпадает у них с понятием научных
методов – методов, строгих в научном смысле.
Философ всегда апеллирует не к своим методам, а к очевидности своего
философского видения. Понятия философа тоже должны быть очень строгими, но
совсем в другом смысле, нежели понятия ученого.
Юдин. Меня все-таки интересует, что служит основным источником, из
которого мы извлекаем теорию деятельности – философия или уже сложившиеся
положительные науки?
Это не совсем корректный вопрос, ибо, на мой взгляд, философия, чтобы иметь
возможность создавать новые предметы и новые науки, создает еще для себя (а тем
самым и для других) специальное рефлективное отображение всех существующих
наук, их средств, развитых в них способов мышления и т.п. Поэтому спрашивать, из
наук или из философии, нельзя. Ответ будет таким: из наук, отразившихся в
философии, или из философии, отражающей науки.
Наука, на мой взгляд, характеризуется всегда двухслойным движением. С одной
стороны, у науки должна быть определенная область объектов, в отношении
которых задаются определенные процедуры. В науке должны быть обязательно
какие-то модели. Имеется также область понятий, которые обязательно
фиксируются словесно. Любое понятие предполагает, по крайней мере, три
плоскости замещения: моделей, операций с объектами, эмпирического материала и
словесного описания. В науке точность понятий достигается за счет того, что все
они определяются в первую очередь через модели. Лишь затем они переносятся на
эмпирический материал и соответствующие процедуры с ним. В эмпирическом
материале мы всегда выделяем то, что соответствует построенным нами моделям.
Словесные описания могут относиться непосредственно к эмпирическим данным.
Исходя из этого представления о строении науки, мы можем специально
обсудить вопрос о том, что извлекается из науки при формировании новых
категорий и что, в частности, может быть извлечено из науки при создании
категорий деятельности и структуры.
Вопрос состоит в том, можно ли получить новые категории, опираясь на
возможности развертывания моделей, эмпирического материала или понятий
специальных наук. Я думаю, что таким путем получить их нельзя, а все
названное выступает в качестве материала , который особым образом
перерабатывается, причем, предварительно к тому же он еще проходит
сквозь призму специального философского обоснования. Но я уже
говорил, что это – достаточно сложный вопрос, и если мы хотим
понять, как получаются новые категории, то нужно это обсуждать
специально, как особую тему.
Если мы будем рассматривать работу философии по созданию научных
предметов, то там мы должны будем выделить именно модели и способ
оперирования с ними. Именно это создает философия, беря из практики общения
слова, а из практики деятельности – способы оперирования с объектами практики.
Вместе с созданием модельного слоя формируются «строгие» понятия науки. Но я
еще раз прошу выделить эти вопросы в особую группу.
На этом я кончил первую, методическую часть моего сегодняшнего доклада. Это
был в первую очередь рефлективный обзор того, что мы делали и сделали в последние пять лет.
Теперь я могу вернуться к основному положительному содержанию моего
доклада, надеясь, что все вы получили достаточно отчетливое рефлективное
представление о том, что здесь происходит.
Мой прошлый доклад закончился утверждением, что возможно несколько
разных представлений того, что мы сейчас называем деятельностью, что эти
представления уже существуют и что все они существуют в одной и той же области.
Я утверждал также, что между этими изображениями должна быть установлена определенная
иерархия. По сути дела, я уже перешел к некоторым соображениям, ее характеризующим: я
утверждал, что первая позиция, которая должна быть здесь выдвинута, это – позиция
воспроизводства деятельности.
Сама установка на анализ и описание воспроизводства деятельности
предполагает совсем особое представление социального универсума деятельности.
В этой связи у нас появилось понятие и соответствующее ему выражение «массовая
деятельность». По-видимому, именно массовая деятельность и есть то, что
воспроизводится. Таким образом можно сказать, что это выражение является
специфицированным названием для того представления деятельности, в котором
мы будем рассматривать то, что может быть названо воспроизводством
деятельности.
В прошлый раз я уже говорил, что понятие развития принципиально отличается
от понятия воспроизводства. Рассматривая развитие, мы всегда задавали строго
определенные, ограниченные системы и структуры деятельности. Возможности
применения понятия развития ко всему универсуму деятельности должны быть еще
рассмотрены и дополнительно определены. Во всех случаях бесспорно, что
существует большая принципиальная разница между вопросом о развитии и
механизмах развития всего универсума деятельности и вопросом о развитии и
механизмах развития некоторого фрагмента этого целого. Когда мы рассматриваем
развитие некоторого фрагмента или элемента деятельности, то мы обычно задаем
требования к сохранению функций этого элемента или фрагмента в системе более
широкого целого. И только таким образом задав понятие самого развития, мы
можем говорить, что этот элемент развивается.
Когда же мы говорим об универсуме деятельности, то здесь первой трудностью
для всех исследователей без исключения становится задание параметра или
некоторых параметров, сохранение которых должно быть обеспечено в ходе
развития. Именно здесь встают все проблемы телеологии развития организмов,
определения целей развития и ряд других – обширная совокупность проблем, которые
никем до сих пор не были удовлетворительно решены.
К примеру, эти проблемы стоят сейчас перед группой Каценелинбойгена, когда
они пытаются определить параметры некоторой социально-экономической
системы. Чтобы разрешить это затруднение, они придумывают самые странные
вещи, например выдвигают в качестве цели социального развития достижение
наибольшей продолжительности жизни каждым индивидом данной системы. И, вроде бы,
это – самое разумное из всего, что удалось придумать. Вообще, с критерием
прогресса, позволяющим противопоставить его регрессу, дело обстоит очень плохо.
Вы можете заметить, что все эти проблемы не встают при определении условий
развития фрагмента, но зато и само понятие развития употребляется в строго
определенном и весьма узком смысле.
Но все это – весьма общие и поверхностные замечания, лишь иллюстрирующие
суть проблемы, пока же мне важно выделить и подчеркнуть лишь один момент:
различие между глобальным описанием деятельности и фрагментарным описанием
деятельности. Это различие задает первую оппозицию и, соответственно, две
больших рубрики возможных описаний деятельности.
Когда мы говорим о глобальном описании деятельности, то мы употребляем
термин «массовая деятельность». При этом мы определяем ее так: мы говорим о
массовой деятельности, если имеем в виду некоторые механизмы и закономерности
социума как целого. Соответственно, если мы начинаем говорить о процессах,
механизмах и закономерностях, то это всегда должны быть процессы, механизмы и
закономерности, отнесенные к этому глобальному целому.
Говоря все это, я не очень хорошо понимаю, о каких именно операциональных
механизмах может идти речь в применении ко всему глобальному целому. Я
работаю на уровне чисто формального противопоставления целостного и
частичного, глобального и фрагментарного. Но это дает мне в первом приближении
возможность
эксплицировать
понятие
массовой деятельности в
его
противоположности понятию деятельности вообще.
Но даже в отношении к глобальному целому позиция, или точка зрения,
воспроизводства является одной из возможных. Из того, что я выше говорил, уже
ясно, что в конце концов мы сможем применять в отношении этого глобального
целого также понятия развития, функционирования и другие. И каждый раз мы
будем получать то или иное изображение деятельности как целого, или, более
точно, то или иное изображение массовой деятельности.
Если раньше мы говорили, что какая-то схема – всегда имелась в виду строго
определенная схема – и есть собственно то, что мы называем деятельностью, а
затем, через некоторое время мы обязательно спрашивали себя, почему именно эта
схема изображает деятельность, а не какая-либо другая, что именно в этой схеме
выражает суть и сердцевину деятельности, то теперь, когда мы задаем деятельность
как некоторую, пока неопределенную объективную область, сам вопрос такого типа
становится бессмысленным.
Мы переходим на точку зрения множественной представимости и
множественного существования деятельности. А вместе с тем, мы создаем
возможность для введения таких схем деятельности, которые в себе не будут
содержать ничего специфического для деятельности. В частности, мы сможем
ввести наряду с другими изображениями деятельности такое, которое будет
представлять деятельность как некоторый организм или, наоборот, как некоторую
машину.
В каждом из этих изображений может не содержаться и не выражаться то, что
специфично для нее, но мы все равно говорим, что мы изучаем и описываем
деятельность. Прежде всего потому, что мы относим эти схемы к эмпирическому
материалу через онтологическую картину, которую мы назвали нашим общим и
глобальным представлением деятельности. А кроме того, мы стремимся объединить
и конфигурировать все эти изображения, свести их в систему единой теории,
которую мы опять-таки называем теорией деятельности. Поэтому, среди всех
возможных изображений деятельности будет масса неспецифических изображений.
Но все они, объединенные таким образом, как я сказал, будут изображениями
деятельности.
Для меня этот вывод является крайне важным, потому что он снимает
психологический шок, существовавший уже по крайней мере полтора или два года
– каждый раз, как мы строили то или иное изображение деятельности, нам задавали
вопрос: почему мы называем это деятельностью и что такое, собственно,
деятельность?
Дело в том, что, как правило, ни я, ни другие товарищи не могли на него
вразумительно ответить и, вместе с тем, мы сами хорошо понимали и знали, почему
мы используем именно эти изображения деятельности, мы хорошо чувствовали,
вместе с тем, что деятельность именно такова. Но объяснить и обосновать этого мы
не могли. К этому пункту я еще вернусь сегодня и постараюсь обсудить его с
другой стороны: я постараюсь показать, что вообще не может быть специфически
деятельностного изображения деятельности.
Розин. И почему к этому вообще не надо стремиться. Когда мы стремились к
подобному изображению деятельности, то это было в принципе неверно.
Я постараюсь в дальнейшем показать, что по сути своей означала такая
тенденция или установка к созданию собственно теории деятельности. Мы все
время стремились к тому, чтобы в наших изображениях деятельности
присутствовал интуитивно ясный и очевидный кинетический момент, который мы
все отчетливо ощущали.
Теперь, во всяком случае на этом этапе, мы можем сказать, что специфика деятельности будет
выражена длинным рядом сменяющих друг друга структурных схем. В каждой из этих схем будут
схватываться те или иные фрагменты или элементы функционирования и существования того
целого, с которым мы имеем дело и которое мы на этом этапе схватываем.
Розин. Разве мы не должны будем при этом построить определенную
синтезирующую картину?
Конечно, мы должны будем построить эту синтезирующую картину. Но
синтезирующая картина будет подлинным и действительным изображением
деятельности не в силу того, что в отдельных ее изображениях будет схвачена эта
специфика, а в силу того, что мы будем относить все эти изображения, взятые по
отдельности или вместе, на деятельность как объект нашего изучения.
Розин. А в каком из этих изображений мы будем задавать и фиксировать
кинетический момент?
Я постараюсь показать, что мы вообще не можем задавать и изображать
собственно кинетический момент.
Чтобы показать это, я проведу два связанных между собой рассуждения.
Мне кажется, что здесь осуществляется операция, которая сродни той, которая
происходит с понятием образа. Когда мы называем образом какую-то форму, то на
первых этапах, весьма наивно, мы пытаемся искать черты сходства между тем, что
дано в этой форме, и тем, что она изображает. Но такого сходства нет и не может
быть. Можно спросить себя, не впадаем ли мы в точно такую же иллюзию, когда мы
начинаем оценивать наши схемы деятельности с точки зрения того, насколько в них
присутствует кинетический момент. Нам показалось, по -видимому, что
кинетический момент должен быть в этих схемах изобра жен. Но есть
большая разница между тем, что изображается, и тем, как это
изображенное присутствует в форме. Мы изображаем деятельность
вместе с ее специфическими кинетическими моментами, но при этом
фиксируем и представляем их в форме связи между элементам и
структуры деятельности, ряда ее структур.
Недаром, вводя разные изображения деятельности и требуя, чтобы они
обязательно были структурами, я специально оговаривался, что это – сугубо
формальное требование.
По сути дела, я утверждаю, что мы не можем, пока во всяком случае, изобразить
деятельность иначе, чем через посредство структурных схем.
Теперь я существенно уточню свою позицию. Я утверждаю, что деятельность
изображается не той или иной отдельной схемой – их будет очень много, и это
каждый раз будут разные схемы, – а системой этих схем, во-первых, и в еще
большей мере той областью, к которой мы будем относить эти схемы, во-вторых.
Мы будем изображать деятельность во многих и разных схемах, и все они будут
изображениями деятельности не потому, что в них будет какой-то специфическикинетический момент, а потому, что мы будем использовать их для изображения
деятельности; правда, потом и дополнительно ко всему этому, мы можем поставить
вопрос, что же собственно специфично для деятельности в сравнении с объектами
совсем другого типа. И тогда мы будем специально искать изображения для этих
специфических моментов. Но все остальные схемы все равно будут схемами
деятельности, если мы их будем употреблять в этой функции, несмотря на то, что в
них самих не будет никаких специфически деятельностных моментов.
Я перейду к следующему куску моего сегодняшнего сообщения. В прошлый раз
я уже говорил о том, что единица или некоторая целостность деятельности
изображается в блок-схемах. Первые схемы, как вы помните, состояли из двух
элементов – средств и процессов, или процедур. Эти схемы могли рассматриваться
в двух существенно различных планах исследования. Я уже говорил выше, что
первый из них определялся поиском связей между средствами и процессами. Но,
кроме того, мы можем рассматривать средства и процессы как элементы единого
целого, т.е. как нечто связанное между собой за счет того или иного механизма и
образующее определенную единицу.
Когда мы движемся в этом втором плане, то мы можем выделить и изучить
механизм построения тех или иных процессов на основе определенных средств,
взятых в связи друг с другом, т.е. в качестве единицы, в некотором
последовательном ряду. По обеим этим линиям у нас тоже шли исследования, о
которых я буду говорить позднее. Но наиболее интенсивную разработку у нас
получил первый план исследования. Я уже говорил выше, что именно в этом
первом плане нами получены наиболее существенные практические результаты.
Наверное, можно сказать, что мы разработали и применяли в самых разных
областях весьма четкий метод анализа, который получил название метода разрыва и
применяется как в синхронном, так и в диахронном, или генетическом, ряду. На
этом методе я хочу остановиться немного подробнее.
Чтобы пояснить исследования, основывающиеся на методе разрыва, надо
прежде всего сказать, что мы понимаем под «процессами», или «процедурами»,
соотнесенными со средствами. Выше я уже говорил, что сейчас мы скорее склонны
называть их оформлениями и трактовать как продукты деятельности. Но я буду попрежнему употреблять выражение «процессы», чтоб не разрывать преемственность
и связь с нашими ранними исследованиями.
Процессы представляются нами двумя способами, в зависимости от того, о
какой деятельности идет речь. Если речь идет о практической деятельности, то эти
процессы выступают как преобразования объектов. Преобразование объектов мы
обычно выражаем формулой:
.
.
.
О
1О
3
2О
Если же речь идет не о практической, а о мыслительной деятельности, то мы
подключаем к общим схемам также схемы замещений. В этом случае мы
пользуемся многоплоскостными схемами вида:
(А)
Х
Хорошим примером использования этих схем могут служить работы по анализу
процессов решения арифметических задач детьми.
Могут быть и более сложные схемы процессов, содержащие большее число
плоскостей замещения и объединяющие схемы замещения со схемами
преобразований. Надо заметить, что преобразования могут осуществляться как в
плане объектов, так и в плане знаков. Если, к примеру, нам приходится решать
арифметическую задачу, то в процесс решения входит ряд самых различных
переходов и преобразований. Взрослый или ребенок преобразует объекты, затем от
объектов переходит к знакам, производит определенные преобразования знаков и
затем вновь возвращается к объектам, приписывая им то или иное свойство,
выявленное путем оперирования со знаками. Все эти процессы, взятые с
определенных ограниченных точек зрения, могут быть представлены в схемах
такого типа.
Если мы можем разложить какой-либо процесс на отдельные преобразования
объектов и на отдельные переходы от объектов к замещающим их знакам и,
наоборот, от знаков к объектам, если благодаря этому процессы решения
определенных задач предстают перед нами как последовательности или структуры
подобных движений, то после и на основе этого мы можем вводить в них так
называемые «разрывы».
Чтобы пояснить, что представляют собой разрывы, я возьму пример из
исследования Н.С.Пантиной. Представьте себе, что перед ребенком ставят
пирамиду из колец, дают ему стержень и разбросанные в беспорядке кольца, затем
предлагают собрать такую же пирамидку, какая находится перед ним. Первое, что
делает ребенок соответствующего возраста после такого предложения, –
совершенно произвольно берет кольца и в случайном порядке надевает их на
стержень. Если экспериментатор спрашивает ребенка, собрал ли он такую же
пирамидку, предлагает ему посмотреть на образец, собрать такую же и т.д., то
ребенок с полным убеждением отвечает, что он выполнил задание, собрал
пирамиду, такую же, как данный ему образец, и искренне не понимает, чего от него хочет
экспериментатор и почему, собственно, он к нему пристает.
Поведение ребенка вполне оправданно и закономерно. Все слова и выражения
экспериментатора он оценивает сквозь призму имеющихся у него средств. На этом
этапе развития он умеет лишь одевать кольца на стержень, в самом образце он
видит лишь кольца, надетые на пирамиду, и поскольку он надел данный ему набор
колец, то он считает свою задачу выполненной.
Долгое время ребенка не удается убедить в том, что собранная пирамида
является не такой, какой был образец. Чтобы добиться понимания этого,
приходится проделывать с ним специальную, весьма сложную работу, приходится
развивать ребенка.
Я могу по-разному представить работу ребенка, в частности – как
последовательность преобразований объекта
.
.
.
О
О
2О
3О
4
k
1О
полагая, что каждое надетое кольцо переводит собираемую пирамиду из вида
Оk в вид Оk+1. Если ввести еще обозначения для действий ребенка, то мы получим
набор несвязанных между собой действий д1, д2,... На этом этапе мы предполагаем,
что ребенок умеет надевать кольца на штырек, что у него, следовательно, есть
необходимое для этого знание и умение. Если бы мы попробовали спуститься к
более ранним возрастам, то там мы бы столкнулись со случаем, когда дети и этого
не умели бы делать.
Здесь мы предполагаем, что все эти умения и знания у ребенка уже есть. Но
требуем от него нечто другое, в принципе – значительно большее. Мы хотим, чтобы
ребенок сложил «такую же» пирамиду, а это возможно лишь в том случае, если все
действия, необходимые для этого и, соответственно, все преобразования объекта
будут заданы в строго определенном порядке: сначала ребенок должен будет взять
самое большое кольцо, потом самое большое из оставшихся и т.д. Значит, чтобы
решить проставленную перед ним задачу, ребенок должен уметь осуществить
последовательность всех необходимых действий и преобразований в определенном
порядке, в соответствии с характером данной ему объективной ситуации и
изменениями, производимыми в этой ситуации им самим. Но для этого ребенок должен
владеть определенными средствами. Если ребенок этого не может сделать, то мы можем сказать, что
у него нет необходимых средств.
Прошу вас обратить внимание на формальную сторону моего рассуждения.
Ставится некоторая задача. Мы знаем, набор тех действий или соответствующих им
преобразований, который эту задачу решает. Мы предполагаем, что ребенок может
осуществить отдельные действия или преобразования из этого набора и владеет
соответствующими средствами. Но мы ставим задачу такого рода, которая
предполагает осуществление этой последовательности в определенном порядке. Мы
можем предполагать, что у ребенка нет для этого необходимых средств. Вот вам
типичная ситуация разрыва. Если мы рассмотрим эту ситуацию не в
индивидуальном плане, а в культурно-историческом, то можем и должны будем
сказать, что в полном наборе существующих средств отсутствуют те средства,
которые могут обеспечить осуществление этой последовательности. Какими бы ни
были эти средства, они обязательно будут связывать эту цепь действий или
осуществляемых преобразований в одно целое.
Если мы перенесем эту ситуацию на какой-либо другой случай и предположим,
что человечество должно осуществить определенную последовательность действий,
чтобы решить какую-то новую задачу, и что для осуществления этой
последовательности действий нужно определенное средство, которое сегодня еще
неизвестно и задано только через описанную выше ситуацию разрыва, то мы
поставим себя в типичную позицию «абсолютного исследователя». Это и будет
типичная ситуация разрыва, возникшая в ходе развития человеческой деятельности
и культуры.
Мы не знаем, что может представлять собой это средство, но через ситуацию
разрыва мы задали определенные функциональные требования к нему. Мы задаем
эти функциональные требования, исходя из данного нам набора действий и
соответствующих им преобразований, а также из задачи и отношения между
задачей и набором действий, который должен быть определенным образом
организован. Это отношение фиксируется нами в виде требования, что набор
действий должен быть не просто набором, а упорядоченной последовательностью, и
эта последовательность должна быть такой, чтобы она приводила к решению
задачи. Тем самым, мы характеризуем с функциональной стороны и само средство,
которое должно быть создано.
Таким образом, мы задаем «разрыв» и вместе с ним определенные
функциональные требования к средству, которое должно этот разрыв заполнить,
или преодолеть.
После того, как эта часть нашего исследования проведена и в каких-то системах
деятельности зафиксированы возникавшие в прошлом, возникающие или вообще
возможные разрывы, мы начинаем второй шаг исследования: среди всего того, что
уже было выработано человечеством, мы ищем какие-то образования – вещи или
знаки, – которые либо преодолевали этот разрыв в прошлом, либо же могут помочь
преодолеть его в будущем.
Если вернуться к задачке с пирамидкой, то существует не одно такое средство
или процедура (напомню вам, что сами средства лишь свертывают и фиксируют в
себе определенные процедуры). В одном случае мы получим правильное решение,
если будем прикладывать каждое кольцо из рассыпанного набора сначала к самому
нижнему кольцу готовой пирамидки и выберем равное ему, потом все оставшиеся
кольца к следующему, второму, кольцу готовой пирамидки и опять выберем равное
ему и т.д. Осуществляя подобную процедуру, мы сможем построить точно такую
пирамидку, какая представлена в образце, и таким образом организуем наличный у
нас набор действий в определенную последовательность и систему.
Но точно такой же результат мы получим если введем некоторый абстрактный
принцип, например, что первым должно быть положено самое большое из
имеющихся колец, потом – самое большое из оставшихся и т.д. В этом случае нам
не придется даже прикладывать все колечки из разрозненного набора к кольцам
готовой пирамиды, а достаточно будет сравнивать колечки разрозненного набора
между собой и, организовав их в последовательность или ряд, развертывающийся
по величине, надевать потом в этой последовательности.
Другим очень характерным примером, применения метода разрыва в исследовании может
служить работа С.Г.Якобсон и Н.Ф.Прокиной, посвященная исследованию
организованности у детей. В этом исследовании выяснилось, что между
последовательными действиями, которые производят дети, проходит большой
отрезок пустого времени. Это и означало, что дети были неорганизованными;
напротив, сделать их организованными это значит до предела сократить время
между действиями. Обычно воспитатели, чтобы добиться организованности,
начинают шуметь и кричать на детей. Надо сказать, что такой крик, конечно, мало
помогает. Но как только воспитатели отвлекаются на собственные дела и перестают
кричать, дети опять растягивают пустое время и становятся неорганизованными. И,
по-видимому, дети не виноваты. Дело не в том, что они не хотят быть
организованными; дело в том, что они не могут ими быть, ибо не имеют
необходимых для этого средств.
Кстати, как мне кажется, подавляющее большинство наших молодых людей,
оканчивающих школу, так и остаются неорганизованными, ибо в школе они не
получают средств, позволяющих им стать организованными.
В исследовании Якобсон и Прокиной был поставлен вопрос: какими могут и
должны быть средства, которые позволили бы детям стать организованными? Они
выяснили, что такими средствами служат часы и вся система вспомогательных
средств, позволяющих человеку соотносить свою деятельность с движением
стрелки часов. В педагогической системе йогов был зафиксирован в качестве
одного из таких простейших средств очень простой прием: через определенные
промежутки времени человек должен был прерывать свою работу и производить
какое-то простое единообразное действие, скажем, поднимать руку, произносить
какое-то слово, вставать и т.п. Чтобы это делать, нужно было постоянно
контролировать течение времени, все время как бы видеть и чувствовать время,
иметь с ним дело как с определенной действительностью, а действия, о которых я
сказал, должны были обеспечивать это отношение. Благодаря таким приемам
деятельность человека очень жестко и строго членилась на определенные
промежутки времени.
В опытах Якобсон и Прокиной стояла, по сути дела, аналогичная задача. Они
должны были найти такие формы и средства поведения детей, которые позволили
бы детям выработать индивидуальное отношение к времени и научиться постоянно
соотносить свою деятельность, в ее элементах и отрезках, с течением времени.
Выявляя все эти средства Якобсон и Прокина работали тем же самым методом
разрывов, который я более подробно разобрал на примере пирамидки.
Сейчас мы уже умеем разделять средства, необходимые для комплицирования
деятельности, осуществляемой одним индивидом, и средства, необходимые для
кооперирования деятельности, т.е. для взаимосогласования действий разных
индивидов. Эти моменты точно так же были весьма подробно исследованы в
работах Якобсон и Прокиной, с одной стороны, Надежды Бурэ – с другой. Таким
образом, методом разрывов были выведены среди других средств кооперированной
деятельности проекты и планы.
Весь опыт наших исследований, проводившихся на разном материале и поразному, убеждает, что нельзя добиться комплицирования и кооперирования
деятельности, не вводя необходимые для этого новые средства.
Мне важно подчеркнуть, что для одних разрывов средства, их преодолевающие,
ищутся в уже осуществленной истории человечества, для других разрывов, когда
соответствующих средств еще нет, они изобретаются или конструируются. В
последнем случае исследователь подыскивает некоторый материал, из которого
можно было бы создать эти средства, и конструирует сами средства в соответствии
с теми функциональными требованиями, которые выдвигает ситуация разрыва.
Мне хотелось бы подчеркнуть специально, что функциональные требования к
средствам формулируются на основе чисто теоретического анализа процедур, или
процессов, деятельности и возникающих в них разрывов. А материал этих средств либо
извлекается из эмпирического анализа реальной истории, либо же создается инженерноконструктивным путем.
Таким образом, средства зависят, с одной стороны, от прежних структур
деятельности и возникших в них разрывов, а с другой стороны, от всего материала,
природного или культурного, имеющегося в распоряжении человечества.
Метод разрывов и поиска средств деятельности через разрывы оказался очень
общим и эффективно работающим приемом.
Чтобы подтвердить этот тезис, я сошлюсь еще на исследование процессов
решения арифметических задач, проведенное мной совместно с С.Г.Якобсон. Я не
буду здесь излагать методы и результаты этого исследования, так как оно
опубликовано и вы все, если захотите, можете с ним познакомиться. Мне бы
хотелось, опираясь на это исследование, подчеркнуть только один момент. Если и
когда мы даем детям необходимые для деятельности средства, они строят
соответствующий процесс решения – вопреки имеющимся во всех методиках и
методических руководствах рассуждениям о том, что это решение очень сложно и
для детей почти не доступно.
И обратный результат. Как бы ни развивались спонтанно дети, они никогда не
смогут и не будут решать эти задачи, если не получат соответствующих этому
решению и необходимых для его осуществления средств. Таков закон и принцип,
выявленный нами на огромном материале.
Вернусь к своим исходным положениям. Я говорил выше, что наиболее
интенсивно и эффективно у нас развивались исследования, описывающие связи
между процессами и средствами деятельности, зависимость первых от вторых.
Чтобы выявлять средства, соответствующие определенным процессам
деятельности, мы воспользовались методом разрывов, который позволял нам, с
одной стороны, выводить средства теоретически, а с другой стороны, определять их
материал и морфологию эмпирически. Вся эта работа проводилась в контексте
исследования закономерностей и механизмов развития деятельности; пользуясь
этим методом, мы определили последовательность появления средств, которая вела
к соответствующему усложнению структур деятельности и входящих в них
процессов.
Но в этом пункте выявилось еще одно направление исследования, о котором я
специально расскажу, так как оно имеет большое проблемное значение.
Предположим, что в ходе развития деятельности, развития, происходящего
через разрывы, появилось какое-то средство. Это средство является либо вещью,
либо знаком. Включение его в деятельность уже по определению предполагает, что
с ним будут тем или иным способом действовать; без этого оно не может
называться средством деятельности.
Если средством организации деятельности служат часы, то мы должны
постоянно соотносить наши действия с движением стрелки или с увеличением
количества песка в соответствующей части колбочки. Такое соотнесение
собственных действий с некоторыми объективными процессами само является
особым человеческим действием, которое мы до этого никогда не фиксировали и не
изображали в наших схемах. Если мы возьмем в качестве средств модели целого и
части, используемые при решении арифметических задач, то там осуществляется
сразу пара таких действий, которая точно так же никак не зафиксирована в наших
схемах деятельности; я бы специально отметил – не зафиксирована ни в каких
наших схемах.
При использовании модели «целое–части» мы должны прежде всего расчленить
соответствующим образом текст условия задачи. При этом, естественно, мы
переходим от текста с его смыслом к самой модели, и, по-видимому, сам этот
переход тоже входит в действие. Затем, уже перейдя к модели, мы должны
произвести какие-то ее преобразования – то, что неизвестно, поставить на
определенное место ее организации, а то, что известно – на другие места.
Когда модель преобразована, мы переходим от нее к арифметическому
выражению. Это последнее действие аналогично первому. Таким образом, мы
получаем три действия: первое и третье – это переходы от одних знаковых средств к
другим, а второе – преобразование внутри знаковых систем.
Таким образом, знаки, выступающие в качестве средств решения
задачи, включены в определенные действия. Если мы будем сравнивать
эти действия с теми преобразованиями, которые представлены нами в
нижней плоскости, то должны будем отмечать прежде всего их
функциональное отличие, иную «природу», нежели у исходных
преобразований. Таким образом, вся система нашей деятельности
распадается по крайней мере на две функциональных части; одну
образуют
преобразовани я
исходных
объектов
–
объектные
преобразования,
другие
составляют
действия
со
средствами,
управляющие преобразованиями объектов.
Но, когда подобная словесная деятельность построена, управляющие действия
разработаны и выделены, когда они уже вошли в связь с объектными
преобразованиями, мы можем – и это всегда осуществляется – как бы «сплющить»
объекты и знаки вместе с окружающими их действиями в один слой. И тогда все
действия, как собственно объективные, так и управляющие ими, превращаются в
одну последовательность преобразований. И тогда нам не так уж легко представить
всю эту деятельность как состоящую из двух или большего числа слоев.
И если мы ставим перед собой задачу передать ребенку всю эту систему
действий, составленную, если брать ее генетически, из многих слоев
преобразований и управлений, то ему понадобятся, чтобы взять ее, какие-то другие
средства, включенные в новый слой деятельности, как бы надстраивающийся над
исходными слоями. После того как ребенок это сделает, после того как он освоит
всю эту деятельность, он точно так же сплющивает ее, превращая в одну сложную
цепь преобразований. И если мы возьмем эту деятельность как одно сложное целое
и захотим передавать ее ребенку не путем последовательных усложнений и
надстраиваний одного слоя над другим, то мы должны будем создать специальные
вспомогательные знаковые средства и действия с ними, которые для ребенка будут
служить средствами овладения этой сложной, сплющенной деятельностью.
Я рассказываю это для того, чтобы подчеркнуть, что, по -видимому,
развитие человеческой деятельности происходит за счет такого
механизма. В нем постоянно происходит внешнее выражение,
экстериоризация действий со средствами, которые строит педагог или
исследователь, и одновременно постоянное опускание их в слой
формализованных действий.
В этой связи я могу ответить на ряд вопросов, встававших раньше, причем,
отвечу на них двояко. Первый из этих вопросов: как появляются новообразования в
процессах? Второй – что такое философия?
Перейдем в план исторического развития мышления. Представьте себе, что в
наборе накопленных человеческих средств имеется алфавит каких-то
преобразований, причем, все они даны по отдельности. Предположим, что ставится
новая задача, которая не может быть решена ни одним из имеющихся
преобразований. В этих условиях человек начинает строить решения, комбинируя
уже имеющиеся у него преобразования. Он строит таким путем сложный процесс
решения. Если вы возьмете историю дифференциально-интегрального исчисления,
то вы увидите, что так это и делается. В 1958 году И.С.Ладенко показал это на
материале измерения кривой линии. Сейчас мы накопили очень много примеров,
показывающих, что такое комбинирование является одним из регулярных приемов
развития мышления.
Итак, мы можем полагать, что должна быть построена комбинация
преобразований, которая решит вновь возникшую задачу. Подобные комбинации
преобразований могут создаваться людьми разных профессий – представителями
искусства, учеными и т.п., с помощью специальных средств или без них. Но как бы
ни создавались сами комбинации, они всегда нуждаются в средствах связи между
преобразованиями. Эти средства создаются либо до начала самого комбинирования,
либо же – если комбинация уже сложилась – потом, чтобы сцементировать и
скрепить ее.
Таким образом, во всех случаях над такой комбинацией преобразований рождается
специальный надстроечный слой – знаковых средств и действий с ними, необходимых
для того, чтобы превратить эту комбинацию в одно целое. Характерно, что в этом
процессе сознание или психика опредмечиваются – в самой цепи преобразований и
в средствах, обеспечивающих само сцепление.
Именно здесь встает тот вопрос, который был задан В.С.Швыревым: что
именно делает и привносит второй человек, наблюдающий за первым, если само
преобразование, сама цепь, уже получены? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно
прежде всего выяснить, что имеют оба эти деятеля в качестве средств. Если в
начале работы они имели одни лишь преобразования, представленные нами в схеме,
то в качестве дополнительного и получаемого извне они должны иметь средства
свободного, творческого собирания преобразований в сложную цепь или, наоборот,
сложной цепи из простых элементов. Геометрия – типичный учебный предмет,
демонстрирующий нам подобную сборку отдельных операций в цепи
преобразований. Чтобы решить геометрическую задачу, надо собрать довольно
длинные цепи из небольших заранее заданных элементов.
Когда я говорю «свободное, творческое собирание операций в цепи», то это весьма
условные определения; пока они обозначают лишь то, что возможны и другие
случаи, т.е. могут быть получены другие комбинации и цепи. Здесь характерно, что
ученый может собрать цепь преобразований таким образом, что он включит свои
специфические и дополнительные средства в один ряд с уже заданными ему
объективными преобразованиями, представит те и другие как однородные и
неразличимые. В этом случае он должен будет передать другим людям всю эту цепь
преобразований как таковую. Но чтобы ребенок затем взял эту цепь
преобразований, педагогу придется ввести новую систему средств. Они будут
нужны, чтобы обеспечить само взятие исходной комбинации как целого.
В этом отношении очень интересна и показательна алгебра. Она представляет
собой длинные цепи алгоритмизированных преобразований. Но педагоги, чтобы
передать их детям, должны создавать свои особые дополнительные средства. Как
выгоднее всего передавать детям эти преобразования – это уже другой вопрос,
требующий специального обсуждения. Чтобы ответить на него, нужно будет
исследовать и строить программу обучения. А это, в свою очередь, предполагает
выяснение закономерностей и механизмов психического и интеллектуального
развития детей в условиях целенаправленного обучения, предполагает выяснение
законов и механизмов комплицирования и кооперирования деятельностей и т.п.
Только зная все это, мы сможем определить оптимальную траекторию обучения,
сможем определить оптимальную организацию средств, решающих определенные
классы задач. Напомню вам, что такие единицы в организации средств,
соотнесенные с определенными классами задач, мы называем «способами
решения». Поэтому вопрос, один из вопросов, задаваемых Швыревым, на нашем
языке будет звучать так: каковы наиболее выгодные «способы решения» для
различных классов задач? Нетрудно увидеть – и этот вопрос достаточно проанализирован
нами, – что «размеры» способов решения задач зависят от того, какие наборы задач мы задаем в
исходных пунктах, и от того, насколько широкому классу задач мы хотим дать одно обобщенное
средство.
Я мог бы пояснить это на примере. До сих пор в школе в 1-ом и 2-ом классах
дают один способ решения для прямых задач и другой способ решения для
косвенных задач. Но интересно и характерно, что при этом не задают ограничений
на сами задачи и на соответствующие им объекты относительно способов решения.
Поэтому, усвоив первый способ решения, пригодный лишь для прямых задач, дети
потом в течение многих лет не берут второго способа и упорно пытаются решать
все задачи, в том числе и косвенные, с помощью первого способа, не
приспособленного для этого. Мы показали, что можно построить один способ
решения задач для всего класса простых задач – прямых и косвенных – и начинать
обучать детей с косвенных задач.
При этом, конечно, предлагаемый нами способ решения будет более сложным, в
частности, он будет включать оперирование с моделями целого и части. И тогда
арифметические выражения и модели целого и части вместе со способами
оперирования с ними будут составлять одну единицу средств, один «способ»
решения, который будет задавать единый комплекс деятельности. В такой единице
будет организовано несколько слоев средств и деятельностей, но все они будут
организованы как одно целое. Поэтому, когда я говорил о свободном и творческом
комбинировании процесса решения задачи, то я имел в виду такое комбинирование
или построение процесса, которое не было задано и детерминировано уже
имеющимся способом решения задач. Это такие случаи, когда мы строим процесс
решения задач из средств, относящихся к двум или большему числу названных
способов.
Интересно, что в наших экспериментах дети строили подобные решения сами,
когда сталкивались с косвенными задачами. Первоначально пересчет совокупности,
с одной стороны, и разделение и объединение совокупности – с другой,
образовывали разные способы деятельности. Но когда дети сталкивались с
текстовой задачей, они должны были собрать средства и действия из этих двух
способов решения в одно целое, попросту говоря, они должны были применить и
то, и другое. И они это делали, но собирали средства и действия не в способ в
точном смысле этого слова, а в процесс решения.
Очень интересно, что, в зависимости от того, с какого из этих способов они
начинали собирать более сложный процесс, получались два разных процесса
решения со своими специфическими признаками. Если, к примеру, взять в качестве
исходного набора преобразований четыре простых цепочки, то в зависимости от
того, в каком порядке мы их будем собирать, нам понадобятся разные
дополнительные средства, задающие и цементирующие их связь, и, вместе с тем, в
итоге мы будем получать разные средства-способы. В наших опытах с детьми было
выяснено и показано наглядно, что в зависимости от того, в каком порядке дети
собирают процесс – скажем, одни сверху, а другие снизу, – получается, что те,
которые идут сверху, не могут решать задач, которые решаются детьми, идущими
снизу, но зато первые решают такие задачи, которых не могут решать последние.
Одним словом, обнаружилось отчетливое различие процессов, по-разному
собранных из одних и тех же средств.
Отвечая на вопрос Э.Г.Юдина, хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, проблема
творчества является чисто логической проблемой, не имеющей никакого отношения
к психологии. Для меня так называемое творчество есть показатель числа и
многообразия метасистем, т.е. управляющих систем. Если у человека есть
многочисленные и разнообразные управляющие системы, то он может строить
разнообразные процессы, решая таким путем разнообразные классы задач. Поэтому
у учеников никакого творчества не может быть, а у ученых никакого творчества не
бывает.
Меня спрашивают, понимают ли дети, почему одна комбинация средств и
действий привела к решению задачи, а другие комбинации средств и действий не
приводят. Я понимаю важность этого вопроса, но хотел бы подчеркнуть, что он не
имеет, на мой взгляд, ровно никакого отношения к проблеме творчества. Это –
проблема обучения и организация ситуации обучения. Сейчас мы разработали
каноническую форму ситуации обучения. В основании ее проектирования или
конструирования лежали определенные результаты, полученные нами в
исследованиях. В частности, мы выяснили, что одной из причин, почему до сих пор
нет собственно обучения, а есть только самонаучение детей в условиях общения со
взрослыми, является принципиально неправильное построение самих ситуаций
обучения. Для того чтобы ребенок мог чему-либо научиться, ему нужно задать
задачу, которая не может быть решена имеющимся в его распоряжении набором
средств. В результате появляется разрыв в деятельности ребенка. В этой ситуации
разрыва учитель подсовывает ребенку некоторые средства и благодаря этому,
воспользовавшись помощью учителя, ребенок решает задачу. Учитель мог дать
ребенку средства в момент разрыва – это лучше всего, до разрыва – это хуже, но
тоже иногда средства берутся и таким образом, – не в этом соль, не в задании
средств и не в решении. Таким путем ребенок ничему не научается. Хотя он,
казалось бы, и решил задачу, но в этом нет никакого толку, ибо следующую такую
же задачу он без учителя не решит. Для того чтобы ребенок мог чему-либо
научиться, чтобы он усвоил средства и научился бы их применять, нужно
обязательно, чтобы в ходе решения первой задачи была поставлена еще вторая, так
называемая рефлективная задача. Учитель обязательно должен спросить: почему ты
раньше не мог решить задачу и за счет чего ты теперь ее решил? Тогда новое
средство, введенное учителем в процесс решения – новый способ связи,
преобразований, или какой-то знаковый элемент – само становится объектом
рассмотрения и содержанием сознания.
Лишь после того как оно стало объектом рассмотрения, оно может быть взято
ребенком и усвоено именно в функции средства деятельности. Дальнейший
результат, полученный Н.Г.Алексеевым, это – обобщение класса задач по типу
полученных средств. Это выяснение общего вопроса, где же эти средства могут
работать. Н.Г.Алексеев придумал для решения этих задач ряд приемов, которые
тоже, наверное, войдут в эту ситуацию обучения. Но только в тех случаях, когда
строятся подобные ситуации – в 30 случаях из 100 в процессе обучения они не
строятся, – никакого творчества ребенку не нужно, кроме творчества учения и
усвоения. А в в результате ребенок прекрасно решает все задачи.
Итак, я иллюстрировал процедуры и механизмы выявления средств в
соответствии со структурой процессов решения. Процесс может быть задан, вопервых, набором тех средств, из которых он строится, а во-вторых, характеристикой
его структуры, которая получается после того, как он построен. Когда эти
параметры определены, то ищутся средства. При этом мы осуществляем два шага.
На первом – средство задается функционально через отнесение к
соответствующему процессу – это то, что может обеспечить комплицирование
процессов из заданного набора преобразований, операций и т.п. На втором шаге
ищется конкретная материальная структура, или, точнее, организованность, которая
удовлетворяет этим функциональным требованиям. На третьем шаге исследуются
действия, которые должны быть осуществлены с этим средством, чтобы оно
органически вошло в сложную комплицированную систему процесса. Момент
взятия средства или его усвоения я сейчас опускаю. Именно этот метод выявления
средств деятельности мы и называем методом разрывов.
Я рассмотрел сейчас употребления метода разрывов как бы в синхронном
плане. Однако примерно такой же метод, с некоторыми лишь модификациями,
может быть применен при рассмотрении истории развития мышления, истории
науки. Наиболее детально и на конкретных примерах этот метод разрабатывается
В.М.Розиным. Сейчас он как раз закончил работу, в которой с этой точки
зрения рассматривается формирование оперативных систем арифметики
и геометрии. Арифметическую систему он рассматривает в двух
формах: как собс твенно числовую ось и как систему сложений и
вычитаний. Эта работа является обобщением тех исследований, которые
он вел на различных фрагментах истории математики.
В историческом плане схема метода разрывов применялась примерно так же,
как и в синхронном анализе. Задавался набор исходных средств, затем вводилась
определенная задача и рассматривалось, каким образом строится тот процесс
решения из этого набора средств, который содержит в себе некоторые
новообразования. Значит, здесь точно так же, по сути дела, рассматривался разрыв между
задачами и средствами их решения. Разница между историческим и синхронным планами анализа,
грубо говоря, заключается в том, что исторический план дает возможность, кроме
того, находить еще некоторые закономерности развития знаковых средств.
В этом случае вы выделяете какой-то класс задач, вводите некоторый набор
средств, который считаете исходным, и затем смотрите, что произошло со
средствами, когда они прошли через «необходимость решения этого класса задач».
Потом вы задаете другую задачу на другом материале; скажем, если вначале у вас
была арифметика, то теперь вы вводите геометрию, фиксируете точно так же
средства ее решения и вновь рассматриваете, что происходит с этими средствами,
когда они проходят через необходимость решения заданного вами класса задач.
Потом вы осуществляете такую же процедуру на третьем или четвертом материале
и начинаете сопоставлять одно с другим.
Оказывается, что таким образом можно сформулировать некоторые совершенно
общие закономерности и даже механизмы преобразования знаковых средств. К
примеру – порядок трансформации знаков из модельной формы в символическую:
работа с символическими средствами требует добавления к ним модельных форм,
модельные опять превращаются в символические, это опять требует введения
новых моделей и т.д., и т.п. Вы понимаете, я надеюсь, что выявление таких
закономерностей изменения и трансформации знаковых средств дает возможность
прогнозировать, хотя и в самом общем виде, направления и этапы развития средств
тех наук, которые сейчас еще только складываются.
Здесь я должен заметить, что изложение всего процесса исследования методом
разрывов велось мною в терминах индуктивизма, что, как мы знаем, очень мало
соответствует сути дела. Я говорил об обобщении некоторых закономерностей
развития знаковых средств на разном материале только для того, чтобы лучшим
образом передать саму мысль. Фактически, анализ и обобщение идут другими
путями. Я это прекрасно сознаю и специально оговариваю, чтобы у вас не было ко
мне претензий в этом плане.
Еще один момент мне хотелось бы здесь отметить и обсудить. Применяя метод
разрывов в историческим исследованиях, мы столкнулись с рядом затруднений.
Одна из актуальнейших задач, которые сейчас перед нами стоят, это классификация
типов разрывов в деятельности. Эта задача была поставлена сравнительно давно –
когда еще работала группа семиотики, но до сих пор мы мало продвинулись в ее
решении. Может быть, это объясняется тем, что мы до сих пор не находили
достаточно материала в отношении самих разрывов в деятельности...
Розин. Такой материал есть.
Меня радует это замечание, хотя я не принадлежу здесь к оптимистам. Во
всяком случае, мне хотелось бы подчеркнуть, что типы этих разрывов могут быть
самые разнообразные. Большую их группу составляют разрывы в передаче
деятельности от одних поколений к другим. Как правило, передача деятельностей
от одних поколений к другим не может осуществляться без разработки и введения
специальных знаковых средств. Точно так же сам процесс усвоения некоторых
средств ребенком предполагает еще введение дополнительных средств,
обеспечивающих само усвоение. Другую группу разрывов составляют разрывы,
связанные с комплицированием и кооперированием деятельности. Эти примеры я
сегодня уже приводил. Можно было бы здесь перечислять и другие группы
разрывов, но я этого не буду делать, предполагая, что примеры вам достаточно хорошо известны.
Указание на обилие типов разрывов нужно мне для того, чтобы сделать позднее
одно обобщающее замечание. Поэтому я прошу вас запомнить то, что я сейчас
сказал, и потом в соответствующем месте мобилизовать вашу память.
Напомню вам, что я разбирал первое направление наших исследований, в
котором рассматривалась зависимость между процессами и средствами. Выяснение
характера средств, необходимых для построения определенных процессов, дает нам
возможность проектировать и конструировать эти средства, вводить их затем при
обучении и таким путем усложнять деятельности за счет их состава.
Но это направление исследования пока совершенно не отвечает на вопрос,
какую структуру имеет деятельность, в частности не отвечает на вопрос, какими
связями выделенные нами блоки организуются в единую структуру. Чтобы начать
обсуждать вопрос о связях, мы должны учитывать и соединять три различных
момента. Это, прежде всего, вопрос о том, как вообще можно изображать
некоторую кинетику. Ведь мы хотим изображать некоторую деятельность.
Интуитивно все мы знаем и полагаем, что деятельность представляет собой
определенную кинетику. Отсюда возникает вопрос, можно ли изображать кинетику
и как именно ее нужно изображать.
Второй момент, который мы точно так же должны учитывать: в какой позиции
находится сам наблюдатель и для кого, т.е. по какому социальному заказу, он
решает свои логико-методологические задачи. Частично этот вопрос – о позициях –
совпадает с тем, что мы обсуждали на докладе М.А.Розова, когда мы рассматривали
шесть позиций, каждая из которых задает определенную точку зрения на
мыслительные процессы. Этот момент точно так же должен быть учтен нами при
построении наших схем деятельности.
Третий момент – я не случайно ставлю его на последнее место – это вопрос о
том, какое именно содержание мы хотим изобразить в объектной области, нами
описываемой. Наверное, третий вопрос появляется как обобщение и осмысление
двух первых позиций. По сути дела, это вопрос о том, что вообще могут изображать
наши схемы и в какой позиции мы находимся, рассматривая наше целое. Учитывая
все это, мы отвечаем на вопрос, какое именно содержание мы описываем и должны
описать.
Тогда то, что я должен буду вначале рассмотреть, может быть представлено в
следующих схемах. Отметим прежде всего некоторую эмпирическую область,
имеющуюся у нас. У нас имеются также некоторые ее изображения; кроме того, у
нас имеются определенные средства научного исследования – языки, понятия и т.п.
– и, кроме того, определенная онтологическая картина и онтологическая схема.
Вдобавок мы строим еще некоторую метасистему, с помощью которой оцениваем и
описываем свои собственные средства работы.
Двигаясь в этой метасистеме, мы отвечаем, что пользуемся блок-схемами,
спрашиваем себя о том, что они могут изображать с точки зрения их формальных
возможностей и т.д. Теперь, связав между собой исходную систему описания и
метасистему, мы должны задать вопрос, что могут изобразить наши средства в
области деятельности и, наоборот, в каких средствах можно изображать
деятельность, и ответить на этот вопрос. А затем, пользуясь той самой схемой, которую я
рассматривал на прошлом докладе, мы должны соотнести систему научного знания, соотнесенную с
логико-методологической метасистемой, с той совокупностью «практических задач», ради решения
которых проводится все это исследование.
Когда я рассматриваю все это в системе метатеории, я спрашиваю, как можно
изображать тот или иной объект. Когда я беру все это в отношении к эмпирической
области, соотнесенной дополнительно с онтологией, то могу спросить и
спрашиваю, что именно мы можем изобразить. Вместе с тем, отношение между
изображением и эмпирической областью должно каким-то образом включить также
момент нашей собственной позиции, поскольку она взята по отношению к задачам.
По сути дела, задача определяет позицию самого теоретика – методолога или
логика, разрабатывающего теорию мышления.
Швырев. А как относится ко всем этим позициям онтология?
Это сложный вопрос. Грубо я могу сказать, что онтология представляет собой
то образование, в котором потом снимается различие всех позиций. Говоря
метафорически, онтология есть изображение объекта как такового, объекта как он
есть сам по себе. Такова презумпция всякого исследователя первого уровня. Хотя
потом, переходя в более высокую рефлексивную плоскость, мы всегда выясняем,
что это была иллюзия и что созданное онтологическое представление, как и все
остальное, несет на себе печать деятельности, причем, данной ограниченной деятельности,
но все это выясняется именно в следующем рефлексивном слое, а в первом мы
должны предполагать – и это фиксируется также в соответствующем слое логикометодологического осознания и обслуживания, – что онтология есть изображение
объекта самого по себе безотносительно к различию позиций, изображение объекта,
в котором различение позиций снимается и элиминируется. Все другие образования
предмета непосредственно соотнесены с деятельностью, а функция онтологии
заключается в том, чтобы нарисовать нам картинку предмета как бы
безотносительно к нашей исторической практике, нашим частным задачам и
средствам. И хотя, повторяю, на самом деле онтология, как и все остальное, всегда
остается в системе деятельности и несет на себе ее печать, мы предполагаем
условно, что это не так, мы приписываем онтологии функцию в каждый
определенный момент деятельности изображать объект как таковой.
Ставя вопрос о том, что именно мы представляем и изображаем с помощью
своих средств, я буду двигаться в системе онтологии. Не раз мы показывали, что
онтология появляется в результате переработки предметных средств разного типа.
Но сама эта переработка такова, что мы стремимся получить изображение объекта
самого по себе, и, поскольку такая цель перед нами стоит, мы стремимся ее какимито путями достигнуть. Поэтому бессмысленно говорить, что построение онтологии
как изображения объекта самого по себе невозможно.
Обсуждение всех этих вопросов, т.е. вопросов, касающихся структуры
деятельности, ее кинетики и возможностей изображения того и другого в наших
средствах, я проведу и постараюсь завершить в следующем докладе, а сейчас я
постараюсь обсудить еще только один вопрос, чтобы подготовить переход к
следующей теме. Тем более, что я обещал его обсудить.
Речь пойдет о том, можем ли мы изображать кинетику. Чтобы решить этот
вопрос, мы должны, как мне кажется, применить к своей собственной работе те
теоретические схемы и нормы, которые нами разрабатываются. Это прежде всего –
схема замещения, а потом принципы ассимиляции объектов в деятельность.
Возьмем известную схему замещения. В нижней плоскости находится Х, то
есть некоторое содержание, которое замещается знаниями, скажем, (А), (В), ...,
включенными в деятельность. Когда мы описываем эту схему словесно, то обычно
говорим так: некоторые процедуры сопоставлений объектов, часто созданных
деятельностью, замещаются знаками, тоже включенными в некоторую
деятельность. Значит, можно сказать, что одна система действий и деятельности
заменяется другой системой действий и деятельности. Объекты первой системы –
собственно объекты, объекты второй системы – знаки. Затем в наших рассуждениях
появляется очень интересная и характерная двойственность.
В частности, здесь отчетливо проявляется разница между рефлексивным и
теоретическим рассмотрением всех наших схем. Когда мы рассматриваем схему в
теоретическом плане, то мы стираем значок операций и действий, применяемых к
знакам, и обычно никогда не апеллируем к нему. В этих случаях мы говорим:
определенное содержание Х, т.е. система сопоставления, заданная деятельностью,
замещается знаками, обозначается знаками или выражается в знаках. Когда же мы
рассматриваем эту схему в рефлексивном методологическом плане, то мы всегда
обращаем специальное внимание на сами действия со знаками, мы говорим, что
одна система преобразований или действий замещается – теперь уже не знаками – а
другой системой преобразований и действий. Чем объясняется такая
двойственность?
В каком-то плане она вполне оправдана. Встаньте на несколько минут в
положение представителей положительной науки, попробуйте глядеть на эти знаки
как бы «сверху». Спрашивается, заметите ли вы действия и операции, т.е. будет ли
реально в этом виденьи ? Я полагаю, что действий и операций в этом случае не
будет. С точки зрения представителя позитивной науки, они исчезают совершенно,
хотя, на первый взгляд, кажется, что в формальных схемах преобразований знаков
деятельность уже заключена. Но это только кажется и притом – представителю
науки, «испорченной» разными логико-методологическими воззрениями.
В системе формальных преобразований знаков зафиксирована лишь одна компонента
деятельности, а все остальные (или основная часть) – в частности отнесение разного рода, способы
содержательного оперирования, приписывающие знакам как новое содержание, так и новый смысл
– вообще никак не зафиксированы, не будут видны представителю позитивной науки и поэтому не
будут им учитываться.
Схематически можно было бы представить различие этих позиций так:
Х
Представитель положительной науки будет видеть и фиксировать лишь
преобразования, связывающие знаки (А) и (В). Все остальные преобразования – в
частности идущие от знака (В) вверх, содержательные действия с ним,
преобразования, идущие дальше вправо, т.е. возможные формальные
преобразования, еще не произведенные актуально, все отнесения, идущие от знака
(В) к возможным объектам и содержаниям, в том числе к онтологическим картинам
и схемам – все это не будет фиксироваться представителем положительной науки
как разные виды деятельности. В лучшем случае, он будет фиксировать все это как
свойства-признаки объекта В, т.е. того объекта, который он видит за знаком (В).
Поэтому на табло у представителя положительной науки будут отражаться отнюдь
не системы замещений деятельности, а именно знаки, причем, не как знаки, а как
некоторые идеальные объекты или предметы, с которыми он оперирует.
Если, к примеру, я нарисовал некоторую блок-схему и каким-то образом
работаю с ней, в частности рассуждаю по поводу нее, то в графике и в виде объекта
мне дана только сама блок-схема, а отнюдь не приложенные к ней действия. И это
вполне естественно для позиции представителя положительной науки.
Но тогда возникает вопрос: откуда берется и что именно этот значок выражает и
обозначает? Он обозначает разнообразные способы движения согласно
представленной нами выше схеме. Но как это существует вне схем? Это есть то, что
я осуществляю в своей непосредственной живой работе.
Поэтому происходит очень занятная вещь. В самом низу нашей схемы казалось
бы живут и существуют объекты с их собственной, имманентной им как объектам,
кинетикой. Но здесь приобретает исключительное значение вопрос: привносим ли
мы эту кинетику им или они сами по себе и в себе обладают ею? Ведь если
произошло пусть даже некоторое естественное изменение объекта, то, чтобы
сделать его предметом своей мысли и как-то зафиксировать, мы должны
зафиксировать последовательность его состояний, скажем, А1, затем А2, А3 и т.д., а
потом начать сопоставлять их друг с другом, трактуя как некоторые состояния
объекта, чтобы таким путем выразить то, что мы называем естественным
изменением объекта. Если передо мной была какая-то совокупность, которая затем
на моих глазах разделяется на две, как бы растекается, то это само по себе еще не
изменение, это пока просто ничто. Это станет разъединением совокупности или ее
изменением лишь в том случае, если я сумею зафиксировать первое состояние этой
совокупности в некотором знаке, если затем я каким-то путем зафиксирую второе
состояние – а для этого, естественно, мне придется его остановить – и сумею затем
ходом своего собственного движения, противоположного естественному процессу,
сопоставить эти два знака-состояния друг с другом. Никак иначе схватить
изменения любого рода, вообще какие-либо движения объектов невозможно. Иначе
говоря, наши собственные сопоставления в знаках, в частности исходных
эмпирических объектов, наша собственная деятельность с ними являются средством
и формой, через которую и с помощью которой мы выявляем и фиксируем все, что
естественно происходит с объектами.
Но здесь возникает очень важный и интересный вопрос: в каких же именно
формах и средствах я все это фиксирую? Во-первых, все это фиксируется в
статических знаках. Но сами по себе статические знаки – ничто. Они обязательно
должны быть включены в некоторую деятельность. Но это, как правило, – моя
деятельность со знаками, я ее осуществляю, и поэтому я ее не фиксирую и не
изображаю специально. Поэтому мы можем сейчас сказать, что при замещении тех или иных
содержаний – будь то преобразования объектов, то есть некоторая кинетика, будь то какие-то
отношения сопоставления, создаваемые нашей собственной деятельностью – во всех
случаях мы замещаем эти содержания, во-первых, статическими знаками, которые
мы оставляем в качестве предметов окружающего нас мира, а во-вторых, нашей
собственной деятельностью, которую мы всегда носим с собой.
Генисаретский. Но здесь произошла весьма характерная подмена: можно
признать, что статична форма или, даже точнее, материал знака, а
утверждается, что статичен знак. Ведь каков знак – неизвестно, может быть,
он движется.
Меня сейчас мало интересует вопрос, что представляет собой знак на самом
деле. Меня интересует лишь один вопрос – с чем мы работаем, а работаем мы с
некоторыми статическими образованиями. Именно эту мысль я и хочу подчеркнуть,
не цепляясь за название. Возможно, точнее было бы говорить действительно о
материале знака. Но люди видят его как знак или как идеальный объект. Именно об
этом видении я и говорю.
С другой стороны, если мы встаем в позицию внешнего наблюдателя и
начинаем выяснять, с чем же именно работают люди, то нам приходится говорить о
знаковом материале, ибо именно с ним они и работают – это, если рассмотреть все,
повторяю, с точки зрения внешнего наблюдателя. Можно даже сказать, что они
работают с некоторыми материальными объектами, ибо только способ
употребления этих материальных объектов превращает их в знаки. Вместе с тем,
если мы начинаем обсуждать вопрос о том, как именно они работают и что
детерминирует способы употребления этих материальных объектов, тогда мы
вынуждены переходить к обсуждению тех способов видения, которые имеются у
людей, работающих со знаками.
Поэтому я легко преодолею сделанные мне возражения, сказав – и это будет
еще точнее выражать мою мысль, – что работают люди с материалом знаков, а
собственно знаками этот материал становится благодаря тому, что люди носят с
собой «живую» деятельность и, присоединяя ее к материалу того или иного типа,
превращают этот материал в знаки. Но мне важно подчеркнуть, что если мы
рассматриваем всю проблему в синхронном плане, то деятельность выступает как
данная в «живом» виде.
Розин. Этот тезис малопонятен и, как мне кажется, противоречит
положению, что с помощью знаков можно все же изображать кинетику; надо
лишь задать вдобавок к соответствующему материалу определенные способы его
преобразования.
Я не хочу ничему противоречить. Наоборот, я разъясняю смысл
сформулированного тобой выше тезиса. Конечно, мы изображаем кинетику в знаках
и с помощью знаков. Но что это значит? На мой взгляд, здесь нужно разделить и
развести, с одной стороны, статический материал знаков, который сам по себе
изображать и отображать кинетику не может, и живую деятельность,
прикладываемую к материалу и превращающую его в собственно знаки и знаковые
системы.
Когда мы говорим, что знаки отображают и изображают кинетику, то мы имеем
в виду, фактически, и то, и другое. Именно этот момент мне и хочется подчеркнуть:
определенные материалы знаков могут изображать и отображать кинетику
благодаря тому, что мы прикладываем к ним деятельность, причем, деятельность
определенного типа. Фактически, говорю я, мы изображаем кинетику не в знаках, а
в нашей деятельности со знаками, мы не изображаем кинетику, а имитируем ее. Вот
в чем пафос моих утверждений.
Напомню вам, что на одном из заседаний в этой аудитории мы выдвигали
требования к знакам – чтобы они отображали кинетику. Это невозможно. От знаков
мы можем требовать только того, чтобы они соответствовали деятельности, которая
имитирует кинетику.
Генисаретский. Что бессмысленно требовать – кинетику или изображение
кинетики?
Розин. Кинетика знаков не имеет отношения к той кинетике объектов,
которую мы хотим отобразить.
Все это – достаточно тонкие вопросы, и, чтобы ответить на них, нужно, как мне
кажется, предварительно выяснить более принципиальные и грубые вещи. Я
нахожусь именно на этой первой ступени.
Представьте себе, что мы уже заместили какие-то объекты знаками – ведь
только так мы можем сделать эти объекты предметами своей мысли и предметами
познания. Мы заместили объекты знаками и затем применяем к знакам некоторые
новые познавательные операции. В результате вычленяется некоторое новое
содержание, которое мы опять-таки фиксируем в знаках, в знаках второго слоя.
Теперь я хочу спросить: к чему именно применяются познавательные
процедуры второго слоя? Характерно, что этот вопрос очень интересовал Розина, и
в течение нескольких предшествующих лет он его постоянно обсуждал. Конкретно
для меня вопрос стоит так: применяем ли мы познавательные операции к знакам (А)
и (В) или же мы применяем их к единицам типа (А) и (В)?
Сейчас мы уже достаточно хорошо представляем себе, что непосредственно к А
деятельность не применяется – во всяком случае, для сознания деятеля. Обычно в
философии, имея в виду эти моменты, говорят «о превращенных формах сознания».
По-видимому, все способы оперирования со знаками должны быть свернуты в
плане смысла и затем должны получить превращенную вещную или объектную
форму.
Теперь давайте взглянем на все это с теоретико-деятельностной позиции. Мы
уже понимаем – и этот момент я сейчас подробно обсуждал, – что есть
обозначение той деятельности, которую мы имеем в живом виде и привносим к
знакам. Теперь я спрашиваю: могут ли применяться последующие познавательные процедуры к
ней так же, как они применяются к самим знакам? Ответ на этот вопрос, по-видимому, может быть
только отрицательным. Но тогда перед нами встает альтернатива: либо деятельность, привносимая
нами, вообще остается за скобками и не играет существенной роли, либо же она должна быть какимто образом трансформирована, должна получить превращенную форму и должна быть «впихнута»
в сами знаки. Вот вопрос, который я обсуждаю.
Но так все дело выглядит с предметной точки зрения, а я добавляю ко всему
этому еще теоретико-деятельностную точку зрения и спрашиваю: как изобразить
саму кинетику деятельности, в частности кинетику (А) Очевидно, как мне
подсказывают, ее нужно изучать. Но чтобы изучать и потом фиксировать
результаты изучения, нужно иметь соответствующие знаковые средства. К ним в
свою очередь мы предъявляем определенные требования – ведь они должны
изобразить кинетику деятельности. Естественно, что мы хотим знать характер этих
требований.
Кроме того, возникает вопрос, что, собственно, мы можем и должны изучать;
ведь, фактически, мы имеем дело со знаками и преобразованиями их. Рассматривая
знаки в отношении к преобразованиям и той системе смысла, которая ими
создается, мы можем говорить о структуре знаков. Точно так же мы можем
говорить о тех преобразованиях, которые применяются к знакам.
Генисаретский. Я хотел бы узнать, на какой позиции вы стоите, когда
утверждаете, что мы изучаем и должны изучить цепи знаков? Если на позиции
логика, то это, по меньшей мере, странно, ибо логик никогда не изучает кинетику,
если это – позиция того, кто изучает кинетику, то он никогда не изучает
знаковую форму, он всегда будет двигаться в чем-то другом.
Я не могу согласиться с такой упрощенной трактовкой положения дел. Здесь не
совсем точно используется слово «изучает». Вопрос о том, кто что изучает, –
достаточно сложный. Любой ученый всегда изучает тот или иной тип идеального
объекта и ничто другое. Но я говорил о другом – о том, с чем они имеют дело. В
этом плане, на мой взгляд, вопрос очевиден: мы имеем дело со знаковыми
цепочками и их преобразованиями.
А что мы за ними увидим и что именно в связи с этим будем изучать – это тот
вопрос, который я обсуждаю. Чтобы как-то ответить на него, я, с одной стороны,
утверждаю, что подлинным объектом, который там существует, является
деятельность – я ее фиксирую и представляю со своей теоретико деятельностной позиции, пользуясь схемой двойного знания, – а с
другой стороны, ставлю вопрос о том, как эту деятельность можно и
нужно представить и выразить в знаках.
Генисаретский. На мой взгляд, вопрос, действительно, состоит не в том, с
чем тот или иной исследователь имеет дело, а в том, что он при этом видит. Но
тогда я спрошу: работает ли он со своим же собственным оперированием или же это
оперирование есть выражение чего-то другого?
На мой взгляд, он вынужден работать со своим оперированием. Он не просто
оперирует со знаками, но он еще, кроме того, должен работать со своим
оперированием.
Генисаретский. Но тогда он обязательно логик, а не тот, кто изучает
кинетику.
Это неправильно. Во-первых, со знаками и своим собственным оперированием
работают любые предметники; мы можем и должны в связи с этим говорить о
специальной предметной рефлексии. Во-вторых, со знаками и своим собственным
оперированием работает логик, но он действительно не видит при этом самой
кинетики. В-третьих, со знаками и своим оперированием работает представитель
теории деятельности, и он обязательно должен видеть кинетику. Именно этот
последний случай я обсуждаю, только он меня сейчас интересует. Я ставлю вопрос:
какими знаковыми средствами и понятиями должен пользоваться представитель
теории деятельности, чтобы он мог видеть деятельность и ее кинетику? Я
утверждаю, что такая позиция существует и ее нельзя сводить к позиции логика –
речь идет о формальном логике.
При этом меня не устраивает традиционно-натуралистическая позиция и мне
хочется отделить свои вопросы о кинетике – поставленные в рамках теоретикодеятельностной концепции – от вопросов, которые может ставить натуралист.
Наивный предметник думает, что в объектах есть естественное, имманентное этим
объектам движение. При этом совершенно не учитывается то обстоятельство, что
подобное отражение само возможно лишь за счет определенной деятельности –
познавательной и мыслительной, за счет имитирующей деятельности мышления.
Если до начала XIX столетия еще можно было придерживаться таких взглядов,
то в XIX столетии и, тем более, в XX веке думать так, как мне кажется, уже нельзя.
Для меня все проблемы начинаются с вопроса: как можно выделить и
зафиксировать в мышлении эти движения, эту кинетику? А затем я ставлю еще
дополнительный вопрос: как можно выделить и зафиксировать кинетику
мышления, имитирующую и воспроизводящую кинетику объектов?
Мне важно подчеркнуть, что исходные данные, с которыми мы всегда и в
любом случае имеем дело, это – данные о нашей деятельности, включенные опять
же в деятельность. Все, что мы узнаем об объектах – а точнее надо сказать: все, что
мы конструируем относительно объектов, – получается нами из деятельности и на
основе анализа деятельности. Но при этом видим мы не деятельность, а
определенные объекты (когда я говорю «мы», я имею в виду предметника).
Начиная с 1962 года мы непрерывно в разных формах обсуждаем вопрос о том,
каким образом и как осуществляется эта реконструкция объектов. Мы выяснили,
что выявление и конструирование объектов предполагает в качестве своего
непременного условия выделение и отделение деятельности. Поэтому в нашей
работе постоянно происходит то разваливание плана сознания на «объектное» и
«субъектное», о котором в свое время писал И.Кант и в дальнейшем все
неокантианцы.
Уже первые подмеченные и описываемые нами схемы сопоставлений и
отнесений фиксировали ту деятельность, которая накладывается на объекты и
создает содержание, выражаемое затем в знаниях. Зная основные виды действий
сопоставления и объяснения, мы затем как бы оборвали все и, отделяя
сопоставление и отнесение, выделяли или конструировали затем сам объект. В
дальнейшем мы выяснили, что все эти процедуры схватывают лишь один момент,
одну сторону и не дают достаточно точного представления о других сторонах,
которые уже намечались и выявлялись нашими работами.
Поэтому мы вынуждены были постоянно обсуждать вопрос о соотношении
между объектами и деятельностью, в частности познавательной деятельностью, а
вместе с тем, естественно, вопрос о том, как эту деятельность наилучшим образом
изображать и выражать. Сейчас я ставлю все эти вопросы снова на новом и более
высоком уровне. Но как ни изменялись наши представления о самой деятельности,
неизменным оставался тезис, что в исходных пунктах философ должен иметь дело с
деятельностью как таковой, а объекты должен объяснять, исходя из деятельности и
различных способов ее обработки – я подчеркиваю: ее обработки, т.е. обработки
деятельности.
Это положение – движение от деятельности к объекту, а не от объектов к
деятельности – является основным и определяющим все остальное принципом
философии. Для положительных наук, наоборот, основным и определяющим
является принцип, что в исходных пунктах лежат объекты, а знания их отражают
или отображают. Но сейчас мы проделываем философскую и методологическую работу.
Поэтому мы должны пользоваться первым из названных мною принципов.
Но именно потому, что мы движемся в рамках философии и методологии, мы
должны подробно и детально обсуждать вопрос об объектах и их статусе. Мы
хорошо знаем, что объекты существуют благодаря нашим знаниям; это всегда
первоначально объекты знания, и лишь затем они становятся объектами инженерии
и практики.
Когда я говорю, что представитель какой-либо положительной науки начинает
работать со своим оперированием или над своим оперированием, то я прежде всего
подчеркиваю моментально возникающую здесь двойственность: вроде бы, нельзя
работать со своим собственным оперированием, можно работать только со знаками,
но, с другой стороны, знаки «темны» и «слепы», они оживают, осмысливаются и
приобретают содержание благодаря деятельности. С чем же тогда имеют дело все
исследователи – предметники, логики и «деятельностники»? Я утверждаю, что
работая над знаками, любой исследователь работает прежде всего над функцией
этих знаков, т.е. в такой форме – над способами оперирования со знаками. Можно
сказать, что исследователь работает над особыми формами репрезентации нашей
деятельности, в частности деятельности со знаками. Деятельность прикреплена к
знакам.
Из этого я делаю вывод, что, когда исследователь начинает анализировать знаки
– по сути дела, идеальные объекты, стоящие за ними – и когда он выражает
полученное им новое знание, скажем, в форме (а), то он фиксирует не что иное,
как предшествующую деятельность (А), а отнюдь не сами по себе знаки (А) и (В).
Итак, если мы имеем дело с какой-то кинетикой – пусть это будет (А)..., или,
более общо, кинетика любой деятельности, – то она всегда предстает перед нами
прежде всего в виде элементов, которые в нее включены. Любые статические
кусочки деятельности выступают для нас прежде всего со стороны своих функций,
т.е. со стороны своей включенности в оперирование.
Другими словами, эти статические элементы выступают как особым образом
понимаемые нами предметы – я подчеркиваю: именно понимаемые предметы, а не
предметы исследования. Затем понимаемые предметы становятся предметами
исследования. Вместе с тем, должна произойти и происходит известная их
трансформация. Статические элементы деятельности, которые раньше понимались
нами, начинают теперь анализироваться как эмпирический материал,
соответствующий определенному предмету изучения.
Но что при этом происходит с пониманием, как предмет исследования и его
эмпирический материал относятся к описываемому предмету или, точнее, как
понимаемый материал относится к тому и другому? Кроме того, я хочу понять, как
в предмете исследования выступает само оперирование со знаками. В какой-то мере
оно попадает в него, поскольку оно само предстало через функции, специально
анализируемые нами. Значит, меня интересует, во-первых, в какой мере
оперирование будет схвачено нами в знаках (а), (b), во-вторых, чем по отношению
к этому будет то оперирование которое обращено на знаки (а) (b) и, по сути
дела, имитирует оперирование .
Я надеюсь, вы помните, что самым интересным и принципиальным всегда
является вопрос о том, как формируются новые способы оперирования со знаками.
Те способы оперирования, которые должны имитировать другие, нижележащие
способы оперирования, и создают то, что мы называем знанием. Вы знаете, что
когда впервые появляются отрезки в качестве знаков, изображающих длину, то с
ними оперируют так, как будто они являются бревнами – отрезки режут пополам,
еще пополам и т.д.
Лишь постепенно, благодаря разнообразным парадоксам, начинает отчленяться оперирование
непосредственно со знаками, вводятся специальные допущения, с одной стороны, ограничивающие
те оперирования, которые применялись нами к вещам, а с другой стороны, создающие новые
возможности, которых не было при оперировании с вещами. Я пока не затрагиваю вопроса о том,
как именно формируются те или иные знаковые преобразования, – это особый очень интересный
вопрос, который нам нужно было бы обсудить в ближайшие годы.
Мне пока важно подчеркнуть лишь одно: кроме создания некоторого
содержания и фиксации его в тех или иных знаковых средствах существует еще
всегда момент выработки новых форм оперирования со знаками и соединение этого
оперирования с самими этими знаками. Это новое оперирование, с одной стороны,
связано с тем содержанием, которое создается в нижележащих плоскостях, а с
другой стороны, оно участвует в формальном выражении этого содержания. Кстати,
я должен здесь напомнить вам, что Кутюра хорошо понимал это в отношении
алгебры и алгебраических преобразований; он подчеркивал, что специфика
количества выражается в алгебре через способы преобразований алгебраических
выражений.
Все эти проблемы ставятся мной внутри утверждения, что мы схватываем один
способ оперирования с объектами, одну систему деятельности в другом способе
оперирования и другой системе деятельности как целом. Между этими системами
деятельности устанавливается отношение имитации, а все остальные отношения,
существующие между разными элементами этих двух систем деятельности, должны
выводиться нами из особенностей общего отношения между двумя системами.
Короче говоря, кинетика выражается через кинетику, а изменение типа
кинетики определяется характером материала, т. е., в частности, изменением
характера знаков, хотя само это изменение лишь фиксирует и отражает само
изменение кинетики.
Значит, если мы имеем какую-то кинетику, скажем, в частности, (А), и хотим
имитировать ее в другом виде, то мы должны, с одной стороны, подобрать
определенные знаки, а с другой стороны, выработать определенный способ
оперирования с ними. Исходная кинетика (А) будет имитироваться в новой
кинетике (а). Специфические особенности и характеристика этой новой кинетики
будут отражаться в характере включенных в нее знаков. Благодаря этому мы
сможем говорить, что знаки (а)(b) отражают кинетику (А). Но это очень плохое,
неадекватное выражение, ибо оно создает впечатление, что кинетика (А)
выражается или изображается знаками (а)(b) самими по себе. Обычно о знаках
говорят, что они выражают инварианты нижележащей кинетики, но это очень
путаное выражение, ибо сами варианты и инварианты понимаются в традиции
вещи.
Таким образом, замещаем и имитируем мы через (а), а говорим только о
знаках (а)(b).
Это положение усугубляется тем, что, имея знание, выраженное в
знаковой форме (а) (в), мы начинаем искать для нее определенные
онтологические картины и определенный объект. При этом мы исходим
из смысла соответствующих знаний и знаковых форм, а это значит – из
особенностей оперирования. Но само оперирование выступает неявно,
через этот смысл, а вопрос ставится ни много ни мало об объекте ,
которому должны соответствовать знания второго слоя.
Здесь, естественно, возникает вопрос о том, как эта онтология будет относиться
к содержанию (А), лежащему в более низком слое. Ясно, что они не могут
соответствовать друг другу непосредственно – здесь еще есть весьма существенная
добавка .
Следовательно, мы можем сделать вывод, что онтологические
картины всегда, в принципе, отличны от объектов оперирования (А),
(В), (а), (b), и в этом, между прочим, их функции.
Вот способ рассуждения, с помощью которого я пытался обосновать общий
тезис, что структурные схемы, изображающие деятельность, совсем не должны
схватывать кинетику деятельности как таковую. Они должны схватывать
изображение закономерностей или механизмов в этой деятельности, а не саму
кинетику. Таков общий вывод. В следующий раз я попробую обсудить вопрос, что
именно удается схватить в тех структурных схемах деятельности, которыми мы
пользуемся, в частности – в блок-схемах.
21.07.1965
Проблемы средств и способов изображения деятельности
На прошлом докладе я рассказывал о том, что в ходе наших исследований
мышления центр тяжести исследований постепенно cмещался на рефлексивный
анализ средств, которыми мы пользовались, в первую очередь – на более
подробный и детальный анализ самого понятия деятельности.
Но как только само понятие деятельности и объект, представленный в нем,
стали предметами специального анализа и изучения, так тотчас же у нас выделился,
по сути дела и фактически, новый предмет изучения, для которого должна была быть найдена
своя эмпирическая область и для которого нужно было разработать соответствующие средства
анализа.
При этом вполне естественно произошли изменения в понимании и
интерпретации самого понятия деятельности. Деятельность выступила как та
большая объектная область, которая еще только должна быть изучена, и мы пришли
к выводу, что изучение этой области, очень обширной и содержащей массу
разнообразных связей и генетических механизмов, предполагает создание
нескольких предметов изучения. При этом будет создано несколько разных
структур, каждая из которых будет представлять какую-то одну сторону
деятельности. В этой связи, если вы помните, я в шутку говорил о конкурсе, который мы должны
объявить, на создание максимально большого числа структур, описывающих деятельность.
Эти структуры, на мой взгляд, могут и должны члениться на две большие
группы: первая – группа структур, описывающих социальное целое глобально и
относимых, естественно, ко всему социальному целому (здесь можно употребить
излюбленное Гегелем выражение «тотальное описание»), и вторая группа – группа
заведомо фрагментарных структур, описывающих изменение некоторых элементов
и подсистем этого целого.
После этого я начал рассматривать простейшую структуру, с которой мы
начинали свою работу. Первоначально это была даже не структура, а лишь сумма
двух блоков, буквально механически относимых друг к другу – процессов и
средств. Я говорил, что даже это, весьма примитивное, расчленение дало нам
возможность продвинуться в решении целого ряда вопросов, которые в
предшествующих философских и научных исследованиях вызывали целый ряд
затруднений. Это направление исследования дало нам возможность
поставить проблему воспроизводства структур деятельности и
объяснить некоторые генетические механизмы ее развития.
Но все это интересует меня сейчас не столько со стороны содержания, сколько
со стороны формы выражения нашего анализа и тех средств, которые были в связи с
этим выработаны. Первый вопрос, который мне хотелось бы здесь поставить: в
каком отношении друг к другу находятся подобные блок-схемные представления и
наши традиционные структурные представления мышления или деятельности? Мне
хотелось бы знать, какие отношения нужно установить между теми и другими и как
их можно будет связывать при решении различных теоретических проблем; при
этом я имею в виду как плосколинейную, так и иерархированую теорию.
Второй вопрос, возникающий здесь: что значит представить блок-схему как
некоторую структуру? Можно ли рассматривать блоки в качестве элементов
системы и какие связи между так рассматриваемыми блоками можно вводить? Это,
вместе с тем, вопрос о том, что могут изображать подобные связи и как мы с ними
должны работать. Эти два вопроса я и хочу сегодня обсудить.
По поводу первого вопроса при общем заходе можно сказать очень немного.
Как бы мы ни брали исходный разборный ящик из двух блоков – просто как
разборный ящик или вместе с наложенными на него зависимостями, или даже с
какими-то связями, – во всех случаях мы не можем накладывать его на широкие
области эмпирического материала и получать сколь-нибудь важные результаты.
Содержание, которое зафиксировано в подобной двойной блок-схеме, является все
же слишком общим, а вместе с тем, и слишком тощим. Поэтому, когда мы работаем
с этими блок-схемами, прикладывая их к эмпирическому материалу, то мы, как
правило, переходим к нашим структурным схемам.
Мы начинаем представлять процесс, обозначенный в первом блоке, в виде
некоторой последовательности объектных преобразований или в виде
последовательности замещений единиц объективного содержания знаками и их
преобразованиями и т.д., и т.п. Но точно так же и средства, очевидно, должны
представляться в некоторых структурных схемах и формулах. Кроме того, наверное,
мы должны зафиксировать те действия, в которые включены средства, – в прошлый
раз я довольно подробно говорил об этом. Таким образом, в ходе теоретического
анализа мы переходим от блок-схемных представлений к представлениям в
структурных формулах, а затем уже эти последние относим к эмпирическому
материалу.
Вот, наверное, и все, что здесь можно сказать, исходя из самой общей позиции.
Поэтому на первых этапах рассуждения оказывается очень непонятным, какое
отношение существует между блок-схемными и структурными представлениями.
Хотя мы можем довольно подробно и детально зафиксировать способы
употребления одних и других, то, что нас интересует – объективные
содержательные различия, соответствующие этим двум видам схем, –
остается невыясненным.
Таким образом, мы начинаем анализ с употребления этих схем – с употребления
их в отношении к эмпирическому материалу, в отношении друг к другу и т.п., –
затем мы должны всему этому придать принципиально иную форму; всем этим
различиям мы должны дать некоторую смысловую, содержательную
интерпретацию. Мы должны сказать, что каждая из этих схем выражает строго
определенное содержание и именно поэтому они употребляются таким образом и
находятся друг с другом в таких отношениях.
Другими словами, мы должны приписать каждой из этих схем определенный
смысл, а затем отнести этот смысл на нашу общую онтологическую картину,
придав этим смыслам не только некоторое объективное существование, но и
определенное отношение друг к другу.
Эта работа имеет прямое отношение к той проблеме, которая была поставлена в
предшествующих докладах. Если вы помните, я очерчивал объектную область
деятельности, часть из нее выделял как известное и описанное в схемах замещения,
а другую часть, наоборот, объявлял неизвестной и утверждал, что она относится к
тому, что мы называем кинетикой деятельности.
Таким образом, мы примерно представляем себе уже, с чем мы будем иметь
дело в каждой области, но как соотнести их друг с другом – это остается
неизвестным. Поэтому я должен перейти ко второму из названных мной пунктов и
попробовать продвинуться в нем.
Первый вопрос, который здесь возникает: что значить наделить блоки нашего
разборного ящика связями или зависимостями, что представляют собой сами эти
связи?
Чтобы как-то попробовать ответить на этот вопрос, я обращусь прежде всего к
тем способам работы, которые у нас уже сложились и которые мы как-то
использовали. Они, как вы хорошо понимаете, складывались на интуитивном
уровне, но теперь я хочу постараться понять, что, собственно, мы делали.
Анализ показывает, что мы выделяли, а затем фиксировали в значках стрелок,
идущих от одного блока к другому, какие-то строго определенные эмпирические
явления. Выделяя блок средств, мы говорили затем, что на основе средств строится определенный
процесс, или процедура. Говоря «строится», мы рисовали стрелку от средств к продуктам. Точно так
же мы говорили: процесс становится объектом рефлективного анализа, и в ходе этого анализа из
процесса выделяются некоторые новые средства. Говоря слово «выделяются», мы опять рисовали
стрелку, теперь уже идущую от процесса к средствам. Иногда мы говорили, что процесс или
процедура получаются из определенных средств. Точно так же иногда мы говорили, что одни
средства перерабатываются в другие, и рисовали стрелку, идущую от одних процессов к другим.
Таким образом, всегда мы вели рассуждение по поводу каких-то кинетических
процессов – строятся, выделяются, получаются, перерабатываются – или еще чаще
– и это будет более точная характеристика – по поводу каких-то наших действий.
Когда мы приступали к анализу массовой деятельности, то тогда же мы
столкнулись с этой проблемой и довольно подробно ее обсуждали. Мы
констатировали тогда, что в самой массовой деятельности как таковой не может
быть никаких такого рода блоков и связей, какие мы рисуем в схемах. Мы отмечали
там существование множества как бы сцепляющихся друг с другом деятельностей.
И это правильно для любых видов деятельности. Предположим, что существует
процедура решения какой-то задачи, зафиксированная в тексте. Этот текст –
говорили мы – передается из одного места в другое, или транслируется. Мы
предполагали, что передача – это всегда какая-то другая деятельность с этим
текстом. Этот текст всегда оказывался включенным в деятельность по передаче, и
именно деятельность осуществляла трансляцию. Точно так же мы говорили, что
транслируемый текст усваивается человеком и выступает в качестве средства какой-то другой
деятельности. Но как само условие, так и тем более употребление некоторых средств есть
определенная деятельность.
Поэтому если мы элиминируем вещные оформления деятельности – вещи,
знаки и все остальное, работающее в качестве элементов деятельности – и будем
представлять единицы деятельности как таковые – а мы пробовали это делать, – то
тогда мы все это должны будем изобразить как примыкание одних единиц
деятельности к другим. Если поднять материалы тех лет, то вы увидите, что мы
довольно подробно обсуждали виды и способы сцепления деятельностей друг с
другом. Но обычно мы не углубляемся в вопрос о том, как и за счет чего
происходит сцепление разных видов деятельности, мы производим схематизацию
смысла введенного нами понятия, просто фиксируем сам факт сцепления и
изображаем его с помощью специального значка связи.
Если предположить, что некоторая деятельность-I была воспроизведена в виде
деятельности-IV с помощью деятельности-II и деятельности-III, то мы обычно
изображали это, зарисовывая сначала деятельность-I, потом деятельность-IV, а
потом, элиминируя деятельности II и III, рисовали просто стрелку связи, идущую от
деятельности-I к деятельности-IV. Мы изображали деятельности II и III, но не как
таковые, не как деятельности, мы придавали им совершенно особое и
специфическое выражение. Мы трактовали их в качестве деятельностей, а
рассматривали их как механизм, обеспечивающий тот или иной перенос
деятельности из одного места в другое или, наоборот, как механизм преобразования
деятельности из одного вида в другой и т.д.
Значит, за значками связи скрываются тоже какие-то деятельности, но,
обозначая одни как элементы, а другие как связи, мы задаем различный подход к
ним и различную их интерпретацию в зависимости от того, какой механизм мы
хотим и должны объяснять. Если в качестве примера мы возьмем механизм
в виде колесной зубчатой передачи, то при схематическом его
изображении мы всегда сможем задать крайние колеса, а весь
промежуточный механизм передачи вращения от первого колеса к
последнему представить в виде стрелки связи, по которой движение как
бы передается из одного места в другое. Последний случай совершенно
аналогичен предыдущему, относящемуся к деятельности.
Таким образом, и мы уже не раз обсуждали это, связь как таковая не имеет
непосредственного материального выражения, это есть особый способ
схематизации некоторых групп рассматриваемых нами явлений.
По этой схеме мы можем рассмотреть смысл наших выражений: процедура
строится на основе средств, средства выделяются из процедуры и т.п. За этим
всегда стоит некоторая деятельность, создающая определенный продукт, а мы
выделяем этот продукт, фиксируем его в изображении связи и говорим, что одно
состояние связано с другим.
Когда мы таким образом, в виде связей, изображаем некоторые процессы или
деятельности, то при этом совершенно естественно происходит расщепление
средств. Тогда средства распадаются на то, что мы раньше называли материалом, и
на то, что называлось собственно средствами. Материал – это то, из чего строится
процесс, как бы строительные кирпичики, средства – это то, с помощью чего
строится процесс – планы, регулятивы, вообще орудия, средства в собственном
смысле этого слова.
Но как только мы предположим, что средства в широком смысле слова
распадаются на две группы – материала и собственно средств, – и мы теперь
должны в наших схемах изображать вместо одного блока средств два блока, так
тотчас же должно будет произойти и обычно происходит соответствующее
изменение изображения связей. Мы вынуждены говорить, что процедуры строятся
из материала, а средства при этом управляют этим строительством. У нас
появляются особые, интуитивно схватываемые связи и отношения – например
отношения управления или отношение «служить собственно средствами».
Ясно, что, в принципе, такому процессу членения и детализации нет ни конца,
ни края. Благодаря этому все блок-схемные представления оказываются какими-то
удивительно произвольными и необоснованными. Я пока не знаю, нужно ли по
поводу этого радоваться или, наоборот, огорчаться. Может быть, в том, что схем
этих много и они могут строиться весьма произвольно, заключен не недостаток, а
наоборот, великое их преимущество. Может быть, за счет этого мы приобретаем
новые весьма мощные и широкие возможности; надо только научиться ими
пользоваться и управлять ими, знать, когда какие схемы можно строить и
использовать и что из этого в каждом случае можно получить. Во всяком случае,
сейчас это стоит как вопрос, и в общем виде я сформулировал бы его так: имеется
море Лейбницевых монад, они как-то взаимодействуют друг с другом и
скрепляются в более сложные комплексы; чтобы как-то описать этот объект, мы
некоторые из монад должны считать элементами целого, а другие, наоборот,
элиминировать и представлять как обеспечивающие или осуществляющие связи;
тогда возникает вопрос, какие собственно расчленения мы можем задавать этому
морю монад из деятельностей, какие связи в нем могут существовать –
комплицирование, управление и т.п.
Здесь необходима какая-то единая точка зрения и какой-то единый подход,
которые ввели бы все это многообразие в какие-то закономерные и сравнительно
легко обозримые рамки. Эта позиция должна дать нам представление о том, что
можно и что, наоборот, нельзя делать в этой области. Все это – вопрос, который, на мой
взгляд, является для нас сейчас одним из самых главных.
Если вы вспомните то, что я говорил прошлый раз, то заметите, что мы здесь
оказываемся как бы сдвинутыми в своем исследовании еще раз вверх и вправо, т.е.
в область средств. Сначала мы исследовали мыш ление, и тогда в качестве
средства выступало понятие деятельности, потом мы исследовали
деятельность, и тогда в качестве средств выступали понятия системы и
структуры, а сейчас основным объектом исследования становятся сами
системы и структуры. Но где сред ства анализа для этого? Найдем мы
что-то в качестве таких средств или не найдем – мы, во всяком случае,
уже вышли к этой проблеме и должны ее как -то обсуждать.
Поставив этот общий вопрос, я хочу резко сузить область своего рассмотрения
и рассказать об одном очень эффективном и многозначительном результате,
который был получен около года назад В.М.Розиным и связан с определенным
пониманием этих структур, а именно с пониманием их как некоторых машин – это
чисто условное название – и как некоторых организмов.
Но прежде чем перейти к этому вопросу, еще несколько слов о самих
структурах в ответ на замечание Розина.
Когда мы смотрим на море монад, то мы пользуемся для представления его тем
или иным понятием структуры. Суть этого подхода в том, что мы выделяем в
очерченном нами объекте множество разнородных элементов и единиц, затем
некоторые из них объявляем «подлинными элементами нашей системы» – тогда они
обладают какими-то атрибутивными свойствами, – другие же монады, наоборот, не
фиксируются нами как таковые, но часто присутствуют в виде связей. Поскольку во
всех случаях такого рода мы работаем в схемах двойного знания, я могу
утверждать, что я всегда вижу сам объект, т.е. все множество составляющих его
монад, но некоторые из них я фиксирую как элементы системы, а другие, наоборот,
элиминирую, объявляя связями.
В чем основание для такого разграничения и разделения всех этих образований,
я до сих пор не понимаю. Например, один человек – начальник и рассматривается
нами как активный деятель, а другой – связной; между ними как людьми нет
никакой разницы, но связного мы можем заменить средствами проводной связи, как
орган он не будет действовать в нашем представлении объекта. Но это легкий
пример, и его, в общем-то, можно объяснить. Что же касается деятельности, то у нас
пока нет системно-структурных ее представлений, а поэтому в общем случае не такто легко объяснить, почему мы в тех или иных случаях одни монады деятельности
выделяем в качестве элементов, а другие элиминируем и сводим к связям.
Когда мы нарисуем ту или иную структуру системы деятельности, мы хорошо
понимаем разницу между элементами и связями – но всегда благодаря этой
структуре и сквозь призму этой структуры. А меня сейчас интересует другое: по
каким основаниям и какими средствами рисовать в каждом случае одну, а не
другую структуру? Другими словами: где те позиции, которые задают нам способы
структурного виденья моря человеческой деятельности, с которым мы имеем дело?
И еще можно сказать, что у нас сейчас не хватает гипотез в отношении возможных
структур массовой деятельности. И до тех пор пока у нас их не будет, нам будет
казаться, что каждая создаваемая нами схема весьма произвольна. Теперь я
возвращаюсь вновь к идее машины.
Эта идея была впервые изложена В.М.Розиным при анализе методов нашей
работы. Примерно так же, как я это делаю сейчас, он рассматривал историю
развития наших представлений о деятельности и в этой связи ввел сначала идею,
потом представление и, наконец, даже понятие о машине. По сути дела и
фактически, эта идея была развертыванием и модификацией другого нашего
представления, которое вырастало из принятого у нас анализа значений и вообще
знаковых структур. На одном из прошлых докладов я рассказывал вам об этом
методе.
Предположим, что у нас имеется некоторая знаковая структура и мы хотим ее
исследовать. Как известно, в этих случаях мы прежде всего обращаемся к анализу
употреблений знаков. Мы выясняем, где и как эта знаковая структура должна
«работать». Классический случай, на котором вводил свои основные представления
Розин – разливы Нила, стирающие конфигурацию полей, которые каждый год вновь
должны быть восстановлены.
Спрашивается: какие средства могут обеспечить такое восстановление?
Обратившись к конкретной истории, в которой эта задача решалась, мы обнаруживаем среди
знаковых средств, во-первых, алгоритмы измерения «сторон» полей, а во-вторых, определенные
рисунки полей, которые дают возможность относить данные алгоритмы к полям того или иного
вида – треугольным, прямоугольным, трапецеидальным и т.п.
Таким образом, у нас оказывается знаковая структура, содержащая два
разнородных элемента и, как оказывается, только она обеспечивает решение задач.
Рассматривая деятельность по восстановлению полей, мы выводим из ее структуры
определенные требования к характеру и структуре знаковых средств. Потом
оказывается, что эта же самая знаковая структура должна быть включена в какую-то
новую деятельность; анализ последней позволяет вывести и определить вновь
складывающиеся употребления и отнести их к самой знаковой структуре.
На этой основе можно, например, предсказать, какими должны быть более
развитые знаковые средства, и потом, когда мы проверяем это в истории, то обычно
оказывается, что представление было правильным. Поскольку старые употребления
знаковой структуры остаются и к ним все время добавляются новые, то знаковая
структура растет и усложняется, почти не теряя своих структурных элементов.
«Черты», заданные прежними употреблениями, каким-то образом соединяются с «чертами»,
заданными новым употреблением.
Такова та методика, которой мы пользовались при исследовании знаковых
структур. Она с самого начала очень четко осознавалась нами и фиксировалась в
понимании и соответствующих понятиях. С какого-то момента мы попробовали,
кроме того, изобразить ее в некоем объективированном плане. Из этого
изображения родилась очень занятная структурная схема. Фактически, она лишь
выражала в графической форме основную идею усложнения знаковых структур по
мере появления новых видов и способов употребления входящих в них знаков.
Я попробую изобразить ее в самом схематическом виде:
f1
I
f1
f2
II
f1
f2 f3
IV
III
f4
IV
Обозначим кружком рассматриваемую нами знаковую структуру, взятую на
каком-то этапе ее существования. Затем зададим некоторое новое употребление
этой структуры: предположим, что она должна выступать в роли определенного
средства при решении каких-то задач. Это новое употребление как бы переводит
или преобразует знаковую структуру к другому, более сложному виду. Потом на
это новое состояние знаковой структуры накладывается новое, более сложное
употребление, и, соответственно, структура преобразуется к новому виду и т.д., и
т.п. Может так получиться, что на какую-то знаковую структуру будут наложены
параллельно два разных употребления, и тогда она преобразуется к двум разным
состояниям.
Если вы взглянете на этот рисунок, то увидите, что это лишь графическое
изображение – причем, «графическое» и в смысле графа, хотя здесь есть некоторые
нюансы – того, что делал при исследовании знаковых структур исследователь. Но
эта работа исследователя предстала теперь перед нами в виде некоторого
объективного процесса или объективной структуры.
Поэтому теперь мы можем с ней оперировать и манипулировать. В частности,
мы можем мысленно как бы вынуть знаковую структуру из той системы, в которой
она сейчас задана. Тогда круги выступят в виде чистых ячеек, или мест. Мы сможем
задать вопрос: а что, собственно, изображено во всей этой структуре, что там
осталось после того, как мы вынули сами знаковые структуры? В частности, мы
сможем поставить вопрос, что представляют собой переходы от одной ячейки к
другой.
Конечно, мы можем трактовать это изображение как изображение тех
преобразований, которые происходят со знаковыми структурами; мы сможем
говорить, что знаковые структуры в этом процессе преобразуются. Такое
истолкование оправдано, но лишь в диахронном плане. Но ведь, кроме того, перед
нами оказалась уже развернувшаяся структура, и мы можем поместить ее в музей
или в арсенал знаковых средств деятельности. Там мы будем иметь структуру,
которая получилась после того, как она прошла все нарисованные нами места, или
ячейки. Мы вынули саму структуру, но оставили в некотором статическом
изображении путь, пройденный ею. И теперь мы сам этот путь со всеми его ячейками и
приходящими к ним связями или функциями можем рассматривать как некоторую статически и
постоянно действующую структуру.
Именно здесь появляется или вводится понятие о машине, через которую как бы
проходила или протаскивалась обрабатываемая деталь – исследуемая нами знаковая структура.
Вначале она была не чем иным, как некоторой заготовкой, а пройдя через все
изображенные нами ячейки машины, она приобрела нужный нам вид, тот самый,
который сейчас задан в конечном состоянии, в музее или в арсенале.
Таким образом, нарисованная нами структура выступает как некоторая машина,
которая преобразует другие структуры, структуры проходящего через нее
материала. Пусть вас не смущает то обстоятельство, что выше я все время говорил,
что это изображение есть изображение пути, пройденного рассматриваемой нами
знаковой структурой. Машина есть не что иное, как жестко организованный путь некоего
объекта в строго определенных условиях, или, иначе, как последовательность условий,
организованная в некоторый путь.
Важно, что машина как таковая обладает определенной структурой. Мы можем
говорить об этой структуре как о чем-то статическом и постоянно
функционирующем.
Теперь нетрудно сопоставить введенное мною выше изображение с обычно
применяемыми нами изображениями блок-схем. Нетрудно показать, что они, по сути дела,
ничем – ни графикой, ни смыслом употребления, ни объектным содержанием – не
отличаются друг от друга, во всяком случае, пока и на том уровне приближения, на
котором я сейчас работаю и рассуждаю.
Здесь мы, естественно, приходим к очень интересной проблеме: что такое
машина и что мы можем называть машиной? Здесь масса разных аспектов. В какомто плане то, что я сейчас нарисовал, сродни машине Тьюринга, но все же это –
нечто иное.
Нарисовав всю эту структуру и вынув из нее обрабатываемый или
перерабатываемый материал, в данном случае сами знаковые структуры, вы можете
и даже обязаны поставить вопрос: что же эта структура изображает и при каких
условиях то, что в ней изображено, может рассматриваться как особое объективное
образование?
Если вы начали пользоваться подобной структурой, если она получилась у вас в
особом изображении, то в конце концов вы обязаны поставить вопрос о том, что она
обозначает и изображает. Но ответ на этот вопрос вы будете давать с учетом ее
функций, т.е. в данном случае с учетом отношения к исходно выделенным
знаковым структурам. Ведь начинали мы анализ именно с них, и в подсобной роли
по отношению к ним появилась сама эта структура. Поэтому при ответе на вопрос,
что она изображает, мы должны будем исходить именно из этой ее подсобной роли
и функции.
Конечно, если ограничить все дело какой-либо единичной знаковой структурой,
то можно будет сказать, что это – схема, изображающая ее генетический путь, путь
ее генезиса и развития. В таком случае, конечно, интерпретировать эту структуру
как машину будет нельзя. Но дело в том, что мы никогда не рассматриваем ее как
изображение генетического пути единичной структуры.
Изучая употребления знаковых структур, мы с самого начала руководствуемся
установкой на выделение общего. Мы рассматриваем и фиксируем лишь те употребления
знаков, которые распространяются на разные знаки, т.е. являются общими. Точно
так же мы фиксируем в своих знаниях о после довательностях употребления
только те последовательности, которые точно так же являются общими. Поэтому мы уже не можем
трактовать изображенную нам структуру как путь какого-либо одного знакового образования, а
должны трактовать ее как путь многих или даже всех знаковых образований.
Вместе с тем, мы должны трактовать эту структуру как нечто постоянно
действующее и функционирующее, а все выделенные нами виды употребления – как постоянные
действия или каналы действия, влияющие на все без исключения знаковые образования или на
достаточно широкие их классы.
Вы понимаете, я надеюсь, что сейчас все рассуждение ведется в
предположении, что есть всего одна машина, развертывающая знаковые структуры.
На деле их, наверное, несколько, но предположение, что их несколько, как вы
понимаете, не изменит существа моих рассуждений.
После этих методических разъяснений можно попытаться ответить на вопрос,
что изображает подобная структура. По смыслу предшествующих рассуждений и
способов ее введения, это – многообразие тех способов употребления, в которых
работают знаковые структуры, и связь выбранных видов упрощения этого
употребления.
Следующим же шагом рассуждения я могу несколько расширить эту
интерпретацию. Ведь «употребления» – это всегда некоторое сокращенное
обозначение для фиксации разных видов деятельности. Значит, по сути дела,
нарисованная нами структура изображает многообразие и связь различных видов
человеческой деятельности, в которых работают, или в которые включены,
знаковые структуры.
Эти определения естественны, ибо до сих пор я вел рассуждение на материале
знаковых структур. Но я могу от них освободиться и таким путем перейти к
следующему обобщению. На место знаковых структур я могу поставить вещи или
понятия, или еще что-то в этом роде. И каждый раз, независимо от характера
материала, я буду получать ту или иную машину.
Теперь попробуем взглянуть на все это еще с одной точки зрения. Структура,
получившаяся в результате прохождения по всему этому пути, как бы собирает в
себе все те многообразные употребления, которые были привязаны нами к разным
местам, или ячейкам, машины. Рассматривая конечную знаковую структуру и
фиксируя на ней все многообразие употреблений, в которых она существует, я,
конечно, теряю представление о том порядке и той последовательности, в которой
она сложилась и оформилась.
Это представление о порядке было крайне важным, с одной стороны, для
разложения самой знаковой структуры по составляющим, а с другой стороны, для
генетического анализа самих употреблений в их взаимных зависимостях друг от
друга. Эта потеря, конечно, очень важна и существенна. Имея изображение
структуры машины, мы получаем возможность раскладывать саму структуру
знакового образования в том порядке и в той последовательности, которые
соответствуют внутренним отношениям значений и функций внутри самой этой
знаковой структуры. Благодаря имеющемуся у нас изображению структуры
машины, мы могли заменять каждую развитую знаковую структуру серией или
последовательностью ее моделей. Эта последовательность соответствовала как
этапам развития данного знакового образования, так и внутренним
конституирующим моментам ее функционирования.
Таким образом, в генетическом анализе самым важным и главным была
последовательность употреблений. Но сейчас вся эта машина переделывается и
перестраивается: все разнообразные употребления относятся нами теперь к одному,
последнему месту машины, а вместе с тем – к последнему структурному состоянию
знакового образования. Тогда мы получаем одну систему, которая уже не
соответствует никакому пути, а просто должна иметь такое строение или такую
полиструктуру, которая должна соответствовать всем многообразным функциям
или употреблениям знаков. Соответственно этому, между знаковой структурой, взятой в ее
употреблении, и структурой машины, производящей это знаковое образование, устанавливаются
определенные соответствия.
Интересно, что структуру этой же самой машины мы можем рассматривать как
систему требований, предъявляемых нами к знаковому образованию.
Здесь есть еще интересный вопрос о том, что может происходить со знаковыми
образованиями и, соответственно этому, какими могут быть разные машины. В
одних машинах материал лишь наращивается, в других он может
преобразовываться по разным, весьма отличающимся друг от друга, законам. Когданибудь в дальнейшем нам нужно будет специально обсудить вопрос о типах возможных здесь
машин.
– Мне представляется здесь весьма сомнительным тезис, что структуры
могут наращиваться. По смыслу слова «структура» может происходить замена
одной структуры на другую. Если речь идет о наращиваниях, то тогда это уже не
структуры, а нечто другое.
Хотя я чувствую справедливость этого замечания, но оно явно не соответствует
тому, что здесь происходит, и моим представлениям о том, что должно
происходить. Но, вместе с тем, я чувствую справедливость такой апелляции к
понятию структуры. Повторяю, это очень сложный вопрос, требующий
специального обсуждения.
Здесь очень интересно превращени е истории функции или,
соответственно, истории употреблений какого -либо объекта в систему
единовременно задаваемых требований к нему.
Я хотел бы здесь специально отметить, что мои замечания по докладу
Ю.Ю.Нарышкина представляли собой лишь фрагмент той общей идеи, которую я
сейчас излагаю. Если вы помните, мы рассматривали каждый проект и
зафиксированное в нем изделие на стыке многих деятельностей. И поэтому это,
собственно говоря, такие же машины, протаскивающие через себя проект или
изделие.
По сути дела, мы уже подошли к самому главному. Структура, представленная
нами выше, изображает некоторую взаимосвязь и сцепление различных видов
деятельности, той деятельности, в которой движется одна вещь или одно какое-то
знаковое образование. Но тогда мы можем глядеть на эту структуру не только как
на машину, через которую протаскивается некоторый объект, но мы можем точно
так же смотреть на нее, как на некоторый организм.
Если мы взглянем на всю нарисованную нами структуру с генетической точки
зрения, но с иной, нежели мы смотрели раньше, то все дело предстанет перед нами
как появление сначала одной деятельности, потом другой, потом третьей и т.д. Мы
должны будем говорить, что каждый новый вид деятельности появляется в какой-то
момент и сцепляется с предыдущими. Мы должны будем говорить, что вместе они
образовали новую, более сложную структуру. Таким образом, мы начинаем глядеть
на нашу структуру, выбросив все те знаковые образования, которые в ней движутся,
и теперь мы видим, как постепенно оформляется и наращивается сама эта структура
машины.
При этом мы можем рассматривать это наращивание либо как продукт какойлибо деятельности, либо же как результат естественного развития самой
деятельности, развития, в ходе которого постепенно появлялись и сцеплялись с
предыдущим все новые и новые виды действий и действований. Именно эта
последняя, естественная точка зрения на развертывание систем деятельности
заставляет нас вводить понятие организма.
Розин. Но тогда придется ввести еще понятие среды, существующей вокруг
организма.
Да, я понимаю, что это придется сделать. Но сами способы рассмотрения
организма весьма разнообразны и требуют специального обсуждения. А пока мне
важно подчеркнуть, что вводится или появляется еще один способ представления
изображенной нами выше структуры. У нас появилась возможность рассматривать
деятельность, взятую со стороны ее развертывания и наращивания, как некоторый
органический объект и даже как некоторый организм.
Но тогда мы приходим к очень важному и интересному вопросу: что такое
организм и какие объекты могут рассматриваться как организмы?
Вернемся, однако, назад. Напомню вам, что я поставил вопрос о том, в чем
смысл блок-схемных изображений и можно ли трактовать блок-схемы как
изображения структур. Я спрашивал, в чем смысл и оправдание введения в блоксхемные представления значков связи; я спрашивал, в чем формальный и
содержательный смысл последних. Именно эти вопросы должны стать предметом
специального обсуждения в ближайшее время.
В дальнейшем я рассмотрел один частный вопрос, связанный с двояким
пониманием структур такого типа, какой был нарисован выше. Я говорил в этой
связи о понятии машины, вырастающем на базе того объективного изображения
методики, которым мы пользуемся для анализа знаковых систем, и о понятии
организма.
Я бы считал полезным в этой связи специально рассмотреть метод и теорию
граф. Нам нужна работа под примерным названием «Злоключения метода граф».
Лефевр пару месяцев тому назад рассказывал нам об очень интересных проблемах,
возникающих в связи с той особой и специфической трактовкой знаков связи,
которая появилась в этой области: знаки линий и стрелок стали интерпретироваться
как выражение формального пространства, т.е. не как особое изображение любых
содержаний, а как изображение содержания одного узкоспециального типа. Если бы
это были любые содержания, то они допускали бы любые и разные способы
оперирования, если же мы таким путем выражаем пространство, то оно допускает
только один и сугубо определенный способ оперирования. Но к этому вопросу,
повторяю, нужно будет вернуться специально.
В этой связи возникает много интересных вопросов. Я мог бы, в частности,
спросить, какие именно вопросы можно ставить по отношению к структурам такого
типа и что, соответственно, в них может быть исследовано – какие закономерности,
механизмы, свойства и т.п. В известном смысле это – формальные вопросы,
и формальная сторона их должна быть рассмотрена в первую очередь.
Но, кроме того, конечно, здесь есть еще и специально -содержательные
вопросы; мы должны выяснить, что именно, т.е . какое содержание,
можно выражать в структурах такого типа.
Вторая группа вопросов связана с организмическим представлением этих
структур. Мы должны выяснить, что означает исследовать нечто как организм,
какие формальные требования и условия накладываются на такой анализ, что мы
хотим выявить и зафиксировать в знаниях, когда мы рассматриваем нечто как
организм. Мы должны понять, какие именно явления могут рассматриваться как
специфически организмические. В этой связи, наверное, нам понадобится история
понятия организма и соответствующая схематизация этой истории. Рассматривая
эту историю, мы должны будем выделить и перенести в свою область все проблемы
и вопросы, которые там встали.
В заключение моего цикла докладов я хочу коротко отнестись к той программе,
которая была сформулирована вначале. Наверное, можно сказать, что я выполнил
примерно половину из того, что намечал первоначально. Я хотел бы очертить и
соотнести друг с другом те логические представления, которые были выработаны
нами в процессе нашей работы. Я подчеркивал, что сейчас таких представлений у
нас уже несколько, и стремился как можно резче поставить вопрос, что из этого
следует. Я не смог охватить всего, что нужно было, и какую-то часть работы мне
придется доделывать в начале следующего года.
В следующих пунктах и частях доклада я должен был бы обсудить вопрос о
том, как мы стали использовать блок-схемы для изображения структуры науки,
какие при этом появлялись интерпретации связей, устанавливаемых между
блоками, и какие способы работы с самими блок-схемами мы стали практиковать.
Это первая группа вопросов, до которых, по сути дела, я уже дошел и которые нам
нужно будет обсуждать в начале следующего учебного года.
Дальше я должен был показать, что новый способ работы с блок-схемами дал
возможность сформулировать систему инструкций и правил, которые могли бы
быть обобщены в теме: «Этапы организации и проведения научного исследования».
Это один из самых интересных вопросов. После того как мы изобразили в блоксхемах науку и выработали некоторый «живой способ работы» с этими блоксхемами – я покажу, что сам этот способ работы изображается в графах особого
типа или в диаграммах, – после этого стали возможными некоторые рекомендации
для научных работников и аспирантов: что они должны делать в ходе своего
научного исследования; это предписание может быть представлено в виде
некоторого календарного плана. Теперь мы получили возможность говорить,
какую систему движений должен выполнить всякий, осуществляющий
научное исследование. Мы могли говорить о то м, какие результаты и
продукты он должен был получить на каждом этапе исследования и
каковы те требования, которые предъявляются к этим продуктам.
Подобные схемы и диаграммы отличаются от схем системы PERT тем, что в
них нет синхронизации в подлинном смысле этого слова, а соответствия и
соотношения между движениями в разных блоках устанавливаются по другим
основаниям. Существенную роль здесь играет онтологическое представление
объекта, вокруг которого и на базе которого все строится. Но, конечно, вопрос о
соотношении между блок-схемами изображения структуры науки и специальными
изображениями процессов научного исследования требует специального
дополнительного обсуждения. Интересно, что сейчас мы чаще всего
пользуемся таким же методом, к которому прибег В.М. Розин, когда он
рассказывал о работе своих машин: идем к одному блоку, берем в нем
что-то, несем в другой блок, в этом блоке берем что -то, несем в третий
блок и т.д., и т.п. По сути дела, Розин своими собственными
движениями и рассказом о них имитировал на учно-исследовательскую
работу в каком -то научном предмете.
Следующая группа вопросов, которая здесь возникает, касается подключения
человека к деятельности. Не нужно доказывать, что с этой новой точки зрения
меняется понимание и интерпретация всех наших схем; в частности, мы должны
дать новую трактовку нашим исходным схемам замещения. Мне представляется
важным показать в этой связи, что наша трактовка схем замещения как знаний была
ошибочной по меньшей мере наполовину. Сейчас мне представляется, что знания
возникают в тех случаях, когда поверх связей замещения возникают еще отношения
к смыслу, которые связывают человека с отношениями замещения и отношения
замещения с человеком. В связи с проблемами подключения человека к
деятельности мы должны будем выйти к проблемам собственно психологии и
теории сознания. Нам придется заниматься ими в значительно большей мере, чем
мы это делали до сих пор.
Третья группа вопросов – тоже очень важных и принципиальных – касается
схематизации смысла. В последних наших дискуссиях этот вопрос обсуждался,
наверное, больше, чем другие. Я имею в виду доклады Генисаретского, Розина и
Сазонова. Думаю, что этот вопрос теснейшим образом связан также с вопросом о
природе понимания и дает нам возможность выйти к проблемам понятия.
Как оказалось, сама схематизация смысла во многом зависит от так
называемой позиции исследователя – вопрос, который мы начали
обсуждать не так давно. Особенно реально эти вопросы выступили во
время обсуждения доклада М.А.Розова. В этой связи мы подошли к
проблеме
взаимоотношения
и
взаимосвязей
разных
позиций
исследователя, имеющего дело в первую очередь со знаковыми
структурами.
Еще одна группа вопросов, которая была объявлена в программе и должна была
осуществиться, относится к идее табло и рефлексивных игр.
Пятая группа вопросов, до которых я не дошел, касалась некоторых
специальных проблем исследования систем и структур.
В своих докладах я стремился нарисовать общую картину нашего движения, его
тенденций, перспектив, я хотел подчеркнуть те, весьма грубые несовпадения и
несоответствия, которые существуют сейчас в наших взглядах. Эти рассогласования
задали мне основные группы проблем и направления исследований.
Вы понимаете, я надеюсь, что все эти очень большие, можно даже сказать,
глобальные проблемы могут решаться лишь путем очень детального и
скрупулезного анализа. Поэтому в начале следующего года нам придется
дорисовать общими мазками всю эту картину, а с другой стороны – и это будет
главным – значительно детализировать ее и определить основные проблемы и
задачи работы, исходя уже из более детального описания ситуации. Для этого,
естественно, нам придется выделить узловые вопросы и обсуждать их значительно
подробнее и с большей тонкостью, чем я это делал сейчас.