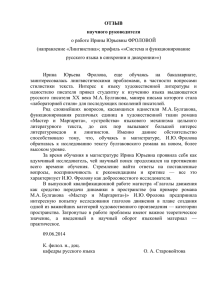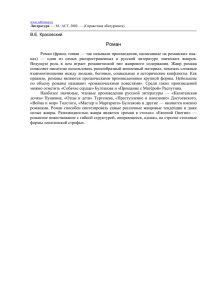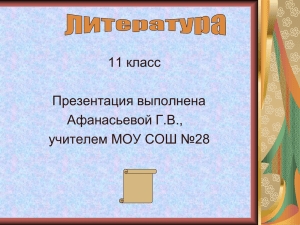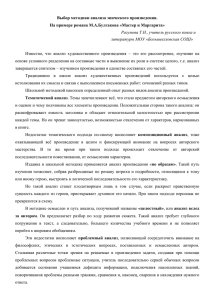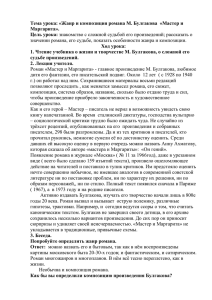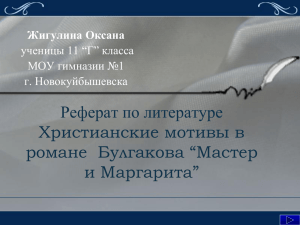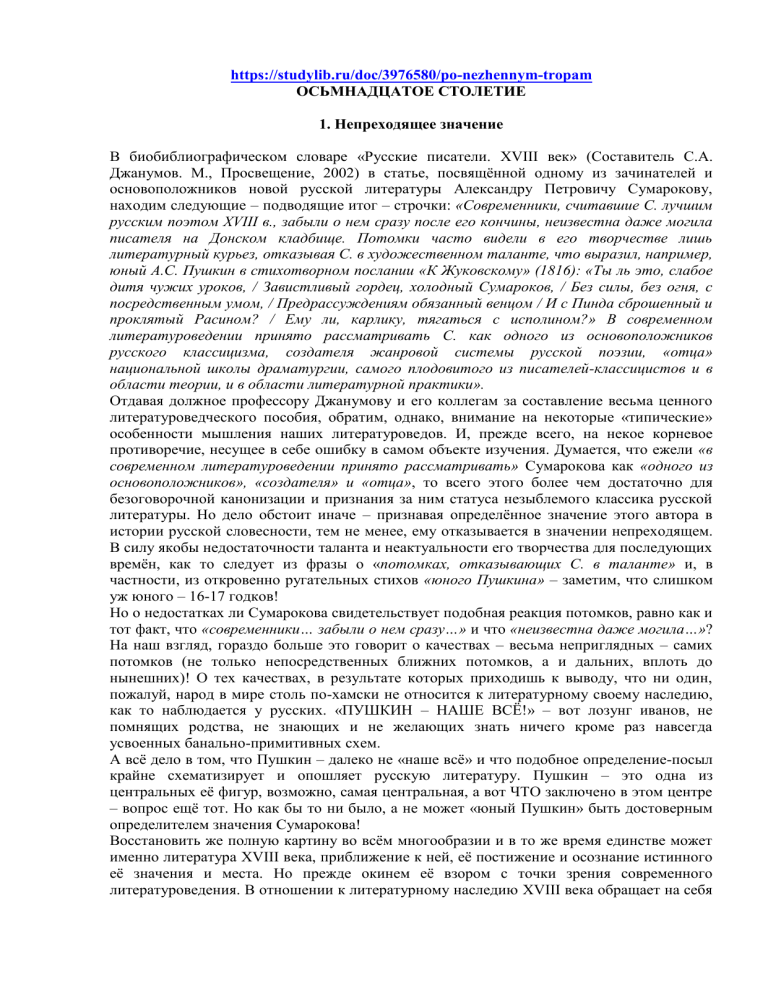
https://studylib.ru/doc/3976580/po-nezhennym-tropam ОСЬМНАДЦАТОЕ СТОЛЕТИЕ 1. Непреходящее значение В биобиблиографическом словаре «Русские писатели. XVIII век» (Составитель С.А. Джанумов. М., Просвещение, 2002) в статье, посвящённой одному из зачинателей и основоположников новой русской литературы Александру Петровичу Сумарокову, находим следующие – подводящие итог – строчки: «Современники, считавшие С. лучшим русским поэтом XVIII в., забыли о нем сразу после его кончины, неизвестна даже могила писателя на Донском кладбище. Потомки часто видели в его творчестве лишь литературный курьез, отказывая С. в художественном таланте, что выразил, например, юный А.С. Пушкин в стихотворном послании «К Жуковскому» (1816): «Ты ль это, слабое дитя чужих уроков, / Завистливый гордец, холодный Сумароков, / Без силы, без огня, с посредственным умом, / Предрассуждениям обязанный венцом / И с Пинда сброшенный и проклятый Расином? / Ему ли, карлику, тягаться с исполином?» В современном литературоведении принято рассматривать С. как одного из основоположников русского классицизма, создателя жанровой системы русской поэзии, «отца» национальной школы драматургии, самого плодовитого из писателей-классицистов и в области теории, и в области литературной практики». Отдавая должное профессору Джанумову и его коллегам за составление весьма ценного литературоведческого пособия, обратим, однако, внимание на некоторые «типические» особенности мышления наших литературоведов. И, прежде всего, на некое корневое противоречие, несущее в себе ошибку в самом объекте изучения. Думается, что ежели «в современном литературоведении принято рассматривать» Сумарокова как «одного из основоположников», «создателя» и «отца», то всего этого более чем достаточно для безоговорочной канонизации и признания за ним статуса незыблемого классика русской литературы. Но дело обстоит иначе – признавая определённое значение этого автора в истории русской словесности, тем не менее, ему отказывается в значении непреходящем. В силу якобы недостаточности таланта и неактуальности его творчества для последующих времён, как то следует из фразы о «потомках, отказывающих С. в таланте» и, в частности, из откровенно ругательных стихов «юного Пушкина» – заметим, что слишком уж юного – 16-17 годков! Но о недостатках ли Сумарокова свидетельствует подобная реакция потомков, равно как и тот факт, что «современники… забыли о нем сразу…» и что «неизвестна даже могила…»? На наш взгляд, гораздо больше это говорит о качествах – весьма неприглядных – самих потомков (не только непосредственных ближних потомков, а и дальних, вплоть до нынешних)! О тех качествах, в результате которых приходишь к выводу, что ни один, пожалуй, народ в мире столь по-хамски не относится к литературному своему наследию, как то наблюдается у русских. «ПУШКИН – НАШЕ ВСЁ!» – вот лозунг иванов, не помнящих родства, не знающих и не желающих знать ничего кроме раз навсегда усвоенных банально-примитивных схем. А всё дело в том, что Пушкин – далеко не «наше всё» и что подобное определение-посыл крайне схематизирует и опошляет русскую литературу. Пушкин – это одна из центральных её фигур, возможно, самая центральная, а вот ЧТО заключено в этом центре – вопрос ещё тот. Но как бы то ни было, а не может «юный Пушкин» быть достоверным определителем значения Сумарокова! Восстановить же полную картину во всём многообразии и в то же время единстве может именно литература XVIII века, приближение к ней, её постижение и осознание истинного её значения и места. Но прежде окинем её взором с точки зрения современного литературоведения. В отношении к литературному наследию XVIII века обращает на себя внимание разделение оного на то, что относится к истории литературы и на то, за чем признаётся право быть причисленным к собственно литературе. К собственно литературе с точки зрения современного литературоведения относятся: Ломоносов, Державин, Радищев, Фонвизин, и – с некоторыми оговорками – Карамзин. Ломоносов благодаря, прежде всего, статусу учёного – основоположника российской науки, а также своему простонародному происхождению и достаточно сильной поэтической одарённости – за ним признаётся приоритет над соперниками – Тредиаковским и Сумароковым. Державин как непосредственный (наряду с Жуковским) предшественник Пушкина – потому как каждый приравненный к божеству гений по своему рангу обязан иметь одного или нескольких предтеч. Радищев – однозначно как революционер-диссидент (со своей стороны отметим, что автор этот, сочетающий мощный ум с божественной интуицией, достоин всяческого уважения). Фонвизин – как создатель образцовой сатирической комедии горизонтального плана (аналогично Крылову-баснописцу). Наконец Карамзин – с оговорками потому как запатентовал себе место в каноне не как литератор, но, прежде всего, как создатель «Истории Государства Российского». Что же до остальных – то значение их признаётся исключительно для истории русской словесности, но никак не для живой литературы. И словцо даже соответствующее химерическому их статусу подобрали. В своё время – ещё в начале XIX столетия, то есть в эпоху ниспровержения классицизма – в литературоведении утвердился термин «ложноклассицизм». Так в противовес древним грекам, которые-де являли классицизм истинный, стали именовать направление в искусстве последующих временных эпох, где в основе лежал перенос главных принципов искусства древнегреческого. Таким образом, в «ложноклассицизм» попали не только русские классицисты, но и Корнель, Расин, ЖанБатист Руссо, Буало, Вольтер, а ещё Тассо, Гораций и даже сам Вергилий. Поскольку, наследуя истинных классиков, они-де прошлое механически переносили в настоящее, и таким образом нарушали принципы «реалистичности» и «народности». Однако обвинение классицистов в «ложности» на поверку само оказывается ложным, поскольку исходит извне, а не изнутри, то есть не из сути явления, а от его противников – тех, кто его не признавал, а, следовательно, и не понимал сущностных его задач. Классицизм же вырабатывал собственную систему, исходил из собственных идей и задач, а потому со стороны его можно критиковать лишь по форме, но нельзя ниспровергнуть по сути. Можно ограничить его временное функционирование, обрубить его историческую эпоху, но нельзя уничтожить его вневременное значение! И в этом смысле явление Делакруа вовсе не перечеркивает значение Энгра, а просто расширяет оперативное пространство. Также как борьба Гюго, Виньи, Готье, Жанена за новое направление «романтизм» нисколько не умаляет значение старого, то есть классицизм Корнеля и Расина. А пришествие в русскую литературу романтизма в лице Пушкина, Николая Полевого и Бестужева (Марлинского) с их неприятием идей классицизма на самом деле не может умалить достоинства творений Сумарокова, Хераскова и Озерова. Интересно, что творения Корнеля и Расина нашими литературоведами таки признаются в качестве образцов высокой литературы, в то время как русскому классицизму оставляется значение сугубо историческое, и с этой позиции он изучается. Причина столь неуважительного отношения к собственному наследию двояка – с одной стороны она коренится ещё в том времени, когда ниспровергался классицизм – в начале XIX столетия, с другой – в особенностях мышления нынешних литературоведов, находящихся под колпаком два столетия формировавшегося литературного канона. «У нас нет литературы» – когда-то под этой фразой ничтоже сумняшеся спешили подписаться и Пушкин, и Бестужев, и Чаадаев, и Белинский, и мн. др. Николай Полевой – одно из светил русского романтизма – расчищая пространство для нового литературного направления, объявляет поход против русского классицизма, в результате чего безнадёжно устаревшими объявляются Сумароков, Княжнин, Херасков, Озеров. «У нас нет литературы»? – так ли это было в действительности? С высоты пройденных лет мы можем однозначно ответить: нет, не так! – и Пушкин с Полевым в этом очень здорово заблуждались. На что были как субъективные (у Пушкина), так и объективные (у Полевого) причины. Объективной является ОТСУТСТВИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ, то бишь достаточной отдалённости во времени. Из поля зрения ниспровергателей русского классицизма выпало понимание главной особенности новой (т. е. послепетровской) русской литературы, а особенность эта состояла в том, что различные – растянутые на века – этапы европейской литературы, она – русская литература – прошла в предельно сжатые сроки. Весь путь, пройденный западной литературой – от античных классиков через средневековую и ренессансную литературу и вплоть до просветительства и сентиментализма – русские классицисты попытались реализовать в одночасье! И в этом факте – и мы это докажем! – кроется нечто беспрецедентно-гениальное, что, к сожалению – вследствие отсутствия перспективы – не могли уразуметь русские романтики. Всё богатство западной литературы, создаваемое веками, ослепляло их подобно солнцу – и что по сравнению с грандиозным этим наследием творения русских классицистов, созданные за каких-нибудь 50 последних лет?! Но сегодня – с высоты пройденных лет, т. е. при наличии достаточной перспективы – литературное наше наследие можно увидеть во всём его непреходящем значении. С той, правда, оговоркой, что в настоящее время для восприятия классицизма вообще и русского классицизма в частности нужно еще дорасти – эстетически и умственно. Человеку XXI века необходимо вовсе не снизойти, а именно ДОРАСТИ до понятий более чем 200летней давности, органично прорасти в глубь истории – тогда и откроется внутреннему взору подлинное значение русского классицизма. И это будет – НОВОЕ ОТКРЫТИЕ ХОРОШО ЗАБЫТОГО СТАРОГО. 2. Три богатыря новой русской словесности а) Кто первый – король или шут? Со школьной скамьи мы привыкли восхищаться Ломоносовым. Пожалуй, нет большего единомыслия, чем в отношении непреходящего значения и непосредственных заслуг Михайлы Васильевича. Гоголь: «Ломоносов стоит впереди наших поэтов, как вступление впереди книги». Достоевский: «Бесспорных гениев с бесспорным «новым словом» во всей литературе нашей было всего только три: Ломоносов, Пушкин и частью Гоголь»… Стоит, однако, отметить, что сколь бы ни был прославлен своими деяниями выдающийся человек, чрезмерное его восхваление чревато опрощением и схематизацией. По той причине, что любое славное деяние, любое открытие, как правило, являются порождением не единичного действия единичного человека, но сцепления целого ряда действий и людей. И потому много глубже однозначных славословий благодарных потомков Ломоносова видится нам свидетельство младшего его современника Александра Николаевича Радищева. Именно «Словом о Ломоносове» заканчивается знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву», где при всём пиетете к деяниям Ломоносова в то же время подчёркивается: «Чужды раболепствования не токмо в том, что благоговение наше возбуждать может, но даже и в люблении нашем, мы, отдавая справедливость великому мужу, не возмним быти ему богом всезиждущим, не посвятим его истуканом на поклонение обществу и не будем пособниками в укоренении какого-либо предрассуждения или ложного заключения. Истина есть высшее для нас божество, и, если бы всесильный восхотел изменить ее образ, являяся не в ней, лицо наше будет от него отвращено». – Очевидно, что слова эти ни на йоту не утратили актуальности и сегодня – не только и не столько относительно Ломоносова, сколько в отношении основных положений отечественного литературоведения. Посему за несколько неудобоваримой сегодня формой, за архаичным слогом минувших времён постараемся увидеть непреходящую глубинную мудрость. Увидеть – и применить на деле. «Итак, отдавая справедливость великому мужу, – пишет Александр Радищев, – поставляя имя Ломоносова в достойную его лучезарность, мы не ищем здесь вменить ему и то в достоинство, чего он не сделал или на что не действовал; или только, расположая неистовое слово, вождаемся исступлением и пристрастием? Цель наша не сия. Мы желаем показать, что в отношении российской словесности тот, кто путь ко храму славы проложил, есть первый виновник в приобретении славы, хотя бы он войти во храм не мог. Бакон Веруламский не достоин разве напоминовения, что мог токмо сказать, как можно размножать науки? Не достойны разве признательности мужественные писатели, восстающие на губительство и всесилие для того, что не могли избавить человечества из оков и пленения? И мы не почтем Ломоносова для того, что не разумел правил позорищного стихотворения и томился в эпопеи, что чужд был в стихах чувствительности, что не всегда проницателен в суждениях и что в самых одах своих вмещал иногда более слов, нежели мыслей? Но внемли: прежде начатия времен, когда не было бытию опоры и вся терялося в вечности и неизмеримости, все источнику сил возможно было, вся красота вселенныя существовала в его мысли, но действия не было, не было начала. И се рука всемощная, толкнув вещественность в пространство, дала ей движение. Солнце воссияло, луна прияла свет, и телеса крутящиеся горе образовалися. Первый мах в творении всесилен был; вся чудесность мира, вся его красота суть только следствия. Вот как понимаю я действие великия души над душами современников или потомков; вот как понимаю действие разума над разумом. В стезе российской словесности Ломоносов есть первый». Прислушаемся же к мудрым словам Александра свет Николаевича. В своей оценке Ломоносова он акцентирует внимание не на конкретных его достижениях, а на общем значении, на импульсе, произведённом его деятельностью. И здесь вроде бы всё ясно – нет оснований сомневаться, что Михайло Васильевич – настоящий богатырь земли русской, наподобие былинных Святогора, Ильи Муромца или Микулы Селяниновича. Никто не сможет оспорить фундаментальность его вклада в развитие отечественных истории, естествознания, словесности. Но в то же время Радищев указывает и на вполне конкретные недостатки Ломоносова в области пиитики, в частности, на беспомощность в драматургии – не разумел правил позорищного стихотворения; на неудачный опыт эпической поэмы – томился в эпопеи; на отсутствие лирической составляющей – чужд был в стихах чувствительности; на свойственное одописанию многословие – в самых одах своих вмещал иногда более слов, нежели мыслей. То есть – при всей богатырской мощи как поэт имел он массу уязвимых мест. Интересно, что формально радищевскому анализу соответствует и реплика Пушкина из письма 1825 г. к А. Бестужеву: «Уважаю в нем великого человека, но, конечно, не великого поэта. Он понял истинный источник русского языка и красоты оного: вот главная его услуга». Впрочем, далеко не факт, что Радищев и Пушкин основывались на одинаковом разумении источника красоты. Но к критериям, на которых основывается оценка поэзии, вернёмся позже, а пока обратим внимание на одно место-утверждение в определении Радищева, которое требует уточнения: был ли Ломоносов первым? Чтобы всем стало ясно, в чём здесь дело и откуда ноги растут, следует вернуться на полтораста лет назад, к началу собственно российского стихосложения: «Вирши или стихи на русском языке появляются впервые, под непосредственным влиянием польской поэзии, в юго-западном углу России, не позже конца XVI века. По мере распространения школ, по мере распространения образованности в кругу русского населения западного и юго-западного края, распространялась всюду и охота к слаганию виршей. Для того, чтобы сделать такое слагание виршей возможным на русском языке, переняли совершенно несвойственный русскому языку, богатому разнообразием ударений, польский силлабический стих, в котором весь размер основывался только на цезуре в середине стиха, да на возвышении голоса в конце стиха (на предпоследнем слоге, по общим законам польского ударения). При разнообразии ударений, составляющем лучшее украшение нашего языка, приходилось совершенно переиначивать слова и делать большое насилие над способом выражения, чтобы вогнать русскую фразу в тесные рамки неудобного, неподходящего к ней силлабического стиха». (История русской литературы в очерках и биографиях. Сочинение П. Полевого. Часть 1. Древний период. Пятое издание. Санкт-Петербург. 1883). В качестве образца силлабической системы приведём стихи двух выдающихся её представителей и в то же время врагов-соперников на церковном поприще – один из которых, родом из Киева, стал верным сподвижником Петра Великого, второй – уроженец Галиции – истым ортодоксом Русского православия. Феофан Прокопович Кто крепок на Бога уповая, той недвижим смотрит на вся злая; Ему ни в народе мятеж бедный, ни страшен мучитель зверовидный, Не страшен из облак гром парящий, ниже ветр, от южных стран шумящий, Когда он, смертного страха полный, финобалтицкие движет волны. Аще мир сокрушен распадется, сей муж ниже тогда содрогнется; В прах тело разбиет падеж лютый, а духа не может и двигнути. О Боже, крепкая наша сило, твое единого сие дело, Без тебе и туне мы ужасны, при тебе и самый страх нестрашный. Стефан Яворский Ты, облечена в солнце, Дево Богомати, Да како аз, сень, к тебе дерзну приступати? Ты – красота, аз – мерзость, в тебе несть порока, Мене же потопляет бездна скверн глубока. Ты – благодать, аз – злоба, ты – рай, аз – геенна, Ты вся еси святаго духа исполнена. Аз диявольского исполнен навету, Несть убо причастия мне, тме, к тебе, свету. Обаче с надеждою к тебе приступаю, Ибо тя всех грешников прибежище знаю. Не отрини мя, молю тоя ради вины, Ибо свойство есть бытии тернию при крини; Нощи темной при луне обычно бывати, Тожде и аз да буду при тебе, о мати! Змий древле приближися ко красному раю, Того приближения к тебе и аз чаю. О девице, рождшкая всех тварей первенца! Покрий мя кровом крил ти, недостойна птенца. Таким образом, становится понятным воистину революционное значение «тонической» реформы, благодаря которой русская художественная словесность вступила в принципиально новый этап своего развития. Это было ни много ни мало начало новой русской литературы, пришедшей на смену древней – той, что охватывает огромный временной период с XI-го и вплоть до начала XVIII века. И первым её лицом – как по хронологии, так и в качестве первооткрывателя – является всё же не Ломоносов (при всём к нему уважении), а Василий Кириллович Тредиаковский. По той причине, что именно он – в работе «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» (1735) – первым пришёл к выводу о необходимости для русской поэзии силлабо-тонического (тонического) стихосложения взамен практиковавшегося силлабического. Ломоносов же завершил эту реформу знаменитой своей «Одой на взятие Хотина» с приложением «Письма о правилах российского стихотворства» (1739): «Первое и главнейшее мне кажется быть сие: российские стихи надлежит сочинять по природному нашему языка свойству, а того, что ему весьма несвойственно, из других языков не вносить». Но если кашу заварил не Ломоносов, а он только добавил в неё масла, то что же получается? Что не Ломоносова, а Тредиаковского есть та рука всемощная, чей первый мах в творении всесилен был? Это как раз тот случай, о котором поётся в некогда популярной песне: и не то чтобы да, и не то чтобы нет. Дело в том, что слишком уж неприглядным видится Тредиаковский: мал талантом, неуклюж и косноязычен, непрестанно подвергавшийся насмешкам современников и потомков, то есть чересчур комичен для столь грандиозной роли богатыря земли русской. Какой там богатырь – скорее шут гороховый, каким его на всю Россию выставил писатель Лажечников в романе «Ледяной дом»! Шута ли дело производить первый мах? И в результате получается вот что: как ни крути, а первым оказывается шут, за коим следует богатырь. И богатырю, как водится, приписываются все заслуги, ему же – всеобщее почтение, в то время как шуту – зуботычины. Таковы правила игры. б) Сквозь призму пушкинского взгляда Впрочем, не всё так однозначно. Если углубиться в историю вопроса, по крайней мере, в доступную его часть, и ознакомиться с мнением на этот счёт Пушкина сотоварищи, то откроется, что позиция у них слишком уж колеблющаяся, какая-то неуловимонеопределённая. В 1830 году в «Литературной газете» Пушкина и Дельвига главный полемист пушкинской партии князь Вяземский говорил: «У нас можно определить две главные партии, два главных духа, если непременно хотеть ввести междоусобие в домашний круг литературы нашей, и можно даже обозначить двух родоначальников оных: Ломоносова и Тредьяковского. К первому разряду принадлежат литераторы с талантом; к другому – литераторы бесталанные». Казалось бы, всё предельно ясно: противопоставление двух литераторов производится по принципу чёрно-белой оппозиции «талант – бездарность». Об отношении к Тредиаковскому как к воплощённой бездарности однозначно свидетельствуют уже ранние пушкинские стихи. Такие как лицейское обращение «К другу стихотворцу» (1814): Быть может, и теперь, от шума удаляясь И с глупой музою навек соединяясь, Под сенью мирною Минервиной эгиды Сокрыт другой отец второй «Телемахиды». Страшися участи бессмысленных певцов, Нас убивающих громадою стихов! Или стихотворение «К Жуковскому» (1816), в котором молодой Пушкин фиксирует свою литературную позицию: Но что? Под грозною парнасскою скалою Какое зрелище открылось предо мною? В ужасной темноте пещерной глубины Вражды и Зависти угрюмые сыны, Возвышенных творцов зоилы записные Сидят – Бессмыслицы дружины боевые. Далеко диких лир несется резкий вой, Варяжские стихи визжит варягов строй. Смех общий им ответ; над мрачными толпами Во мгле два призрака склонилися главами. Один на груды сел и прозы и стихов – Тяжелые плоды полунощных трудов, Усопших од, поэм забвенные могилы! С улыбкой внемлет вой стопосложитель хилый: Пред ним растерзанный стенает Тилемах; Железное перо скрыпит в его перстах И тянет за собой гекзаметры сухие, Спондеи жесткие и дактилы тугие. Ретивой музою прославленный певец, Гордись – ты Мевия надутый образец! Уточним, что Мевий – это римский поэт, противник Вергилия, объект эпиграмм Горация, то есть, по мысли Пушкина, это бездарный графоман, противостоящий настоящим талантам. Казалось бы, всё предельно ясно… но в 1833 году в неопубликованном эссе, впоследствии озаглавленном пушкинистами как «Путешествие из Москвы в Петербург», Александр Сергеевич пишет: «Тредьяковский был, конечно, почтенный и порядочный человек. Его филологические и грамматические изыскания очень замечательны. Он имел о русском стихосложении обширнейшее понятие, нежели Ломоносов и Сумароков». Ту же позицию озвучивает Пушкин и после выхода романа «Ледяной дом» в письме к Лажечникову от 3 ноября 1835 года: «За Василия Тредиаковского, признаюсь, я готов с вами поспорить. Вы оскорбляете человека, достойного во многих отношениях уважения и благодарности». На что Лажечников в письме от 22 ноября 1835 года ничтоже сумняшеся даёт следующую отповедь: «Тредьяковский. Низких людей, подлецов, шутов считаю обязанностью клеймить, где бы они ни попались мне. Что он был низок и подл, то доказывают приемы, деланные ему при дворе. Иван Васильевич Ступишин, один из 14 возводителей Екатерины II на престол, умерший в 1820 году, будучи 90 лет, рассказывал (а словам его можно верить!), что «когда Тредьяковский с своими одами являлся во дворец, то он всегда, по приказанию Бирона, из самых сеней, чрез все комнаты дворцовые, полз на коленах, держа обеими руками свои стихи на голове, и таким образом доползая до Бирона и императрицы, делал им земные поклоны. Бирон всегда дурачил его и надседался со смеху». Делали ли это с рыбаком Ломоносовым? С пьяницей Костровым? А Тредьяковский был член Академии-де-Сиянс!..» Весьма проблематично восстановить ныне общую картину взглядов, полемики между различными литературными партиями, имевшими место в пушкинскую эпоху. По той причине, что в силу временной конъюнктуры было отброшено всё не-пушкинское. И сегодня мнение другой – не пушкинской – партии доходит до нас, как правило, из книг о Пушкине, сквозь призму мышления пушкинистов. Так, из двухтомной «Переписки А. С. Пушкина» (М.: Худож. лит., 1982) – из комментариев к полемике Пушкина с Лажечниковым узнаём о позиции одного из видных литераторов того времени Осипа Сенковского. «Сенковский, – читаем в комментариях (т. 2, с. 350), – одним из первых выступил в защиту литературной репутации Тредиаковского. Изображение его в романе Лажечникова «как педанта и подлеца» противоречило, по мнению критика, «исторической верности характеров». В своей рецензии на «Ледяной дом» он писал, что это – «самая неудачная карикатура, какую только человек с дарованием может создать» и что Лажечников оскорбил «неуместною насмешкою… литератора трудолюбивого и полезного» (БдЧ, 1835, т. XII, отд. V, c. 29, 34)» Обратим внимание на источник, на который опирается комментатор: БдЧ – это «Библиотека для чтения», литературный журнал, который редактировал Осип Сенковский и который – также как «Северная пчела» Булгарина, «Сын отечества» Греча, «Московский телеграф» Полевого – заключает в себе целый пласт русской культуры своего времени, но в силу того, что в этом пласте заключены идеи и мысли другой – не-пушкинской – партии, пласт этот напрочь выброшен из оперативного пространства отечественного литературоведения. И потому литературоведение это, основанное на одной – «единственно правильной» – линии, изначально однобоко и кастрировано. Что становится особенно заметным при самостоятельном углублённом изучении того или иного вопроса, проработке той или иной личности русской литературы. Например, Тредиаковского… Также и Сумарокова. В том же программном стихотворении «К Жуковскому» (1816) молодой Пушкин сразу после Тредиаковского находит место и для Сумарокова: Но кто другой, в дыму безумного куренья, Стоит среди толпы друзей непросвещенья? Торжественной хвалы к нему несется шум: А он – он рифмою попрал и вкус и ум; Ты ль это, слабое дитя чужих уроков, Завистливый гордец, холодный Сумароков, Без силы, без огня, с посредственным умом, Предрассуждениям обязанный венцом И с Пинда сброшенный, и проклятый Расином? Ему ли, карлику, тягаться с исполином? Ему ль оспоривать тот лавровый венец, В котором возблистал бессмертный наш певец, Веселье россиян, полунощное диво?.. Нет! в тихой Лете он потонет молчаливо, Уж на челе его забвения печать, Предбудущим векам что мог он передать? О причинах негативного отношения Пушкина к Сумарокову требуется разговор особый. Отметим лишь, что главная причина коренится в совершенно разной природе двух поэтов – в сверх-рассудочности Сумарокова и – не то чтобы чувствительности (это прерогатива Батюшкова и Жуковского) – а в некой утончённой сверх-чувственности и стремлению к «чистой красоте» Пушкина. По сути, это антиподы, и эта разница в поэтической природе объясняет ту бездумную горячность, с которой набрасывается Пушкин на Сумарокова, то нежелание уяснить суть вещей, но всеми силами опорочить, дискредитировать, навесить откровенную напраслину. «Посылаю тебе драгоценность, – пишет Пушкин Вяземскому в 1830-м, – донос Сумарокова на Ломоносова. Подлинник за собственноручною подписью видел я у Ив. Ив. Дмитриева. Он отыскан в бумагах Миллера, надорванный, вероятно, в Присутствии и, вероятно, сохраненный Миллером, как документ распутства Ломоносова: они были врагами. Состряпай из этого статью и тисни в «Литературную газету»». Данная реплика много говорит о нравах литературных! И не столько времён ЛомоносоваСумарокова – о том, что эти двое в совокупности с Тредиаковским в стремлении считаться первым пиитом грызлись как собаки, секрета никакого нет и никогда не было. И «доносы» друг на друга на адрес высших государственных лиц – дело обычное. Кстати сказать, та же ситуация сложилась и вокруг Пушкина: мы вдоволь наслышаны о доносительстве на него Фаддея Булгарина, однако упорно стараемся не знать, что Александр Сергеевич платил своему литературному недругу тем же. В чём же состоит «драгоценность»? В процитированной же реплике из письма к Вяземскому в первую очередь обращает на себя внимание не взаимоотношения Сумарокова с Ломоносовым, а отношение к делу самого Пушкина, о чём свидетельствуют такие слова как «состряпай», «тисни», равно как и усмотрение драгоценности в совершенно банальной бумажке. С каким-то необъяснимым злорадством хватается Пушкин за грешок давно почившего поэта – приходишь к выводу, что самоцелью такого его «литературоведения» было желание кинуть ещё один камень в огород Сумарокова. Вяземский таки «состряпал» и «тиснул» статейку «О Сумарокове» – сказать о ней, однако, ничего не могу, ибо доселе не попадалась она мне на глаза. А вот из гораздо более поздних его «Воспоминаний» можно узнать следующее: «Была у меня полоса Сумароковская; – пишет князь Вяземский в 1877 году, – это было время военное: захотелось мне испытать силы мои на лирической трубе, но не по следам Ломоносова, а Сумарокова. Вот и начал я: Воспой, о, Муза, песнь высоку И в струны лиры ударяй, Воспой врагов ты суматоху И славу россов возглашай. Я очень дорожил словом суматоха. Мне казалось, что тут есть какой-то отзыв своевольной и, так сказать, фамилиарной поэзии Сумарокова в противоположность с поэзиею Ломоносова, несколько чопорною и официальною; а может быть, и просто увлекала меня некоторая аналогия в звуках: Сумароков, суматоха. Впрочем, я и ныне не отрекаюсь от Сумарокова. Почитаю его одним из умнейших и живейших писателей наших. Пушкин говаривал, что он вернее знал русский язык и свободнее владел им, чем Ломоносов». А из «Записных книжек» того же князя извлекаем ещё одно весьма любопытное суждение: «Странное дело, и нельзя кстати здесь не заметить: рождением простолюдин и холмогорец, Ломоносов, едва ли из наших писателей не наименее русский в том значении, которое присваиваем определению нашему. Даже Сумароков, который изо всей мочи подражал французам и выдавал себя за прямого питомца Расина и Вольтера, имел в жилах своих более русской крови: он более глядит русским, нежели Ломоносов. Этот немцев ненавидел, но ум свой одел в немецкое платье». Как видим, мнение поэтов пушкинского лагеря относительно Ломоносова, Тредиаковского и Сумарокова весьма расплывчато и неоднозначно. В результате чего и у последующих литературоведов о двух последних из этой троицы сложилось некое половинчато-неустойчивое понятие – и не то чтобы да, и не то чтобы нет; нести тяжело, а выбросить жалко. И это совершенно ненормальное положение вещей приводит к вопросу: стоит ли смотреть на русскую литературу XVIII века сквозь призму взглядов Пушкина сотоварищи? Пушкин и Радищев: «Ему ли, карлику, тягаться с исполином?» – этот пушкинский стих, по юношеской горячности направленный против Сумарокова, таки имеет смысл. Вот только в совершенно ином приложении. К такому выводу приходишь, изучая идейное противостояние Пушкина и Радищева. Но какое отношение имеет это к нашей теме, то бишь Тредиаковскому, Ломоносову, Сумарокову? Да всё то же: для того, чтобы правильно увидеть предмет, уяснить явление, необходимо найти правильную точку зрения. А для этого не помешает проверить исправность имеющихся в наличии оптических приборов. Отечественные литературоведы собственные мысли привыкли во всём поверять с позицией по этому вопросу Пушкина. Таким образом, главным оптическим прибором отечественного литературоведения оказывается глаз Пушкина. Но вопрос: насколько этот глаз верен? насколько им видимое соответствует объективной реальности? Вот тут-то и появился Лис – то есть ТОТ, КТО СПОСОБЕН ВНЕСТИ ЯСНОСТЬ В СУТЬ ВОПРОСА. В нашем случае это: человек, находящийся в умозрительной связи как со всеми знаковыми фигурами и течениями мысли своего времени, так и с новым реформатором русского стиха Пушкиным; человек, в чьих произведениях наиболее выпукло проявилось то пространственно-временное понятие, которое Натан Эйдельман обозначил как ГРАНЬ ВЕКОВ, сам же Радищев попытался ухватить в своём стихотворении «Осьмнадцатое столетие»: Урна времян часы изливает каплям подобно: Капли в ручьи собрались; в реки ручьи возросли И на дальнейшем брегу изливают пенистые волны Вечности в море; а там нет ни предел, ни брегов; Не возвышался там остров, ни дна там лот не находит; Веки в него протекли, в нем исчезает их след. Но знаменито вовеки своею кровавой струею С звуками грома течет наше столетье туда; И сокрушил наконец корабль, надежды несущий, Пристани близок уже, в водоворот поглощен, Счастие и добродетель, и вольность пожрал омут ярый, Зри, восплывают еще страшны обломки в струе. Нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно и мудро, Будешь проклято вовек, ввек удивлением всех… В советское время он был востребован как первый русский писатель-революционер. Причём революционер социальный, втиснутый в схему революционного развития, гласящую о том-де, что декабристы разбудили Герцена и т. д. Но вот парадокс: благодаря советской идеологии Радищев был возвеличен и одновременно приземлён. Случилось так по причине, что утверждён он был не как мастер слова, не как мыслитель-метафизик, не как религиозно-этический идеалист, кем он был в действительности, – но исключительно как социальный революционер – ненавистник самодержавия. Что же до его философских взглядов, то они не подвергались глубокому осмыслению, философский трактат «О человеке, о его смертности и бессмертии» в силу своей анти-материалистической направленности в советское время не культивировался. Таким образом, схема убила реальную суть таких явлений как Радищев, декабристы, и сегодня они не вызывают особого интереса, воспринимаются, как правило, одномерно-схематично, как сугубо советский идеологический артефакт. В то время как… «Путешествие из Петербурга в Москву» – произведение, написанное человеком, обладающим кристально чистым сознанием – и потому являющееся тем магическим кристаллом, сквозь который видна незамутнённая суть явлений. Но с другой стороны – это метафизическая крепость, неприступная цитадель – для тех, кто мнит захватить её с наскоку. Именно с этой – другой – стороны попробовал подойти к ней Александр Сергеевич Пушкин – и что же получилось? А получилось то, что скрывается в 6-м томе – «Критика и публицистика» – «красного» собрания сочинений (М., «Худож. лит.», 1974-1978) в статьях с названиями «Путешествие из Москвы в Петербург» и «Александр Радищев». Первая из них – незаконченная и неозаглавленная статья Пушкина, писанная с декабря 1833 г. по январь 1835-го. В 1855 г. в издании сочинений Пушкина получила условное название «Мысли на дороге», а в 1933 г. – «Путешествие из Москвы в Петербург». Вторая – датированная 1836 г. неопубликованная при жизни статья, предназначавшаяся для «Современника», но не пропущенная цензурой. В данных сочинениях находим весьма нелицеприятные высказывания Пушкина о Радищеве и его взглядах. Учитывая тот факт, что в советское время Радищев был канонизирован как первый писатель-революционер, убеждённый противник крепостного права, бранно-враждебные высказывания в его адрес Пушкина ставили советских литературоведов в весьма неловкое положение. Притом что в поэзии Пушкина (ода «Вольность», черновой вариант «Памятника»), а также в письме 1823 г. к Бестужеву просматривается совершенно иное – уважительное – отношение Пушкина к Радищеву. То есть противоречие налицо. Комментатор указанного собрания сочинений Пушкина (Ю. Г. Оксман) говорит на сей счёт следующее: «В дореволюционной литературе о Пушкине определились две противоположные точки зрения по вопросу о замысле и характере «Путешествия из Москвы в Петербург». Одни исследователи считали, что основной целью Пушкина было привлечь внимание читателей к Радищеву и под видом полемики с его взглядами их пропагандировать (см.: В. Е. Якушкин. Радищев и Пушкин. Чтения Общества истории и древностей Российских при Московском университете, 1886, кн. 2); другие видели в возражениях Пушкина подлинное выражение его убеждений и целью статьи считали опровержение общественно-политических взглядов Радищева (П. Н. Сакулин. Пушкин и Радищев. Новое решение старого вопроса. М., 1920). В советском литературоведении утвердилась точка зрения, формулированная В. Е. Якушкиным…» В то же время комментарий проф. С. М. Петрова в книжке «А. С. Пушкин о литературе» (М.: Дет. лит., 1988) говорит о другом: «Отношение молодого Пушкина к Радищеву разнится от более поздних его высказываний о нем в «Путешествии из Москвы в Петербург» и в специальной статье о Радищеве». – Как видим, здесь признаётся изменение в отношении Пушкина к Радищеву. А что видим в реальности? Какой вывод можно сделать исходя не из комментариев пушкинистов, а непосредственно из текстов самого Александра Сергеевича? Последуем же за его мыслью: «…Радищев написал несколько отрывков, дав каждому в заглавие название одной из станций, находящихся на дороге из Петербурга в Москву. В них излил он свои мысли безо всякой связи и порядка. В Черной Грязи, пока переменяли лошадей, я начал книгу с последней главы и таким образом заставил Радищева путешествовать со мною из Москвы в Петербург». В этом вступительном посыле обращаешь внимание на три пункта. Во-первых, герметически цельную книгу Радищева Пушкин определяет как «мысли безо всякой связи и порядка»; во-вторых, начинает он почему-то не с начала, а с конца; и, в-третьих, ещё и Радищева он норовит «заставить» идти в обратном направлении. То, что он держит путь якобы из Москвы в Петербург, является не более чем литературной условностью – в реальности это вовсе не путевые, а кабинетные заметки. Свой анализ-опровержение радищевской книги Пушкин начинает с Ломоносова: «В конце книги своей Радищев поместил слово о Ломоносове. Оно писано слогом надутым и тяжелым. Радищев имел тайное намерение нанести удар неприкосновенной славе росского Пиндара. Достойно замечания и то, что Радищев тщательно прикрыл это намерение уловками уважения и обошелся со славою Ломоносова гораздо осторожнее, нежели с верховной властию, на которую напал с такой безумной дерзостию. Он более тридцати страниц наполнил пошлыми похвалами стихотворцу, ритору и грамматику, чтоб в конце своего слова поместить следующие мятежные строки: «…» – следует приводимая нами цитата из Радищева о Ломоносове – от слов «Мы желаем показать, что в отношении российской словесности…» и до – «…в самых одах своих вмещал иногда более слов, нежели мыслей». (см. выше) Рассуждения эти вызывают, мягко говоря, недоумение, мозг не может справиться с мыслью, что это писал Пушкин. «Радищев имел тайное намерение нанести удар славе Ломоносова»? – что это? откуда? совершенно нелепое, ничем не обоснованное утверждение! «прикрыл это намерение уловками уважения и пошлыми похвалами»? Однако главная особенность Радищева – не ходить кривыми путями, а идти прямо и говорить открыто – этого требует высшая цель его творчества. Радищев не столько писатель, упражняющийся в изящной словесности, за метафоричностью прячущий свои истинные намерения, сколько мыслитель профетического склада. Смысл его выступления – словом изменить внутреннее, а через изменение внутреннего прийти к изменению внешнего. «Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвлена стала. Обратил взоры мои во внутренность мою – и узрел, что бедствия человека происходят от человека, и часто от того только, что он взирает непрямо на окружающие его предметы». Также без малейшего облачка, могущего кинуть тень подозрения на наличие задней мысли, звучат слова Радищева о Ломоносове: «Слово твое, живущее присно и во веки в творениях твоих, слово российского племени, тобою в языке нашем обновленное, прилетит во устах народных за необозримый горизонт столетий». «И пускай удастся всякому превзойти тебя своим сладкопением, пускай потомкам нашим покажешься ты нестроен в мыслях, неизбыточен в существенности твоих стихов!.. Но воззри: в пространном ристалище, коего конца око не досязает, среди толпящейся многочисленности, на возглавии, впереди всех, се врата отверзающ к ристалищу, се ты». Неужели можно здесь найти уловки и пошлые (!) похвалы?! Пушкин находит. Однако, следуя естественной логике, после вскрытия якобы имевших место антиломоносовских поползновений ожидаешь веского пушкинского слова в утверждении славы «росского Пиндара». Но… находишь следующее: «Ломоносов был великий человек. Между Петром I и Екатериной II он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом. Но…» – и что же это за НО? «Но в сем университете профессор поэзии и элоквенции не что иное, как исправный чиновник, а не поэт, вдохновенный свыше, не оратор, мощно увлекающий. Однообразные и стеснительные формы, в кои отливал он свои мысли, дают его прозе ход утомительный и тяжелый. Эта схоластическая величавость, полуславенская, полулатинская, сделалась было необходимостью: к счастию, Карамзин освободил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова». – А дальше – что называется, Остапа понесло: «В Ломоносове нет ни чувства, ни воображения (и это в великом человеке! – О. К.). Оды его, писанные по образцу тогдашних немецких стихотворцев, давно уже забытых в самой Германии, утомительны и надуты. Его влияние на словесность было вредное и до сих пор в ней отзывается. Высокопарность, изысканность, отвращение от простоты и точности, отсутствие всякой народности и оригинальности – вот следы, оставленные Ломоносовым». Короче говоря, начал за здравие, кончил за упокой! И что интересно – Пушкин внешне как бы повторил всё то, о чём говорил Радищев. Вот только гораздо менее логично и убедительно, без радищевской органичности, без понимания единства в противоречии. Радищев говорил о величии при вполне понятных и не выходящих за пределы единства конкретных недостатках, Пушкин – о конкретном величии в области просвещения и крайне вредном влиянии на словесность. Таким образом, в мышлении Пушкина наблюдается разрушение единства, возникает противопоставление двух частей одного целого, дуализм. Может быть, оттого это, что движется в обратном направлении? Чем подтверждает слова собственного «поэтического прозрения»: Пока не требует поэта К священной жертве Аполлон, В заботах суетного света Он малодушно погружен; Молчит его святая лира; Душа вкушает хладный сон, И меж детей ничтожных мира, Быть может, всех ничтожней он. А раз ничтожный, следовательно, является носителем множества пороков, среди которых центральное место занимает эгоизм, порождающий манию величия, свойство любить себя в искусстве, а не искусство в себе, потребность хвалы в свой адрес – включая самовосхваления, – а также по возможности принижение конкурентов в претензии на величие. Очевидно, что именно здесь кроется разгадка отмеченных противоречий в отношении к Ломоносову – мог ли Пушкин признавать безоговорочный гений у кого-то кроме себя? Мог, но только не в России. Отсюда же проистекает и злостность по отношению к Сумарокову (и снисходительность к Тредиаковскому – этот уж точно не мог составить ему конкуренции). В той же статье Пушкин пишет: «Сумароков был шутом у всех тогдашних вельмож: у Шувалова, у Панина; его дразнили, подстрекали и забавлялись его выходками. Фонвизин, коего характер имеет нужду в оправдании, забавлял знатных, передразнивая Александра Петровича в совершенстве. Державин исподтишка писал сатиры на Сумарокова и приезжал как ни в чем не бывало наслаждаться его бешенством». – Здесь налицо две вещи: откровенная напраслина в адрес Александра Петровича Сумарокова – который никогда ни при каких вельможах шутом не был. Это был хотя и несколько желчный, но строго соблюдающий законы чести выпускник Шляхетного кадетского корпуса. И еще данный отрывок свидетельствует о неспособности самого Пушкина логически обосновать собственные утверждения. Разве можно называть человека шутом на том основании, что его за глаза дразнят и подстрекают? Предмет насмешек и шут понятия суть разные. Отсюда вывод: невозможно правильно видеть предметы и явления, пользуясь столь кривым зеркалом. А кем был Сумароков в реальности можно узнать из его художественной биографии «Забытая слава» авторства видного специалиста по XVIII веку профессора А. Западова (М.: «Сов. Писатель», 1968). Это для тех, кто интересуется подробностями, в общем же и целом, думаю, что стоит прислушаться к Радищеву: «Но если ведаете, какое действие разум великого мужа имеет над общим разумом, то ведайте еще, что великий муж может родить великого мужа; и се венец твой победоносный. О! Ломоносов, ты произвел Сумарокова». Еще страшней, еще чуднее Вот рак верхом на пауке… Ещё удивительней высказывания Пушкина по поводу явлений социальных, затронутых в книге Радищева. Сразу после рассуждений о Ломоносове в главке под названием «БРАКИ» находим: «Радищев в главе «Черная Грязь» говорит о браках поневоле и горько порицает самовластие господ и потворство градодержателей (городничих?)» – И что же из этого следует? Соглашается с этим Пушкин или нет? Однако ни одна из им же отмеченных частностей – будь то самовластие, либо потворство – не становится предметом пушкинского анализа – поверх этого сходу выносится ОБЩЕЕ суждение: «Вообще несчастие жизни семейственной есть отличительная черта во нравах русского народа». – То есть надо полагать, что всё дело в нравах как в чём-то незыблемопостоянном. Тем более, что следует ссылка на русские песни: «Свадебные песни наши унылы, как вой похоронный» – и на рассказ старухи-крестьянки – после чего готовый вывод: «Неволя браков давнее зло». – А что с ним делать – Бог весть! Правда, как отмечает Пушкин: «Недавно правительство обратило внимание на лета вступающих в супружество: это уже шаг к улучшению». – Это от правительства, а лично от себя: «Осмелюсь заметить одно: возраст, назначенный законным сроком для вступлений в брак, мог бы для женского пола быть уменьшен. Пятнадцатилетняя девка и в нашем климате уже на выдании, а крестьянские семейства нуждаются в работницах». – В этих словах видим отношение Пушкина к крестьянкам – как к тёлкам, коровам, тягловой рабочей силе – для него это используемый объект, а никак не субъект, имеющий самодостаточный внутренний мир, собственные волю и чувства. Впрочем, данная главка, посвящённая брачным проблемам у русских крестьян, состоит всего из одного небольшого абзаца – так, быть может, это плохо продуманные случайные слова, по которым преждевременно делать выводы об уровне мышления Александра Сергеевича? Поэтому обратимся к более обстоятельной следующей главе. Называется она – «РУССКАЯ ИЗБА», и начинается со слов: «В Пешках (на станции, ныне уничтоженной) Радищев съел кусок говядины и выпил чашку кофию. Он пользуется случаем, дабы упомянуть о несчастных африканских невольниках, и тужит о судьбе русского крестьянина, не употребляющего сахара. Все это было тогдашним модным краснословием. Но замечательно описание русской избы…» – И вновь та же ситуация: в качестве тезиса – походя упомянутые радищевские переживания, вместо антитезиса – произвольное обвинение Радищева в модном краснобайстве, и затем – там, где должен быть синтез – неожиданный оборот, переводящий мысль из этической плоскости в эстетическую. Однако… эстетство и Радищев – по сути своей понятия прямо противоположные, в силу чего эстетство в статье о Радищеве – либо глупость, либо злостность. Но давайте обратимся к первоисточнику – к тому, что Пушкин называет модным краснословием: «Но кто между нами оковы носит, кто ощущает тяготу неволи? Земледелец! кормилец нашея тощеты, насытитель нашего глада, тот, кто дает нам здравие, кто житие наше продолжает, не имея права распоряжати ни тем, что обрабатывает, ни тем, что производит. Кто же к ниве ближайшее имеет право, буде не делатель ее?» А вот отрывок, касающийся несчастных африканских невольников: «Европейцы, опустошив Америку, утучнив нивы ее кровию природных ее жителей, положили конец убийствам своим новою корыстию. <…> Заклав индийцов единовременно, злобствующие европейцы, проповедники миролюбия во имя Бога истины, учителя кротости и человеколюбия, к корени яростного убийства завоевателей прививают хладнокровное убийство порабощения, приобретением невольников куплею. Сии-то несчастные жертвы знойных берегов Нигера и Сенагала, отринутые своих домов и семейств, переселенные в неведомые им страны, под тяжким жезлом благоустройства вздирают обильные нивы Америки, трудов их гнушающейся». Оба фрагмента свидетельствуют о позиции, зиждущейся не токмо на главенствующей тогда в литературе чувствительной сентиментальности, о чём бает Пушкин, – а на чувстве, многократно усиленном глубиной мысли, то есть на краеугольном камне истинного христианства – сострадании. «Мы никогда не почитали Радищева великим человеком, – пишет Пушкин в статье 1836 года «Александр Радищев». – Поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не извиняемым, а «Путешествие в Москву» весьма посредственною книгою; но со всем тем не можем в нем не признать преступника с духом необыкновенным; политического фанатика, заблуждающегося конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарскою совестливостию». – И немного далее: «Путешествие в Москву», причина его несчастия и славы, есть, как уже мы сказали, очень посредственное произведение, не говоря даже о варварском слоге. Сетования на несчастное состояние народа, на насилие вельмож и проч. преувеличены и пошлы. Порывы чувствительности, жеманной и надутой, иногда чрезвычайно смешны…» Как в омут заглянул: чтение статей Пушкина о Радищеве, равно как и параллельное чтение Радищева, производит весьма странный и неожиданный эффект. С чувством глубокого пиетета, присущего от рождения всякому русскому, открываешь том Пушкина, но чтение статей о Радищеве оставляет чувство дезориентации. Видишь разрыв в советском литературоведении, который необходимо всячески замазывать. Впрочем, Советская эпоха осталась в прошлом, и теперь вовсе не обязательно привязывать Пушкина к её установкам. Но Радищев-то не советский писатель! – и вопрос не в советской или антисоветской идеологии, а в идее справедливости, уходящей много глубже и выше! И если рассматривать эти статьи вне советских установок – что тогда? А тогда кто-то из двоих дурак! Кто же? Пытаясь опровергнуть взгляд Радищева на плачевное состояние русских крестьян, Пушкин приводит свидетельства Фонвизина, Лабрюйера, госпожи Севинье о совершенно нечеловеческом положении крестьян во Франции, затем об ужасных условиях, в которых пребывают английские фабричные работники, – и на таком фоне, глядишь: «У нас нет ничего подобного. Повинности вообще не тягостны». И как тут не вспомнить знакомые с детства стихи? Но мысль ужасная здесь душу омрачает: Среди цветущих нив и гор Друг человечества печально замечает Везде невежества убийственный позор. Не видя слез, не внемля стона, На пагубу людей избранное судьбой, Здесь барство дикое, без чувства, без закона, Присвоило себе насильственной лозой И труд, и собственность, и время земледельца. Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам, Здесь рабство тощее влачится по браздам Неумолимого владельца. («Деревня», 1819) В писавшемся через полтора десятка лет после «Деревни» анти-радищевском «Путешествии из Москвы в Петербург» находим нечто иное: «Судьба крестьянина улучшается со дня на день по мере распространения просвещения… Благосостояние крестьян тесно связано с благосостоянием помещиков; это очевидно для всякого. Конечно: должны еще произойти великие перемены; но не должно торопить времени, и без того уже довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества…» По сути Пушкин излагает взгляды русских дворян-консерваторов, не желающих поступаться своими шкурными интересами, что привело в конце концов Российскую империю к катастрофе. Радищев же, также будучи дворянином, был ещё и христианином – и потому видел как неправильность, несправедливость современного ему состояния общества, так и гибельность такого состояния. В этом – одно из его пророчеств: «Поток, загражденный в стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противустояние. Прорвав оплот единожды, ничто уже в разлитии его противиться ему не возможет. Таковы суть братья наши, в узах нами содержимые. Ждут случая и часа. Колокол ударяет. И се пагуба зверства разливается быстротечно. Мы узрим окрест нас меч и отраву. Смерть и пожигание нам будет посул за нашу суровость и бесчеловечие. И чем медлительнее и упорнее мы были в разрешении их уз, тем стремительнее они будут во мщении своем. Приведите себе на память прежние повествования. Даже обольщение колико яростных сотворило рабов на погубление господ своих! Прельщенные грубым самозванцем, текут ему вослед и ничего толико не желают, как освободиться от ига своих властителей; в невежестве своем другого средства к тому не умыслили, как их умерщвление. Не щадили они ни пола, ни возраста. Они искали паче веселие мщения, нежели пользу сотрясения уз». Пророчество это – вовсе не о замечательной поре революции, но сродни известному лермонтовскому «Предсказанию»: Настанет год, России черный год, Когда царей корона упадет; Забудет чернь к ним прежнюю любовь, И пища многих будет смерть и кровь… Во избежание этого и явил Радищев свою книгу – в которой Пушкин узрел лишь «великую дерзость». Это – книга действия: призыв к деланию, к исправлению, к искоренению пороков – и прежде всего своих собственных. Призыв к вооружению правильным видением, правильным пониманием, правильным деланием и т. д. – всему тому, что составляет восьмеричный путь спасения. «Се будет глагол ваш; се слышится он уже во внутренности сердец ваших. Не медлите, возлюбленные мои. Время летит; дни наши преходят в недействии. Да не скончаем жизни нашея, возымев только мысль благую и не возмогши ее исполнить. Да не воспользуется тем потомство наше, да не пожнет венца нашего, и с презрением о нас да не скажет: они были». Советские комментаторы говорят о неком «эзоповом языке», который якобы применяет Пушкин по отношению к Радищеву. Дело, мол, в том, что о находящемся под цензурным запрещением Радищеве нельзя было писать вообще. И Пушкин своими статьями – бранными потому как иначе нельзя было – стремится привлечь внимание к личности и сочинениям Радищева. Однако ежели это действительно «эзопов язык», то он настолько замаскирован, что ложные мысли ничем не отличишь от настоящих. И найти в таком случае то, что Пушкин думал на самом деле, не представляется возможным. Из главы «РЕКРУТСТВО» узнаём, что «Радищев сильно нападает на продажу рекрут и другие злоупотребления. Продажа рекрут была в то время уже запрещена, но производилась еще под рукою». – И что по этому поводу думает Пушкин? Оказывается, что он не согласен… с запретом на продажу рекрутов! По той причине, что «запрещение сие имело свою невыгодную сторону: богатый крестьянин лишался возможности избавиться от рекрутства, а судьба бедняков, коими торговал безжалостный помещик, вряд ли чрез то улучшилась». – Какая разница, мол, бедняку, где тянуть лямку – в солдатах или в родном селе – ему ведь всюду несладко – а богатый односельчанин утратил возможность откупиться за его счёт! В этом моменте прослеживается опять-таки нежелание или неспособность видеть в крестьянине полноценную личность (субъект), и ещё не что иное как явная предрасположенность к коррупции. Поражает какая-то праздная беспомощность пушкинской мысли. Подобно химическому катализатору Радищев проявляет мысль Пушкина, а если говорить без обиняков – отсутствие таковой. Если же попытаться установить гражданскую позицию Пушкина, то исходя из его статей о Радищеве, – вместо всякого подобия сочувствия, сопереживания, – это будет позиция поверхностного стороннего наблюдателя. Отметим, что здесь мы далеки от каких-либо обобщений – речь идёт о конкретных пушкинских статьях «Путешествие из Москвы в Петербург» и «Александр Радищев». Пушкин многогранен и многолик, а потому из частного случая двух статей нельзя сходу делать обобщающих выводов. В то же время, в каждой грани собственного творчества так или иначе отражается Я художника, следовательно, и в данном случае мы можем зреть многоговорящую информацию если не о предмете исследования, то о самом авторе. Особенно показательны в этом смысле следующие пушкинские рассуждения: «В Радищеве отразилась вся французская философия его века: скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дидрота и Реналя; но все в нескладном, искаженном виде, как все предметы криво отражаются в кривом зеркале. Он есть истинный представитель полупросвещения. Невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне, частные поверхностные сведения, наобум приноровленные ко всему, – вот что мы видим в Радищеве». – Но дело в том, что всё это вовсе не о Радищеве – при внимательном прочтении убеждаешься, что слово в слово всё это о… Пушкине! Здесь чётко проявляется то, что в психоанализе известно как ВЫТЕСНЕНИЕ, то есть перенос собственных субъективных качеств на неугодный объект. Несколькими строчками выше – о поэме «Бова» – Пушкин пишет: «…Радищев думал подражать Вольтеру, потому что он вечно кому-нибудь да подражал». – Ой ли? Попытка шуточной поэмы «Бова», ода «Вольность», мотивы стихотворения «Деревня», сам очерк «Путешествие из Москвы в Петербург», напрямую вытекающий из Радищева, искажающий его подобно кривому зеркалу, – всё это красноречиво свидетельствует о подражании Пушкина Радищеву. О том же, насколько Пушкин был подвержен чужим влияниям, говорит целый ряд его произведений. Из незавершённых – помимо «Бовы» – это оставшийся в планах «Русский Пелам», напрямую связанный с популярным в то время романом известного английского писателя Эдуарда Бульвера лорда Литтона «Пелам, или Приключения одного джентльмена». Это и набросок – громко именуемый пушкинистами романом (объемом в 10 страниц!) – «Рославлев», отсылающий к действительно роману с таким же названием (!) Михаила Загоскина. Но и гораздо более значительные произведения Пушкина на поверку оказываются не совсем самостоятельными, а во многом наследующими крупные вещи более ранних авторов. Так ноги нашумевшей «Гавриилиады» растут из антихристианской поэмы Эвариста Парни «Война богов» («Битва старых и новых богов»), а «Бахчисарайского фонтана» – из поэмы Семёна Боброва «Таврида, или Мой летний день в Таврическом Херсонесе». Можно сказать, что пушкинские поэмы являют собой частный случай указанных произведений – гораздо более пространных как по форме, так и по содержанию. Интересные корни прослеживаются и в связи с «Русланом и Людмилой»: перекличка с лубочной «Повестью о Еруслане Лазаревиче» здесь незначительна – оттуда перекочевали имя главного персонажа и эпизод с Богатырской Головой, хранящей под собой меч-кладенец, но главное – общий замысел грандиозного лиро-эпического полотна, множество риторических фигур, а также персонажей – прежде всего, воителя Рогдая – позаимствованы из творчества Михаила Хераскова – из его эпической поэмы «Владимир» и сказочной поэмы «Бахариана». Наконец, «Дубровский» – может быть воспринят как поздний отголосок романа Шарля Нодье «Жан Сбогар». Обвинениям в подражательности подвергалось и главное пушкинское творение – «Евгений Онегин». В чрезвычайно интересной, честной и полезной книге А. Мадорского «Сатанинские зигзаги Пушкина» (М.: Поматур, 1998) автор, при всей критичности будучи в то же время уверен в незыблемости поэтического гения Пушкина, сетует на то, что даже друзья-поэты смели подвергать сомнению гениальность «Онегина». В частности, «…Е.А. Баратынский писал И.В. Киреевскому, что «Евгений Онегин» являет собой произведение «почти все ученическое, потому что все подражательно… форма принадлежит Байрону, тон, тоже». Евгений Абрамович просто разнес в пух и прах труд своего гениального друга: «Характеры его бледны. Онегин развит не глубоко. Татьяна не имеет особенности. Ленский ничтожен»». Касательно же Кюхельбекера автор недоуменно замечает, что и ««добрая эта душа Кюхель» позволял себе формулировки, никак не сообразные с чувством реальности. Чего стоит хотя бы восклицание о том же «Евгении Онегине», когда он задавался вопросом: «…но неужели это поэзия?», или безапелляционное заявление о «Руслане и Людмиле», что, мол, «содержание, разумеется, вздор; создание ничтожно, глубины никакой!» Хорошо, хоть слог Пушкина фамильярно похвалил «лицейской жизни милый брат». И на том спасибо». Точности и контекста ради мы отыскали отмеченные Мадорским суждения Вильгельма Кюхельбекера. Высказывание от 1825 года: «Господина Онегина (иначе же нельзя его назвать) читал, – есть места живые, блистательные: но неужели это поэзия? «Разговор с книгопродавцем» в моих глазах не в пример выше всего остального». Запись в «Дневнике» от 16 мая 1843 года: «Хочу перечесть Пушкина. Начал я с «Руслана». Стихи тут необычайной легкости, прелести и отчетливости. Последнее не безделица. Содержание, разумеется, вздор; создание ничтожно, глубины никакой. Один слог составляет достоинство «Руслана»; зато слог истинно чудесный. Лучшая песнь, помоему, шестая: сражение тут не в пример лучше, чем в «Полтаве»». Итак, с одной стороны – и, как видим, не от последних людей – упрёки в подражательности, пустоте и вздорности содержания; с другой – всеобщий восторг от формальной красоты, убеждённость в априорной гениальности. Но все эти противоречия суть звенья единого целого! И если сложить их воедино – станет отчётливо видна природа пушкинского гения. Влияние Байрона – таких его творений как «Чайльд Гарольд» и «Дон Жуан» – несомненно сказалось при написании «Евгения Онегина». Но влияние это таково, что в результате получилось совершенно оригинальное авторское произведение. Чрезвычайно яркое, как и вся пушкинская поэзия. А вот что касается содержательной пустоты при блеске формы, то всё дело в том, что у Пушкина, как правило, форма и является содержанием. Благодаря идее чистой красоты, она сверкает подобно солнцу. Любви, надежды, тихой славы Недолго нежил нас обман, Исчезли юные забавы, Как сон, как утренний туман; Но в нас горит еще желанье, Под гнетом власти роковой Нетерпеливою душой Отчизны внемлем призыванье. Мы ждем с томленьем упованья Минуты вольности святой, Как ждет любовник молодой Минуты верного свиданья. Пока свободою горим, Пока сердца для чести живы, Мой друг, отчизне посвятим Души прекрасные порывы! Товарищ, верь: взойдет она, Звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, И на обломках самовластья Напишут наши имена! («К Чаадаеву», 1818) Его стихи льются подобно солнечным лучам. И это действительно эманации того поэтического солнца, которому приносится «священная жертва». Воспринимая их, даже не вдумываешься в смысл, содержание – подобно солнечным лучам они самостоятельно впитываются в кожу. По той причине, что просто красивы – слог истинно чудесный – и для воздействия на читателя они не требуют никакого дополнительного смысла. Они легки, воздушны, солнечны, а если их нагрузить ещё и глубокомысленным содержанием, тогда они вмиг утратят изначальную лёгкость, воздушность, солнечность. Пушкин является жрецом солнечного бога Аполлона, жрецом идеи чистой красоты. Сущность этой идеи предполагает служение идеалу не этическому, а эстетическому. Этические идеи в его поэзии – служения людям, отчизне, добру и справедливости – необходимость, служащая для усиления красоты, ибо чистая красота не может включать в себя деструктивных, дисгармоничных моментов. Но необходимость эта ситуативная, подчинённая – никак не самодовлеющая. Таким образом, подчиняя своё творчество идее красоты, он творит свой «памятник нерукотворный» – позиционирует себя в центре. Лучший русской поэт всех времён есть представитель бога Солнца, и, следовательно, сам бог и сам Солнце. В этом его сила, в этом его слабость: ярка и впечатляюща его солнечно-воздушная поэзия и совершенно ничтожно всё, что требует конкретной мысли, подчинённой иным целям, иной идее. Там, где он не приносит «священной жертвы Аполлону», мысль его оказывается нескладной, кривой, невежественной, слабоумной, поверхностной. Такой, в частности, как в тираде, которой заканчивается статья «Александр Радищев»: «Какую цель имел Радищев? чего именно желал он? На сии вопросы вряд ли бы мог он сам отвечать удовлетворительно. Влияние его было ничтожно. Все прочли его книгу и забыли ее, несмотря на то, что в ней есть несколько благоразумных мыслей, несколько благонамеренных предположений, которые не имели никакой нужды быть облечены в бранчивые и напыщенные выражения и незаконно тиснуты в станках тайной типографии, с примесью пошлого и преступного пустословия. Они принесли бы истинную пользу, будучи представлены с большей искренностию и благоволением; ибо нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви. 3 апреля 1836 г. СПб.» Всё мимо, всё невпопад, всё словно в кривом зеркале. А как же иначе – если пишешь о предметах, которые не входят в твою природу, и о которых ты не имеешь чувствования? Здесь необходим другой свет, другое солнце, не Аполлон. Радищев не из тех, кто «памятником нерукотворным» сам себя возвеличивает, им движет Авалокитешвара, бодхисатва сострадания. И жертва, соответственно, другая. «Отче всеблагий, неужели отвратишь взоры свои от скончевающего бедственное житие свое мужественно? Тебе, источнику всех благ, приносится сия жертва. Ты един даешь крепость, когда естество трепещет, содрогается. Се глас отчий, взывающий к себе свое чадо. Ты жизнь мне дал. Тебе ее и возвращаю: на земли она стала уже бесполезна». Не фимиам божеству воскуривается, но собственная жизнь кладётся на жертвенник. Именно так следует ставить вопрос для того, чтобы понять значение книги Радищева. Что это за книга? Пушкин нашёл в ней не более, чем разрозненные записки, в которых изложены мысли безо всякой связи и порядка. И опять-таки данное суждение говорит не о книге, а о том, кто высказывается. Собственно о книге оно вообще ничего не говорит, ибо совершенно не соответствует правде. Зато о говорящем… мы узнаём, что представление Пушкина относительно формы находилось ещё на той стадии, когда связной и цельной считалась книга с чётко разработанным сюжетом и фабулой, с плавным изложением мыслей. Хотя к тому времени уже существовало столь необычное по форме произведение как «Жизнь и мнения Тристрама Шенди» Лоренса Стерна, которое соответствует гораздо более позднему понятию модернизма в литературе, однако избранная Радищевым форма описания путешествия предполагала нечто иное – подобное «Сентиментальному путешествию» того же Стерна, или же «Письмам русского путешественника» Карамзина. Нечто скучно-убаюкивающее в дальней дороге. А тут – сплошные скачки и перепады в мыслях и в тематике – засни попробуй! Таким образом, глядя с высоты сегодняшнего дня, можно сказать, что Радищев по отношению к Пушкину – это модернист намного опередивший своё время. Непопадание Пушкина, несхватывание им сути радищевского «Путешествия» начинается с определения его формы. Поэта вводит в заблуждение тот момент, что внешне это как бы размышления в пути. А ему-то как раз как бы и понадобилось что-то скучное в дорогу: «Собравшись в дорогу, вместо пирогов и холодной телятины, я хотел запастися книгою, понадеясь довольно легкомысленно на трактиры и боясь разговоров с почтовыми товарищами. В тюрьме и в путешествии всякая книга есть божий дар, и та, которую не решитесь вы и раскрыть, возвращаясь из Английского клоба или собираясь на бал, покажется вам занимательна, как арабская сказка, если попадется вам в каземате или в поспешном дилижансе. Скажу более: в таких случаях чем книга скучнее, тем она предпочтительнее. Книгу занимательную вы проглотите слишком скоро, она слишком врежется в вашу память и воображение; перечесть ее уже невозможно. Книга скучная, напротив, читается с расстановкою, с отдохновением – оставляет вам способность позабыться, мечтать; опомнившись, вы опять за нее принимаетесь, перечитываете места, вами пропущенные без внимания etc. Книга скучная представляет более развлечения…» – И вот в это своё условное путешествие по рекомендации приятеля берет Пушкин «Путешествие из Петербурга в Москву» – как нечто скучное в дорогу. И не замечая того, ошибается в объекте. Быть может, книга Карамзина – огромная по объёму, содержащая в себе классическое описание путешествия с попутными размышлениями – и соответствует такому определению. Но только не книга Радищева. Во-первых, она невелика по объёму, во-вторых, экспрессивность и напряжённость, резкая смена тем ни в коей мере не позволит заинтересованному читателю скучать, позёвывая и предаваясь праздным мечтам. Но это ведь когда читатель заинтересован, то есть настроен на соответствующую волну, подготовлен. Только в этом случае читатель вместо беспорядочных мыслей сможет прочувствовать внутреннюю спаянность авторских переживаний, уловить всё напряжение внутренней интриги, которая строится на взаимоотношениях субъекта и объекта, где субъект – путешественник, объект – внешний мир. И тогда рваные – синкопированные – ритмы радищевского повествования в восприятии читателя обретут присущую им стройность и целостность. «Бревешками вымощенная дорога замучила мои бока; я вылез из кибитки и пошел пешком. Лежа в кибитке, мысли мои обращены были в неизмеримость мира. Отделяяся душевно от земли, казалося мне, что удары кибиточные были для меня легче. – Но упражнения духовные не всегда нас от телесности отвлекают; и для сохранения боков моих пошел я пешком. – В нескольких шагах от дороги увидел я пашущего ниву крестьянина…» Приведённый отрывок, как видим, написан вполне современным языком. Но то и дело Радищев переходит на гораздо более тяжеловесный стиль с использований множества церковнославянских архаизмов, что дало основание Пушкину говорить о варварском слоге. Но для чего это делал Радищев? Быть может, и в этом есть свой скрытый смысл? Конечно, есть. Архаический слог – признак высокого штиля – используется Радищевым для выхода из пространства обыденной повседневности, для придания словам своим профетической силы, восходящей к библейским пророкам. Нельзя не учитывать, что своим произведением Радищев преследует цели не только литературно-художественные, оно выходит далеко за пределы собственно литературы. В то же время это не просто документально-философская книга, как то думал Пушкин: скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дидрота и Реналя, – что опять-таки свидетельствует о полном непонимании. По сути своей, по форме и содержанию «Путешествие из Петербурга в Москву» Александра Радищева есть МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ КРЕПОСТЬ, НЕПРИСТУПНАЯ ЦИТАДЕЛЬ. По накалу духовному – это религиозная книга – Евангелие от Александра; по метафизической крепости – она сродни «Цитадели» Антуана де Сент-Экзюпери. «О богочеловек! Почто писал ты закон твой для варваров? Они, крестяся во имя твое, кровавые приносят жертвы злобе. Почто ты для них мягкосерд был? Вместо обещания будущия казни, усугубил бы казнь настоящую и, совесть возжигая по мере злодеяния, не дал бы им покоя денно-ночно, доколь страданием своим не загладят все злое, еже сотворили. Таковые размышления толико утомили мое тело, что я уснул весьма крепко и не просыпался долго». Одним из наиболее мощных и ярких мест книги видится нам достойное пера и мысли Яна Амоса Коменского, Бальтасара Грасиана или Джонатана Свифта описание сна в главе «Спасская Полесть». Дабы насладиться роскошеством слога приведём обстоятельную цитату: «Мне представилось, что я царь, шах, хан, король, бей, набаб, султан или какоето сих названий нечто, сидящее, во власти на престоле». – Вокруг престола толпится множество придворного народа: «Глубочайшее в собрании сем присутствовало молчание; казалось, что все в ожидании были важного какого происшествия, от коего спокойствие и блаженство всего общества зависели. Обращенный сам в себя и чувствуя глубоко вкоренившуяся скуку в душе моей, от насыщающего скоро единообразия происходящую, я долг отдал естеству и, рот разинув до ушей, зевнул во всю мочь. Все вняли чувствованию души моей. Внезапу смятение распростерло мрачный покров свой по чертам веселия, улыбка улетала со уст нежности и блеск радования с ланит удовольствия. Искаженные взгляды и озирание являли нечаянное нашествие ужаса и предстоящие беды. Слышны были вздохи, колющие предтечи скорби; и уже начинало раздаваться задерживаемое присутствием страха стенание. Уже скорыми в сердца всех стопами шествовало отчаяние и смертные содрогания, самыя кончины мучительнее. – Тронутый до внутренности сердца толико печальным зрелищем, ланитные мышцы нечувствительно стянулися ко ушам моим и, растягивая губы, произвели в чертах лица моего кривление, улыбке подобное, за коим я чхнул весьма звонко. Подобно как в мрачную атмосферу, густым туманом отягченную, проникает полуденный солнца луч, летит от жизненной его жаркости сгущенная парами влага и, разделенная в составе своем, частию, улегчася, стремительно возносится в неизмеримое пространство эфира и частию, удержав в себе одну только тяжесть земных частиц, падает низу стремительно, мрак, присутствовавший повсюду в небытии светозарного шара, исчезает весь вдруг и, сложив поспешно непроницательный свой покров, улетает на крыльях мгновенности, не оставляя по себе ниже знака своего присутствования, – тако при улыбке моей развеялся вид печали, на лицах всего собрания поселившийся; радость проникла сердца всех быстротечно, и не осталося косого вида неудовольствия нигде. Все начали восклицать: да здравствует наш великий государь, да здравствует навеки». – И всяк на свой лад стал славословить государя, и токмо «Единая из всего собрания жена, облегшаяся твердо о столп, испускала вздохи скорби и являла вид презрения и негодования. <…> – Кто сия? – вопрошал я близстоящего меня. – Сия есть странница, нам неизвестная, именует себя Прямовзорой и глазным врачом. Но есть волхв опаснейший, носяй яд и отраву, радуется скорби и сокрушению; всегда нахмуренная, всех презирает и поносит; даже не щадит в ругании своем священныя твоея главы. <…> – Постой, – вещала мне странница от своего места, – постой и подойди ко мне. Я – врач, присланный к тебе и тебе подобным, да очищу зрение твое. – Какие бельма! <…> – На обоих глазах бельма, – сказала странница, – а ты столь решительно судил о всем. – Потом коснулася обоих моих глаз и сняла с них толстую плену, подобно роговому раствору. – Ты видишь, – сказала она мне, – что ты был слеп, и слеп всесовершенно. – Я есмь Истина. Всевышний, подвигнутый на жалость стенанием тебе подвластного народа, ниспослал меня с небесных кругов, да отжену темноту, проницанию взора твоего препятствующую. Я сие исполнила. Все вещи представятся днесь в естественном их виде взорам твоим. Ты проникнешь во внутренность сердец. Не утаится более от тебя змия, крыющаяся в излучинах душевных». – И после наставлений царственной особы Истина рекла: «Един раз являюся я царям во все время их царствования, да познают меня в истинном моем виде; но я никогда не оставляю жилища смертных». Это и есть ключевой момент не только всей книги, но и жизненной миссии – как она ему представлялась – её автора. Обращение к царствующей особе с призывом к прямому созерцанию Истины. Обращение равного к равному – духовного подвижника к мирскому властелину. И, дабы властелин не ошибся в оценке мотивов и действий автора, Истина вещает: «Если из среды народныя возникнет муж, порицающий дела твоя, ведай, что той есть твой друг искренний. Чуждый надежды мзды, чуждый рабского трепета, он твердым гласом возвестит меня тебе. Блюдись и не дерзай его казнити, яко общего возмутителя. Призови его, угости его, яко странника. Ибо всяк, порицающий царя в самовластии его, есть странник земли, где все пред ним трепещет. Угости его, вещаю, почти его, да возвратившися возможет он паче и паче глаголати нельстиво». – Но реальный властелин оказался не на высоте. Так же, как и пришедшие ему на смену. В «Философском словаре» (под ред. И. Т. Фролова, М.: Политиздат, 1991) в статье на интересующую нас тему (с. 378) видим: «РАДИЩЕВ Александр Николаевич (1749 – 1802) – рус. писатель, родоначальник революционной мысли в России, материалист. <…> В соч. «Житие Ф. В. Ушакова» (1789) Р. объявлял залогом освобождения «страждущего общества» восстание доведенного до «крайности» народа и проклинал тех, кто пытается «снять покров с очей власти», т. е. облегчить участь народа путем обращения к монархам». – Это не иначе как очевидная дезинформация. В сочинении «Житие Федора Васильевича Ушакова» нет ничего подобного. Эти мысли – как мы видели из приводимых выше цитат – содержаться в «Путешествии из Петербурга в Москву» – вот только с прямо противоположной направленностью. Восстание Радищев видел как крайне нежелательный в силу своей кровавости исход, к которому толкает угнетаемый народ бездумно-эгоистическая политика власть имущих. Во избежание подобного исхода не то что не проклинал тех, кто пытается «снять покров с очей власти», – он сам обращается к верховной власти с этой целью. Его книга – это и есть попытка открыть власти глаза, заставить её видеть прямо. Не иначе как очевидной дезинформацией является и определение Радищева материалистом. Именуют его ещё и деистом (подобно Вольтеру): согласно тому же словарю, «ДЕИЗМ (лат. deus – бог) – учение, к-рое признает существование бога в качестве безличной первопричины мира, развивающегося затем по своим собственным законам». Однако судя по непосредственным весьма экзальтированным взываниям его ко Всевышнему, к Богочеловеку, такие определения Радищева не имеют под собой абсолютно никаких оснований. Об истинных его религиозных взглядах красноречиво свидетельствуют строки из «Путешествия», в которых отец даёт наставления своим сыновьям: «Познания ваши тем основательнее, что вы их приобрели не твердя, как то говорят по пословице, как сорока Якова. Следуя сему правилу, доколе силы разума не были в вас действующи, не предлагал я вам понятия о всевышнем существе и еще менее об откровении. Ибо то, что бы вы познали прежде, нежели были разумны, было бы в вас предрассудок и рассуждению бы мешало. Когда же я узрел, что вы в суждениях ваших вождаетесь рассудком, то предложил вам связь понятий, ведущих к понятию Бога; уверен во внутренности сердца моего, что всещедрому отцу приятнее зрети две непорочные души, в коих светильник познаний не предрассудком возжигается, но что они сами возносятся к начальному огню на возгорение. Предложил я вам тогда и о законе откровенном, не сокрывая от вас все то, что в опровержение оного сказано многими. Ибо желал, чтобы вы могли сами избирать между млеком и желчию, и с радостию видел, что восприяли вы сосуд утешения неробко». К каким же выводам приходим мы в результате совместного с Радищевым и Пушкиным «Путешествия из Петербурга в Москву» и наоборот? В письме от 13 июня 1823 г. к Александру Бестужеву (ставшему впоследствии Марлинским) по поводу совместного его с Рылеевым альманаха «Полярная звезда» Пушкин писал: «…Покамест жалуюсь тебе об одном: как можно в статье о русской словесности забыть Радищева? кого же мы будем помнить?» Много позже – в итоговом стихотворении, в черновом неподцензурном варианте – рукою поэта написано: «Вслед Радищеву восславил я свободу…» Но в том же 1836 году написана и статья «Александр Радищев», наполненная бранными выражениями в адрес писателя. Неужели это одна рука? Опираясь на всё вышесказанное, предложим свой вариант ответа. Будучи воплощённым богом Солнца – Солнцем русской поэзии – коим его делали «священные жертвы Аполлону» – он говорит одно, будучи же без этих жертв «ничтожнейшим из ничтожных» – прямо противоположное. Как результат столкновения взаимоисключающих элементов – божественного с карликовым, вещества с антивеществом – происходит процесс аннигиляции. Посему – дабы избегнуть оной – следует вывод: нельзя смотреть на мир русской словесности сквозь призму пушкинского глаза! Богатыри новой русской словесности (продолжение) Михайло Васильевич Возвращаясь к началу новой русской словесности, отметим, что книга Радищева в числе множества заключённых в ней мыслей содержит и вполне ясную трактовку также и этой темы. Завершающее «Слово о Ломоносове» может служить образцом трезвого взгляда на значение и величие учёного без какого-либо намёка на преклонение пред ним и его обожествление, что характерно для представителей последующих поколений в отношении того же Ломоносова, а также Пушкина, Гоголя и т. д. Чётко и ясно во взгляде Радищева просматривается связь Ломоносова и Сумарокова: «Но если ведаете, какое действие разум великого мужа имеет над общим разумом, то ведайте еще, что великий муж может родить великого мужа; и се венец твой победоносный. О! Ломоносов, ты произвел Сумарокова». Что же до «третьего богатыря», то значение оного в книге Радищева утверждается уже тем, что открывается она эпиграфом из «Тилемахиды»: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». Таким образом, Василий Тредиаковский оказывается в преддверии входа… Но входа не только в книгу – он ведь ещё и в преддверии входа в новую русскую литературу. Радищев способен понять роль каждого из троих – и в этом видится разумение принципа универсального единства, и – напротив – полное его непонимание характерно для тех, кто выстраивает свою концепцию на противопоставлениях. На жестких оппозициях – когда нужно выбрать кого-то одного, к примеру, из троицы Тредиаковский-ЛомоносовСумароков. Конечно, в силу его мощи, очевидности научных заслуг, предпочтение отдаётся Ломоносову, двое же остальных «сбрасываются с парохода современности». Грешил этим Пушкин, с пеной у рта доказывал Белинский, а – поскольку его концепция стала фундаментом последующего литературоведения – так оно и утвердилось: Ломоносов – гений, Тредиаковский и Сумароков – недостойные его соперники. А их-то как раз и не надо противопоставлять, а напротив – воспринимать как единое целое, где в каждом из троих содержится то, чего недостает у других. Видимо, этой причиной и вызваны их соперничество, противоречия и склоки. В этой троице Ломоносов действительно превосходил двух других – мощью, энергетикой и талантом стихотворца – но! – в своей мощи он оказывается и наиболее простым и прямолинейным из троих. В поэзии это одописец со свойственной этому стилю пышностью (барочностью), что вполне соответствовало мощной натуре Ломоносова. Сумароков – прямая его противоположность, в той же степени как классицизм противоположен стилю барокко. Строгость, простота и рационализм классицизма – вот главные черты, по коих причине Сумароков в корне неприемлем Пушкину и Белинскому. Но благодаря этим же чертам ему удаётся то, на что оказывается неспособен Ломоносов – на создание театра. Для театра Ломоносов создал две трагедии – «Тамира и Селим» и «Демофонт», которые, несмотря на превосходство ломоносовского стиха, оказались много слабей творений в этом жанре Сумарокова. Что и дало повод для радищевских слов, о том-де, что не разумел Ломоносов правил позорищного стихотворения… – и далее: томился в эпопеи, чужд был в стихах чувствительности, не всегда проницателен в суждениях и в самых одах своих вмещал иногда более слов, нежели мыслей. Томился в эпопеи: на 1756-1761 годы приходится работа Ломоносова над героической эпопеей «Петр Великий», которую он так и не смог закончить. Почему не смог? Потому что не настала ещё пора для русской эпопеи, не пришёл ещё тёзка Ломоносова Херасков, имеющий в багаже наработки классицизма, сентиментализма и душевную склонность к средневековому рыцарскому эпосу и сказочно-масонскому мистицизму. А то, что имел в багаже Ломоносов – барокко – стиль пышный, где более слов, нежели мыслей – не предполагает той остроты мышления, что необходима для построения сюжета, плетения фабулы, фиксации нюансов характера. Чужд был в стихах чувствительности: Ломоносов – прежде всего учёный, его мышление – это мышление физика, химика, но не поэта, о чём красноречиво свидетельствует такой его стихотворный курьёз как «Письмо о пользе Стекла», в котором поэзию пытается он поставить на службу науке. Впрочем, в учёности своей не чужд он и метафизики: Устами движет Бог; я с ним начну вещать. Я тайности свои и небеса отверзу, Свидения ума священного открою. Я дело стану петь, неведомое прежним! Ходить превыше звезд влечет меня охота, И облаком нестись, презрев земную низкость. В этих стихах – не иначе как творческое кредо Михайлы Ломоносова: дерзновение учёного в сочетании с истинно религиозным смирением! Я долго размышлял и долго был в сомненье, Что есть ли на землю от высоты смотренье; Или по слепоте без ряду всё течет, И промыслу с небес во всей вселенной нет. Однако, посмотрев светил небесных стройность, Земли, морей и рек доброту и пристойность, Премену дней, ночей, явления луны, Признал, что божеской мы силой созданы. Но поэтом-метафизиком назвать Ломоносова всё же нельзя – вследствие того, что главная энергия направлялась им не на теорию, а на практику, более всего на естественные науки. В этом состоит отличие Ломоносова от чисто кабинетного академика Василия Тредиаковского, в грандиозной метафизической поэме «Феоптия» попытавшегося охватить весь Универсум – не только жизнь на Земле, не только видимую Вселенную, но также и сущность бытия. Василий Кириллович По грунту разум наш величествен и слаб: По первому в себе является не раб. Прошедшее уже не смятно ограняет И с настоящим то в себе соединяет; Он проницает так до будущего сам, По настоящим всем и прошлым всем делам; Имеет о себе идею, и о теле, И в бесконечном что находится отделе. Пристойное себе всё познавает он, Отмещевает же то всё, в чем вред есть и урон. Скажи: триангул есть собою бесконечность, Тотчас ответом он находит тут преречность И скажет, что границ в ней нету, ни конца, Тем ни фигуры нет, ни зада, ни лица. Спроси: та состоит коликими частями? Он скажет, что не долг счислять ее костями: Последства, первства нет, ни также в ней числа, А инак быть бы та конечностью могла. В противовес Ломоносову, не имея ни силы его, ни разносторонних талантов, в том числе поэтических, чудак Тредиаковский в то же время находил потребность в том, что было недоступно Михайле Васильевичу. И если не преуспел он по форме, зато преуспел в смысле первоначальной идеи. Отметим же главные его заслуги. Во-первых, Василий Кириллович – реформатор русского стихосложения, создатель силлабо-тоники, его «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» (1735) оказался тем теоретическим фундаментом, основываясь на котором создавал свои оды Михайло Ломоносов. В силу различия в способностях и талантах один оказался теоретиком, другой – практиком. Во-вторых, Василий Кириллович – создатель русского гекзаметра. Здесь, однако, необходимо весьма пространное пояснение – по причине того, что мы, русские – включая всевозможных профессоров-филологов – просто не знаем своей литературы! И вновь в качестве путеводной нити мы выбираем радищевское «Путешествие». С размышления о стихосложении начинается в нём глава «Тверь»: «…Ломоносов, уразумев смешное в польском одеянии наших стихов, снял с них несродное им полукафтанье. Подав хорошие примеры новых стихов, надел на последователей своих узду великого примера, и никто доселе отшатнуться от него не дерзнул. По несчастию случилося, что Сумароков в то же время был; и был отменный стихотворец. Он употреблял стихи по примеру Ломоносова, и ныне все вслед за ними не воображают, чтобы другие стихи быть могли, как ямбы, как такие, какими писали сии оба знаменитые мужи. Хотя оба сии стихотворцы преподавали правила других стихосложений, а Сумароков и во всех родах оставил примеры, но они столь маловажны, что ни от кого подражания не заслужили. Если бы Ломоносов преложил Иова или псалмопевца дактилями, или если бы Сумароков «Семиру» или «Димитрия» написал хореями, то и Херасков вздумал бы, что можно писать другими стихами опричь ямбов, и более бы славы в осмилетнем своем приобрел труде, описав взятие Казани свойственным эпопеи стихосложением. Не дивлюсь, что древний треух на Виргилия надет Ломоносовским покроем; но желал бы я, чтобы Омир между нами не в ямбах явился, но в стихах, подобных его, – оксаметрах, – и Костров, хотя не стихотворец, а переводчик, сделал бы эпоху в нашем стихосложении, ускорив шествие самой поэзии целым поколением». Как видим, Радищев сетует на то, что вся русская поэзия пошла по пути, проложенном Ломоносовым и Сумароковым, которые всем прочим стихотворным размерам предпочитали ямб. И в результате засилья ямба не смог развиться русский дактиль (или гекзаметр). По мнению же Радищева именно гекзаметром следует писать эпические поэмы – таковое мнение, по всей видимости, основывается на том, что именно этим размером написаны классические творения Гомера и Вергилия. Что ж, взгляд весьма обоснованный и логичный, хотя с другой стороны, на сетования Радищева можно ответить поговоркой: каждому овощу – своё время, придёт пора и для гекзаметра. Но в то же время: что плохого в том, что в русской литературе XVIII века наработался свод произведений, написанных ямбом? Другое дело, что современному читателю произведения эти ни о чём не говорят! Ни упомянутые пьесы Сумарокова, ни «осмилетний труд» Хераскова, под которым разумеется эпическая поэма «Россияда», ни переводы Вергилия и Гомера. Многие ли знают об их существовании? В частности, о переводе Гомеровой «Илиады» Ермилом Костровым, выполненном александрийским стихом, и аналогичных переводах двух Василиев – Петрова и Санковского – Виргилиевой «Энеиды»? Сегодня найти их в печатном виде не представляется возможным. И только благодаря интернет-разведке удалось-таки с ними познакомиться: на сайте Научной библиотеки им. М.Горького Санкт-Петербургского государственного университета – в крайне неудобном для копирования виде – постранично выложены переведённые в PDF-формат издания конца XVIII века – надо полагать, что позже они не переиздавались. Священный трепет охватил меня от соприкосновения с находкой – истинной сокровищницей русской изящной словесности. Можно, конечно, обсуждать достоинства и недостатки переводов, но для этого нужно хотя бы иметь их под рукой. И как бы то ни было, а разве не знаменательное событие – явление русскому читателю Гомера и Вергилия? А то, что перевод вместо гекзаметра, на котором написан оригинал, осуществлен александрийским стихом – так это вызывает только дополнительный интерес, ибо таким образом рождается во многом новое произведение. В этом смысле ценен каждый из переводов – тем более, первый, коим является перевод «Илиады» Ермилом Костровым: Воспой Ахиллов гнев божественная муза, Источник Грекам бед, разрыв меж них союза, Сей гнев, что много душ Геройских в ад предслал, В корысть тела их псам и хищным птицам дал; Когда Атрид, и с ним Ахилл богоподобной, Расторгли меж собой приязнь враждой всезлобной. А вот начало «Энеиды» в переводе Василия Петрова: Пою оружий звук и подвиги Героя, Что первый, как легла вся в прах от Греков Троя, Судьбой гоним достиг Италии брегов; Страдал под игом зол, средь суши и валов, Насланным от руки злопамятной Юноны; В кровавых бранях нес тяжчайшие уроны; Когда в Италии град новый возводил, В Латинскую страну богов своих вносил; Откуда проистек Латинов род преславный, Албанские Цари, и Рим возник державный. И то же самое, но в переводе Василия Санковского: Пою кроваву брань, и действия Ироя, Судьбою сей гоним, как разорилась Троя, К Латинским берегам в Италию пришел: Бед много на земли и в море претерпел. По воле вышних сил он зрел везде препоны, Для гнева лютаго злопамятной Юноны, Противников разя, премного пострадал, Когда пространный град народу созидал И в Латию когда вносил богов чрез воды, Отколе начались Латинские народы, Отколе возрасла огромность Римских стен И купно Альбский род отколь произведен. Обратим внимание на парадоксы восприятия, связанные с различием временных пространств, в которых пребывает воспринимающий. Так, воспитанным на гекзаметре и потому привыкшим к нему современным любителем античной литературы вышеприведённая интерпретация древних текстов воспринимается весьма свежо. В конце века XVIII – напротив – гекзаметр в русской поэзии оставался диковиной, тогда как александрийский стих набил оскомину. Посему иная поэтическая душа – в частности, Александра Радищева – пребывала в томлении по гекзаметру, коим проникнуто следующее место в «Путешествии из Петербурга в Москву»: «Но не один Ломоносов и Сумароков остановили российское стихосложение. Неутомимый возовик Тредиаковский немало к тому способствовал своею «Тилемахидою». Теперь дать пример нового стихосложения очень трудно, ибо примеры в добром и худом стихосложении глубокий пустили корень. Парнас окружен ямбами, и рифмы стоят везде на карауле. Кто бы ни задумал писать дактилями, тому тотчас Тредиаковского приставят дядькою, и прекраснейшее дитя долго будет казаться уродом, доколе не родится Мильтона, Шекеспира или Вольтера. Тогда и Тредиаковского выроют из поросшей мхом забвения могилы, в «Тилемахиде» найдутся добрые стихи и будут в пример поставлены». Но тут ещё вот какой парадокс. Тем, что доступно нам, не мог наслаждаться человек XVIII века – по причине, что оно ещё не было создано, – и приходилось ему довольствоваться ещё не слишком большим наследием современников. А что сегодня? А то, что наследие XVIII века оказалось малодоступным для современного человека! Вовсе не потому, что оно недостойно внимания – эстетически развитый читатель способен по достоинству его оценить. Причина – в БЛИЗОРУКОСТИ – со времен Белинского прогрессирующей болезни российского литературоведения. В этой связи – как проявление литературной близорукости – интересна мысль Пушкина из предназначавшейся для «Современника» статьи «Александр Радищев»: «Между статьями литературными замечательно его (Радищева. – О. К.) суждение о Тилемахиде и о Тредьяковском, которого он любил по тому же самому чувству, которое заставило его бранить Ломоносова: из отвращения от общепринятых мнений». А вот реальное свидетельство касательно «Тилемахиды» самого Радищева из его трактата «Памятник дактилохореическому витязю»: «…Поелику Тредьяковский отвечает только за стихи (а не за Фенелонов сюжет. – О. К.), то надлежит сказать, во-первых, что, по несчастью его, он писал русским языком прежде, нежели Ломоносов впечатлел россиянам примером своим вкус и разборчивость в выражении, и в сочетании слов и речей сам понесся путем непроложенным, где ему вождало остроумие; словом: прежде, нежели он показал истинное свойство языка российского, нашед оное забыто в книгах церковных; потому Тредьяковскому и невозможно было переучиваться. Тредьяковский разумел очень хорошо, что такое стихосложение, и, поняв нестройность стихов Симеона Полоцкого и Кантемира, писал стихами такими, какими писали греки и римляне, то есть для российского слуха совсем новыми; но знав лучше язык Виргилиев, нежели свой, он думал, что и преношения в российском языке можно делать такие, как в латинском….» – И в завершение трактата: «Сказанного мною, кажется, уже довольно для доказательства, что в «Тилимахиде»: находятся несколько стихов превосходных, несколько хороших, много посредственных и слабых, а нелепых столько, что счесть хотя и можно, но никто не возьмется оное сделать. Итак, скажем: «Тилимахида» есть творение человека, ученого в стихотворстве, но не имевшего о вкусе нималого понятия». Как же можно здесь видеть то, о чём говорит Пушкин? Очевидная причина – не просто близорукость, а, пожалуй, ещё и астигматизм. («АСТИГМАТИЗМ – недостаток оптической системы или преломляющей способности глаза, состоящий в том, что лучи, вышедшие из одной точки объекта, не собираются вновь в одной точке и изображение получается расплывчатым» – «Словарь иностранных слов» (М.: «Русский язык», 1988, с. 60). Посему извлекаемые выводы: Пушкин – великий путаник; путаницу в своей голове он переносит на окружающие его объекты; и эту путаницу в качестве путеводной нити выбирает российское литературоведение. По Радищеву: Тредьяковский – в преддверии – ещё за пределами собственно русской поэтической традиции, которая начинается с Ломоносова – открывающего дверь, указующего и прокладывающего путь… Но путь, проложенный гением Ломоносова, оказывается – по Радищеву – не совсем оптимальным: засилье ямба и невостребованность дактиля. А корень проблемы в том, что Ломоносову не хватало знаний Тредиаковского! И остаётся только сожалеть, что знания и способности этих двух не были совмещены в одном! Итого, побродив немного по литературным лабиринтам и распутав в какой-то мере клубок противоречий, отдадим же, наконец, должное предмету, столь любезному сердцу Александра свет Николаича, – «дактилохореическому витязю», или, попросту говоря, гекзаметру. Итак, Василий Кириллович Тредиаковский – создатель русского гекзаметра. Из «Тилемахиды»: Буря внезапна вдруг возмутила небо и море. Вырвавшись, ветры свистали уж в вервях и парусах грозно; Черные волны к бокам корабельным, как млат, приражались, Так что судно от тех ударов шумно стенало. То на хребет мы взбегаем волн, то низводимся в бездну, Море когда, из-под дна разливаясь, зияло глубями. Видели близко себя мы камни остросуровы, Ярость о кои валов сокрушалась в реве ужасном. Опытом я тут познал, как слыхал от Ментора часто, Что сластолюбцы всегда лишаются бодрости в бедствах. Наши киприйцы все, как жены, рыдали унывши: Только и слышал от них я что жалостны вопли рыдавших, Только что вздохи одни по роскошной жизни и неге, Только что и богам обречений тщетных обеты, Жертвы оным принесть, по здравом приплытии к брегу. Не было в них проворства ни в ком приказать бы что дельно, Также никто не знал и сам за что бы приняться. Мне показалось, что должен я был, спасая мою жизнь, Равно ее спасти от беды и у всех же со мною. Стал на корме при весле я сам, для того что наш кормчий, Быв помрачен от вина, как вакханта, бедства не видел. Я ободрил мореходцев, крича им полмертвым с боязни: «Прапоры сриньте долой, вниз и парусы, дружно гребите». Стали они тогда гресть сильно веслами всеми; Мы пробрались меж камней так без вреда и напасти, И мы видели там все страхи близкии смерти. Много позже – в 1829 году был опубликован выполненный гекзаметром перевод «Илиады» Николая Гнедича, над которым он работал в течение двадцати лет: Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына, Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал: Многие души могучие славных героев низринул В мрачный Аид и самих распростер их в корысть плотоядным Птицам окрестным и псам (совершалася Зевсова воля), – С оного дня, как, воздвигшие спор, воспылали враждою Пастырь народов Атрид и герой Ахиллес благородный. Ещё через двадцать лет – в 1849-м – вышел в свет итог семилетнего труда Василия Жуковского – перевод «Одиссеи». (Также гекзаметром написан ещё один шедевр этого автора – «Ундина»). Таким образом, русская литература покорила высшие точки античных высот. Но разве может это напрочь перечеркнуть первый перевод Ермила Кострова и труды по созданию русского гекзаметра неутомимого трудяги Тредиаковского? Оказывается, может – в силу сатанинского гена нетерпимости, противопоставления и отдельности, заложенного в фундамент отечественного литературоведения Белинским. В результате – наследие, не вмещающееся в прокрустово ложе доминирующей идеологии, ниспровергается, топчется и выбрасывается. Наплевательское отношение к литературному наследию характерно и для последующих эпох. Перевёл Гнедич «Илиаду», а Жуковский – «Одиссею» – и на этом Гомер для нас заканчивается, в том смысле, что труды последующих переводчиков никак не популяризируются. А ведь в конце XIX века «Илиада» была переведена Н. Минским, а в середине ХХ века переводы обеих гомеровских поэм параллельно осуществлены сразу и А. Шуйским, и В. Вересаевым. Ни разу в своей жизни не доводилось мне держать в руках издание переводов Минского и Шуйского, и только однажды – М.: «Просвещение», 1987 – была обнаружена книга с переводом Вересаева (в сокращении). Пой, богиня, про гнев Ахиллеса, Пелеева сына, Гнев проклятый, страданий без счета принесший ахейцам, Много сильных душ героев пославший к Аиду, Их же самих на съеденье отдавший добычею жадным Птицам окрестным и псам. Это делалось, волею Зевса, С самых тех пор, как впервые, поссорясь, расстались враждебно Сын Атрея, владыка мужей, и Пелид многосветлый. В завершение блиц-обозрения, посвященного русскому гекзаметру, в дополнение и для поверки вышеприведённых переводов XVIII века приведём первые стихи «Энеиды» в «каноническом» переводе С. Ошерова (1) и в менее известном переводе Валерия Брюсова (2). 1. Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои – Роком ведомый беглец – к берегам приплыл Лавинийским. Долго его по морям и далеким землям бросала Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны. Долго и войны он вел, – до того, как, город построив, В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян, Города Альбы отцы и стены высокого Рима. 2. Брань и героя пою, с побережий Трои кто первый Прибыл в Италию, Роком изгнан, и лавинийских граней К берегу, много по суше бросаем и по морю оный, Силой всевышних под гневом злопамятным лютой Юноны, Много притом испытав и в боях, прежде чем основал он Город и в Лаций богов перенес, род откуда латинов И Альбы-Лонги отцы и твердыни возвышенной Ромы. Поверяя этими текстами переводы ныне забытых русских поэтов – Петрова, Санковского, Кострова, – убеждаешься как в ёмкости и точности, определяющих весьма высокое качество наших первых переводов Вергилия и Гомера, так и в несправедливости забвения оных. Возвращаясь же к личности Тредиаковского, укажем, что отмеченными выше трудами по реформированию русского стихосложения и созданию русского гекзаметра его заслуги пред отечественной словесностью не исчерпываются. Есть ещё одна весьма существенная заслуга, на которую указал автор двух замечательных повестей о Тредиаковском – «Остров любви» и «Беглец», – писатель второй половины ХХ столетия Юрий Нагибин: «Когда рухнули убогие бурсацкие представления о возвышенных нравоучительных целях поэзии, служащей якобы к прославлению великих мира сего и к назиданию малых сих, когда открылось, что истинная поэзия – это разговор о любви и не поэт тот, кто не влюблен, он с восторгом обнаружил, что не обделен этим первым наиважнейшим признаком поэта. <…> Тредиаковский уступал в поэтическом даровании и просто в умении слагать стихи и Ломоносову и Сумарокову, но в нем одном из всех его современников звучала щемящая лирическая нота. И эта нота прорывалась сквозь всю нескладицу тяжеловесных виршей, чистая, грудная, задушевная, – то в стихах о Париже, то в песенке о кораблике, уходящем в плавание, то в стоне о далекой родине, то, вовсе неожиданно, в какой-либо заумно-безобразной рифмованной чуши. Этот нелепый поэт не был весь съеден дидактикой…» Итак, Тредиаковский – это ещё и первый русский поэт-лирик, и при всех его несовершенствах именно он – тот первый, который достоин войти… В «Слове о Ломоносове» Радищев говорит: «Мы желаем показать, что в отношении российской словесности тот, кто путь ко храму славы проложил, есть первый виновник в приобретении славы, хотя бы он войти во храм не мог». – Но кто же проложил сей путь – Ломоносов или всё же Тредиаковский? Вопрос остаётся открытым… У истоков героической поэмы Если Тредиаковский – в преддверии, а Ломоносов – открывающий дверь, то Сумароков – ушедший уже далеко вперёд, и задачи, которые ему довелось решать, принадлежат к сфере не добывания литературного камня, а его обработки. Будучи на 6 лет младше Ломоносова (1711-1765), и на 14 – Тредиаковского (1703-1769), Сумароков (1717-1777), хотя и непосредственно соперничал с ними, но в то же время выполнял уже совершенно иную миссию. С Сумарокова начинается качественно новый этап российской поэзии и потому сравнивать его с Ломоносовым не совсем уместно. По сути своей творческой деятельности он вовсе не соперник Ломоносова и Тредиаковского, а их продолжатель. Ломоносова и его творчество можно уподобить глыбе неотёсанного камня – хотя и грандиозно-впечатляющего, но лишённого нюансов. Миссия Сумарокова состояла в том, чтобы обозначить эти нюансы, с чем он блестяще справился, оставив после себя целую плеяду последователей. С Сумарокова начинается разветвление русской литературы, его многообразное литературное творчество – это сад расходящихся тропок. Данная эпоха изобилует такими именами как Василий Петров (1736-1799), Яков Княжнин (1740-1791), Михаил Херасков (1733-1807), Василий Майков (1728-1778), Ипполит Богданович (17431803), Василий Санковский (1741-18??), Ермил Костров (1755-1796), Семён Бобров (17631810), – а в начале этого списка отвергнутых неблагодарными потомками – Александр Петрович Сумароков. Для сегодняшнего читателя данный список – сливающийся в нечто безлико-монолитное набор ничего не говорящих имён. Но уже при первом – опосредованном – знакомстве имена эти начинают говорить и вызывать изрядное любопытство. Так в биобиблиографическом словаре «Русские писатели. XVIII век» (составитель С. А. Джанумов; М.: «Просвещение», 2002) в статье о Василии Петрове читаем: «Среди классических образцов одического творчества П. выделяются «Ода на взятие Измаила» (1790), которая оказала влияние на пушкинскую «Полтаву»; «Плач на кончину его светлости князя Григория Александровича Потемкина-Таврического» (1791), являющийся одним из шедевров русской тренической лирики; «Ода Н. С. Мордвинову» (1796), которая открывает «мордвиновский» цикл в отечественной поэзии, продолженный А. С. Пушкиным, К. Ф. Рылеевым, П. А. Плетневым». – И разве может столь интригующая информация не вызвать интереса? Другое дело, что познакомиться с перечисленными произведениями Петрова не так-то просто, ибо в издаваемых антологиях русской литературы XVIII века стихов этого поэта – кот наплакал. Так в мощный том «Русская литература XVIII века» (составитель профессор Г. П. Макогоненко; Ленинград: Просвещение, 1970) вошло ни много ни мало одно стихотворение Петрова – «Ода на войну с турками». В томе 57 первой серии «Библиотеки всемирной литературы» – «Русская литература XVIII века» (составитель опять-таки Г. Макогоненко; М.: Худож. лит., 1972) Петров не представлен вообще. Наконец, в антологии «Русская литература – век XVIII. Лирика» (М.: Худож. лит., 1990) помещены два стихотворения Петрова – «Ода на великолепный карусель» и «Смерть моего сына». С заинтересовавшими нас произведениями удалось ознакомиться благодаря интернетсайту Научной библиотеки им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета, где постранично выложены копии старинных изданий. Итак – Василий Петров, «На взятие Измаила декабря 11 дня 1790 года»: Усердья машучи крылами Вновь Россы к высоте летят: Вновь Турки овладеть валами Им всей возможностью претят, Тягча их гибельным ударом, Кипящим обливая варом. Они не чувствующи ран, Низринуты во рвы топучи, Восстав, парят сквозь вражьи тучи, Как стрелы кверху сквозь туман. На память тут же приходят знакомые с детства строчки Лермонтова: Ну ж был денёк! Сквозь дым летучий Французы двинулись, как тучи, И всё на наш редут. Уланы с пестрыми значками, Драгуны с конскими хвостами, Все промелькнули перед нами, Все побывали тут. Петров: Смесилися! друг друга рубят, Друг друга колют, топчут, рвут; Удар ударами сугубят, По собственным кровям пловут. А здесь уже Пушкин: Швед, русский – колет, рубит, режет. Бой барабанный, клики, скрежет, Гром пушек, топот, ржанье, стон, И смерть и ад со всех сторон. Петров: Еще, еще, сомкнясь, взмахните, Оплоту двигнитесь равны; Сильняй от Севера дохните, Решите жеребий войны. Как буря, молнией угрюма, Взмахнув, в яру, крылами шума Рванулись Россы к бою вновь. Не знает их копье отдыха: Грудь взнемлется от часта пыха; Течет ручьем с них пот и кровь. И вновь Пушкин: Но близок, близок миг победы. Ура! мы ломим; гнутся шведы. О славный час! о славный вид! Еще напор – и враг бежит. И следом конница пустилась, Убийством тупятся мечи, И падшими вся степь покрылась, Как роем черной саранчи. И Лермонтов: Земля тряслась как наши груди; Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий Слились в протяжный вой… Петров: Отчаянье не знает страху; Во место, чтоб к земле прилечь, На Россов ринулись с размаху; Блеснули сабли выше плеч. Ударов звук и крови брызги, Зиянье ран, нестройны визги, Шум, крик возник, и стон и треск. Как пыль когда от вихрей встанет, И дождь и град смесясь пригрянет, И молний их разрежет блеск. Какие выводы можно извлечь из обозначившихся параллелей? Очевидное различие состоит в степени совершенства языка. Необработанность, несовершенство языка у Петрова, и совершенство у Пушкина и Лермонтова. Но это – общеизвестная истина, ибо одной из самых – если не самой большой заслугой Пушкина является, несомненно, преображение языка. Но возникает вопрос: отменяет ли совершенно-язычный Пушкин несовершенно-язычного Петрова? То есть: сохраняют ли художественное значение – несмотря на несовершенство языка – стихи Петрова? Прежде чем ответить на этот вопрос, обратим внимание на одну маленькую, но очень важную деталь относительно стихов Пушкина и Лермонтова. Поэма «Полтава» может быть признана верхом совершенства, но это никак не «героическая поэма». Описание боя в ней занимает совсем немного – всего две-три строфы. Это всего лишь слабый отблеск – несколько поэтических красивостей, вовсе не отображающих сущность настоящего боя. Плюс неудачная – снижающая – метафора, низводящая всё на уровень копошащихся насекомых! Стихи Лермонтова замечательны, но это опять-таки всего несколько строф. Так могут ли эти несколько строф отменить – целиком и полностью заменив собой – всю батальноэпическую традицию, столь важную для русской поэзии XVIII века? На наш взгляд, ответ очевиден – потому как вопрос риторичен. И стихи Петрова – по крайней мере, лучшие из них – при отмеченном несовершенстве тогдашнего поэтического языка – принадлежат не истории литературы, но ЛИТЕРАТУРЕ. По той причине, что это весьма замечательные стихи, способные и ныне приносить эстетическое наслаждение. Уже густы разгнав туманы, Прекрасно солнце востекло; Лес, горы, реки, океяны Лучей в порфиру облекло. Провозсияло все в натуре, Един подвержен мрачной буре, Един страдает Измаил. В нем солнце страшны зрит премены: Рвы полны тел, сожженны стены; Марс кровью стогны упоил. Вчера беседующих гласы, Вчера был слышан ядер свист; Днесь все молчат, легли как класы Иль палый с древ во осень лист. Насильным свержены ударом Дымятся трупы теплым паром; Весь град под облаком густым. Так лесы если загорятся, И по пожаре все курятся; Встает от пепелища дым. Ужасно зрелище и слезно! О слабый смертный, бренна плоть! Кто сердце дал тебе железно Подобных резать и колоть? К чему толь мужество чудесно? Иль всем на свете жить нам тесно; И должно грудью брать простор? Как прорубают лес секиры, Чтоб дули сквозь него зефиры; Прохладу ль даст нам брань и мор? Нет места, где бы человеки Водимы страстию слепой Кровей не пролияли реки, На смертный исходяще бой. Обагрены леса, стремнины, Пещеры, блата и пучины, Где ходит чолн, где водят плуг. Мы гибнем под землей глубоко, И гибнем в воздухе высоко, Толпою, тысячами вдруг. Василий Петров принадлежит к тому поколению русских поэтов, что пришли на почву, подготовленную Тредиаковским, Ломоносовым и Сумароковым. По своим специфическим особенностям это преимущественно одописец с цветистым барочным слогом, с языком, сильно насыщенным всяческими архаизмами. В этом он как бы являлся антиподом стремящегося к рациональной сухости Сумарокова и – в качестве одописца – последователем Ломоносова – по поэтической пышности превзошедшим оного. Так во всяком случае считала императрица Екатерина – и не только. Но в то же время – в отличие от Ломоносова – это был поэт уже следующего – пост-сумароковского – поколения, то есть: с более развитой, нежели у Ломоносова, динамикой, что особенно наглядно проявилось в батально-эпической грани творчества Петрова. Проиллюстрируем данную мысль фрагментом из написанного в 1774 году произведения, полное название которого – «Поема на победы Российскаго воинства под предводительством генерала фельдмаршала графа Румянцова, одержанныя над татарами и турками, со времен его военачальства над первою армиею, до взятья города Журжи». Меж тем оставивший и рать свою и стан, В Исакчу за Дунай спасается Каплан; Так лютый тигр берлог и чад своих покинув, Стремится в бег пыша и челюсти разинув, Когда изранен весь тенета разорвет; Бежит, и по пути ручьями кровь лиет, Едва желаннаго убежища достигнул, Как перси обнажив ужасный стон воздвигнул. «Я ранами, – ревет, – бегу отягощен, Померкла честь луны, коль я не отомщен». Возскрежетал Алий от ярости и гневу, Яд злобы по всему стал литися в нем чреву, Простерлась на челе нахмуренном гроза, Наполнились огнем и кровию глаза. Он помощь скорую Гирею обещает, Прерывным голосом, «будь бодр», ему вещает; «Ты пойдешь знаменем Магмеда покровен, Твой будет студ в крови Россиян омовен». То рекши своему вдыхает жар народу; К поспешному за Истр велит трубить походу; Воздвигся в их стану внезапный крик и шум; Все полны ярости, все полны буйных дум. Возсели на коней, взвилися, полетели, Под пушек тяготой колеса заскрыпели; Встал вихрь, подвиглась в путь рать многа без числа; И злобы пламень свой пред нею понесла. <…> Открылись станом тел Гигантам равны Спаги; Рожденной множеством исполнены отваги: Обозревают мочь Российску с высоты; Озрев, и копьями ударив о щиты, С размаху, тьмами тем пускаются противу, Подобны вод морских шумящему разливу. Свист ядр, оружий треск, рев махин, звук броней, Сражающихся крик и ржание коней, Визг, топот, шум, и вопль до облак раздается; Смесивших с прахом дым на воздух вихрем вьется; Блистает бранный огнь как молния в ночи! Сверкают острые сквозь чорну мглу мечи! Во след своих огней Росс всюду успевает; Там Олиц, бурей мчась, гром громом отбивает; Там Брюс чрез дол на холм… О дол, плачевный дол, Вместилище смертей и смерть родящих зол, Сперлися, сшиблися! друг друга нудят пасти, Друг друга тяготят, и рубят в мелки части! Тот множество своей принесши злобе жертв Несыт убийствами, сражается полмертв; Иной, лишь меч взмахнул, пронзен при самом взмахе Падет и движется в окравовленном прахе. Топча своих, чужих, пролитыя чрева! Мурза хотя взлететь Сабурову на плечи, Сам прежде сринут пал среди кровавой сечи, Ахмет рвучись мечем меж россов путь отверсть, Сражен, как пес грызет невинну зляся персть. Разметаны в песке трепещущие уды, Там руки, там главы, и тел бездушных груды! <…> Тягчат, пронзают, рвут, безглавят, низвергают, Кичливый дух из тел огромных изторгают! И ободрена рать пустясь жарчае в бой, Мстит тысящью смертей свой варварам разстрой; Во перси, во главы, в гортани, в ребра, в выи, Разят чудовищей поборники России! Там храбрости отца ревнитель Салтыков, Сражает их, вскоча в средину их полков; В шуму оружия, меж пламеней и звуков, Их колет, их сечет, их топчет Долгоруков, Чрез трупы скачет конь! сверкает выше плеч, Как молния, дымясь кровавым паром мечь! Уже сокрушены, потоптаны, разбиты; Нещастливый Алий лишен всея защиты; Спреди и созади, со обоих сторон Обхваченный не зрит, лишь гибель и урон. Бледнея посреди ужаснейшей тревоги, Он ищет в именах богов своих помоги… Для сравнения откроем неоконченную героическую поэму «Пётр Великий» авторства Ломоносова и – что называется – почувствуем разницу. В отличие от Петрова доминантой Ломоносова вместо изображения является прославление, в результате чего возникает трудность перехода от абстракции к конкретике, от общего к частному; неспособность фокусировки по той причине, что ввиду авторской доминанты – прославление, а не изображение – в фокусе оказывается не событие, а личность. А так как цель – прославление этой личности – изначально определена, то нет причины и для возникновения движения. Таким образом, поэзия лишается живого нерва, пульсации жизни, – и произведение остаётся мёртвым в своей незаконченности. Потому не может «Пётр Великий» Ломоносова считаться первой русской героической поэмой – это лишь попытка – неудачная – такой поэмы. А вот в поэтике Петрова мы видим восстановление необходимых для данной традиции качеств. И хоть он – не создатель собственной героической поэмы, но причастность к её появлению налицо. Приведённый выше фрагмент «Поэмы» является свидетельством того, что, наследуя Ломоносова, но преодолевая свойственную ему статичность – через обращение к античным образцам, через перевод «Энеиды», через стремительность александрийского стиха, через характерное русское мироощущение, – Василий Петров проложил путь к последующему синтезу традиции эпической поэмы в творчестве Михаила Хераскова – в знаменитых его «Россиаде» и «Владимире». Впрочем, знаменитыми они были лишь при жизни автора, для современного же читателя названия эти ровным счетом ничего не говорят, как и само имя их автора. Заповедная зона русской литературы И так же ничего не говорит современному читателю имя младшего товарища Хераскова – поэта и переводчика Ермила Кострова. А между тем в уже не раз упомянутом биобиблиографическом словаре «Русские писатели. XVIII век» об этом авторе находим сведения, ещё более интригующие, нежели о Василии Петрове. Итак, Ермил Иванович Костров (1755-1796) – поэт переходного от классицизма к сентиментализму периода, чьему перу принадлежат как громкие хвалебные оды, так и тихие сентиментально-лирические элегии. Жизнь поэта оказывается тесно связанной со столь знаковыми фигурами эпохи как Херасков, Новиков, Державин, – и что самое интересное – генералиссимус Суворов. В честь побед русской армии под водительством Суворова Костров создаёт ряд прославляющих полководца стихотворений, которые настолько понравились Александру Васильевичу, что он приказал выплатить нуждающемуся стихотворцу 1000 рублей. Но как отмечают авторы статьи Л. А. Ольшевская и С. Н. Травников: «Оригинальное творчество К. оказывается менее значимо и интересно, чем его переводы. По инициативе Н. И. Новикова он в 1780-1781 гг. перевел с латинского «Золотого осла» Апулея, мастерски воспроизведя художественный стиль подлинника. Его перевод, остававшийся единственным вплоть до начала ХХ в., дает полное представление об этом шедевре мировой литературы». – От поздней антики Костров обратился к ранней и выдал на-гора переведённые александрийским стихом шесть песен Гомеровой «Илиады» (1787). В статье отмечается, что «Современники с уважением именовали поэта «русским Гомером»» и что «до середины XIX в. в русской литературе не затихали споры, какому переводу «Илиады» – К. или Н. И. Гнедича (1829) – отдать предпочтение». И наконец: «В 1792 г. поэт опубликовал прозаический перевод поэмы Д. Макферсона «Оссиан, сын Фингалов, бард третьего века», посвятив его Суворову. Это сочинение так понравилось полководцу, что он не расставался с ним во всех походах, в том числе и во время легендарного перехода русской армии через Альпы». – Внесём небольшое уточнение: Костров осуществил перевод с французского перевода Летурнера оригинального текста Джеймса Макферсона, который изначально также написан прозой и является, вероятно, собственным его творением по мотивам старо-шотландской (гэльской) эпической поэзии. Сегодня, когда во многом благодаря творчеству профессора Толкина – да не выпадет никогда шерсть на его ногах! – воздадим должное его вину и элю! – интерес к западноевропейскому эпосу и, прежде всего, к кельтской традиции, приобрёл массовые масштабы, пренебрежительное отношение к «Песням Оссиана» может вызвать одно лишь недоумение. А между тем в статье на эту тему в Интернет-Википедии находим следующее свидетельство: «Во второй половине XIX в. поэмы Оссиана были забыты: «…среди тысячи англичан или шотландцев средней литературной культуры (если только они не горцы) вы не встретите ни одного, кто бы прочёл страницу Оссиана… Макферсоновского Оссиана не читают; отчасти им восхищаются те очень немногие, кто все же прочёл его, а называют его „чушью“ сотни… и в их числе, я полагаю, большинство тех, кого считают современными глашатаями культурного мнения». (Blackie J. S. The language and literature of the Scottish Highlands. Edinburgh, 1876, p. 196.) Как видим, воинствующие профаны водятся не только у нас, и меняющееся со временем отношение к Макферсону в Британии полностью совпадает с отношением у нас к выдающимся русским фольклористам XIX века – Афанасьеву, Сахарову, Далю. Это сегодня их авторитет не подвергается сомнению, но совсем не так обстояло дело сто лет назад. Во всяком случае, в 86-томном Энциклопедическом Словаре Брокгауза и Ефрона (1890-1907 гг.), а также в Новом Энциклопедическом Словаре (1910-1916 гг.) статьи об этих учёных писаны в совершенно иной тональности. Об Афанасьеве: «В настоящее время, после того как исследование народного творчества сильно двинулось, труды А. потеряли научное значение. Но для своего времени они были очень ценными вкладами в область, изучение которой в России тогда еще только начиналось». О Сахарове: «До половины 1850-х годов имя С. и его издания пользовались большой популярностью; его труды считались в ряду авторитетных источников для научных и литературных выводов о русской народности. Теперь очень редко встречаются цитаты из изданий С.: критика иначе взглянула не только на его мнения, но и на самое качество многих из приведенных им текстов, и отвергла их как неточные или даже фальшивые». О Дале: «В природе Даля, несмотря на естественно-историческое образование, полученное в Дерптском университете, было что-то мешавшее ему сделаться спокойным и точным ученым. Причиной этому была отчасти беспокойная бродячая жизнь, отчасти наклонность к поэтическому творчеству, отчасти, быть может, некоторый коренной, органический недостаток во всем духовном складе Даля (вспомним его увлечения гомеопатией, спиритизмом, Сведенборгом и т. д.). Его словарь, памятник огромной личной энергии, трудолюбия и настойчивости, ценен лишь как богатое собрание сырого материала, лексического и этнографического (различные объяснения обрядов, поверий, предметов культуры и т. д.), не всегда достоверного». К счастью, опровергать подобные заявления сегодня нет нужды – авторитет Сахарова, Афанасьева, Даля полностью восстановлен, непреходящее значение их трудов не подвергается сомнению. Это не значит, что в них нет и быть не может недостатков, это значит, что для отечественной фольклористики эти произведения фундаментальны, и ежели научная мысль идёт дальше, то всё же не может быть отброшен за ненадобностью фундамент научного здания. В полном объёме восстановлен также авторитет Джеймса Макферсона. Настоящим памятником, воплотившем в себе дух бардовской поэзии, являются «Песни Оссиана» – независимо от соотношения в нём фольклорного материала и собственно авторского творчества. В 1983 году в ленинградском отделении издательства «Наука» в серии «Литературные памятники» вышел полный научный перевод «Песен Оссиана», подготовленный Ю. Д. Левиным. «Кухулин сидел у стен Туры под сенью листвы шелестящей. Ко мшистой скале прислонил он копье. На траве лежал его щит. Когда он думал о могучем Карбаре, герое, которого в битве сразил он, пришел с океана дозорный, Моран, сын Фихила. «Восстань, – сказал юноша, – Кухулин, восстань: я зрел корабли Сварана. Кухулин, много у нас врагов, много героев мрачно-бурного моря». «Моран, – ответил вождь синеокий, – ты вечно трепещешь, сын Фихила! Твой страх приумножил число врагов. А это, быть может, король холмов одиноких спешит мне помочь на зеленых просторах Уллина». «Я зрел их вождя, – говорит Моран, – он высок, как скала ледяная. Копье его, словно ель опаленная, щит, как луна восходящая. Он сидел на прибрежной скале, а вокруг теснилося тучами его темное воинство. «Много, вождь, мужей, – сказал я, – много у нас дланей войны. Ты по праву зовешься Могучим Мужем, но многих могучих мужей мы зрели с открытых ветрам стен Туры». Как прибой, бьющий о скалы, ответствовал он: «Кто в этом краю сравнится со мной? Героям не устоять против меня: их повергает во прах моя длань. Никто не может противоборствовать Сварану, кроме Фингала, короля грозовых холмов. Некогда мерялись мы силами с ним на вересковой пустоши Малмора, и наши стопы повергали деревья. Утесы рушились с мест своих, а ручьи меняли течение, с рокотом убегая от нашего единоборства. Три дня мы вновь начинали наше сраженье, и герои, дрожа, стояли поодаль. А на четвертый день Фингал говорит, что пал король океана. Но Сваран ответствует: он устоял! Так пусть же «мрачный Кухулин покорится тому, кто силен, как бури Малмора». Сей отрывок представляет начало открывающей «Песни Оссиана» поэмы «Фингал» и процитирован он с той целью, чтобы сопоставить его с текстом более чем 200-летней давности. Ибо сегодня, когда мир просто помешался на кельтской традиции, быть может, пришло время и для костровского перевода «Песен Оссиана» не просто вернуться в научный обиход, а и стать бестселлером! Итак, что же представляет собой этот перевод? Насколько он соответствует современным требованиям? По замечанию Ольшевской и Травникова: «К. удалось точно передать романтический колорит, суровость и сумрачность северного пейзажа, эмоциональную напряженность и внутреннюю энергию сочинения Макферсона». – Впрочем, благодаря интернет-ресурсу Научной библиотеки им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета, мы можем убедиться в этом сами: «Бесстрашный Кушуллин сидел пред вратами Туры, при корени шумящаго ветвиями древа. Его копие стояло уклоняясь к твердому и мхом покрытому камени. Его щит покоился близь его на злачном дерне. Его воображение представляло ему в мечтах Каирбара, Героя пораженнаго им в сражении, как вдруг Моран, посланный бодрствовать над Океаном, возвращаясь возвещает ему о успехе своих недремлющих очей. Востани, Кушуллин, – рек юный ратник: я зрел корабли Сварановы. Кушуллин! сопостаты многочисленны: мрачное море стремит на брег сонмы Героев. – Сын Фитилев! отвещает голубоокий вождь: ты всегда являешься пред взор мой в трепете; ужас твой умножил число противных. Кто возвестил тебе, что приближается не Фингал, владыка пустынных гор, текущий мне в помощь на зеленеющие поля Уллина? Я видел их вождя, отвечает Моран; я видел его высока и грозна, как возвышенный и неприступный холм. Его копие подобно сей дебелой и древней сосне. Щит его велик, яко луна востекшая на край горизонта. Он сидел на камени брега, и воинство, как темныя облака, стеснялось вокруг его. Вождь ратников! рек я ему: число наших воителей велико: ты справедливо нарицаешься мужественным Героем; но сонмы храбрых мужей ожидают тебя под изгибистыми стенами Туры. Гласом подобным шуму свирепеющей волны отвечал мне Сваран: И кто на сих полях будет мне равен? Моего взора не могут стерпеть Герои: они повергаются на прах от поражений моей десницы. Един токмо Фингал, един владыка холмов бурных, может противоборствовать Сварану. Некогда на холме Мальмора измерял я с ним свои силы. Земля дремучей рощи стеная страдала под усилиями стоп наших. Камни упадали, отторгаясь от своего основания; источники, пременя свое течение, убегали с шумом далеко от сего ужаснаго противоборствия. Три дни равно возобновляли мы сражение; наши воины стояли вдали неподвижны и трепещущи. В день четвертый возопил Фингал: Царь Океана повержен! – Нет, он еще не пал, возгласил ему Сваран. Моран! да уступит мрачный Кушуллин Герою крепкому и сильному, как бури висящия над Тальмором». На наш взгляд, перевод Кострова не только не проигрывает, но… Если в первом случае это текст интересный для ученого исследователя, то во втором – текст, одухотворенный живым дыханием древней бардовской поэзии. «Метаморфозы, или Золотой осёл», «Илиада», «Песни Оссиана» – итого, перевод трёх великих шедевров – в каждом случае первый в русской литературе – что само по себе предполагает пристальное внимание к персоне переводчика. Подобно тому вниманию, которое вызывает жизнь и деятельность таких первопроходцев как Иван Федоров, Франциск Скорина… Равно и взаимосвязь его с Суворовым – предмет, достойный не только научного исследования, но и художественных книг и фильмов. Поэт и полководец, посвященный бард и непобедимый воин – есть нечто символичное в «Песнях Оссиана», сопровождающих сына Севера в победоносном его рейде на Запад. А спускаясь с покоренных вершин на грешную землю, узнаём из биографической справки, что «умер К., находясь в запое, от белой горячки», и что «печальная судьба поэта побудила Н. В. Кукольника написать пятиактную драму в стихах «Ермил Иванович Костров» (1853)». Но судьба в этом случае не так печальна, как закономерна – несовпадение высшей поэтической реальности и приземлённой необходимости, что гениально отображено в книге «Мечты и жизнь» выдающегося – что, впрочем, тоже предстоит еще доказать – русского писателя-романтика Николая Полевого. А вот факт, что и Костров, и Кукольник и Полевой, и многие-многие-многие другие по каким-то причинам оказались выброшенными за маргинес русской литературы, печален однозначно. Русская литература, таким образом, оказывается разделённой на две части, первая из которых – известна всем, вторая – по сути неизвестна вообще. Официально считается, что известная – это прошедшая испытание временем классика, литература первого ряда, в то время как неизвестная – утратившая актуальность и сохраняющая в лучшем случае сугубо историческое значение. Но в своих исследованиях мы имели возможность многократно убедиться, что здесь что-то не так. И, освободившись от предвзятого представления, изменив навязанную точку зрения, видишь совершенно иную картину. Взору открывается некая заповедная зона, и чем больше в неё проникаешь, тем шире становится горизонт русской литературы. Поэтому вторую – неизвестную – её часть правильно будет назвать заповедной. В обоих смыслах, предлагаемых «Словарём русского языка»: «ЗАПОВЕДНЫЙ: 1. Неприкосновенный, запретный. 2. Хранимый в тайне, заветный». С одной стороны, глубокое и объективное её изучение нежелательно по той причине, что это может привести к изменению векового статус-кво – посему лучше туда не соваться. Но с другой стороны, тот, кто всё же нарушит этот негласный запрет, вместо ожидаемой еле живой пустыни находит чистый родник словесности. И по мере проникновения в глубь заповедной зоны всё больше убеждается, что доселе он не знал своей литературы. Оказывается, что там вовсе не пустота – напротив, там кипучая жизнь – литература, быть может, еще не устоявшаяся, недостаточно отесанная, но устремлённая вглубь и ввысь – полноценная, настоящая. Ранее не знакомые имена начинают говорить – да так громко, что больше нет возможности прятать голову в песок и делать вид, что всё в порядке. Мы видели ситуацию в русской фольклористике, а именно реабилитацию Сахарова, Афанасьева, Даля, которых некогда успели уже отправить на свалку истории. Вот и возникает по аналогии вполне закономерный вопрос: не настало ли время и для полной реабилитации незаслуженно дискредитированной части нашей литературы? Однако по сравнению с фольклористикой, где всё предельно просто, в литературной ситуации явственно видна существенная сложность. Если в отечественной фольклористике труды некогда призабытых корифеев XIX века просто легли в основу научного здания, не только не поколебав его, а – наоборот – упрочив, то в литературе выход из тени забытого, запретного и заветного может привести к полному разрушению всего здания отечественного литературоведения. По той причине, что придётся менять фундамент. Давеча мы обратили внимание на Ермила Кострова. Творчество оного поэта, равно как и сама его жизнь настолько специфичны, что с полным на то основанием он может претендовать на соответствующее ему в русской литературе место. И что же это за место? А что-то наподобие того, что в своих литературах занимают такие личности как Франсуа Вийон, Джон Китс, Томас Чаттертон, Андрэ Шенье, Гёльдерлин и Новалис… То есть место идеального поэта. Но дело в том, что по укоренившейся вековой традиции в русской литературе не предполагается настоящих поэтов до Пушкина! Можно – и даже нужно – подобрать для него предтеч в лице Державина, Батюшкова, Жуковского, подготавливающих его пришествие, но не имеющих в своем творчестве и жизни некого специфического свершения, способного бросить тень на первенство Пушкина именно как стопроцентного поэта. Можно выделить Ломоносова как мощную фигуру создателя русской литературы и – главное – науки, но никак не поэта. Можно еще отдавать дань уважения Карамзину – но опять-таки не как литератору, всё больше как историку. Иное дело тот, кто по сути своей именно поэт – не историк, не учёный, не дипломат или архитектор, а поэт до мозга костей, – и в чьём арсенале оказывается некое оружие, изначальная поэтическая субстанция, находящаяся в недосягаемом для пушкинской поэтики параллельном пространстве. Державин, Батюшков, Жуковский – поэты недюжинные, но на роль предтеч были избраны, прежде всего, потому, что у них – находящихся в одном или весьма близком пространстве с Пушкиным – такового оружия не было. А вот Сумароков, Петров, Херасков, Костров, Бобров – явления совершенно иного порядка – обладатели того, чего не было у Пушкина – и потому желательно их всячески унизить, оплевать, растоптать и в дальнейшем просто не замечать. Вот и получается, что если сегодня мы попытаемся восстановить истинную картину относительно заповедной зоны нашей литературы, по логике вещей это должно стать разрушением имеющегося здания. Ибо для того, чтобы что-то построить, нужно расчистить для него место – поскольку оно занято. Но… Но мы не будем разрушать. Мы будем созидать не разрушая, и в то же время не нарушая логики. Мы постараемся покинуть это здание, предварительно изучив состав раствора, на котором оно держится. И выйдя из него, отправимся назад, к той развилке, с которой в своё время всё и началось. Придя же на развилку и сориентировавшись на местности, отправимся по новой дороге. А старое здание, ежели оно кому-то нужно, нехай себе и стоит. Тот же, кто пойдёт с нами по новой дороге, пройдёт мимо или, вернее, сквозь него, поскольку в силу ложности несущих конструкций его просто не окажется в объективной реальности. Но для того, чтобы в этом убедиться, необходимо вернуться к развилке под названием… БЕЛИНСКИЙ О СУМАРОКОВЕ Три чёрных «кирпича» – трехтомное издание Белинского (М.: ОГИЗ, 1948) – прекрасное подспорье для внедрения в суть вопроса. А суть состоит в том, что взгляды Виссариона Белинского (1811-1848) легли в основу вначале доминирующего, затем официального и, наконец, «единственно правильного» народно-демократического материалистического марксистско-ленинского взгляда на русскую литературу, иными словами эти «три чёрных кирпича» стали краеугольным камнем всего последующего российско-советского литературоведения. Трёхтомник включает в себя избранные сочинения критика, начиная с «Литературных мечтаний» 1834 года и заканчивая «Взглядом на русскую литературу 1847 года». Так как по природе своей это больше литературная критика, нежели литературоведение, оформленной в единый свод концепции здесь нет, но таковая повсюду разбросана отдельными эпизодами, и для того, чтобы схватить общий её смысл, необходимо проштудировать все три тома. Для того же, чтобы приступить к анализу, требуется точка отсчёта. Долго искать её не приходится, ибо искомой точкой является взгляд на то, с чего собственно начинается новая русская литература. Но если с Ломоносовым всё в принципе понятно и принципиальных споров относительно его значения нет, то к следующему моменту – становлению и дифференциации русской литературы XVIII века в понимании Белинского – следует внимательно присмотреться. Момент этот носит имя Александра Сумарокова. О некоторых особенностях критики Белинского Итак, в именном указателе к трём томам ищем имя Сумарокова, отыскиваем соответствующие места, убеждаемся, что отношение Белинского к Сумарокову за всё время в принципе не менялось, – и последовательно идём за мыслью критика, стараясь понять его доводы и логику, и проверить их на убедительность и основательность. Начнём с «Литературных мечтаний», в которых 23-летний критик предпринимает свою первую печатную попытку окинуть взглядом русскую литературу. Отдав должное талантам Ломоносова и, как водится, указав на его поэтические недостатки – Белинский обращается к интересующему нас предмету: «Что сказать, о его сопернике, Сумарокове? Он писал во всех родах, в стихах и прозе, и думал быть русским Вольтером. Но, при рабской подражательности Ломоносова, он не имел ни искры его таланта. Вся его художническая деятельность была не что иное, как жалкая и смешная натяжка. Он не только не был поэт, но даже не имел никакой идеи, никакого понятия об искусстве, и всего лучше опроверг собой странную мысль Бюффона, что будто гений есть терпение в высочайшей степени. А между тем этот жалкий писака пользовался такою народностию! Наши словесники не знают, как и благодарить его за то, что он был отцом российского театра. Почему же отказывают в благодарности Тредьяковскому за то, что он был отцом российской эпопеи? Право, одно от другого не далеко ушло. Мы не должны слишком нападать на Сумарокова за то, что он был хвастун: он обманывался в себе так же, как обманывались в нем его современники; на безрыбьи и рак рыба, следовательно, это извинительно, тем более что он был не художник». В приведённом отрывке обратим внимание на три характерных момента. Во-первых, на манеру выражаться, на этот режущий слух набор ругательств: жалкая и смешная натяжка, жалкий писака, хвастун – с ходу столь «исчерпывающая» характеристика! Ну чем не аргумент незабвенного Михаила Самуэлевича Паниковского: вы просто жалкая и ничтожная личность! Поэтому сразу – к психоанализу. Ругательства характеризуют, как правило, не того на кого они направлены, а того, кто ими сыплет, считая и выдавая их за убедительные аргументы. В-вторых, сравнение Сумарокова с Тредиаковским в данном случае совершенно некорректно. Тредиаковский был ДО Ломоносова – поэтому ему как первопроходцу простительно неумение. Сумароков – ПОСЛЕ – то есть после того как был явлен образец литературы – и мог ли бездарный писатель на таком фоне приобресть известность и славу? Тредиаковский в дальнейшем не мог уже измениться по сути, но, используя обширные свои познания, он ПЫТАЛСЯ открывать новые пути. Это были попытки, а не свершения. Не он отец русской эпопеи, а Херасков. В то время как театр Сумарокова – не попытка, а именно свершение... В-третьих, обратим внимание на свойственный критику чересчур голый субъективизм – Белинский утверждает, что Сумароков обманывался и обманывались его современники – но где гарантия, что не обманывается он сам и его современники? Почему верить ему, а не тому, кого он подвергает своим чисто субъективным нападкам и оскорблениям? Неужели убедительным аргументом может быть временной фактор – то, что время Белинского имеет полстолетия форы? Разве со временем люди становятся умнее? Больше информации – ещё не значит, что больше знаний. Наглядный тому пример – литературная доминанта нашего времени, когда шедеврами почитаются «Маятник Фуко» Эко, сомнительные опусы Зюскинда и Кундеры, а у нас великим поэтом считается Ахматова (см. по этому поводу книгу Катаевой-Топорова «Анти-Ахматова»). Посему позволим себе усомниться в изначальном преимуществе – в том, что он имел больше идеи и больше понятия об искусстве – Белинского пред Сумароковым. А теперь внимание: мы не должны слишком нападать на Белинского за то, что он был хвастун: он обманывался в себе так же, как обманывались в нем его современники; на безрыбьи и рак рыба – в смысле тогдашней литературной критики! – следовательно, это извинительно, тем более что он был не художник. Как видим, то, что критик обрушивает на голову неугодного ему литератора, один в один применимо к нему самому. Поэтому труды Белинского на самом деле раскрывают перед читателем вовсе не объективную картину исследуемого пространства, а его собственный субъективный мир. Короче говоря, его труды – не более чем автопортрет. Изначально поражает шаткость и зыбкость позиции «великого критика» и возникает, соответственно, чувство великого удивления: как могло случиться, что на ругани, эмоциях да голом субъективизме человек создал литературоведческую школу, утвердившуюся на два столетия? Да разве такое возможно? Быть может, приведённый нами пример характерен лишь для раннего Белинского? – ведь пример этот взят из первой его печатной работы. Не будем спешить с ответами и выводами, а последуем далее за его мыслью. За вольным её течением, уходом вглубь и выходом на поверхность, всевозможными хитросплетениями и перетеканием из статьи в статью. В тех же ранних «Литературных мечтаниях» читаем: «У нас всегда так: кричат без умолку о каком-нибудь Сумарокове, бездарном писателе, и забывают о благодетельных подвигах человека, которого вся жизнь, вся деятельность была направлена к общей пользе!..» – речь здесь о Николае Ивановиче Новикове. – В написанной же спустя девять лет первой статье (1843) из «Сочинений Александра Пушкина» – наиболее объёмной и, пожалуй, главной работы критика – тема Новикова относительно Сумарокова находит довольно своеобразное продолжение: «Сумароков писал во всех родах, чтоб сравняться с господином Вольтером, и во всех равно был бесталанен. Но о поэзии тогда думали иначе, нежели думают теперь, и, при страсти к писанию и раздражительном самолюбии, трудно было бы не сделаться великим гением. Современники были без ума от Сумарокова. Вот что говорит о нем один из замечательнейших и умнейших людей екатерининских времен, Новиков, в своем «опыте исторического словаря о российских писателях»: «Различных родов стихотворными и прозаическими сочинениями приобрел он себе великую и бессмертную славу не только от россиян, но и от чужестранных академий и славнейших европейских писателей. И хотя первый из россиян он начал писать трагедии по всем правилам театрального искусства, но столько успел во оных, что заслужил название северного Расина. Его эклоги равняются знающими людьми с виргилиевыми и поднесь еще остались неподражаемы; а притчи его почитаются сокровищем российского Парнаса; и в сем роде стихотворения далеко превосходит он Федра и де ла Фонтена, славнейших в сем роде. Впрочем, все его сочинения любителями российского стихотворства весьма много почитаются» (стр. 207-208). Такие похвалы Сумарокову теперь, конечно, очень смешны, но они имеют свой смысл и свое основание, доказывая, как важны, полезны и дороги для успехов литературы те смелые и неутомимые труженики, которые, в простоте сердца, принимают свою страсть к бумагомаранию за великий талант. При всей своей бездарности Сумароков много способствовал к распространению на Руси охоты к чтению и к театру. Современники дорожат такими людьми, добродушно удивляясь им как гениям». Итак, о поэзии тогда думали иначе, нежели думают теперь – вот только какой из этого вывод? Для Белинского это значит, что люди тогда были глупы, ничего не понимали в искусстве и т. д. Но именно такой вывод свидетельствует о низком уровне культуры, фрагментарности мышления самого автора. Отсюда и склонность к уничижительным характеристикам, исходящим из собственного вкуса, субъективных взглядов; и неспособность вместить многообразие и многовариантность жизни и, следовательно, искусства. Собственная голова представляется ему абсолютным вместилищем всех идей – и ни тени сомнения относительно собственных правоты и всезнания. Ему невдомёк, что если люди мыслили иначе, и у них был другой взгляд на поэзию, то это вовсе не значит, что этот взгляд плохой (ложный), это значит, что он – другой. И для того чтобы судить о нём, нужно самому всесторонне им овладеть. То есть посмотреть на предмет с их точки зрения, а также исследовать все прилегающие к ней окрестности. Иными словами, чтобы обсуждать и тем более осуждать идеи и установки классицизма, для начала необходимо ими проникнуться. Но обратим внимание опять-таки не на сами по себе выводы критика – которые всё пока на поверхности и не представляют особого интереса – а на своеобразие мысли Белинского. Более интересным оказывается не о ком и о чём он пишет, а КАК он пишет, КАК мыслит – таким образом, фокус нашего исследования смещается с объекта на субъект – то есть на самого Белинского. Мотив бездарности и бесталанности Сумарокова начинает звучать подобно заклинанию – не иначе, что здесь он исходит из того, что утверждение становится верным от частого его повторения – чем больше повторяешь, тем больше веруешь в это сам и больше вероятности, что в это уверуют читатели. Но тут вот что ещё: при страсти к писанию и раздражительном самолюбии, трудно было бы не сделаться великим гением. – Это значит, что Сумароков то ли застращал и заморочил своих современников, включая и таких образованных как Новиков, попутно – как курица яйцо – высиживая собственную гениальность. Но ведь Сумароков вовсе не всесильный тиран типа Нерона и Калигулы – и его раздражительность вряд ли могла когото испугать. Тредиаковский тоже был раздражительный, и написал не менее Сумарокова, но его-то гением никогда не считали. Следовательно, авторитет Сумарокова основывается не на его собственных прихотях и не на терроре общественного мнения – в то время еще не в ходу были пиар-технологии – а на востребованности его произведений. Естественно, что востребовалось то, что отвечало уровню развития общества – но верно ли будет утверждение, что тогдашние люди были глупы и нечувствительны эстетически? Позволю себе в этом усомниться и остановиться на мимолётом промелькнувшей у Белинского фразе: о поэзии тогда думали иначе, нежели думают теперь. Именно, что ИНАЧЕ… Фрагментарность мышления сказывается и в совершенно произвольном сталкивании Сумарокова и Новикова при том, что делать это вовсе незачем, поскольку деятельность этих людей нисколько друг другу не противоречит, ни в каком смысле они не являются соперниками. Сумароков – поэт, драматург, Новиков – публицист, и если кричат без умолку о каком-нибудь Сумарокове, то «кричат» о нём как о поэте и драматурге – и причём здесь Новиков? Тем более что, как то следует из другой цитаты – довольно громко «кричит» и тот, кого Белинский пытается противопоставить Сумарокову – сам Николай Иванович Новиков. Впрочем, позиция Белинского понятна и по-своему логична – Новиков, хоть и был замечательнейшим и умнейшим человеком своего времени, вся деятельность которого была направлена к общей пользе – но чего-то он не так понимал. По Белинскому, умнейшим он был именно для своего времени! Когда еще не знали того, что посчастливилось узнать Белинскому, то есть не доросли ещё тогда до понимания неких истин. Но при всей понятности и логичности позиция эта абсолютно произвольна! Поскольку основывается на истинах относительных и субъективных, верных для самого Белинского и его единомышленников, и абсолютно не убедительных для тех, кто на мир, на жизнь, на литературу и искусство смотрит ИНАЧЕ… Обратим внимание на ещё одну особенность критики Белинского – на удивительно ревнивое его отношение к понятию гениальности и гения. Кто гениален, кто талантлив более или менее, а кто однозначно бездарен – эти вопросы настолько часто и густо подымаются «великим критиком» – его просто «клинит» на этом, – что впору задуматься о претензиях самого Белинского. Похоже на то, что себя он видел не иначе как высшим гением критики, который распределяет по степеням гениальность, талантливость и бездарность поэтов. Именно этим он и занимается – вернее, пытается заниматься – на протяжении всей своей журнальной деятельности. Выстраивает писателей по ранжиру. Дороги, проходящие через классицизм 1835 год. «О русской повести и повестях г. Гоголя»: «Литература наша началась веком схоластицизма, потому что направление ее великого основателя было не столько художественное, сколько ученое, которое отразилось и на его поэзии вследствие его ложных понятий об искусстве. Сильный авторитет его бездарных последователей, из коих главнейшими были Сумароков и Херасков, поддержал и продолжил это направление. Не имея ни искры гения Ломоносова, эти люди пользовались не меньшим и еще чуть ли не большим, чем он, авторитетом и сообщили юной литературе характер тяжелопедантический». Итак, к уже отмеченным в предыдущих цитатах выражениям, как то: при рабской подражательности Ломоносова, он не имел ни искры его таланта; он был не художник; кричат без умолку о каком-нибудь Сумарокове, бездарном писателе; при всей своей бездарности; – в копилку «фирменных» определений Белинского добавляются: вследствие его ложных понятий об искусстве; сильный авторитет его бездарных последователей; не имея ни искры гения Ломоносова, – и то, что они, по сути, повторяются, как раз и свидетельствует о «клиническом диагнозе». При этом и логика соответствующая: у основателя – к тому же великого – ложные понятия об искусстве по той причине, что придерживался он ученого направления! То есть ученое направление предполагает ложные понятия об искусстве! А у бездарных последователей, не имеющих ни искры гения и даже простого таланта, авторитет оказывается сильным и чуть ли не большим, чем у самого основателя. А все вместе это называется схоластицизмом и характер имеет тяжелопедантический. Для того, чтобы исследовать данную мысль Белинского, необходимо уяснить смысл используемых им иноязычных терминов. Что они значат вообще и что под ними подразумевал критик? В «Словаре иностранных слов» (М.: «Русский язык», 1988) находим следующую трактовку: «ПЕДАНТ (фр. pedant < ит. pedante букв. педагог, учитель) – 1) уст. придирчивый учитель, наставник, требующий неукоснительного соблюдения установленных правил; 2) человек, отличающийся мелочной точностью, приверженностью к устоявшимся привычкам, соблюдению внешнего порядка; формалист. ПЕДАНТИЗМ, ПЕДАНТИЧНОСТЬ – мелочная точность, излишний формализм в чем-л. ПЕДАНТИЧНЫЙ – проникнутый педантизмом; свойственный педантам. СХОЛАСТИКА – 1) средневековая религиозно-идеалистическая (т. наз. «школьная») философия, основанная на церковных догматах и обслуживающая богословие; 2) бесплодное умствование; формальное знание, оторванное от жизни и практики, начетничество». Более подробную трактовку даёт электронный «Большой Энциклопедический словарь» (2000): «СХОЛАСТИКА (от греч. scholastikos – школьный – ученый), тип религиозной философии, характеризующийся соединением теологодогматических предпосылок с рационалистической методикой и интересом к формально-логическим проблемам; получила наибольшее развитие в Зап. Европе в средние века. Ранняя схоластика (11-12 вв.) находится под влиянием августиновского платонизма (Ансельм Кентерберийский и др.). В споре об универсалиях схоластическому реализму (Гильом из Шампо) противостоят номинализм (Росцелин), а также концептуализм (Абеляр). Зрелая схоластика (12-13 вв.) – христианский аристотелизм Альберта Великого и Фомы Аквинского, аверроизм (Сигер Брабантский и др.), ее главный центр Парижский университет, основной жанр – "сумма", энциклопедический свод ответов на вопросы. Поздняя схоластика (13-14 вв.) – Иоанн Дунс Скот, У. Оккам. Против схоластики выступили гуманисты Возрождения. С Контрреформацией связано новое оживление схоластики, особенно в Испании (т. н. вторая схоластика, 16-17 вв. – Ф. Суарес, М. Молина). Решительной критике подвергла схоластику философия Просвещения. См. также Неосхоластика. В переносном смысле – оторванное от жизни умствование». Но маловероятно, что Белинский под схоластицизмом мог подразумевать приверженность российских литераторов идеям Альберта Великого и Фомы Аквинского, очевидно, что это понятие применяется им в переносном смысле – как «оторванное от жизни умствование». Именно таким видится ему, в первую очередь русский классицизм – точнее, литература русского классицизма, – «схоластичным» и «педантическим» (даже «тяжелопедантическим»). Поскольку классицизм, строящийся на жёстких и обязательных правилах, действительно загонял искусство в узкие рамки, то и вывод Белинского однозначен: в силу оторванности от реальной жизни такое искусство, погрязшее в формализме, в соблюдении мелочных правил, по сути своей ложно, а значит и не нужно для последующих поколений. Но так ли это? Вот здесь-то и находится та развилка, к которой необходимо было вернуться. И сейчас важно правильно сориентироваться и не оплошать с выбором дальнейшего пути, ибо 200 лет назад именно здесь был намертво запутан тот клубок, распутыванием которого мы и занимаемся. Ниткой, за которую мы потянем, будет вопрос: действительно ли классицизм – и в частности русский классицизм – оторван от жизни? Но для того, чтобы не ошибиться с ответом, необходимо уточнение: а что подразумевается под словом «жизнь»? Ведь понятие это многоярусное – включающее в себя как частные житейско-социальные проблемы, связанные с тем или иным человеком или какой-нибудь определённой местностью, так и некие всеобщие универсалии, которые увидеть и потрогать не представляется возможным. Иными словами, есть жизнь конкретная и жизнь абстрактная. Так вот, искусство в ранних своих формах – и литература классицизма в частности – действительно было направлено на гораздо более общие – абстрактные – моменты по сравнению с тем, что пришло ему на смену. Главной целью – можно даже сказать сверхцелью – было поймать, уловить, запечатлеть то высшее и вечное, что неизменно верно для всех времён и народов. В этом и заключался смысл классицизма с его ориентацией на классические античные образцы. Не в фиксации частностей, а в устремлённости к высшей абстракции. Отсюда и большая доля условности в изображении непосредственной жизни – потому что не это было целью. Творческие цели могут быть разными, направленность может быть как на небо, так и на землю – и на всё, что между, предметом творческого процесса может быть как общее, так и частное. В результате возникает многообразие форм – и классицизм одна из таких форм со своими специфическими целями и методами. И если эти цели не ложные – а что может быть ложного в ориентации не на частности, а на универсальные принципы? – и если эти цели достигнуты – чему свидетельство множество шедевров, созданных в рамках классицизма – то как же тогда можно называть ложным всё это направление? Если кто-то не разделяет целей и методов классицизма, если они ему неинтересны – и даже если эти цели и методы не созвучны новым эпохам – это вовсе не значит, что они ложные! Другое дело, что в силу развития литературного процесса классицизм вступил в противоречие с новыми идеями. Как известно, направление, пришедшее на смену классицизму, получило весьма условное название романтизма. Процесс этот происходил почти одновременно во всей Европе и – с уже весьма незначительным опозданием – в русской литературе. Ключевой фигурой в осмыслении идей романтизма и его становлении как литературного направления в русской литературе является Николай Алексеевич Полевой. Во вступительном слове к избранным статьям братьев Полевых (Полевой Н., Полевой Кс. Литературная критика: Статьи, рецензии 1825-1842. – Ленинград: Худож. лит., 1990) один из составителей книги Игорь Николаевич Сухих отмечает: «Опорной в размышлениях о современном искусстве для Полевого, как и для большинства его современников, оказывается антитеза «классицизм – романтизм». Их разграничение проводится как исторически, так и типологически. Классицизмом называется литература древняя, греческая и латинская, а также ее подражания в новейшей французской и иных литературах. Романтизм – это «народная литература христианской Европы средних времен», но также и современная, составленная «из соображения литературы древней классической и литератур северных, южных и восточных». Ключевым для критика в понимании романтизма оказывается признак оригинальности, «самобытности». Этим объясняется «благоговение перед творениями простонародными» и, с другой стороны, всемирность, всеобщность романтизма, который «сообразуется только с истиною каждой формы». Итак, самобытность и народность – два ориентира, два основных критерия, на которых в противовес правилам и установкам классицизма строит свою романтическую теорию Николай Полевой: «К проблеме форм романтического искусства Полевой тоже подходит диалектически. Романтизм отвергает все классические условия и формы, смешивает драму с романом, трагедию с комедией, историю с поэзиею, делит творения, как ему угодно, и свободно создает по неизменным законам духа человеческого». Но в то же время он не просто деструктивен: «романтизм гораздо правильнее классицизма и требует системы более и строже». – И далее: «В соответствии с романтическим критерием самобытности он (Полевой. – О. К.) объявляет устаревшими произведения Кантемира, Княжнина, Озерова, Хераскова, Сумарокова – характерные образцы литературы классицизма: «для нас эти писатели теперь не годятся, хотя историческое место их бесспорно»». Как видим, и ниспровержение столпов русского классицизма ещё до Белинского начал именно Полевой. Он же указал на «ложность» в установках, на «схоластичность»… С тем, правда, отличием, что делал он это не в брутальной манере «неистового Виссариона», а со свойственной ему логической основательностью и стремлением сухой рациональности классицизма противопоставить духовную глубину романтизма. Во избежание голословности приведём суждение Николая Полевого из вошедшей в указанный сборник программной его статьи «О романах Виктора Гюго и вообще новейших романах»: «Человек в одно время живет идеею неба и идеею земли. В одно время он часть человечества, часть Вселенной и отделен от них самобытною жизнию. Это бесконечность и конечность, дробь самая мелкая и цифра, выражающая целый мир, даже отблеск, более, нежели мира – Бога! Оттого бесчисленное деление и уравнение человека. Он может совершенно объединиться в одной идее, может разлиться в целый мир идей. Но чем всеобщнее он, тем выше других, чем отдельнее, тем ниже. Оттого муж силы ума и воли необъятной является превышающим других великим деятелем политическим; человек ума всеобщего философом; человек, увлеченный идеею изящного, поэтом. Они худо понимают друг друга, оттого что каждый объемлет мир из своей идеи. Но чем они более, тем ближе друг к другу. Так высшие минуты жизни политического деятеля восходят к поэзии, и высшая практическая жизнь ведет к философии, а поэт в минуты восторга понимает глубокие философические и политические идеи и разгадывает загадку мира и человека». Таким образом, Полевой рассматривал романтизм как преодоление ограниченности классицизма, как уничтожение всех преград, мешающих свободному постижению жизни и мироздания. От себя добавим, что классицизм при этом не уничтожается, а остается частным случаем такого постижения. Ибо ложность в его установках, на которые указывал Полевой, а вслед за ним Белинский, имеет место лишь в случае МЕХАНИЧЕСКОГО следования установленным правилам, в то время как шедевры Корнеля, Расина, Буало, Клопштока, а также Сумарокова и Хераскова – в силу незаурядности авторов – заключают в себе мощный, непреходящий со временем заряд энергии. Но как бы то ни было, а не прошло и трёх десятков лет как Белинский и его последователи вслед за Сумароковым и Херасковым отправили в утиль самого Полевого вместе со всем его романтизмом. По той причине, что вместо идей синтеза, цельности и всеобщности в своей деятельности они избрали принципы жёстких взаимоисключающих оппозиций: романтизм отменял (уничтожал) классицизм, а «натуральная школа» (реализм) в свою очередь отменяет (уничтожает) романтизм. «Мавр сделал своё дело, мавр может уходить», – в роли мавра оказался как сам Полевой – чей отход в мир иной всячески честивший его Белинский сопроводил на удивление хвалебной статьёй, – так и весь русский романтизм, оказавшийся более не нужным для идеологов «натуральной школы» и казавшийся им этапом пройденным и навсегда отошедшим в прошлое. Но это им только так представлялось, в реальности никуда не исчезли и вовсе не утратили своего значения – ни романтизм, ни классицизм. И уже с высоты сегодняшнего дня мы видим многое, в силу чрезмерной приближенности сокрытое не столько от современников, сколько от идущих следом ниспровергателей. Мы видим, например, что Херасков – явление, выходящее далеко за пределы собственно классицизма – в классицизме он стоит только одной ногой, а вернее – в классицизме находятся его ноги, в то время как голова уходит в мистико-философскую традицию. То же можно сказать и о таком последователе Хераскова как Семен Сергеевич Бобров. МИСТЕРИАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ а) Бобров: мистическая завязка Другия музы возхищенны, Гордясь блистанием предметов Возпели смертных жизнь богов, Возпели странствия иройски Зевеса славимых сынов; Но песнь мою одушевляет Священнейший предмет для сердца, – Безсмертный полубог вселенной Стезей излучистой текущий Сквозь древню область страшной нощи До прага вечнаго востока; – Так, – сердце воспоет мое, Колико может, – дивный жребий Неборожденнаго Слепца. <…> Она из мрака возстает; – Как дщерь Эфира окрыленна, Как легка серна в путь грядет, И вышшей силой оживленна Грядет, не озираясь вспять Ни на холмы покрыты льдами Под северным сияньем спящи, Ни на Киммерския вершины Теряющися в синей мгле, Ни на прелестныя долины Очаровательной любви, Ни на поля гремящей славы. – От врат полночныя денницы, Где снежны кровы, тучи мразны Отвсюду Музу окружают, Но где ни мраз, ни бури хладны Со всей грозой не сильны в ней Врожденных потушить огней, – От сих вертепов ледовитых Простерши сокровенный путь, Она пойдет с полей восточных До пламенеющих горнил Полдневной тверди, – и по том К пещаным запада странам, А наконец – к востоку паки; – Пойдет с участием живым Во след подобному себе Чрез тьмы гробов при свете лунном. – О – естлиб в нем она открыла Таящийся от чувств и смысла Источник, – жизнь – и ход души!.. Это стихи из творческого итога Семёна Боброва – эпического творения по определению автора, грандиозной по объёму и смыслу мистико-философской поэмы «Древняя ночь Вселенной, или Странствующий слепец» (1807-1809), где в аллегорической форме изображается путь души человека от мрака к свету. На этом – совершенно не известном современному читателю произведении – равно как и на личности его автора – стоит остановиться особо. В биобиблиографическом словаре «Русские писатели. XVIII век» (Составитель С.А. Джанумов. М.: Просвещение, 2002) в статье посвященной Боброву отмечается, что вышеназванная «Поэма была осмеяна карамзинистами, назвавшими Б. «темным» и «диким» виршеслагателем, создателем «варварских» стихов. Под ироническим прозвищем «Бибрис» (в переводе с латинского – «пьяница»), намекавшим на присущую Б. слабость, он вошел в «Видение на берегах Леты» К. Н. Батюшкова (1809), эпиграммы П. А. Вяземского (1810), «Тень Фонвизина» А. С. Пушкина (1815)…» И здесь мы выходим еще на одну развилку, трактовка которой в традиционном отечественном литературоведении всегда однозначно-линейная, как будто это и не развилка вовсе, а прямая дорога, очевидная в своей безальтернативности. Речь идёт о противостоянии в начале XIX века «арзамасцев» с «архаистами», то есть двух литературных обществ – «Арзамас» (Жуковский, Батюшков, Вяземский, Пушкин и др.) и «Беседы любителей русского слова» (Державин, Шишков, Ширинский-Шихматов, Хвостов, Шаховской, Гнедич, Крылов и др.) Традиционная трактовка у нас, как обычно, проста до примитивности: одна сторона противостояния объявляется однозначно прогрессивной, вторая – как пережиток прошлого. При этом всячески затушёвывается участие в «пережитке» столь знаковых для русской литературы фигур как Державин, Гнедич, Крылов, и так называемых «младших архаистов» Грибоедова, Кюхельбекера и Катенина. Оставшиеся – ныне практически неизвестные – Шишков и Ширинский-Шихматов – объявляются законченными ретроградами, а граф Хвостов воспринимается ныне как совершенно бездарный графоман. Имя Семена Боброва по сути вообще оказывается вычеркнутым, в отдельных упоминаниях ему отводится место где-то рядом с Хвостовым. Так, в хрестоматии «Русская критика XVIII-XIX веков» (М.: Просвещение, 1978) в статье Алексея Федоровича Мерзлякова «Рассуждение о российской словесности в нынешнем ее состоянии» находим следующее место. Рассматривая традицию русского одописания и отдав должное родоначальникам жанра, автор наконец упоминает и о последующем поколении: «Голенищев-Кутузов, Нелединский-Мелецкий, Костров, Майков, Николев, Бобров, Долгорукий и другие весьма много обогатили нашу лирическую поэзию. Первый сверх того познакомил нас с Пиндаром, Греем, Сафою и Гезиодом». – И в аккурат возле Боброва находим сноску, гласящую о том, что это не что иное как «Пример недостаточной эстетической разборчивости Мерзлякова, отмечавшейся Белинским: С. С. Бобров (Бибрус, Безрифмин, по позднейшим выпадам лицеиста Пушкина) и тот «обогатил» поэзию». А в современной «Википедии» в статье о Боброве говорится, что «Поэтического дарования в нем не было, и недаром задолго до Вяземского, Батюшкова и Пушкина над ним издевались Сумароков, пародировавший его манеру (в «Оде в громко-нежно-нелепоновом вкусе»), и Радищев, с насмешкой упоминающий о нём в своей поэме «Бова». Впрочем, убедиться, что всё это шито белыми нитками, очень просто. Достаточно открыть радищевского «Бову» и найти два упоминания о Боброве. Петр Сума, приди на помощь И струею речи сладкой Оживи мою ты повесть. Без складов она, без рифмы Вслед пойдет творцу Тавриды; Но с ним может ли сравниться! Как известно, Радищев считал, что нерифмованный дактиль незаслуженно оказался на задворках русской поэзии и вслед за автором поэмы «Таврида, или Мой летний день в Таврическом Херсонесе» Семеном Бобровым стремился исправить это упущение. Посещу я и Тавриду, Где столь много всегда было Превращений, оборотов, Где кувыркались чредою Скифы, греки, генуезцы, Где последний из Гиреев Проплясал неловкий танец; Чатырдаг, гора высока, На тебя, во что ни станет, Я вскарабкаюсь; с собою Возьму плащ я для тумана, А Боброва в услажденье. Так что Радищев в данном случае свидетельствует не о бездарности Боброва, а о прямо противоположном. Ну а дальше – больше. Из уже упомянутого словаря «Русские писатели. XVIII век» узнаём: - что Б. одним из первых русских поэтов отказался от рифмы в эпическом произведении, что привлекло внимание А. Н. Радищева, последовавшего его примеру в поэме «Бова»; - что Г. Р. Державин видел в Б. талантливого ученика, а С. А. Ширинский-Шихматов считал его своим учителем; - что в начале 20-х гг. интерес к творчеству Б. проявляли младоархаисты А. С. Грибоедов и В. К. Кюхельбекер; - что А. С. Пушкин во вступлении к «Медному всаднику» (1833) проводил скрытые параллели со стихотворениями Б. «Установление нового Адмиралтейства» (1797) и «Торжественный день столетия» (1803?); - что в 1798 г. было создано самое значительное произведение Б. – поэма «Таврида, или Мой летний день в Таврическом Херсонесе», оказавшее влияние на «Бахчисарайский фонтан» А. С. Пушкина, который признавался, что, перечитывая Б., не раз подумывал «что-нибудь у него украсть». Как видим, самая парадоксальная ситуация опять-таки с Пушкиным: ругает «пьяницей» и норовит «что-нибудь у него украсть» – воистину «гений – парадоксов друг»! Но о чём все эти парадоксы свидетельствуют? А, прежде всего, о том, что в истории русской литературы нет однозначностей, а состоит она из сплошных развилок. Вернёмся к недаром цитировавшейся поэме Боброва «Древняя ночь Вселенной, или Странствующий слепец». Обращает на себя внимание, во-первых, специфический слог, который к моменту написания поэмы – это ведь уже год 1809! – считался чрезмерно архаичным и тяжеловесным. Здесь действительно можно было бы упрекнуть автора в ретроградстве и согласиться со старыми и новыми хулителями Боброва. Можно было бы, если бы не содержание. Ведь с другой стороны здесь открываются пространства чисто мистические, в кои совершенно не вхожими были литературные противники Боброва – такие как Пушкин, Вяземский, Батюшков, Дельвиг. Почему? Ответ на это в «Застольных беседах» – «Table-talk» – даёт сам Пушкин: «Дельвиг не любил поэзии мистической. Он говаривал: «Чем ближе к небу, тем холоднее»». – Но рассмотрение этого чрезвычайно интересного и важного момента мы оставим на потом. А пока обратимся к не менее важному моменту – к главным критериям и основанным на них доводам, согласно которым литература русского классицизма объявлялась безнадёжно устаревшей – как сказал Николай Полевой, «для нас эти писатели теперь не годятся, хотя историческое место их бесспорно». Итак, самобытность (оригинальность) и народность. Считается, что сущность классицизма определяется его подражательным характером, наследованием готовых схем, ориентацией на раз навсегда установленные образцы. Вот и выходит, что классицизму якобы изначально присуще отсутствие самобытности и оригинальности. Но дело в том, что вывод этот затрагивает не более чем внешнюю оболочку явления. Самобытность же и оригинальность в высших достижениях классицизма – как, впрочем, и в любом другом направлении – коренится за внешней формой – глубоко внутри. И, читая любого из уже названных нами русских поэтов XVIII века, у каждого чувствуешь его особую поэтическую душу, индивидуальность, отличающую Сумарокова от Петрова, Хераскова от Боброва… – иначе и защищать их не возникло бы желания! Вот это и есть внутренняя самобытность и оригинальность, которой сковывающие свободу действия рамки не только не помеха, а даже необходимость для решения поставленных задач, то есть для их фокусировки. Что же касается народности… Никто не спорит, что критерий этот, введённый, кстати, немецкими романтиками, имеет глубокое содержание и определяет одно из внутренних измерений литературы. И произведения классицизма действительно не отвечают этому измерению. Однако что из этого следует? Что классицизм – направление, строящееся на ложных принципах? Вовсе нет! По той причине, что при всей своей важности принцип народности не является абсолютным. И это легко продемонстрировать на примерах. О какой народности можно говорить, например, в связи с романом Оноре де Бальзака «Серафита»? В предваряющем книгу посвящении г-же Эвелине Ганской, урожденной графине Ржевуской без излишней скромности автор отмечает, что попытался «...вырвать из глубин мистицизма книгу, посмевшую, благодаря прозрачности первоклассного языка, соперничать с ослепительной поэзией Востока...» – можно ли искать какие-либо признаки народности в глубинах мистицизма? В этой связи – несмотря на некоторый отход от темы – нельзя не вернуться к зафиксированной Пушкиным формулировке Дельвига: «Чем ближе к небу, тем холоднее». Данное высказывание может стать ключевым для понимания очень важного аспекта пушкинского направления в русской поэзии. Речь идёт о соотношении мистики и реальности и восприятии этого момента поэтом. По определению «Словаря иностранных слов»: «МИСТИКА [< гр. mystika таинственные обряды, таинство] – 1) вера в сверхъестественное, божественное, таинственное; вера в возможность непосредственного общения человека с потусторонним миром; м. – неотъемлемый элемент всех религиозных верований; 2) * нечто загадочное, непонятное, необъяснимое». Именно в таком понимании – как прямом (1), так и переносном (2) – воспринималась мистика поэтами пушкинского направления. Хрестоматийными примерами являются переделки Жуковского бюргеровской «Леноры» – баллады «Людмила» и «Светлана». И обратим внимание: совсем другое дело «Аббадона» – переведённый Жуковским фрагмент эпической поэмы Клопштока «Мессиада» – это уже мистика совершенно иного плана – неромантизированная и воистину непостижимая, по выражению Дельвига – «холодная». И хотя «Аббадона» неизмеримо глубже и основательней, но Жуковский известен у нас, прежде всего, как автор пустячков наподобие «Людмилы» и «Светланы». Другим хрестоматийным примером подобного отношения к мистике может служить пушкинская «Пиковая дама» и с его слов записанный Титовым рассказ «Уединенный домик на Васильевском». То есть мистика как что-то сказочное, таинственное, потустороннее. Но есть и в корне отличное понимание мистики, которое в работе «Духовный кризис интеллигенции» очень хорошо сформулировал Николай Бердяев: «Мистика есть реализм, ощущение реальностей, слияние с реальностями; рационалистический же позитивизм есть иллюзионизм, потеря ощущения реальностей, разрыв между реальностями мира». Понятно, что речь идёт о высшей реальности, являющейся, в частности, предметом философско-мистической поэмы Семена Боброва «Древняя ночь Вселенной, или Странствующий слепец», в которой описывается путь души человека от мрака к свету, то есть мистика в данном случае рассматривается как связь земли и неба. По жанровой принадлежности это – аллегория. Жанр, в основе которого посредством конкретных образов изображаются абстрактные понятия. Жанр, очень не любимый Белинским – само слово «аллегория» было для него ругательством. Объясняется это тем, что говорить о каком-либо проявлении народности здесь не приходилось, ибо – как и в случае с мистикой – предметом творческого постижения в аллегории являются универсальные принципы. Но как бы то ни было – независимо от того нравится это Белинскому или нет, – а благодаря глубоким корням и универсальности содержания, лучшие произведения аллегорического жанра находятся в неком вневременном положении – вне времени и вне критики, базирующейся на временных идеях. Белинский, скажем, их вычеркивает, отказывает в художественном значении, в несоответствии принципу народности, – но их положение от этого никоим образом не меняется. Серия «Литературные памятники» как содержанием издаваемых в ней произведений, так и самим названием своим прекрасно иллюстрирует данную мысль. Вот только жаль, что «заповедная зона русской литературы» не представлена в этой серии должным образом. Тот же Семён Бобров, чья итоговая мистико-философская поэма сопоставима со всемирно известными аллегорическими романами «Путешествие пилигрима» (1678) и «Духовная война» (1682) английского пуританского писателя Джона Беньяна. С той разницей, что для русского поэта не свойствен пуританский рационализм, и мистика у него в отличие от Беньяна не рационалистична, а скорее теософична. Опускаясь с неба на землю, вспомним столь незыблемый памятник аллегорического жанра как «Критикон» (1651-1657) испанца-иезуита Бальтазара Грасиана, а из внешнего мира уходя в глубины собственной сущности – «Лабиринт света и рай сердца» (написан в 1623) чешского педагога Яна Амоса Коменского. На начало того же XVII века приходится первое издание (1616 г.) «Химической свадьбы Христиана Розенкрейца в году 1459» авторства Иоганна Валентина Андреэ – книги в силу своей необычности очень «тёмной» – в смысле непонятной для рационалистического сознания, – интерес к которой, однако, со временем ни на йоту не уменьшается. Наглядное тому подтверждение – издание 2003 года (М.: Enigma) с приложением в качестве комментариев статей Р. Штайнера, Головина и Харитоновича. ««Химическая Свадьба Христиана Розенкрейца» прежде всего – произведение высокой художественной ценности, отлично написанная книга. Фантазмы и сказочно-галлюцинативный колорит способны возбудить активный читательский интерес. Стилистически это напоминает знаменитую алхимическую беллетристику: «Сон Полифила» Франческо Колонны, «Зеленый сон» Бернара Тревизанского, «Замок Меркурия» Леонгарда Турнхейсера, «Другой мир» Сирано де Бержерака», – пишет Евгений Головин в эссе «Это трудно и все же очень интересно». Таким образом, мы ставим под сомнение одно из ключевых положений школы Белинского. Суть этого положения в «Словаре литературоведческих терминов» (М.: Просвещение, 1974) в статье «Народность литературы» сформулировал(-ла?) Г. Абрамович: «…Если литературные произведения не являются народными, т. е. не дают правдивого, высокохудожественного изображения общезначимого в жизни данного народа, то они никак не могут иметь и общечеловеческого значения. Другим народам они скажут еще меньше, чем тому народу, к к-рому принадлежит создатель произведения. Общечеловеческим достоянием может стать только подлинно народное произведение, и притом такое, какое может удовлетворить запросы всего трудящегося человечества…» В этом высказывании весьма расплывчатым видится место об общезначимом в жизни данного народа – то есть о чём-то таком, что характерно именно для данного – и ни для какого другого – народа. Иными словами, произведение должно иметь изначальную укорененность в определенном народе, и только тогда оно может возыметь всеобщее значение. Возникает встречный вопрос: а если произведение изначально направлено на общечеловеческие – или возьмем шире: абсолютные, божественные, космические, универсальные – идеи без какой-либо специфики народа, к которому принадлежит автор? Автор ведь может быть космополитом – гражданином Вселенной! Названные выше книги дают право утверждать о существовании и развитии в мировом литературном процессе традиции, имеющей в основе изначальную ориентацию не на частное, а на общее, не на специфику, а на универсум. А это значит, что критерий народности не может быть определяющим там, где предметом художественного постижения являются универсальные принципы. Из чего следует, что по сути своей данный критерий вторичен, и его абсолютизация на поверку оказывается фальшивой, искусственной, притянутой за уши – инспирированной той народоманией, которая вначале была поднята на щит романтиками, а затем раздута до предела вульгарным гегельянством Белинского сотоварищи. Повторим, что все эти размышления и выводы никоим образом не отменяют значения принципа народности как такового. Глубина и важность данного принципа вовсе не оспаривается. Речь идёт о том, что нельзя абсолютизировать понятие относительное – применимое в одних случаях и совершенно неуместное в других. И ещё – наша цель не в том, чтобы путём развенчания одного «единственно правильного видения» утвердить на его месте другое – столь же «единственно правильное». Наша задача – увидеть то, что есть в реальности, УВИДЕТЬ ПОЛНУЮ КАРТИНУ – поскольку «единственно правильное видение» на поверку оказывается глядением на мир сквозь «единственно правильную» замочную скважину. А реальность говорит о том, что традиция, основанная на аллегоризме универсальных и мистических понятий, в литературном процессе есть явление вневременное, существующее независимо от мнения кого бы то ни было – даже в том случае, когда это мнение обретает статус «единственно правильного». В этом случае вооруженный «единственно правильным видением» просто не видит того, что выходит за рамки его понимания. Но в силу своей вневременности традиция никуда не девается. Ее значение не может быть определено теми или иными временными рамками и потому не может вместиться в сознание тех, кто мыслит исключительно в привязке ко временным понятиям. Об этом – в эпиграфе к «Химической свадьбе Христиана Розенкрейца»: «Arcana publicata vilescunt: et gratiam prophanata amittunt. Ergo: ne Margaritas objice porcis, seu Asino substerne rosas» («Раскрытые мистерии скоро увянут, сила их духа замрет оскверненно. Поэтому не мечите бисер перед свиньями и не рассыпайте розы перед ослами»). б) Явление Розы сквозь века Вот мы и название нашли – раскрытые мистерии – соответственно, традицию, о которой мы ведём речь, есть основание назвать ТРАДИЦИЕЙ МИСТЕРИАЛЬНОЙ. Кроме того, в приведённом эпиграфе на первый взгляд можно усмотреть противоречие с нашим утверждением о вневременности данной традиции. В эпиграфе ведь говорится, что мистерии скоро увянут, сила их духа замрет… Однако никакого противоречия нет: увянут – во временном пространстве, то есть временно. Но останутся – во вневременном. Прекрасным подтверждением на этот счёт являются два произведения французской литературы, разделённые временным пространством в семь столетий, но связанные между собой многими сходными мотивами и, прежде всего, символикой розы. Первое из них – «Роман о Розе», написанный в XIII веке Гильомом де Лоррисом и Жаном де Мёном. До последних времён переводов на русский этого шедевра средневековой аллегорической поэзии не существовало, причина чему, на наш взгляд, состоит именно в прозябании отечественной литературоведческой мысли в рамках, установленных когда-то Белинским сотоварищи. Лишь в 2001 году в Ростове-на-Дону мизерным тиражом в 200 экземпляром был издан первый полный русский перевод со старофранцузского Н. В. Забабуровой на основе подстрочника Д. Н. Вальяно. Во вступительной статье «Средневековый французский «Роман о Розе»: его история и судьба» переводчик даёт собственную трактовку основополагающей символики произведения: «Прекрасный юноша, уснувший как-то в одну из майских ночей, увидел во сне все то, что томило его душу и должно свершиться. Любовное томление воплощено в алой Розе, которую он нашел в чудесном саду. Ключевой образ Розы не является в романе простой аллегорией, он таит в себе целый ряд значений, обладает всем очарованием многосмысленности и тайны и поэтому в сущности становится символом». – От себя отметим, что прямое противопоставление аллегории и символа, подчеркивающее однозначность аллегории и многозначность символа, в применении к использованию этих приёмов в художественном произведении, не совсем корректно по той причине, что они суть одно, и различие возникает из манеры и способности мыслить как автора, так и читателя – либо конкретно, рационалистически, либо парадоксально, многоярусно. Символ есть не что иное как дифференциация аллегории. (ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ – разделение, расчленение, расслоение целого на различные части, формы и ступени). Для того, чтобы наглядно продемонстрировать художественные достоинства «Романа о Розе», процитируем несколько его фрагментов в выполненном ритмизованной прозой переводе Н. Забабуровой. Из главы «Источник Нарцисса»: «Когда прочел я надпись над фонтаном, тотчас отпрянул и не осмелился вглядеться в гладь воды, со страхом вспомнив о судьбе Нарцисса. Но тут же я подумал, что мне нечего бояться. По глупости вернулся я к фонтану, над ним склонился и увидел в глубине песок, что серебра светлей. И был источник сей пределом сущего. И день и ночь волнами здесь струилась проточная и свежая вода. Вокруг ковер травы, густой и жесткой, которая не вянет и зимой. Ведь не дано этой воде иссякнуть. На дне я видел два хрустальных камня. О самом главном вам хочу поведать. Если солнце бросает радостно свои лучи в источник, на дне его пылает сотня хрусталей и розовым и желтым цветом. И так чудесны эти хрустали, собравшие магическую силу, что многоцветье сада в них заключено. Чтоб это объяснить, возьму, к примеру, зеркало. Ведь отражает оно и форму, и цвета предметов, перед ним стоящих. Так и хрусталь без всяких искажений хранил картину сада. Все, кто смотрит в воду, увидят сад, и каждый уголок, любой предмет запечатлен, как будто нарисован, в прозрачном хрустале. В том зеркале опасном гордец Нарцисс свое лицо увидел и зелень глаз, пленившись навсегда бесплотной тенью. Кто в это зеркало заглянет, беззащитным станет. Увидит горечь, скрытую во взоре. Не сможет удержать меча храбрец. Ведь в этом зеркале — ловушка всем мудрейшим и отважным. Безумьем будут одержимы люди, утратят мужество, благоразумье, веру, отдав себя единому желанью — любить. И трудно победить его. Ведь Купидон, Венеры сын, посеял семена Любви, окрасившей источник, все напоившей нежностью вокруг. Расставлены здесь сети, чтобы поймать девиц и кавалеров. Эти птички особенно милы Любви. Из-за семян любовных зовут источник этот Источником Любви. О нем нам повествуют книги и романы. Но только я смогу о нем поведать правду». Из главы «Явление Розы»: «Я стал смотреть в источник, восхищаясь его красой и сотней начертаний, мне истину открывших. Часы прошли, а я в него смотрел. Увы! Мне суждено теперь жалеть об этом. Я был обманут зеркалом прекрасным. Если б я ведал, каким могуществом оно наделено, я б никогда в него не погрузился усталым взором. Пленило многих оно своим коварством. Средь тысячи вещей открылись в зеркале чудесные кусты, тяжелые от роз. Глухая изгородь от взора их хранила. Неистовым желаньем я был внезапно сокрушен, и не смогли б меня отвлечь ни чары Пав, ни радости Парижа, ни сборища несметные людей от наваждения, знакомого столь многим. Я тут же подошел к кусту и, стоя рядом, вдохнул сладчайший запах роз, проникший в сердце. Пленительней такого аромата ничто не может быть. Если б не страх, я розу бы сорвал, хотя б одну, и подержал в руке, чтоб аромат вошел в мое дыханье. Но опасался я доставить огорченье владельцу сада. Как много было роз, каких не сыщешь в мире! Одни бутоны туго сжаты, едва видны, другие — покрупней, но чаще видел розы я, готовые раскрыться. Едва распустится пленительная роза, как к вечеру увянет. А бутоны цветут три дня. И именно они меня очаровали. Нет в мире их прекрасней. И если приколоть бутон к груди, он станет дорог. Когда бы мог носить его всегда на шляпе, был бы счастлив. Средь всех бутонов был один всего прекрасней. И я избрал его. Он освещен был лучезарным светом, подаренным природой, имел четыре пары листьев, которые искусница-природа в порядке правильном на стебле разместила. Строен, как тростник, был стебель, венчавшийся бутоном: он не клонился и не повисал. От этой Розы исходил окрест сладчайший аромат. И попытался я ее коснуться, осмелившись с протянутой рукой приблизиться, но острые шипы отпрянули, а путь мне преградили крапива и колючие кусты. Теперь не мог сорвать я Розу без мучений. Амур, за мной следивший с луком много дней, остановился. Заметил он, как выбрал я бутон, меня пленивший (не поступали так другие). Он взял стрелу, натягивая лук до уха, и выстрелил в меня так метко, что ранил тело. И я оцепенел. <…> Тогда воскликнешь ты: «О Боже! Как тяжко не видеть ту, кому я отдал сердце! Лишь сердце ей послал, но стражду, что взору недоступна моему. Когда б я мог послать туда мои глаза и лишь за ними сердце! Коль взгляд в разладе с сердцем, чем его утешить? Издалека смотреть умеет только сердце. Медлителен мой шаг, когда оно далеко. Пусть я безумец, но не буду счастлив, пока мой взор отрады не пошлет»». Из главы «Переговоры с Опасным стражем»: «Нашел я Розу, лепестки ее чуть-чуть раскрылись. Я ближе подошел и тут заметил, как подросла она, пока ее не видел. Я очарован был. Раскрывшись сверху, мне лепестки не позволяли видеть сердцевину. Она была сокрыта в глубине бутона. Прекраснее, чем раньше, мне явилась Роза, светившаяся алым светом. Я радовался чуду, и Амур сжимал тесней меня опутавшие сети. <…> Храню я в сердце нежность Розы. И мысль о том, что я ее теряю, страшнее смерти». Приведённые фрагменты взяты из первой части «Романа о Розе» (ок. 1230), написанной в куртуазной манере рано умершим рыцарем Гильомом де Лоррисом. Вторая же часть (ок. 1270) – принадлежащая перу ученого горожанина Жана Клопинеля, по месту жительства получившего имя Жана де Мён – дидактическим зарядом с элементами сатиры существенно отличается от первой. В то же время, развивая фабулу, продолжатель последовал вслед зачинателю – и объединённые под одной обложкой части слились в единое целое, о смысле которого читаем во вступительном слове переводчика: «Итак, путь к Розе символизирует в романе путь к любви и вместе с тем к самопознанию и гармонии: герой постигает человеческую природу в многочисленных дискуссиях с аллегорическими персонажами». Но ведь это один в один содержание одного из наиболее прекрасных произведений мировой литературы ХХ века – всемирно известной сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Именно из-за Розы герой отправляется в странствие, в результате которого происходит всё то, о чём в связи с «Романом о Розе» написала Н. Забабурова. (Отметим для точности, что в оригинальном тексте «Маленького принца» персонаж ставший Розой в переводе Норы Галь носит имя – просто Цветок – «la fleur» – во французском это слово женского рода. Однако никакой натяжки здесь нет – на авторских рисунках цветок этот не что иное как роза). Таким образом, в нижеследующих цитатах прослеживается не иначе как связующая субстанция, мост сквозь столетия, что указывает на вневременную природу мистериальной традиции. – Если любишь цветок – единственный, какого больше нет ни на одной из моих миллионов звезд, этого довольно: смотришь на небо и чувствуешь себя счастливым. И говоришь себе: «Где-то там живет мой цветок…» Но если барашек съест его, это все равно, как если бы все звезды разом погасли! – Напрасно я ее слушал, – доверчиво сказал он мне однажды. – Никогда не надо слушать, что говорят цветы. Надо просто смотреть на них и дышать их ароматом. Мой цветок напоил благоуханием всю мою планету, а я не умел ему радоваться… Долго шел Маленький принц через пески, скалы и снега и, наконец, набрел на дорогу. А все дороги ведут к людям. – Добрый день, – сказал он. Перед ним был сад, полный роз. – Добрый день, – отозвались розы. И Маленький принц увидел, что все они похожи на его цветок. – Кто вы? – спросил он, пораженный. – Мы – розы, – отвечали розы. – Вот как… – промолвил Маленький принц. И почувствовал себя очень-очень несчастным. Его красавица говорила ему, что подобных ей нет во всей вселенной. И вот перед ним пять тысяч точно таких же цветов в одном только саду! Вот тут-то и появился Лис. <…> Он умолк. Потом прибавил: – Поди взгляни ещё раз на розы. Ты поймешь, что твоя роза – единственная в мире. А когда вернешься, чтобы проститься со мной, я открою тебе один секрет. Это будет мой тебе подарок. Маленький принц пошел взглянуть на розы. – Вы ничуть не похожи на мою розу, – сказал он им. – Вы ещё ничто. Никто вас не приручил, и вы никого не приручили. Таким был прежде мой Лис. Он ничем не отличался от ста тысяч других лисиц. Но я с ним подружился, и теперь он – единственный в целом свете. Розы очень смутились. – Вы красивые, но пустые, – продолжал Маленький принц. – Ради вас не захочется умереть. Конечно, случайный прохожий, поглядев на мою розу, скажет, что она точно такая же, как вы. Но мне она одна дороже всех вас. Ведь это её, а не вас я поливал каждый день. Её, а не вас накрывал стеклянным колпаком. Её загораживал ширмой, оберегая от ветра. Для неё убивал гусениц, только двух или трех оставил, чтобы вывелись бабочки. Я слушал, как она жаловалась и как хвастала, я прислушивался к ней, даже когда она умолкала. Она – моя. И Маленький принц возвратился к Лису. – Прощай... – сказал он. – Прощай, – сказал Лис. – Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. Сходство мотивов в разделённых дистанцией в семь столетий произведениях особенно подчёркивается выделенной нами ключевой фразой: издалека смотреть умеет только сердце – зорко одно лишь сердце. Причём не столь важно читал ли Экзюпери «Роман о Розе» или совпадение это непроизвольно. Так или иначе, но свидетельствует оно о вневременности и неизменности универсальных духовных принципов, на которые направлены оба произведения. При внимательном прочтении перекличка обнаруживается и в других – не менее важных – моментах. Так, у Жана де Мёна в борьбе за душу героя Разум противопоставляется Природе и в конечном счёте герой следует за Природой, у Сент-Экзюпери Лис являет собой не что иное как Природный Разум – таким образом, автор решает дилемму путём синтеза антагонистических в «Романе о Розе» величин. Всё это говорит о том, что «Маленький принц» – произведение в высшей степени философское и символическое, вневременной и ВНЕНАРОДНЫЙ шедевр мировой литературы. Именно, что вненародный, то есть находящийся над каким-либо разделением между народами. И в этом свете становится совершенно риторическим вопрос о соответствии данного произведения принципу народности. По сути, видим здесь путешествие внутреннее – внутрь человеческой души. Аллегоризм, символика, прямое обращение к универсальным принципам, – о какой народности можно здесь говорить? неужели о французской? Не иначе что именно по этой причине возникает путаница с тем, куда отнести сказку Экзюпери – к детской литературе наряду с «Питером Пэном», «Винни-Пухом» и «Карлсоном»? Спору нет о том, что это истинные шедевры детской литературы, а для детей нужно писать, так же как и для взрослых, только лучше. Но «Маленький принц» изначально написан вовсе не для детей, потому и требует совершенно иного подхода. Учёные литературоведы – исследователи литературного пространства ХХ века буквально разливаются мыслью по древу относительно творений Пруста, Джойса, Кафки, Гессе, Маркеса, Кортасара, Борхеса, Милорада Павича и Умберто Эко. Сказка Сент-Экзюпери – вещь также всемирно известная, о ней тоже много говорят, вот только не учёные литературоведы. Чем же отличается Сент-Экс от перечисленных модернистов и постмодернистов? Ответ на этот вопрос, исходя из принципов изначальной сущности, звучит так: принадлежностью к мистериальной традиции, попыткой непосредственного обращения к универсалиям, которые в его понимании можно постичь лишь через душу и через дух, а не через интеллект. И не вписывается он в ДИСКУРС современных литературоведов из-за того, что смыслом и целью модернизма и тем более постмодернизма является попытка усложнить, запутать, увести в интеллектуальные лабиринты, истинным мистериям противопоставить их имитацию. Модернизм не проясняет и не стремится прояснить – напротив, он умышленно запутывает не только сложные, но и простые вещи и понятия. В этом его принципиальное отличие от мистериальной традиции, где во главе угла – абсолютные истины – Грааль, Мистическая Роза и другие символы, ориентируясь на которые, человек постигает истинное своё предназначение, смысл жизни. Стремление модернизма – продемонстрировать, что абсолютных истин нет в принципе, что всё относительно. Но сделать это необходимо на высоком интеллектуальном уровне – не опускаясь до вульгарного атеизма Лео Таксиля или Ярославского-Губельмана – но имитируя мистериальную традицию и даже мимикрируя под неё. Модернисты блуждают по лабиринту, искренне стремясь найти выход, но будучи не в состоянии поднять голову и взглянуть вверх. Постмодернисты сами строят лабиринты и умышленно их запутывают. Не будем называть произведений и имён, ибо, как правило, эти моменты являются в смешанном, а не в чистом виде, и каждый конкретный случай требует отдельного подробного разбора. в) Вдали от «магистральных» путей Напротив, отметим случаи проявления мистериальной традиции в литературе ХХ века. Продолжая тему Сент-Экзюпери, укажем на его «Цитадель» – произведение по жанровой принадлежности уже никак не относящееся к сказке, но почему-то упорно не замечаемое теми, кто все учебные курсы и научные пространства заполняет Кафкой, Джойсом, Прустом (находя вдоволь места даже для откровенных посредственностей типа Зюскинда и Кундеры). Чем вызвана такая дискриминация? Почему Сент-Экзюпери не приходится ко двору? Потому что говорит о другом – не о том, о чём принято в приличном модернистском и постмодернистском обществе. Следовательно, то, о чём он говорит – НЕФОРМАТ! «Ты будешь говорить и в ответ услышишь возмущенные крики – не обращай внимания: новая истина – это всегда новизна нежданных связей (в ней нет доказательности логики, за которой можно проследить от следствия к следствию). Каждый раз, когда ты будешь указывать на деталь своей новой картины, тебя упрекнут, что во всех других ей отведена совершенно иная роль, и не поймут, что именно ты им показываешь, и будут спорить с тобой и спорить. И тогда ты попросишь: «Откажитесь от того, что считаете вашим, позабудьте и вглядывайтесь не противясь в новизну моего творения. Станьте куколкой, только так вы сможете преобразиться. А преобразившись, вы мне скажете, стало ли в вас больше света, умиротворения и широты». Ни истина, ни статуя, которую я ваяю, не открывается деталь за деталью, частность за частностью. Это – целое, и судить о них можно, когда они завершены. Находясь внутри картины, невозможно ее обозреть. Истинность моей истины в том человеке, который рождается благодаря ей». (Антуан де Сент-Экзюпери. Цитадель. Перевод с французского М. Ю. Кожевникова. М., АСТ, 2003, с. 166-167) Таким образом, причина, по которой Сент-Экзюпери выпадает из модернистского дискурса, состоит в том, что мистериальная традиция выводит слово за собственно литературные пределы. И это не на шутку пугает литературоведов, ибо лишает их твердой и знакомой почвы под ногами. «Тебя не ободрят; знамение, которого ты так ждешь, – молчание. Камни не знают и не могут знать о храме, который сложен ими. Ничего не знает нарост коры обо всем дереве, одетом и этим кусочком, и всеми остальными. А дерево и дом ничего не знают о царстве, которое они совместно составляют. Ты не знаешь о Боге. Чтобы узнать, камню должен явиться храм, кусочку коры – дерево, но и это бессмысленно, у них нет языка, чтобы вместить огромность, столь их превосходящую. Язык – это иерархия, которую представляет собой дерево. И понял я это после паломничества к Господу». (Там же, с. 184-185) Однако творчество Сент-Экзюпери вовсе не является каким-то уникальным исключением из правил, в единственном числе противостоящем всему литературному процессу. Мистериальная традиция всегда была, есть и будет, и проявления её многочисленны и разнообразны. Еще одним выдающимся её представителем во французской литературе ХХ века является Робер Мерль – писатель прямо противоположный модернизму, избравший традиционный метод – ясность понятий взамен по-модернистски умышленно запутанному клубку. В традиционно построенных романах – «Остров», «Мальвиль» – автор ненавязчиво достигает аллегорических и символических обобщений, группа немногочисленных персонажей предстаёт в качестве модели всего человеческого общества. В тех же произведениях, где избирается модернистский метод – «Мадрапур», «За стеклом» – неизменно сохраняется ясность мышления и чёткость ориентиров. Обратим внимание, что произведения Робера Мерля по указанным особенностям своим и достоинствам идеально подходят для изучения в старших классах средней школы, и в этом смысле они однозначно полезнее, чем выбранные для этой цели тексты Пруста, Джойса и Кафки. Но… для составителей школьных программ истина эта оказывается недоступной. Аналогичный случай наблюдается и в отношении Густава Майринка. В предисловии к одному из первых «перестроечных» изданий на русском языке романа «Голем» говорилось, что, не достигая, конечно, уровня великого своего современника и земляка Франца Кафки, тем не менее, Майринк всё же имеет определённое значение. То есть в литературном табеле о рангах его место определялось неизмеримо ниже автора «Превращения», «Процесса» и «Замка». Однако прочтение и осмысление «Ангела Западного окна», «Голема», «Белого доминиканца», «Вальпургиевой ночи», «Мейстера Леонгарда», «Зеленого лика» разрушили эту иллюзию – произведения Майринка нашли своего читателя – и ныне авторитет его очень высок. Но… как правило, среди тех, кто интересуется эзотерической традицией. И место он занял в неком обособленном пространстве – не в собственно литературном, а в пространстве литературы эзотерической. Очевидно, что в силу неискоренимого европейского позитивизма литературоведы стараются держаться подальше – на безопасном расстоянии – от эзотерической традиции. Но неприлично было бы совсем не замечать столь большую величину. Поэтому для Майринка подыскали совершенно нейтральное и ничего не значащее определение – «представитель Пражской школы, писатель-экспрессионист». А найдя нужный ярлык, необходимую нишу, можно и успокоиться – когда есть такие понятия как романтизм, символизм, экспрессионизм – и на душе спокойно, можно не волноваться относительно истинного смысла и содержания творчества неудобных авторов. И возникает какой-то душевный сквозняк, когда не знаешь куда того или иного писателя определить – по какому ведомству? Потому экспрессионизм подвернулся весьма кстати. Однако, как узнаём из справочника, «Экспрессиони́зм (от лат. expressio, «выражение») – течение в европейском искусстве, получившее развитие примерно в 1905-1920 гг., характеризующееся тенденцией к выражению эмоциональной характеристики образов (обычно человека или группы людей) или эмоционального состояния самого художника». Что же касается конкретно литературы, то, исходя из довольно длинного списка причисленных к «экспрессионизму», надо думать, что этим понятием охватывают всех тех, кто в определённое время оказался в определённом месте, то есть в указанные годы – на немецкоязычном пространстве. Ибо слишком уж разношерстных поэтов и писателей пытаются объединить под одной крышей. Данный термин можно признать основательным для поэзии Георга Гейма и Георга Тракля, в которой эмоциональное содержание действительно является определяющим – пожалуй, благодаря творчеству именно этих поэтов и стало возможным сформулировать понятие экспрессионизма в литературе. Но что общего у забирающегося в отрицательные пространства безысходно-депрессивного Франца Кафки, завещавшего уничтожить всё им написанное (при жизни было опубликовано всего несколько рассказов), с по сути прямо противоположным ему искателем божественного света Райнером Мария Рильке, автором «Жизни Девы Марии», «Дуинских элегий», «Белой княгини», «Сонетов к Орфею»? И какое отношение ко всему этому «экспрессионизму» имеет Густав Майринк? Да лишь то, что жил в то же время и в том же месте! Главным же в его творчестве являются вовсе не экспрессия, не эмоциональное состояние будь-то героя или самого автора, а красной нитью – не видеть которую может лишь слепой – проходящие через всё творчество писателя эзотерические идеи. Начиная от ранних рассказов – и до итогового романа «Ангел Западного окна». Поэтому причисление Майринка к «экспрессионизму» правомерно рассматривать как шарлатанство или же умышленное запутывание ситуации, искажение реальности. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно просто открыть книгу: ««Как много друзей, – невольно думаю я, – сопровождало тебя в ночи, когда ты не знал, куда деваться от страха!» Впервые я чувствую желание с кем-то поговорить, оно подобно узору проступает на тончайшей, как вуаль, меланхолии, которая вновь окутывает меня; из какой бездны поднимается эта туманная дымка, мне неведомо. Но Гарднер уже берет меня за руку и уводит от слепых, движущихся на ощупь мыслей. Я и не замечаю, как мы вновь оказываемся в парке, неподалеку от низких ворот, ведущих в замковый двор. Тут адепт останавливается и указывает на великолепный куст роз, источающих райский аромат: – Я садовник. Это мое призвание, хоть ты и видишь во мне прежде всего алхимика. Сколько уже роз пересадил я из тесного комнатного горшка в открытый грунт!» (Густав Майринк. Ангел Западного окна, Перевод с немецкого Вл. Крюкова) Колпаком, аналогичным «экспрессионизму» для Майринка, видится ярлык «фэнтези» в отношении писателя, по уровню популярности занимающего едва ли не первое место в мире, но которому при этом не уделяется ни единой строчки в учебно-научных пособиях (по крайней мере у нас), посвященных английской литературе ХХ века. Речь идёт о Дж. Р. Р. Толкине. Массовая популярность, конечно, никак не определитель истинной ценности, иначе бы наиболее ценными пришлось признать Пауло Коэльо, Дэна Брауна и Джоан Роулинг. Но уникальность Толкина заключается в том, что за феноменальной популярностью стоит не коммерческая раскрутка, не потакание низменным интересам и не ориентация на среднестатистический уровень, как это обычно наблюдается в коммерческой продукции. Дело в том, что успех произведений Толкина предопределён вовсе не занимательностью повествования, не внешними спецэффектами, и даже не столько смыслом и содержанием, сколько той поэзией, что заключается не в форме и не в содержании, а рождается от оптимального их взаимодействия – и, конечно, от проникновения в поэтическое пространство высшей мистериальной традиции: «Ах! Листья сыплются, как золото – длинные годы бесчисленны, словно крыла у деревьев! Долгие годы прошли, протекли, опустели, словно чаши сладкого меда в обширных чертогах за гранью Заката, за синим пологом Варды, где звезды трепещут, внемля песне ее, святой и державной. Кто же наполнит мой опустевший кубок? Возжигательница Варда, Королева Звездного Неба, словно тучи, руки свои подняла над Вечнобелой Горою, и пути погрузились в тень, а из серой земли, словно пенные волны, вздымается тьма, и сокрылись навеки в тумане алмазы Калакирии. Плачьте, живущие на востоке: Валимар уже не обресть вам. Прощай! Но может, ты отыщешь его в тумане? Может, хотя бы ты? Прощай!» (перевод с английского М. Каменкович, В. Каррика) О том, что природа творчества Толкина не является ни коммерческой, ни чисто развлекательной, свидетельствуют такие его произведения как «Сильмариллион», «Дети Хурина», «Дерево и лист» («Tree and Leaf», рассказ в русских переводах более известный как «Лист Ниггла» или «Лист работы Мелкина»). Но раз навсегда определив его по ведомству сказочно-фантастической литературы для детей и юношества (а именно такова природа жанра «фэнтези»), Толкина таким образом отсекли от изучения по существу. Посему отметим, что принятая в псевдо-научном литературоведении классификация, строящаяся не на сущностных, а на формальных признаках, наносит колоссальный вред, так как выпячивают на передний план продукцию весьма сомнительных свойств, в то же время задвигая на маргинес произведения воистину гениальные, то есть имеющие общечеловеческое значение и могущие служить духовными ориентирами для вконец запутавшегося человечества. И что интересно, образцы такого рода находишь, как правило, в том, что прихлопнуто колпаком, и с таким же постоянством не находишь – за редким исключением – в том, что плавает на поверхности и возводится на литературный пьедестал. Современные литературоведы не видят ничего предосудительного в том, чтобы разбирать под микроскопом произведения про сортиры и испражнения – как в переносном, так и в прямом смысле. Даже у маркиза де Сада они находят массу достоинств и даже совершенств! В этом есть какая-то закономерность. Главное, чтобы поближе к земле и подальше от неба. А то, что ближе к небу, требует и формы соответствующей, – и за эту форму – как за вмещающий летучую субстанцию флакон – цепляется взгляд литературоведа и навешивает на него спасительный ярлык. И флаконы со взрывоопасным содержимым ставятся на полку подальше – как говорится, с глаз долой – из сердца вон. Среди таких флаконов – с ярлыком «Фэнтези» – «Космическая трилогия» Клайва Льюиса, содержащая в себе идеи высшей человеческой нравственности; или «Дочь короля эльфов» ирландского аристократа Эдварда Планкетта, лорда Дансени (1878 – 1957) – произведение, наполненное поэзией, проистекающей из неких смежных и сопряженных – одновременно земных и внеземных – пространств: «Они проносились мимо одиноких домов с шорохом, похожим на тот, какой производит ветер, играющий соломой крыш, и никто из тех, кто слышал этот тихий звук, даже не заподозрил, насколько чуждые существа бегут в эти минуты мимо. Исключение составляли лишь собаки, чья работа заключается в неусыпном бдении; они одни знают, какие странные твари порой проскальзывают в ночной темноте вблизи наших домов и насколько они далеки от всего земного. В эту ночь собаки заходились лаем и хрипели от злобы так, что многие фермеры даже подумали, не подавился ли их пес костью». (Перевод с английского К. Фенлар) Среди таких флаконов – «Фантастес» шотландского священника Джорджа Макдональда (1824 – 1905) – произведение уникальное, но совершенно неизвестное нашему читателю. И чья здесь вина? Разве не литературоведов? Дабы не быть голословным и отвечать за свои слова – а может и с целью покрепче пригвоздить виновников к позорному столбу, – обратимся к тому бездонному колодцу, который в виде маленького флакона пылится на самой дальней и невидной полке – вдали от магистральных путей «научного литературоведения»: «Итак, поскольку у мрака не было начала, ему не будет и конца. Посему он вечен. Суть его – в отрицании всего иного. Тьма обитает там, куда не способен проникнуть свет. Свет лишь прорезает узкие каналы в бесконечно простирающейся мгле. У всякого же света по пятам вечно ступает тьма, вихрясь ручьями и потоками даже посреди него, как подводные течения завиваются в глубинах могучего океана. Воистину, человек есть лишь бренный язык пламени, неспокойно колышущийся посреди ночного покоя, без которого ей не жить и который всегда составляет часть его сущности». «Люди, верящие, что звёзды управляют судьбами людей, ближе к истине – по крайней мере, по ощущениям – чем те, кто полагает, что небесные тела связаны с ними лишь физическими законами вселенной. Всё, что человек видит, так или иначе имеет к нему отношение. Разные миры не могут существовать без взаимной связи. Даже в центре всего творения лежит дивное Сообщество, а значит, все его части соединены общим родством и опираются друг на друга. Или, быть может, существует иной замысел, ещё более грандиозный, чем всё, что доныне получило своё воплощение. Пустота – это всего лишь забытая жизнь, лежащая за пределами сознания, а рассеянное великолепие туманности – жизнь, ещё не получившая своей окончательной формы и потому пока не доступная мысли…» (Перевод с английского О. Лукмановой) Уходя в глубь западноевропейской литературы, находим флаконы с ярлыком «Романтизм», содержащие множество разнообразных и толком не изведанных произведений человеческого духа – от Гёльдерлина и Новалиса до Гофмана и Шарля Нодье. Ещё глубже – 1596, Эдмунд Спенсер, «Королева Фей»; 1575, Торквато Тассо, «Освобожденный Иерусалим»; 1507-1532, Лодовико Ариосто, «Неистовый Орландо»; наконец, ещё глубже – уже помянутый нами «Роман о Розе» (XIII век), а также «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбах (1210), творения Кретьена де Труа (посл. четверть XII века)… г) На русской почве С перечисленными произведениями наш читатель знаком крайне поверхностно, либо незнаком вообще. И это – без какой-либо иронии! – в самой читающей стране! Таким образом – из дальних странствий возвратясь – мы вновь оказываемся в России, у той самой развилки, где по утверждению Белинского только одна из дорог – та, на которую он указывал – была верной. Русская литература пошла по ней – во всяком случае, это было главное её направление – и всё для того, чтобы от Пушкина и Гоголя прийти в конечном итоге к Владимиру Сорокину и Дмитрию Александровичу Пригову. Итог этот вполне закономерен – по причине, что именно на отмеченной нами развилке утрачен был главный ориентир… и русская литература уподобилась тому самому Странствующему Слепцу, что описан в поэме Семёна Боброва. Не вдруг спустилась темна нощь На страждуще чело его; Затьменье взоров постепенно Подобно сумраку творилось; Но он в то время потерял Свет неба и природы царство, Где был он главный Князь и жрец. Яснейший самый день без ока Есть токмо нощи тьма глубока; А око без звезды дневной – Источник без воды живой. Однакож тихий свет надежды Сквозь сей проблескивая туск, Еще живил недужны очи; А тайна длань вождя и друга Несла в пути сей скрытый огнь. Выше мы проследили проявление мистериальной традиции в старых и новых литературах западноевропейских – французской, английской, немецкой, итальянской, равно как и тот факт, что данная традиция находится в некой негласной оппозиции с литературным и литературоведческим мейнстримом нового и новейшего времени. И в этом смысле актуальным остаётся то пророчество-наставление, что зафиксировано в эпиграфе к книге «Химическая свадьба Христиана Розенкрейца в году 1459»: «Раскрытые мистерии скоро увянут, сила их духа замрет оскверненно. Поэтому не мечите бисер перед свиньями и не рассыпайте розы перед ослами». – В настоящем разделе нашего исследования остаётся отметить, что всё это в полной мере относится и к русской литературе. И хотя русская литература гораздо моложе западноевропейской и не имеет столь разветвлённой корневой системы, мистериальная традиция проявилась в ней во всей полноте. Проявления эти прослеживаются ещё в «силлабический» период – что, впрочем, вполне закономерно, учитывая тот факт, что русские поэты-силлабисты были, как правило, особами духовного звания. Наиболее интересен в этом плане – создатель регулярной силлабической поэзии, представитель стиля барокко в России белорус Симеон Полоцкий (1629 – 1680), автор стихотворного переложения «Псалтыри», а также колоссального стихотворного сборника «Вертоград (сад) многоцветный», своего рода поэтической энциклопедии, насчитывающей 1155 названий. Краткую, но достаточно ёмкую характеристику этого памятника русской словесности находим в «Истории русской литературы X–XVII веков» под редакцией Д. С. Лихачева (М.: Просвещение, 1980. С. 437440): «…Это действительно поэтическая энциклопедия, в которой Симеон Полоцкий хотел дать читателю широчайший свод знаний – прежде всего по истории, античной и средневековой западноевропейской… Здесь мы найдем также изложение космогонических воззрений, экскурсы в область христианской символики… Этот «музей раритетов» отражает несколько основополагающих мотивов барокко – прежде всего идею о «пестроте» мира, о переменчивости сущего, а также тягу к сенсационности, присущую барокко. Однако особенность «музея раритетов» в том, что это музей словесности. Развитие культуры в представлении Симеона Полоцкого – это нечто вроде словесной процессии, парада слов. На первый взгляд в этой процессии участвуют и вещи. Но сфинкс и саламандра, феникс и сирена, пеликан и кентавр, магнит и янтарь сами по себе Симеона Полоцкого не интересуют. Интересна только их умопостигаемая сущность, только скрытое в них Слово, – ибо Слово, по глубокому убеждению Симеона Полоцкого, – главный элемент культуры. С его точки зрения, поэт – это «второй бог»: подобно тому, как бог Словом строит мир, поэт словом своим извлекает из небытия людей, события, мысли. Симеон представляет себе мир в виде книги или алфавита, а элементы мира – как части книги, ее листы, строки, слова, литеры: Мир сей преукрашенный – книга есть велика, еже словом написа всяческих владыка. Пять листов препространных в ней ся обретают, яже чюдна писмена в себе заключают. Первый же лист есть небо, на нем же светила, яко писмена, божия крепость положила. Вторый лист огнь стихийный под небом высоко, в нем яко писание силу да зрит око. Третий лист преширокий аер мощно звати, на нем дождь, снег, облаки и птицы читати. Четвертый лист – сонм водный в ней ся обретает, в том животных множество удобь ся читает. Последний лист есть земля с древесы, с травами, с крушцы и с животными, яко с писменами…» По сути дела видим здесь провозглашение идеи цельности и единства – изначальной идеи, на которой стоит мир и которой в собственной творческой деятельности должен держаться поэт. Идея цельности и единства противоположна идее раздельности. Для лучшего усвоения данной мысли – крайне важной для понимания ошибки, свершившейся с подачи Белинского – обратимся к труду Владимира Шмакова «Священная Книга Тота. Великие Арканы Таро. Абсолютные Начала Синтетической Философии Эзотеризма» (М., 1916. С. 350): «Божественный аспект – это высшее развитие полной гармонии, это одновременное существование всей бесконечной множественности частностей, живущих каждая своей собственной жизнью, и, вместе с тем, в целом выливающихся в единую целостную гармонию. Все живет, все развивается, но ничто не мешает другому; у каждой отдельности своя цель, свои средства, свой путь; все свободно, но и все связано между собою высшим разумным законом. Демонический аспект – это высшая степень развития разрозненности. Каждая отдельность стремится к достижению своего максимального развития, не считаясь с другими, и высшее развитие отдельности – это полный разрыв со всеми другими, это достигнутое желание доминирования над всеми». На рубеже XVIII-XIX веков величайшим русским поэтом почитался Михаил Матвеевич Херасков, на что недвусмысленно указывают свидетельства Державина, Карамзина, Дмитриева и других. Но только ли по причине создания на русской почве завершённой героической поэмы почитался он первым? Отнюдь! Главной внутренней причиной было то, что две его поэмы («Россиада» и «Владимир») заключали в себе идею цельности и несли отсвет мистериальной традиции. Этой же идее подчинено творчество последователя Хераскова Семёна Боброва – как это видно, к примеру, из нижеследующего отрывка из поэмы «Таврида, или Мой летний день в Таврическом Херсонесе» «Сын мира! – старец отвечал, – Что быть спасительнее может В юдоли мрачной жизни сей, Как, преломленные лучи Собрав из посторонних светов И в точку их соединя, Чистейший свет из них устроить, Потом – к себе его присвоить, Да светит в нравственном он мире. Но собирать их – лучше там, Где нет обманчивых паров Или огней гнилых и ложных. – Ах! мой Мурза? – как нужны знанья, Которы странник почерпает Из разных душ иноплеменных? – Конечно, – должно быть пчелой И брать сок чистый из всего. Что дальности? – они лишь страшны Для нежных Сибарита стоп. – Мы все пришельцы, – ты – и я; Вселенна – поприще для нас; Отечество не здесь, – но там...» Но наступали иные времена – с иными доминирующими идеями. Николай Полевой, вовсе не отвергая идеи цельности и единства, в то же время выводит на передний план такие понятия как народность и самобытность, опираясь на которые производит ниспровержение предшествовавших романтикам столпов классицизма. Момент этот весьма неоднозначен. С одной стороны, вечное движение как необходимое свойство жизни предполагает утверждение новых форм, а новое всегда требует расчистки места путём ниспровержения старого. Но в то же время Полевой и другие романтики – в силу как недостаточной зрительной перспективы, так и непосредственной вовлечённости в жёсткое противостояние с предшественниками – оказались неспособны оценить непреходящие достоинства русского классицизма. В принципе – это не беда, поскольку предназначение следующих поколений заключается в восстановлении разрушенного в пылу борьбы под горячую руку. Но это в принципе… в реальности же явился «неистовый Виссарион», который за неимением внутренней культуры Полевого, но обладая мощным зарядом энергии, линию народности и самобытности взялся внедрять силой собственного невежества, отвергая и отсекая всё недоступное его пониманию, не вмещающееся в его сознание. По Белинскому выходило, что есть литература правильная и есть литература неправильная – и беда в том, что в этой главной своей мысли он исходил не из идеи цельности, а из идеи раздельности. В результате вслед за классицистами полетели головы романтиков, и сегодня – преодолевая инерцию многолетнего господства линии Белинского – спустя 200 лет приходится открывать такие шедевры русской литературы как «Блаженство безумия» и «Живописец» Николая Полевого, как «Сильфида», «Косморама», «Саламандра» Владимира Одоевского, как мистерия «Ижорский» Вильгельма Кюхельбекера, как «Страшное гадание» и «Фрегат «Надежда»» Александра Бестужева-Марлинского… В дальнейшем – несмотря на явную антимистериальную доминанту литературоведческого мейнстрима – проявление мистериальной традиции в русской литературе вовсе не сошло на нет. Как уже говорилось, традиция эта всегда была, есть и будет в силу своей вневременности. После безраздельного господства «натуральной школы» на авансцену элитарного крыла русской литературы на добрых два десятка лет вышел символизм – направление, основу которого составляет именно мистериальная традиция. В советский – постреволюционный период – в наиболее зримом проявлении мы находим её у Николая Клюева, Сергея Клычкова и – что особенно интересно – у Андрея Платонова – ибо поиск идеи коммунизма для него и его героев был поиском не иначе как высшего царства истины. Именно здесь следует искать ключ к творчеству этого до сих пор не разгаданного автора (в перестроечное время его произведения пытались втиснуть в жанр антиутопии – наряду с Замятиным, Оруэллом и Хаксли). Это всё та же идея цельности и единства – и потому она оказывается неподъёмной для нынешнего литературоведения, что идея Универсума и Абсолюта не может быть вмещена в разделённое и обособленное сознание, не может быть распределена по нишам и флаконам. По той же причине не поддаётся классификации творчество столь необычных писателей как Сигизмунд Кржижановский и Александр Кондратьев (с его «демонологическим» романом «На берегах Ярыни») – ибо для того, чтобы вместить в себя идею цельности, необходимо преодолеть фрагментарность собственного мышления. Но наиболее показательным примером проявления мистериальной традиции в русской литературе ХХ века является творчество Даниила Андреева. В нынешнем литературоведении это имя стараются обходить десятой дорогой, делая вид, что это явление не литературы, а эзотерики. И если наиболее известная книга Андреева (с показательным для нашего исследования названием – «Роза Мира») по жанровой принадлежности действительно ближе не к художественной литературе, а к визионерским трактатам, то поэтический ансамбль «Русские боги» и поэма «Железная мистерия» по всем формальным признакам относятся всё же к литературному искусству. Однако для поднаторевших в модернизме и постмодернизме литературоведов это настоящий камень преткновения. Причина? – Она в том, что единственным предметом этих произведений является непосредственная духовная вертикаль, вне каких-либо литературных условностей устремлённая с земли на небо. Я не знаю, какой воскуривать Тебе ладан И какие Тебе присваивать имена. Только сердцем благоговеющим Ты угадан, Только встреча с Твоим сиянием предрешена. Твои тихие, расколдовывающие силы Отмыкают с неукоснительностью часов Слух мой, замкнутый от колыбели и до могилы, Зренье, запертое от рождения на засов. Совлекаемая невидимыми перстами, Все прозрачнее истончающаяся ткань, И мерцает за ней – не солнце еще, не пламя, Но восходу его предшествующая рань. Поднимаешься предварениями до храмов На вершинах многонародных метакультур, Ловишь эхо перводыхания Парабрамы В столкновении мирозданий и брамфатур. И я чувствую потрясающие мгновенья, Что за гранью и галактической и земной, Ты нас примешь, как сопричастников вдохновенья, Для сотворчества и сорадования с Тобой. И, разгадывая вечнодвижущиеся знаки На скрижалях метаистории и судьбы, Различаю и в мимолетном, как в Зодиаке, Те же ходы миропронизывающей борьбы. Дух замедливает у пламенного порога: Он прислушивается, он вглядывается в грозу, В обнаруживаемый замысел Противобога, В цитадели его владычества – там, внизу; Он возносит свою надежду и упованья К ослепительнейшим Соборам Святой Руси, Что в годину непредставимого ликованья Отразятся на земле, как на небеси. Катастрофам и планетарным Преображеньям – Первообразам, приоткрывшимся вдалеке – Я зеркальности обрету ли без искаженья В этих строфах на человеческом языке? Опрокинутся общепризнанные каноны, Громоздившиеся веками, как пантеон; В стих низринутся – полнозвучны и многозвонны – Первенствующие спондей и гиперпеон. И, не зная ни успокоенья, ни постоянства, Странной лексики обращающаяся праща Разбросает доброзвучья и диссонансы, Непреклонною диалектикой скрежеща. Не отринь же меня за бред и косноязычье, Небывалое это Действо благослови, Ты, Чьему благосозиданию и величью Мы сыновствуем во творчестве и любви. Продолжение следует КОНДРАТЬЕВ (ВЕЛИКАЯ КУЛЬТУРА МАРГИНЕСА) Свою статью «Забытый Кондратьев», опубликованную в «Новой литературной газете» (издание киевского лит. объединения «Русское собрание»), один ровенский автор начинает со следующей реплики: «Конечно, имя Кондратьева трудно поставить в один ряд с именами Блока, Брюсова, Гумилева. Но вот что о нем и его творчестве говорили эти деятели Серебряного века…» У непредвзятого и свободномыслящего читателя сразу возникает вопрос: почему? почему Кондратьева трудно поставить в один ряд с перечисленными поэтами? По какой причине? Может быть, по причине недостаточной талантливости? Но в этом случае необходимо подкреплять столь смелые заявления убедительными аргументами. Вместо этого автор статьи отделывается «убедительным», как кирпич, словом «конечно». Мол, это и так всем ясно и всеми признано. Но это ведь совсем не так. Это никому не ясно по той простой причине, что творчество Кондратьева по сравнению с творчеством перечисленных его коллег мало известно и мало изучено. Можно сказать, что совершенно не известно и не изучено. Поэтому подобные заявления выглядят, по меньшей мере, некорректными и неэтичными и, в первую очередь, свидетельствуют о неразвитом мышлении заявляющего, то бишь об отсутствии у него самостоятельного мышления. Ведь автор в данном случае просто-напросто следует психологии маленького провинциального чиновника: раз имена Блока, Брюсова и Гумилева «утверждены наверху», а про Кондратьева никаких разнарядок сверху не поступало, то, следовательно, какие тут могут быть еще мнения? Какие могут быть разговорчики в строю? Но, несмотря на всевозможные поползновения, направленные на установление единомыслия, полностью уничтожить свободу мысли до сих пор не удалось никому. И не удастся никогда. Поэтому в своих дальнейших размышлениях и изысканиях мы будем полагаться исключительно на свободу мысли. Сегодня имя Кондратьева действительно нельзя поставить в один ряд с именами Блока, Брюсова, Гумилева. Но в какой ряд? – вот что требует уточнения. И мы уточним – в один ряд по степени известности широкой публике, но отнюдь не по уровню таланта. И здесь мы выходим на крайне важную проблему, которая включает в себя ряд вопросов: как взаимодействуют в литературном пространстве талант и известность? что формирует общественное литературное мнение? какие факторы определяют формирование литературных канонов и иерархий писателей? какие критерии следует применять при определении значимости того или иного писателя? что такое уже сформированный литературный канон? и т. д. и т. п. На наш взгляд, именно подобные вопросы должны стать определяющими в современном литературоведении, ибо ныне эта наука все больше «переливает из пустого в порожнее», борзо бегая по верхам и избегая заглядывать в суть. Применить провозглашенный метод мы и постараемся в нашем исследовании (литературной разведке – как это звучит по-украински). Центральной же темой будет творчество Александра Кондратьева. ИЗ ЦЕНТРА НА ПЕРИФЕРИЮ Александр Алексеевич Кондратьев родился 11 мая (ст. ст.) 1876 г. в Петербурге – в одной из двух столиц не только Российского государства, но и русской культуры. Таким образом, будущий писатель изначально находился в эпицентре литературной жизни. Не мудрено, что с юного возраста среди его знакомых оказываются личности, считающиеся ныне элитой русской литературы. Так, директором и учителем гимназии, в которой учился Кондратьев, был Иннокентий Анненский, а сокурсником по юридическому факультету Императорского петербургского университета – Александр Блок. Немного погодя Кондратьев знакомится с такими знаковыми фигурами как Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Федор Сологуб, Вячеслав Иванов, Максимилиан Волошин, Михаил Кузмин, Николай Гумилев, на страницах литературных журналов и в частной переписке пересекается с москвичом Валерием Брюсовым. Как видим, весь цвет главенствовавшего тогда в русской поэзии символизма составлял ту питательную среду, в которой произрастал и писатель Кондратьев. Но вот что интересно: несмотря на свое попадание в символистское средоточие, писателем-символистом Кондратьев не стал, т. е. в собственном творчестве не последовал символистским установкам. Однако ничего общего не имел он и с реалистическим направлением, а также и с появившимся чуть позже акмеизмом. Наверное, несколько старомодным и архаичным выглядел тогда его выбор: отклонив в 1903 г. предложение о сотрудничестве четы Мережковских, Кондратьев становится секретарем литературного кружка Константина Случевского – поэта, чья жизнь и творчество принадлежат веку ХІХ, поэта, традиционно не принимавшего модернистской экспансии. Впрочем, такая «старомодность» была закономерной для Кондратьева, ибо изначально его творческий взгляд был направлен в глубь времен, к традиции в чистом виде, без декадентской примеси. Способствовали этому и страстная любовь к античной культуре Иннокентия Анненского, которого Кондратьев в посвящении к рассказу «Фамирид» именует «дорогим учителем», и, по всей видимости, собственная душевная предрасположенность Александра Алексеевича. Однако для данного исследования здесь важно другое. Не находя своего места в среде доминирующих литературных направлений, Кондратьев обрекает себя на последующее литературное изгойство. В «петербургский» период своего творчества (1905-1917) Александр Кондратьев издает две книги стихов, два сборника мифологических рассказов, мифологический же роман «Сатиресса», историко-литературное исследование о творчестве графа А.К. Толстого и драматический эпизод из эпохи Троянской войны «Елена». Первую книгу стихов Кондратьева, вышедшую в 1905 г. под названием «А. К. Стихи», нещадно раскритиковал Брюсов. Вполне справедливо и точно указав на слабости, в заключение вождь символистов, тем не менее, отметил: «И при всем том в книге А.К. есть прекрасные строфы и несколько целых стихотворений, более или менее удачных… Судя по этим стихам, для г. А.К., как поэта, есть будущее…» То, что он не ошибся в своем прогнозе, Брюсов подтверждает в рецензии на вторую книгу стихов Кондратьева «Черная Венера», вышедшую в 1909 г.: «…на картинах и образах поэзии Ал. Кондратьева есть отблеск вечной красоты Эллады, вечной тайны древнего Востока. В античных преданиях, в древнем мире он иногда умеет увидеть что-то свое, что-то новое, и выразить это ярко и отчетливо… Заметим, что со времени первого сборника своих стихов (1905 г.) Ал. Кондратьев сделал большие шаги вперед и, главное, научился придавать своим стихам больше сжатости и стройности…» Мнение столь строгого и авторитетного критика, каким в то время был Валерий Брюсов, – что может быть лучшим свидетельством о выросшем художественном уровне поэта? Сам Кондратьев в письме Брюсову пишет: «Ваша заметка важна для меня между прочим потому, что многие критики списывают свое мнение с Вас, а руководствуются Вашими оценками – все…» Верен себе Кондратьев и в прозе. Три книги художественной прозы «петербургского» периода – роман «Сатиресса» (1907 г.), сборники рассказов «Белый козел» (1908 г.) и «Улыбка Ашеры» (1911 г.), – при всей популярности античной тематики в разные исторические времена, это ни на кого не похожая разработка мифологической темы, вживание в миф, создание собственного поэтического космоса. И одновременно – накапливание художественной мощи. В языке, фабуле, композиции Кондратьев достигает здесь безукоризненности. Но опять-таки: в эпоху войн и революций, в эпоху торжества науки и техники, разве может быть актуален поэт, чье творчество целиком и полностью посвящено седым мифам Греции и Ближнего Востока? Куда бы завели Кондратьева творческие поиски, не будь революции? Остался бы верен он античной и ближневосточной тематике или переключился бы на что-то другое? Эти вопросы из тех, ответы на которые невозможно даже предположить. Да и стоит ли гадать? Большевистского режима Кондратьев не принял напрочь, потому в поисках нового пристанища и пришлось покинуть Северную Пальмиру. Вначале он направляется в Крым, а затем в родовую усадьбу своей жены в селе Дорогобуж под Ровно. Здесь он задерживается ни много ни мало на двадцать лет (1919-1939 гг.) – до следующего прихода большевиков. Здесь же он достигает пика своего творчества. Кондратьев на Волыни – явление интересное само по себе. Блестящий питерский литератор вдруг оказывается в глубокой глуши, да еще и подданным иностранного государства. Но смею предположить, что именно это трагическое для Александра Алексеевича положение предопределило его новый творческий взлет. Ведь с изменением географического местонахождения писателя изменилась и тематика его произведений – на место античных и ближневосточных мифов пришла мифология и низовая демонология славянская. Мало вероятно, что такое изменение произошло бы останься Кондратьев в Петербурге. Быть может, и в Петербурге создал бы он новые шедевры. Но об этом можно только гадать: может, создал бы, а может, и нет. В действительности же имеем неоспоримый факт: находясь на Волыни, впитывая ее духовную энергетику, Александр Кондратьев смог создать настоящие литературные шедевры: роман «На берегах Ярыни» (1930 г.) и сборник сонетов «Славянские боги» (1936 г.). Утверждать, что это действительно шедевры, позволяют нам два критерия: во-первых, высокий художественный уровень произведений, и, во-вторых, их уникальность. Уже в произведениях «петербургского» периода достигнув художественной безукоризненности, в новых своих вещах Кондратьев не только сохранил этот уровень, но и раскрыл в них новое измерение. Речь тут вот о чем. Отдавая должное кондратьевскому сборнику «Черная Венера», Валерий Брюсов, между тем, отмечал, что «общим недостатком его поэзии по-прежнему остается ее холодность (впрочем, всегда свойственная поэзии антологической) и ее гибельная склонность к общим местам». Хотя слово «антологический» относится исключительно к лирике, т. е. «созданный в духе античной лирики», тем не менее брюсовское замечание можно отнести и ко всей кондратьевской прозе «петербургского» периода, также посвященной античной тематике. Сколько бы автор ни вживался в античный миф, отмеченная холодность все равно имеет место по причине большой удаленности во времени и пространстве античного мифа как от читателя, так и от самого автора. Так вот, сохраняя стройность и ясность мышления, достигнутые в стихах и прозе на античную тематику, Кондратьев полностью избавляется от холодности в своих «славянских» произведениях. Новым измерением и становится здесь именно теплота. Изучив фундаментальные исследования славянской мифологии А.Н. Афанасьева («Поэтические воззрения славян на природу»), С.В. Максимова («Нечистая, неведомая и крестная сила»), И.П. Сахарова («Сказания русского народа»), Д.К. Зеленина («Очерки русской мифологии»), проф. Фаминцына, поляка Я. Длугоша, а также многочисленные местные поверья, сказки и былички, в произведениях «волынского» периода Кондратьев воссоздал мифологический духовно-природный космос славян во всей его красоте и целостности. Ничего подобного русская литература не знала. НА БЕРЕГАХ ЯРЫНИ: ПАРАЛЛЕЛИ Конечно, писатель Кондратьев со своими произведениями не с Луны свалился, а вырос на традициях своей родной литературы. Однако поиски в ее недрах чего-нибудь подобного роману «На берегах Ярыни» могут только подтвердить его уникальность. Но для того, чтобы всесторонне уяснить феномен Кондратьева и его почти полную нынешнюю безвестность, попробуем все же перечислить те произведения, которые хоть как-то можно соотнести с кондратьевским романом. Первое, что приходит на ум, это, конечно, «малороссийский цикл» Николая Васильевича Гоголя: «Вечера на хуторе близ Диканьки» («Сорочинская ярмарка», «Вечер накануне Ивана Купала», «Майская ночь, или Утопленница», «Пропавшая грамота», «Ночь перед Рождеством», «Страшная месть», «Заколдованное место»), «Вий». Далее следует назвать гораздо менее именитого старшего современника Гоголя, его земляка-малороссиянина Ореста Сомова, издавшего примерно в одно время с Николай Васильичем свой цикл рассказов: «Купалов вечер», «Киевские ведьмы», «Русалка», «Оборотень», «Кикимора» и др. По крайней мере, по внешним признакам в этот ряд попадают также две знаменитые драматические поэмы русской и украинской литератур – весенняя сказка в четырех действиях с прологом «Снегурочка» Александра Николаевича Островского и драмафеерия в трех действиях «Лесная песня» Леси Украинки. И наконец, «Посолонь» и «Лимонарь» – сборники сказок Алексея Ремизова, современника Кондратьева, с которым он, кстати, вел переписку в период работы над «Ярынью». Что ж, список хоть и небольшой, но достаточно внушительный, однако, как мы уже говорили, все эти шедевры не только не опровергают тезиса об уникальности кондратьевского романа, а только его подтверждают. Небольшой анализ послужит тому доказательством. Знаменитые «Вечера» Николая Васильевича Гоголя – произведения, знакомые с раннего детства, многократно перечитанные, изученные вдоль и поперек, воплотившиеся в кинофильмы и буквально вросшиеся в сознание русских и украинцев, даже и далеких от литературы. Это самая что ни есть незыблемая классика. Но я решил все же провести сравнительный анализ любимых мною с детства повестей Гоголя с романом Кондратьева, и вот к каким выводам пришел. По своему характеру гоголевский цикл состоит из повестей «страшных» и «веселых». К «страшным» относятся «Вий», «Страшная месть», «Вечер накануне Ивана Купала», к «веселым» – «Сорочинская ярмарка», «Ночь перед Рождеством», «Пропавшая грамота», «Заколдованное место». Повесть «Майская ночь, или Утопленница» содержит в себе оба элемента. По жанрово-стилевой принадлежности повести эти совершенно разные: «веселые» повести принадлежат «смеховой» культуре, «Страшная месть» – повесть в духе «черной фантастики» (в ХХ в. это стали называть сюрреализмом), «Вий» содержит в себе элементы «черной готики», «Майская ночь» – типичная повесть «волшебного романтизма». Объединяет все это добро фольклорный подтекст, фольклорная основа. Однако фольклорный материал у Гоголя фрагментарен и используется произвольно. Он не является здесь системообразующим, а напротив, становится заложником буйной гоголевской фантазии. Старуха-ведьма, живущая в своей хате, неожиданно превращается в панночку – дочь сотника; колдун из «Страшной мести» обладает фантастическими способностями, а при виде иконы, «вдруг все лицо его переменилось: нос вырос и наклонился на сторону, вместо карих, запрыгали зеленые очи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, как копье, изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб, и стал козак – старик». У Гоголя все вдруг, почему это вдруг происходит – остается непонятным. Понятно, впрочем, что это не более, чем авторский произвол. Захотел, отправил Вакулу верхом на черте в Петербург (впоследствии нос майора Ковалева захочет ехать в Ригу), захотел, для устрашения бедного Хомы Брута заставил летать гроб с мертвой панночкой, захотел, позволил черту выкрасть с неба месяц, а ведьме Солохе – звезды. Интересно, что летая на метле Солоха «была тепло одета», т. е. произвольно нарушается фольклорное поверье, что для полетов ведьмы раздеваются донага и мажутся мазью. Понятно, что весь этот произвол используется Гоголем для развития фабулы или же для создания определенных эффектов. И результат вполне достигается: «страшные» рассказы на ночь читать страшно, «веселые» заставляют улыбаться. Но с другой стороны, таким образом нарушается внутреннее равновесие создаваемого художником мира. В лучшем случае, это оставляет впечатление сна или сказки, в худшем – порождает сомнения в душевном здоровье автора. Последнее особенно характерно для сюрреалистической «Страшной мести»: «Крест на могиле зашатался, и тихо поднялся из нее высохший мертвец. Борода до пояса; на пальцах когти длинные, еще длиннее самих пальцев. Тихо поднял он руки вверх. Лицо все задрожало у него и покривилось. Страшную муку, видно, терпел он. «Душно мне! душно!» – простонал он диким, нечеловечьим голосом. Голос его, будто нож, царапал сердце, и мертвец вдруг ушел под землю. Зашатался другой крест, и опять вышел мертвец, еще страшнее, еще выше прежнего; весь зарос, борода по колена и еще длиннее костяные когти. Еще диче закричал он: «Душно мне!» – и ушел под землю. Пошатнулся третий крест, поднялся третий мертвец. Казалось, одни только кости поднялись высоко над землею. Борода по самые пяты; пальцы с длинными когтями вонзились в землю. Страшно протянул он руки вверх, как будто хотел достать месяца, и закричал так, как будто кто-нибудь стал пилить его желтые кости…» Отрывок этот дает наглядное подтверждение той душевной неустойчивости писателя, которая известна из его жизнеописаний, – странное сочетание надрыва, неуравновешенности, хаоса и незрелости. К счастью, есть у Гоголя и прямо противоположные картины: «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в нее. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете; и чудный воздух и прохладно-душен, и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь! Очаровательная ночь! Недвижно, вдохновенно стали леса, полные мрака, и кинули огромную тень от себя. Тихи и покойны эти пруды; холод и мрак вод их угрюмо заключен в темно-зеленые стены садов. Девственные чащи черемух и черешен пугливо протянули свои корни в ключевой холод и изредка лепечут листьями, будто сердясь и негодуя, когда прекрасный ветреник — ночной ветер, подкравшись мгновенно, целует их. Весь ландшафт спит. А вверху все дышит, все дивно, все торжественно. А на душе и необъятно, и чудно, и толпы серебряных видений стройно возникают в ее глубине. Божественная ночь! Очаровательная ночь! И вдруг все ожило: и леса, и пруды, и степи. Сыплется величественный гром украинского соловья, и чудится, что и месяц заслушался его посреди неба...» Посреди неба и произведем смену небесного караула. Итак, Александр Кондратьев, «На берегах Ярыни»: «О, как сладко поет Соловей!.. Велика власть богини богов и людей, вечно юной лицом и телом, любящей песни, шепот страсти и поцелуи, волшебным золотым ожерельем украшенной Лады. Вслед за Весной незримо слетает она с лазурных небес и поступью бессмертных богинь идет по цветущей земле. Непреложна воля ее. Вдохновенная свыше, от века определила Мать Леля, кому отдать любовь и царевны Весны, и самого маленького из мотыльков. Люди и звери, гады и рыбы, птицы и насекомые, деревья, травы, даже всякая нежить и нечисть испытывают чары богини с загадочно-властной улыбкой, богини, которой самой хорошо известен и пыл исступленной любви, и горькие, в прозрачный янтарь некогда обратившиеся слезы отчаяния...» В противоположность Гоголю, с характерным для него отсутствием равновесия, с его стремлением к свету, но неспособностью найти точку опоры, вокруг которой можно было бы построить Храм, мир Александра Кондратьева привлекает упорядоченностью и спокойствием. Если в центре художественного мира Гоголя пребывает Луна, то у Кондратьева – это Солнце, благотворными своими лучами превращающее хаос в космос. Мир Кондратьева, изображенный в романе «На берегах Ярыни», представляет собой трехуровневый универсум: верхний слой занимают боги, являющиеся в то же время проявлениями природы; посредине находится мир людей, а нижний слой населяет разнообразная нежить и нечисть. Все три уровня взаимопересекаются и представляют собой единое целое. В описании этого мира не остается места для писательского произвола, и это также в корне отличает художественный метод Кондратьева от того, что делал его знаменитый предшественник. Кондратьев достигает гораздо более высокой художественной зрелости, при которой совершенно не нужно ничего выдумывать. Он выступает со-творцом, перед которым открывается все величие творения в его целостности и совершенстве; художником, чье предназначение в том, чтобы найти нужные краски для картины. Он уже увидел эту картину целиком, и ему нужно, ничего не изменяя, перенести ее на холст. От картины, изображенной Кондратьевым, веет спокойствием и благом. Все идет своим чередом, все занимает свое место. Композиция романа являет собой замкнутый круг: действие завершается в то же время года, что и начинается (при общей хронологии в 14-15 лет). Все обитатели «берегов Ярыни» идут вслед за Солнцем – посолонь, следовательно, композиция романа представляет собой не что иное как солнцеворот. Этим приемом, когда сюжет развивается не по схеме «завязка-кульминация-развязка», а выстроен в виде хроники, писатель ставит в основу произведения не события, а сам мир. Но это никоим образом не идет в ущерб занимательности, не убавляет читательского интереса на всем протяжении. Оно и не мудрено, ведь каждый отдельный эпизод романа наделен острым сюжетом. И еще один эффект, достигнутый Кондратьевым: несмотря на описание различных инфернальных сцен – козни ведьм, шабаш, проделки нечисти, – роман ни одним моментом не воздействует на душу читателя подобно «литературе ужасов», даже тем самым «страшным» повестям Гоголя. И это опять-таки результат целостности изображенного мира и целостности сознания писателя. Ну а сами описания – поэзия наивысшего качества, в которой чувствуется отблеск всепроникающей вселенской любви. Вот, к примеру, описание смерти Лешего по имени Зеленый Козел: «Простреленный несколькими дробинами Федотовой одностволки, Зеленый Козел быстро удирал от костра. Промчавшись с полверсты, он остановился, оправился немного от испуга и, чувствуя в то же время непонятную слабость, прислонился к старой сосне. В тех местах, где его продырявила дробь, Леший испытывал ощущение непривычного томленья и холода, как будто от пронизывающего его существо холодного ветра. Зеленый Козел опустился на торчащие из земли толстые корни какого-то старого дерева. Простреленное тело его дрожало и ныло. Хозяин леса понял, что случилось какоето нехорошее дело и нужно скорее бежать к Лешачихе, чтобы та нарвала каких-либо исцеляющих трав и, разжевав их, залепила бы этою жвачкой маленькие, противно ноющие дырки на животе и груди... Надо только отомстить сначала обжегшему его огнем из черной палки своей человеку. Тот, вероятно, снова заснул и не ждет нападения... Через силу поднялся Леший на ноги и потихоньку побрел обратно к костру, стараясь ступать бесшумно и осторожно, чтобы застать врасплох неприятеля… Но когда раненый Леший подошел наконец к красным угольям потухавшего в предрассветном сумраке костра, там уже не было никого. Одна лишь лисица, нюхая землю, бежала неподалеку чуть заметной лесною тропинкой по тому направлению, откуда неслось бормотанье тетеревов. – Ушел, – прошептал с обидой Зеленый Козел. Его мучил сильный озноб. Ледяной холод, как зимний ветер сквозь щели берлоги, проникал в его тело, ослабляя теплоту жизни, обессиливая члены и клоня ко сну умиравшего полубога. Леший утратил уже обычно присущий своему племени бессознательный страх перед огнем. – Согреться бы, – хрипло проскрипел он и свалился на кучу потухавших огней. Неприятно обжегшись, Леший не имел уже, однако, силы подняться, поворочался немного и вытянулся, вздохнув, поперек костра. Зашипела на горячих угольях его мокрая шерсть. Потом она высохла, затлела и, наконец, вспыхнула, треща, ярким огнем, от которого занялось и остальное тело Зеленого Козла. Горел он довольно быстро, давая густой беловатый дым (принявший на миг очертания Лешего), приятный запах, вроде хвои с земляникой, и испуская похожий на жалобу свист. Через короткое время от полного некогда сил властелина лесов осталось лишь немного золы и нечто напоминавшее обуглившиеся и почерневшие корни сожженного пня... Пробегавшая обратно той же дорогой, сытая после удачной охоты лиса остановилась на мгновение, понюхала подозрительно воздух и одним скачком скрылась в кустах...» А вот смерть в результате отравления молодой ведьмы Аниски: «Шатаясь, …, дотащилась до кровати Аниска и улеглась. В животе у ведьмы скоро начались жгучие боли. Холодный пот выступил по всему ослабевшему, как в лихорадке дрожавшему телу. В глазах темнело и кружилось; в ушах слышался шум, подобный призывному гулу бесовского бубна... Еще немного, и теряющей сознание Аниске уже казалось, что она нагая, верхом на метле, несется на шабаш... «Почему не в четверг, а во вторник?» – пронесся вопрос в ее голове... Кругом была сырая, холодная мгла. В ушах не прекращался шум от кричавших наперебой вблизи и вдали от нее голосов. Но, заглушая их всех, пронзительно зазвенел призывный рожок Сатаны... – А вот и Невеста! – провозгласил кто-то из темноты (ибо свеча в комнате Аниски успела догореть). Голос был хриповатый и как будто знакомый. В сумраке ночи обрисовалась сперва далеко, потом все ближе и ближе, красная точка, обратившаяся постепенно в пятно. В пятне показалось, озаренное огнями шабаша, полное ожидания лицо Ночного Козла. Лицо не парадное – не с третьим рогом, в виде небольшого факела, на лбу, между других двух рогов, а второе лицо – то, которое почитатели Ночного Владыки целуют, склоняясь, под троном. Этот таинственный лик, как ведьма уже заметила раньше, чертами своими был поразительно схож с ее собственным лицом. В отблесках пламени очертания этого лика казались даже значительно моложе, правильнее и красивее, чем у Аниски. Со странной улыбкой он приближался, склоняясь, к лежавшей без движенья, с широко открытыми глазами колдунье... Ведьме почему-то стало страшно. Она чувствовала, что ей надо вскочить с постели, спрятаться или убежать, но она не имела сил даже пошевелиться... Лик все наклонялся. Улыбающиеся губы шевелились и, протянувшись немного, слились с губами Аниски. Леденящий холод поцелуя пронизал все тело колдуньи, заглушая жгучую боль в нижней части живота умирающей женщины. Ведьма почувствовала, что она как бы сливается с тем, кто ее целует. Слияние это было и жутким, и остро сладостным. Трепет наслаждения пробежал по всему ее телу. Члены невесты Дьявола вытянулись и вновь стали недвижны. Миг спустя Аниска уже глазами слившегося с нею призрака смотрела вниз на свою широкую деревянную кровать, где поверх заплатанного стеганого одеяла было распростерто ее уже бездыханное и ей больше не нужное тело». Еще несколько слов по поводу других упомянутых выше произведений, сходных по тематике с романом «На берегах Ярыни». Пожалуй, новеллы Ореста Сомова по своему характеру гораздо ближе к роману Кондратьева, нежели повести Гоголя. Так же как и автор «Ярыни» Сомов в своих «демонологических» рассказах, прежде всего, следует логике фольклорного предания, а не собственной фантазии. Это наблюдается и в самом известном его рассказе – «Киевских ведьмах», и в наиболее мастерски выполненной, просто безупречной «Кикиморе». Интересно, что русалку, с которой начинается повествование в «Ярыни» зовут Горпиной – так же как русалку из одноименного рассказа Сомова. Наверняка, Кондратьев был знаком с творчеством Ореста Сомова, однако назвать того предтечей Певца Ярыни никак нельзя. Очень уж в зачаточном состоянии находим мы у него тему славянской «демонологии». Слишком она здесь фрагментарна и неразработана. Гораздо больше затронул эту тему Алексей Ремизов. В начале ХХ века он издал три сборника сказок: «Посолонь», «К морю-океану» и «Лимонарь». Так же, как и у Кондратьева, это попытка реконструкции народного мифа. Однако метод совершенно иной, оттого иной и результат. Книги сказок Ремизова представляют собой своеобразную мозаику, множество фрагментов – осколков, лоскутков, – каждый из которых посвящен какому-нибудь то ли празднику народному, то ли явлению природному, то ли персонажу. Но будучи писателем-модернистом, Алексей Ремизов волей-неволей следует модернистскому методу. Оттого книги его хоть и обращены к фольклору, однако фольклором не пронизаны. Это модернистское письмо, стилистикой напоминающее более позднюю прозу Андрея Белого, но еще и с расплывчатой фабулой, а то и вовсе без таковой. Вот эта модернистская бесфабульность явно противоречит самому жанру сказки, одним из главных достоинств которой является занимательность. Потому и эксперимент Ремизова, на мой взгляд, изначально был обречен на неудачу. И еще о двух отнюдь не модернистских, а самых что ни есть традиционных произведениях необходимо сказать несколько слов в связи с романом Кондратьева. Драма-феерия Леси Украинки «Лесная песня» также населена множеством персонажей нечеловеческого происхождения. Но пусть это не вводит в заблуждение. Мавка, Русалки, Лесовик, Перелесник, Водяной из «Лесной песни» имеют небольшое отношение к персонажам народных преданий. В Лесиной интерпретации это идеализированные свободные люди, противопоставленные корыстолюбивым и ограниченным матери Лукаша, жене его Килине, да и ему самому. Вот как, к примеру, наставляет Лесовик Мавку: Забавляйся с ветром И с Перелесником шути, как хочешь, Чтоб силы все и леса и воды, Ветров и гор обворожить собою, Но обходи людские тропы, дочка! Там воли нет совсем, – и только скорбь Несет свой груз. Ты обходи их, дочка! Раз только ступишь – и пропала воля! (Перевод М. Комиссаровой) Так что, несмотря на свой сказочно-фольклорный антураж, «Лесная песня» – это социально-лирическая поэма о любви и свободе. Как и все в творчестве Леси. На первый взгляд кажется, что и драматическая сказка А. Островского «Снегурочка» тоже только о любви, измене и ревности. Но последняя сцена делает ее неизмеримо глубже, а по своей ярко выраженной солярной направленности делает родственной роману Кондратьева. Суть этой сцены заключается в последних словах царя Берендея: Снегурочки печальная кончина И страшная погибель Мизгиря Тревожить нас не могут; Солнце знает, Кого карать и миловать. Свершился Правдивый суд! Мороза порожденье – Холодная Снегурочка погибла. Пятнадцать лет она жила меж нами, Пятнадцать лет на нас сердилось Солнце. Теперь, с ее чудесною кончиной, Вмешательство Мороза прекратилось. Изгоним же последний стужи след Из наших душ и обратимся к Солнцу. И верю я, оно приветно взглянет На преданность покорных берендеев. Веселый Лель, запой Яриле песню Хвалебную, а мы к тебе пристанем. Палящий бог, тебя всем миром славим! Пастух и царь тебя зовут, явись! Бесспорно, произведения эти слишком разные. Но, несмотря на совершенно разную форму, с романом «На берегах Ярыни» «Снегурочку» внутренне роднит и отстраненность автора в изображении персонажей, и главное – создание самодостаточного художественного мира, живущего по законам Солнца. Таким образом, проанализировав интересующие нас произведения предшественников и убедившись в уникальности кондратьевского творения, мы в то же время нашли внутреннюю нить традиции, к которой принадлежит Кондратьев. Ежели тянуть ее дальше в глубь времени, то от «Снегурочки» Островского через Алексея Константиновича Толстого (неспроста ведь Кондратьев написал о нем книгу) она выведет нас прямо к Солнцу нашей поэзии с его «Русланом и Людмилой». ВЕЛИКАЯ КУЛЬТУРА МАРГИНЕСА Сегодня роман «На берегах Ярыни» в интернет-обзорах мифологической литературы называют уже «знаменитым» (Игорь Кузнецов. Чистые и нечистые). В 1990 г. вышла монография корифея российской филологии В.Н. Топорова «Неомифологизм в русской литературе начала ХХ века. Роман А.А. Кондратьева «На берегах Ярыни»». Тем не менее, несмотря на эти отрадные факты, в целом творчество нашего героя остается на задворках как научного литературоведения, так и всеобщего литературного движения. Отголосок такого положения вещей мы и привели в начале нашей разведки. Незадачливый автор из «Новой литературной газеты» убежден: «конечно, его имя нельзя поставить в один ряд с именами и т. д.» И это при том, что и поэзия, и проза Кондратьева – вне всякого сомнения, явления большой литературы. Как это видно даже из приведенных нами цитат, им присущ и высокий эстетический уровень, и простая занимательность, что делает романы, рассказы, стихи Кондратьева доступными и интересными для самого массового читателя. Сохраняя при этом все достоинства литературы серьезной. Так же как, например, произведения Пушкина. Но в отличие от Пушкина Кондратьева мало кто знает, ни в школьную программу, ни в университетские курсы творчество его не попадает, следовательно, книгоиздатели мало заинтересованы, книги его – большая редкость, следовательно, его мало кто знает. Круг замкнулся. И будь ты хоть трижды гений, прорвать этот круг ой как непросто. Потому что с одной стороны он упирается в литературный канон, с другой – в текущую конъюнктуру. Это и есть две главных силы, определяющие основное литературное направление – литературный мейнстрим. Для того же, чтобы в него попасть, прежде всего, необходимо соответствовать идеям, доминирующим в обществе. Если же творчество писателя не соответствует этим идеям, если оно идет вразрез с ними, то, сколько бы оно ни было интересным, место его – на задворках литературного процесса при жизни, на маргинесе литературного канона впоследствии. В русском литературном движении в середине XIX века на авансцену вышел демократ и поборник «натуральной школы» Виссарион Белинский. Он стал главным проводником возобладавших тогда в русском обществе демократических идей. Тогда и стал формироваться известный нам ныне литературный канон. Исходя из взглядов Белинского, как соответствующий требованиям «натуральной школы», был избран первый ряд русских писателей: Пушкин, Грибоедов, Гоголь, Лермонтов. Те же, кто или противостоял «учению» Белинского или же просто не вписывался в сотворенный им канон, были выброшены на маргинес. Среди них столь яркие и значительные фигуры как Николай Полевой, Александр Бестужев-Марлинский, Владимир Одоевский, Осип Сенковский, Михаил Загоскин, Фаддей Булгарин (не побоюсь назвать и это проклятое имя), Александр Вельтман. Творчество каждого из них чрезвычайно интересно, содержит несомненные литературные шедевры и весьма перспективные разработки. Но кто сегодня, кроме специалистов, знает их наследие? Конечно, волей одного человека, т. е. Белинского (сколь бы «неистовым» он ни был) утвердить в канон одних, а других задвинуть на маргинес невозможно. Просто идеи Белинского совпали с господствовавшими в то время в русском обществе демократическими идеями и настроениями. Благодаря этим настроениям канон Белинского был утвержден последующим развитием русской литературы. Вторая половина XIX века – это безраздельное господство так называемого «критического реализма» с его культом «типического маленького человека». В этот период даже такая величина как Алексей Константинович Толстой оказывается в разряде писателей второго плана. Во всяком случае, в канон он явно не попадает, как об этом свидетельствуют нынешние школьные учебники и университетские программы. Как противовес господствовавшим в ту эпоху материалистическим и позитивистским настроениям на маргинесе общественного сознания утверждаются тогда различные мистические течения, как христианские так и нехристианские, как то теософское учение Елены Петровны Блаватской. Это и подготовило выход на авансцену русской литературы символизма. Но его господство было ограничено не только во времени, но и в пространстве, то есть символизм доминировал в умах не всего общества, а лишь тогдашней элиты. Оно и понятно, разве могут заоблачные мистические идеи быть достоянием масс? Вот эта недоступность, а еще неудобность, неприемлемость для подавляющего большинства идей символизма сделало невозможным длительное его господство. То же можно сказать и о других литературных направлениях, основанных на мистицизме, идеалистическом романтизме, пантеизме, трансцендентализме, герметизме – они не могут быть усвоены и переварены не только литературным обывателем, но и большей частью интеллектуальной элиты, для которой дух часто подменен то ли интеллектом, то ли душевностью. А так как эта интеллектуальная элита так же, как и обыватель, стремится к душевному комфорту, то она сознательно или подсознательно препятствует включению в литературный канон неудобных произведений. Примеров можно привести огромное количество. Тот, кто изучает литературное наследие, полагаясь не на мнение авторитетов и не на канонические установки, а исключительно на свободное мышление, на свободу духа, то и дело натыкается на произведения просто гениальные, но отвергнутые каноном. Вот произведения Николая Полевого – глубинное средоточие русского романтизма – настоящая альтернатива линии Белинского. Однако этот момент обходится старательным молчанием по причине того, что он противоречит давно принятой и вполне удобной теории «линейного» развития русской литературы и способен взорвать все здание литературного канона «ко всем чертям с матерями». Надо отметить, что подобное положение вещей свойственно не только русской литературе. Изучая недавно биографию французского оккультиста второй половины XIX века Станисласа де Гуайта, я столкнулся с тем, что наряду с общеизвестной французской классикой существует целый пласт глубочайшей и интереснейшей литературы, основанной на идеях французских мистиков типа Сен-Мартена и Фабра д’Оливе. Для примера назову хотя бы несколько имен: Виктор-Эмиль Мишле, Жозефен Пеладан, Вилье де л’Иль-Адан, Морис Баррес, Жорж Польти... Еще раньше известны мне были имена и произведения ранних французских романтиков, чьи гениальные идеи были явно неудобоваримы для большинства – это Шарль Нодье и Пьер Симон Балланш. Все это окончательно убедило меня в закономерном существовании Великой культуры маргинеса. В связи с глубиной и грандиозностью содержащихся в нем идей, а также или непонятной, или устрашающей их подачей, этот культурный пласт не может быть востребован не только всем обществом, но и его интеллектуальной элитой. Потому он остается уделом избранных. Западным интеллектуалам, к примеру, гораздо ближе и интереснее депрессивные полотна Франца Кафки, чем герметические идеи романов Густава Майринка. Последнего они рады бы зачислить в ведомство «литературы ужасов». Философию Сартра и Камю они явно предпочитают «Цитадели» Сент-Экзюпери. Присудив в 1923 г. Нобелевскую премию по литературе Уильяму Батлеру Йейтсу, постарались понадежнее затушевать оккультный аспект его творчества. Короче говоря, в новейшем западном обществе явно доминирует антигерметическая парадигма сознания. В России, представляющей собой часть Европейской цивилизации, наблюдается нечто подобное. То, что способно возбудить, взбудоражить, глубинно возмутить сознание, произвести в нем сущностный переворот, в основном, остается за кадром. На поверхность, как правило, всплывает, расползаясь большими сальными пятнами, то, что воздействует опять-таки на поверхностный уровень психического существа человека. То, что способно эпатировать снаружи, а не из глубины. К таким большим сальным пятнам можно отнести массовую увлеченность творениями Владимира Набокова или современного его тезки Сорокина. По этой причине свободный исследователь литературных пространств не удивляется, почему нет бурного общественного интереса к таким шедеврам, как оккультный роман Александра Амфитеатрова «Жар-Цвет», как «Огненный ангел» Брюсова, как творения Николая Клюева, Сергея Клычкова, Сигизмунда Кржижановского, почему «Роза Мира» Даниила Андреева не изучается наряду с «Комедией» Данте и «Фаустом» Гете. Потому что эти золотые образцы маргинальной культуры находятся слишком глубоко. Правда, иногда они, подобно золотой жиле могут выходить и наружу. Тогда мы сталкиваемся с еще одной весьма характерной реакцией доминирующей парадигмы. Если произведения, заключающие в себе герметические идеи, благодаря своей занимательности, становятся чрезвычайно популярными, они выбрасываются на маргинес путем непризнания за ними статуса серьезной литературы. Так в свое время Александр Грин был задвинут в писатели для юношества, так сегодня к литературе фэнтези причисляют Толкина. К фэнтези или к какой другой фантастике могут отнести и Кондратьева. Его творчество, как мы видели, изначально не соответствовало тем идеям и настроениям, которые доминировали в его время, как в литературе, так и в жизни. Он не принял ни господствовавшего тогда в русской поэзии символизма, ни пришедшего за ним акмеизма, оставаясь чуждым модернизму в принципе. И при этом, не имел ничего общего с реализмом, впоследствии провозглашенном большевиками единственно правильным направлением. Он не принял большевизма вообще, а потому и не мог быть издаваем в большевистской России. Да и сама «демонологическая» тематика в таком крайнем и сгущенном виде, как у Кондратьева, не могла пройти через советские издательства. Когда же рухнула плотина, сооруженная «советами», на волне восстановления справедливости были возвеличены почти все более-менее значимые модернисты Серебряного века. Но так как Кондратьев и к ним не принадлежал, то и в этом случае он только прошел тихой тенью в питерском издательстве «Северо-Запад». Хорошо хоть так, ведь благодаря изданному «Северо-Западом» в 1993 г. сборнику «Сны», Кондратьев вернулся и на Волынь. И мы узнали еще одно имя, принадлежащее Великой культуре маргинеса. «Теогония» Александра Кондратьева Синтез античной и славянской мифологий в творчестве русского поэта Творчество Александра Кондратьева необычно. В эпоху противоборства в русской литературе символистов и наследников заветов Белинского и Добролюбова он остался вне этой игры, развивая, казалось бы, совершенно не созвучные собственному времени идеи – реконструируя античный и ближневосточный мифы. И в дальнейшем – в Волынский период творчества – обратившись уже к мифологии славянской, он остается верен себе, никак не реагируя на современную ему литературную конъюнктуру. Каковы же главные пружины избранного поэтом направления? В чем смысл творчества Александра Кондратьева, и каково его место в контексте русской и мировой литературных традиций? Ответы на эти вопросы и определяют цель данной статьи. В предисловии к сборнику произведений Кондратьева «Сны» (Санкт-Петербург, «Северо-Запад», 1993) Олег Седов отмечает: «Замкнувшись в круге античного космоса, Кондратьев существует в нем так, словно еще не было на свете ни Толстого, ни Достоевского, словно не было постантичной истории человечества» (с. 13). Этой репликой автор как бы развивает приведенное им же высказывание Иннокентия Анненского по поводу романа Кондратьева «Сатиресса», что, мол, «так приятно побыть часок среди гамадриад и панисков, которые, может быть, еще не читали даже «Смерти Ивана Ильича»» (там же). После чего г. Седов и делает вывод о якобы отсутствии в произведениях Кондратьева психологизма и связи с настоящим. Говорим «якобы», потому как, на наш взгляд, высказанная Седовым мысль совершенно надуманна и неосновательна. В первую очередь обратим внимание на то, что высказывание Иннокентия Анненского – не более, чем шутка: а как еще воспринимать мысль о персонажах античной мифологии, не читавших – а может, и читавших?! – труды графа Толстого? Взяв же эту мысль в качестве отправной точки, г. Седов чуть ли не в упрек ставит Кондратьеву то, что в его романе нет отголосков литературных идей Толстого и Достоевского. Но с какой стати таковые должны быть в произведении, посвященном тем доисторическим временам, когда ни один, ни второй из упомянутых литераторов отнюдь не претендовали на статус властителя идей? И, кроме того, творческие метод и задачи Кондратьева не имеют ничего общего с тем, чем занимались Джеймс Джойс и Эйвинд Юнсон. Иными словами, это не использование каркаса античной мифологии с целью исследования злободневных идей, что характерно для таких шедевров модернизма, как «Улисс» и «Прибой и берега». Однако сам факт впадания г. Седова в столь очевидную ошибку рассматривается нами как весьма красноречивое свидетельство о доминанте современного литературоведения, имеющего в основе ложный базис. Из этого же разряда – имеющее широкое хождение вульгарное высказывание со ссылкой опять-таки на Достоевского, что, дескать, вся русская литература вышла из гоголевской «Шинели». Ложность данного утверждения заключается в смешении различных литературных традиций и абсолютизации одной из них – вытекающей не только из приснопамятной «Шинели», но и из «Записок сумасшедшего», включающей в себя «Смерть Ивана Ильича» и достигающей своего логического завершения в чеховской «Палате № 6». Так вот, первый тезис данной статьи состоит в том, что творчество Александра Кондратьева не имеет ничего общего с литературной традицией, связанной с именами Толстого и Достоевского, Гоголя и Чехова. Из этого следует, что существует и другая литературная традиция. И существует она с самого зарождения литературы как таковой – начиная с эпических поэм легендарного Гомера и произведений первого исторического поэта античности Гесиода – питомца Геликонских Муз. Песням прекрасным своим обучили они Гесиода В те времена, как овец под священным он пас Геликоном. Прежде всего обратились ко мне со словами такими Дщери великого Зевса-царя, олимпийские Музы: «Эй, пастухи полевые, – несчастные, брюхо сплошное! Много умеем мы лжи рассказать за чистейшую правду, Если, однако, хотим, то и правду рассказывать можем!» Так мне сказали в рассказах искусные дочери Зевса. Вырезав посох чудесный из пышно-зеленого лавра, Мне его дали и дар мне божественных песен вдохнули. Чтоб воспевал я в тех песнях, что было и что еще будет. Племя блаженных богов величать мне они приказали, Прежде ж и после всего – их самих воспевать непрестанно… Впрочем, ну, как я могу говорить о скале или дубе? (Гесиод. Теогония (23-35). Пер. В.Вересаева) Различие литературных традиций вытекает из различного понимания смысла и целей искусства. Русская традиция, понимаемая сегодня как классическая, основывалась на взглядах революционных демократов середины XIX века, прежде всего, Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Некрасова, Салтыкова-Щедрина… Главное для них – образно говоря – не небесное, но земное. По большому счету небесное отрицалось вовсе, ибо взглядам демократов присущи были атеизм, материализм, позитивизм. Смыслом и предметом творчества провозглашались злободневные проблемы и «язвы» современного общества, изучение психологии «маленького человека», поиск «прогрессивных» идей, способных исправить общество, а также извлечение из всего этого квинтэссенции, именуемой «типическим». Традицию эту принято называть реалистической, но более точным ее определением будет слово «гуманистическая». Та, в которой человек рассматривается как единственный центр мироздания, а человеческое общество как самодостаточный мир. Для материалиста иначе и быть не может, но материалистическое мировоззрение, к счастью, уже не является обязательным, а потому – как бы это ни было болезненно – требует кардинальной перестройки и все здание отечественного литературоведения. Наряду с гуманистической традицией русская классическая литература включает в себя по крайней мере два не менее мощных направления, основывающихся на традициях идеалистической и мифологической. Фундаментальное обоснование последней находим у Шеллинга, утверждающего, что… Идея богов необходима для искусства. Научное конструирование последнего возвращает нас именно туда, куда инстинкт привел поэзию уже в ее первых начинаниях. (Философия искусства, М, Мысль, с. 93) Мифология есть не что иное, как универсум в более торжественном одеянии, в своем абсолютном облике, истинный универсум в себе, образ жизни и полного чудес хаоса в божественном образотворчестве, который уже сам по себе поэзия и все-таки сам для себя в то же время материал и стихия поэзии. Она (мифология) есть мир и, так сказать, почва, на которой только и могут расцветать и произрастать произведения искусства. Только в пределах такого мира возможны устойчивые и определенные образы, через которые только и могут получить выражение вечные понятия. (с. 113) Думается, нет нужды доказывать, что именно к этой традиции принадлежит в полной мере творчество Александра Кондратьева. Будучи учеником Иннокентия Анненского – истового апологета античности, переводчика Еврипида – Кондратьев изначально определился с выбором творческого метода. И остался верен ему до конца, оказавшись в стороне как от торной дороги писателей-демократов, так и от воздушных путей элитарно востребованных символистов. Причем выбор этот, наверняка, был больше подсознательным, чем сознательным. Здесь мы касаемся собственно природы творчества, коей объяснение будет опять-таки разным у людей с различным мировоззрением. На наш взгляд, для случая с Кондратьевым как нельзя лучше подходит приведенная выше цитата из Гесиода, которую приверженцы мифологической традиции трактуют ни в коей мере ни в качестве красивой поэтической метафоры, и даже не аллегорически, – но как высшую реальность. Обратимся еще раз к указанной работе Шеллинга: Кто еще не поднялся до того пункта, когда для него абсолютно идеальное непосредственно и как раз поэтому стало также абсолютно реальным, тот не способен ничего понять ни в философии, ни в поэзии. (с. 94) Мир богов не есть объект ни одного лишь рассудка, ни разума и должен постигаться единственно фантазией. (с. 99) …для их действительности не требуется ничего, кроме возможности, и что, следовательно, они живут в абсолютном мире, который можно реально созерцать лишь с помощью фантазии. (с. 105) Таким образом, мы определили, что миф как строительный материал в мифологической традиции является отнюдь не сказочками для детей среднего школьного возраста. Это – божественный код, связь с миром первообразов, идей в смысле платоновских эйдосов. «Идеи в философии и боги в искусстве – одно и то же», – утверждает Шеллинг (с. 107). Созвучно наименование творческого метода у немецкого философа и русского поэта: у Шеллинга – «конструирование искусства» (при том, что «мифология есть необходимое условие и первичный материал для всякого искусства» (с. 112); у Кондратьева – «реконструкция мифа». Исходя из этого метода и было создано большинство произведений Александра Кондратьева: роман «Сатиресса», сборники рассказов «Белый козел» и «Улыбка Ашеры», роман «На берегах Ярыни» и сборник сонетов «Славянские боги». Уже цитировавшийся нами Олег Седов, пытаясь хоть как-то «ввинтить» Кондратьева в современную ему литературную эпоху, умудряется обнаружить у него «предакмеистское мироощущение». «Устремленности к бесконечному, свойственной символистам, – читаем в предисловии к книге «Сны», – акмеисты противопоставили самоценность и самодостаточность трехмерного мира. В такую трехмерную реальность и помещены мифологические образы Кондратьева… Этот мир живет своей внутренней жизнью, он ничего не символизирует, не отсылает ни к каким внеположным ему смыслам – все его содержание заключено в нем самом, он подобен картине, которая не простирается дальше собственных рамок. Вячеслав Иванов учил, что символ разворачивается в миф. Кондратьев осуществлял нечто прямо противоположное: он сворачивал символ в миф, замыкая принадлежащее бесконечности в трехмерном пространстве своего художественного космоса». Позволим себе высказать полное несогласие с этой оценкой. Во-первых, позиция акмеистов, связанная с «самоценностью трехмерного мира», относится и прослеживается исключительно в поэзии. Что же касается прозы старших символистов – Мережковского, Брюсова, Сологуба, Гиппиус, – то их романы написаны во вполне традиционном ключе, т. е. воссоздают все тот же вполне осязаемый трехмерный мир. По ходу сюжета бывают, правда, выходы из трехмерного пространства, как то полет на шабаш в «Огненном ангеле» Брюсова. Но ведь и Кондратьев точно так же растягивает пространство в аналогичной ситуации полета на шабаш в романе «На берегах Ярыни», равно как и во многих других «демонических» штучках. Никак нельзя согласиться и с тем, что «этот мир… ничего не символизирует, не отсылает ни к каким внеположным ему смыслам». Г. Седов утверждает этим не что иное, как отсутствие в реконструированном Кондратьевым мире перспективы – «картина, которая не простирается дальше собственных рамок», – что для любого художника по сути является обвинением просто «убийственным». На самом деле подобным недостатком «картины» Кондратьева не страдают вовсе, просто критик пытается разбирать его творчество, совершенно не понимая, как говорится, «особенностей жанра». Потому как дело тут вовсе не в «предакмеистском мироощущении», а в мастерском овладении творческим методом, непосредственно восходящим к античной традиции. Большой знаток античности Якоб Голосовкер – сам, кстати, «реконструктор мифов», автор замечательной книги «Сказания о титанах» – весьма обстоятельно высказывается по этому поводу в работе «Логика античного мифа»: «Чудесный мир эллинской мифологии насквозь материален и чувствен. В нем все духовное, идеальное, ментальное – вещественно. В нем даже метафоры, тропы и фигуры суть вещи. И наоборот, в нем все вещественное может обнаруживаться как идеальное, оставаясь трехмерным, не выходя из ограниченности космоса». (Голосовкер Я. Э. Логика мифа. М., 1987, с. 20) Именно этим установкам и следует в своем творчестве Кондратьев, и попадает он всегда точно в цель. И «Сатиресса», и сборники рассказов, образно говоря, «дышат античностью», так же как и непосредственные произведения античной эпохи, как то «Левкиппа и Клитофонт» Ахилла Татия или «Эфиопика» Гелиодора. А попробуй Кондратьев применить иной подход – модернизированный – ни о каком проникновении в античность речи бы уже не шло. И последнее – в связи с суждением г. Седова – относительно понимания символа. Исходя из приведенной им ссылки на Вячеслава Иванова, можно сделать вывод, что г. критик смешивает символ в искусстве вообще с символизмом как конкретным модернистским направлением. И действительно – творчество Кондратьева может в корне не совпадать с тем, что проповедовал Вяч. Иванов и другие современные ему символисты, но это совсем не значит, что оно не символично! У Шеллинга читаем: «…мифологию вообще и любое мифологическое сказание в отдельности должно понимать не схематически и не аллегорически, но символически». (Философия искусства, с. 119). Там же находим мысль о том, что: «Реалистическая мифология достигла своего расцвета в греческой, идеалистическая с течением времени вылилась целиком в христианство». (с. 137). Исходя из чего мы и обозначили две литературных традиции, в которых по-разному проявляется символ, – мифологическую и идеалистическую. К первой принадлежал Кондратьев, ко второй – русские символисты… Вопрос же, поставленный г. Седовым, автоматически снимается. Переход от античной тематики к славянской был обусловлен у Кондратьева, по всей видимости, не только переменой местожительства. Еще в 1901 г. в питерской газете «Россия» был опубликован рассказец «Домовой» – не просто литературный дебют Кондратьева, но и пролог к его произведениям волынского периода. Видимо, интерес существовал задолго до приезда в Дорогобуж, однако специфика данной темы требовала времени на процесс созревания. В то же время, очевидно, что решить поставленные задачи в деле «славянского мифотворчества» без античной школы поэт не смог бы на том высоком уровне, как он это сделал в «Славянских богах» и в «Ярыни». От антики он взял как формальное, так и сущностное: строгость формы и мифологическое мышление. Жесткий каркас античного мифологического мышления дал возможность литературно воссоздать стройное, не расползающееся в разные стороны здание славянского космоса. В рецензии на сборник «Славянские боги» критик Дорофей Бохан, в целом весьма положительно оценивая художественные его достоинства, в то же время отмечает: «Автора, пожалуй, можно упрекнуть в не совсем удачном выборе формы, в которую он облек свою «славянскую мифологию»: лучше было бы, если бы он не стеснял себя формою сонета, имеющего свои законы, выработанные веками (Петрарка, Данте – XIII в.), а писал свободно, разнообразно по своему усмотрению». (В кн. Кондратьев А. На берегах Ярыни, Ровно, 2006 г., с. 314). Однако в противовес этому можно сказать, что именно строгая классическая форма позволила избегнуть, образно говоря, фольклорной глины, и высечь в мраморе изваяния древних богов. Потому как та или иная форма изначально заключает в себе соответствующие энергии, и как раз-то легкие фольклорные формы устного народного творчества и не подходят для воплощения теогонических идей. Для Дорофея Бохана славянские боги не более, чем «прекрасная поэтическая сказка», не имеющая с реальностью ничего общего. Вот только дело в том, что реальность – понятие очень уж зыбкое и относительное, и совсем иной на нее взгляд мы находим у представителей «мифологического мышления» – Гесиода, Шеллинга, Кондратьева, Голосовкера. Во вступлении к «Логике античного мифа» ее автор утверждает, «что воображение, познавая теоретически, угадывало раньше и глубже то, что только впоследствии докажет наука, ибо имагинативный, то есть воображаемый, объект «мифа» не есть только «выдумка», а есть одновременно познанная тайна объективного мира и есть нечто предугаданное в нем; в имагинативном, или воображаемом, объекте мифа заключен действительный реальный объект. И поскольку содержание, то есть тайна действительного объекта, беспредельна и микрокосмична, постольку и «имагинативный объект» насыщен смыслом, как рог изобилия – пищей. Это обилие внутреннего содержания или «бесконечность» смысла мифа сохранила и сохраняет нам мифологический образ на тысячелетия, несмотря на новые научные аспекты и на новые понятия нашего разума или на новые вещи нашего быта». (Голосовкер Я. Э. Логика мифа. М., 1987, с. 13) Исходя из этого, очевидно, что творчество Кондратьева не может быть предметом исследования одного только литературоведения, но его синтеза с метафизикой, философией и сравнительной мифологией. На наш взгляд, произведения Кондратьева можно обозначить как фокус славянской мифологической традиции. Неисчерпаемым источником необходимых этнологических знаний для него послужили многочисленные работы представителей «русской мифологической школы» – Ф. Буслаева, И. Сахарова, А. Афанасьева, В. Даля, А. Фаминцына, С. Максимова и др. Но сфокусировать все это в некоем совершенном художественном шедевре мог только поэт. Таковым и оказался Кондратьев. Были у него, разумеется, и литературные предшественники, ибо традиция не создается одним человеком. К таковым в первую очередь мы бы отнесли поэтов Пушкина, Алексея Толстого, Островского с его «Снегурочкой», а также непосредственного предтечу – того, кто, очевидно, и подсказал сонетную форму «Богов» – графа Петра Бутурлина (1859-1895), автора ряда сонетов о славянских богах. Из предшественников-прозаиков следует упомянуть романтиков, разрабатывавших сказочно-фольклорную тематику: Николая Полевого с такими вещами как «Старинная сказка о судье Шемяке с новыми присказками» и «Мешок с золотом», Александра Вельтмана с былинно-сказочной эпопеей «Кощей бессмертный» и «Светославич, вражий питомец», Ореста Сомова с рассказами о русалках, ведьмах и кикиморах, раннего Николая Гоголя… Кстати, Гоголь с его неуравновешенностью и авторским произволом – больше даже не предшественник Кондратьева, но его антипод в обращении с фольклорно-этнографической темой, что отмечалось в нашей статье «Кондратьев (Великая культура маргинеса)». Мир Кондратьева, изображенный в романе «На берегах Ярыни», представляет собой трехуровневый универсум: верхний слой занимают боги, являющиеся в то же время проявлениями природы; посредине находится мир людей, а нижний слой населяет разнообразная нежить и нечисть. Все три уровня взаимопересекаются и представляют собой единое целое. В описании этого мира не остается места для писательского произвола, и это также в корне отличает художественный метод Кондратьева от того, что делал его знаменитый предшественник. Кондратьев достигает гораздо более высокой художественной зрелости, при которой совершенно не нужно ничего выдумывать. Он выступает со-творцом, перед которым открывается все величие творения в его целостности и совершенстве; художником, чье предназначение в том, чтобы найти нужные краски для картины. Он уже увидел эту картину целиком, и ему нужно, ничего не изменяя, перенести ее на холст. («Яръ» 2 (29), 2006 г.) Полемичным по отношению к Гоголю прочитывается и сонет «Вий» из сборника «Славянские боги». Сей персонаж трактуется Кондратьевым как «Вероятно – Суховий, демон восточного ветра в степных губерниях Юга России». Диканьский дьяк солгал. Я не подземный бес, Чьи веки страшные землей покрыты черной; Не знал я никогда породы гномов горной И в церковь к мертвецам ни разу я не лез. Я – лишь залетный гость: промчался и исчез. Но где пронесся я, – посевов гибнут зерна И не взойдут хлеба; их сжег мой вздох тлетворный. Где крыльями махну, там юный сохнет лес, Колодцы, реки сякнут... Поднял тучей пыль я, И над дорогами стоит она, и гнилью От балок трупной тянет, и ревут стада, Травы не находя, сгоревшей без следа... А я уже в степях за Каспием, куда Меня назад несут мои бесшумно крылья. В нынешнее время в России и на Украине интерес к славянской мифологии возрос колоссально, охватив историческую, политическую, религиозно-философскую и религиозно-культовую сферы. В этой связи появляется множество всевозможных текстов, претендующих одновременно и на научность, и на художественность, и на сакральность. Из россиян наиболее известен Александр Асов (он же – Бус Кресень) – автор, претендующий не на «реконструкцию», а на «реставрацию» славянских мифов. Среди прочего «реставрировал» он, по собственному свидетельству, «Звездную Книгу Коляды», в которую входят «Песни Гамаюна» – как утверждает автор, «наиболее известные и лучше всего сохранившиеся на Руси». Кроме того, в аннотации к изданию 2005 г. говорится, что «согласно «Песням Гамаюна» эта книга хранится в невидимом Китеж-граде у озера Светлоярова». И тут же обозначены авторские права Буса Кресеня! Таким образом, остается непонятным, на что претендует г. Асов – на авторство или же на «реставрацию» сакральных текстов? Ежели на второе, то какие тут могут быть авторские права? Что касается непосредственно текста, то «Песни Гамаюна» – это не лишенная литературных достоинств стилизация под былинную речь, попытка синтеза русских сказок, былин и собственно мифологии. До поры до времени все идет довольно гладко и занятно, но постепенно «швы» асовской «реставрации» становятся все грубее, пока в середине книги мы не доходим до сногсшибательного сюжета, в котором действующими лицами выступают: Бог Солнца Ра, его сын Хорс, женившийся на Заре-Заренице, и еще один сын – Велес, женившийся на Царевне Лягушке, а затем превращенный Кащеем – сыном Вия – в Чудо-Юдо, известное нам по «Аленькому цветочку»… Если следовать теории цитированных нами философов, думается, что путем имагинации, воображения (по Голосовкеру), путем фантазии (по Шеллингу) Асов так или иначе подключается к потокам славянской традиции. Однако для того, чтобы достигнуть мифологической органичности, имагинация никак не может руководствоваться авторским произволом, она должна иметь свою логику, включающую самоограничение. Иначе говоря, фантазию необходимо держать в узде, в противном случае это чревато впаданием в откровенную галиматью. «Реконструкция мифа» по Кондратьеву – это также проникновение в миф посредством фантазии и наполнение его новым содержанием. Не всегда каноническим – но философски и психологически обусловленным. Не подвластным авторскому произволу, но лишь внутренней логике мифа. А потому художественные произведения Кондратьева гораздо больше соответствуют мифологии как таковой, чем претендующий на этот статус «реставрированный» свод Асова. Любопытным для нас является также «мифотворчество» украинского автора – ровенчанина Валерия Войтовича. В 1997 г. им была издана книга «Сокіл-Род» (легенди та міфи стародавніх українців). Судя по названию и по структуре, книга эта задумана автором как украинское соответствие классической работе Николая Куна «Легенды и мифы древней Греции», или же монографии Эдуарда Темкина и Владимира Эрмана «Мифы древней Индии». Но дальше названия сходство с этими трудами не наблюдается. Вот некоторые характерные выдержки: ...посланець сонячної країни заради спасіння світу від мороку і зла, божественний Рама... Божим даром своїм духовно оплодотворює та програмує майбутню долю свого народу... На вищість прабатьківської релігії порівняно з релігіями інших стародавніх народів вказує і їхня духовна та моральна вищість... боги, коли народився світ, стали приносити великі жертви та палкі молитви заради минулого, сучасного та майбутнього життя людей на землі... А коли показалися в небі битви бойові знамена Стрибога, під якими на чолі зі Славою йшли Троян, Арей, Білобог, Велес, Симаргл та ще багато інших дужих воїв, затремтіли в своїй немочі демони зла... Чорнобог – бог зла та погані... Лише в Страшний Суд Всебог відкриє небо, але тоді хрест-Сварга спалить усе навкруги... Уже при первом знакомстве с «Сокол-Родом» убеждаешься, что к мифологии этот труд имеет весьма спорное отношение, зато видишь как СВОИ СОБСТВЕННЫЕ исторические, национальные, морально-нравственные и религиозные представления автор проецирует на воображаемую мифологическую плоскость. В результате «Украинский божественный пантеон» по Войтовичу – это собрание добрых сказочных волшебников, которые только и думают, как бы помочь украинскому народу. По всей видимости, г. Войтовичу невдомек, что реконструкция мифа, равно как и мифологическое мышление как таковое, требуют полной авторской объективации. Зато это прекрасно понимал Александр Кондратьев, и потому из его «мифологических» произведений невозможно узнать о его же взглядах – философских, религиозных, политических. И потому «Славянская теогония» Кондратьева мифологически реальна, что, впрочем, и неудивительно – ведь по своему творческому кредо он во многом сродни Гесиоду: Моя душа тиха как призрачный шеол, Где дремлют образы исчезнувшего мира; Она – в песках пустынь сокрытая Пальмира. Мои стихи – богам отшедшим ореол. Я не стремлюсь в лазурь ворваться, как орел. Пусть небожители ко мне летят с эфира. О юности земли моя тоскует лира, И не один из них на песнь мою сошел. Ко мне идут они, как в свой заветный храм, Стопой неслышною, задумчивы и строги, Когда-то сильные и радостные боги, С улыбкой грустною склониться к алтарям… И, полон гордости, блаженства и тревоги, Гирлянды строф моих бросаю к их ногам... ГДЕ ЖИВУТ ТРОГЛОДИТЫ? Часть 1 На берегах Горыни В конце лета нынешнего года решением сессии Ровенского городского совета одна из новых улиц Ровно получила имя русского писателя ХХ века Александра Кондратьева. Поводом для этого послужил тот факт, что 20 лет своей жизни (1919-1939 гг.) писатель провел именно на Ровенщине. Инициатива исходила от областной организации «Русский культурный центр», под эгидой которого несколькими годами раньше была издана книга «На берегах Ярыни», куда вошли произведения, написанные писателем в «ровенский период». И все бы хорошо… Но вот в ровенской областной газете «Волынь» от 28 августа 2009 года под красноречивой рубрикой «Ганьба!» появилась заметка головы Ровенской областной организации УНП Светланы Николиной с не менее красноречивым названием – «Вулиця імені українофоба». В ней автор сетует на несознательность депутатов горсовета – проявили, мол, политическую близорукость, потому как ни в коем случае нельзя было называть улицу этим именем. Чем же так не угодил сердитой «голове» писатель Александр Алексеевич Кондратьев? Послушаем же пани Светлану. «По-перше, – пишет она, – чиновники і депутати міської ради, готуючи проект рішення, мали хоча б поцікавитися в обласній Спілці письменників їхньою професійною думкою про цього видатного представника Срібного віку російської літератури. Тоді б стало зрозуміло, що «видатним» А. Кондратьєва вважають лише в Російському культурному центрі, а не серед літераторів чи літературознавців як в Україні, так і в Росії». Надо полагать, автор статьи в отличие от нерадивых депутатов поинтересовался «професійною думкою» членов Спилки писателей, и они ему разъяснили, что Кондратьев вовсе не «видатний». Но даже если это и так, то разве просто талантливый писатель, 20 лет живший и творивший в данной местности, не достоин, чтобы его именем была названа улица? Впрочем, к этому моменту мы еще вернемся, а пока продолжим знакомство с антикондратьевскими доводами Светланы Николиной: «По-друге, народжений у Петербурзі, письменник саме там провів сорок два роки свого життя, і лише прихід до влади більшовиків змусив переконаного монархіста А. Кондратьєва втекти під Рівне, в Дорогобуж, який тоді був підпорядкований Польщі. До речі, російські дослідники пишуть про те, що Кондратьєв жив у родовому маєтку дружини, а в довідці Російського культурного центру йдеться про родовий маєток самого письменника. Так само не підтверджується дослідниками з Росії й теза про репресії родини Кондратьєвих у 1939 році, бо у доступних джерелах йдеться про те, що: «Кондратьев с приходом Красной армии (1939) пробрался на занятые немцами польские территории». Не можна одночасно бути репресованим і втікачем». Тут что ни предложение, то «перл». С точки зрения значимости писателя для Ровно, не все ли равно, где он жил еще и по какой причине был вынужден сюда приехать? Достаточно того, что на Ровенщине он провел 20 лет, где – впитывая энергетику данного края – создал ряд интересных вещей. Далее упоминаются безымянные «російські дослідники», «доступні (кому?) джерела», некая «довідка Російського культурного центру», но в книге Кондратьева, изданной тем же центром, черным по белому написано: «Власти большевиков А. Кондратьев не принял. В 1918 г. он навсегда покидает захваченный ими Петроград и уезжает в Крым. А через год писатель вместе с семьей переезжает в усадьбу своей тещи Екатерины Николаевны Красовской близ селения Дорогобуж под Ровно, и начинается второй, “волынский”, а точнее, ровенский период его жизни: 1919-1939 гг.» – Да и при чем здесь поместье, если речь идет о творчестве? Ну а что до репрессий – тут автор сам себя не понимает. Сам же говорит «про репресії родини Кондратьєвих», а затем фокусирует свое внимание исключительно на Александре Алексеевиче – он дескать сбежал, так что репрессирован быть не мог. Он точно не мог, зато престарелый его отец Алексей Кондратьев, бывший петербургский книгоиздатель и депутат Государственной Думы, а также сын писателя Алексей Кондратьев (младший) вместе с женой Валентиной и дочкой Катюшей, были сосланы на поселение в Сибирь. Об этом также говорится в указанной выше книге. Так что дело тут вовсе не в Кондратьеве – писатель вовсе не виноват в том, что у автора направленной против него заметки явные проблемы с логическим мышлением. Есть ли у Светланы Николиной более конкретные претензии к писателю? Оказывается есть: «І, по-третє, – указывает она, – А. Кондратьєв не сприйняв Україну як державу, а українців як окремий народ. Як пише дослідник Я.Поліщук, «українська культура не існувала для письменника як самодостатня вартість, вона мислилася лише як регіональний різновид російської культури». У книзі «На берегах Ярыни» і топоніми, і імена та прізвища персонажів чи не всі російські, хоча дія відбувається саме в Україні (на берегах Горині). А тези автора про «хохляцькі» і «кацапські» кутки села не витримують жодної критики, бо не було у волинських селах ніяких «кацапських» кутків. В інтерпретації автора яскраво проглядається теза про споконвічність життя росіян в Україні. Чи не це є основною причиною, – риторически вопрошает пани Светлана, – з якої маловідомий автор підноситься до рівня «видатного»? Адже його концепція «єдиного народа» добре вписується в офіційну доктрину російської держави і Церкви. Саме про це говорив патріарх Кірілл під час візиту в Україну: «Наша земля, наш народ». І ось як подарунок Путіну і Кіріллу до Дня Незалежності України, депутати західноукраїнського Рівного голосують тридцятьма чотирма голосами «за» (із сорока п’яти присутніх) за найменування вулиці іменем українофоба А. Кондратьєва…» Как это часто получается у незадачливых авторов, критикуя Кондратьева, Светлана Николина демонстрирует собственные недостатки и упущения. Прежде всего, обратим внимание на то, как резко переводит она суть вопроса в откровенно политическую плоскость, и с этой точки зрения бросает взгляд на творчество писателя. Но хорошо ли она понимает, что такое литература вообще и какую задачу ставил перед собой в частности Кондратьев? Понимает ли она, что литература, искусство, культура призваны решать задачи вовсе не те, что политика, идеология, национализм? Интересно, что пани Светлана каким-то образом оказалась причастной как к политике, так и к культуре. Она является не только головой областной организации УНП, но еще и руководителем областного объединения ВУТ «Просвіта» им. Тараса Шевченко. Однако в нашем случае просвещать приходится именно главную ровенскую «просвітянку». Разъяснять бытующую в народе мысль о том, что политика – дело грязное. Потому что она разобщает, она эгоистична, во имя шкурных интересов она предполагает всяческие интриги, как правило, приводящие к пагубным последствиям. Культура же наоборот – являет собой нечто возвышенное, ибо по сути своей находится над разобщением, над политикой, над национализмом. В противовес политике культура призвана не разобщать, а на основе высших идей примирять и объединять. И потому, чтобы иметь реальную причастность к культуре, необходимо эти высшие идеи разуметь. К сожалению, в рассуждениях головы ровенской «Просвиты» ничего подобного нет. Политика здесь целиком и полностью подавляет культуру, стремление к разобщению и конфронтации принимает крайне агрессивную форму, в результате чего совершенно аполитичный писатель Александр Кондратьев втягивается в сферу политических представлений Светланы Николиной и безосновательно объявляется «украинофобом». С таким же успехом она могла бы назвать «украинофобом» Оноре де Бальзака или летописца Нестора. Дело в том, что понятие «украинофобия» существует исключительно в рамках идеологии, которую исповедует сама пани Светлана, и теряет какой-либо смысл за ее пределами. Кондратьев же со всем своим художественным миром находится в совершенно другой системе координат, где решаются совсем не те задачи, которые волнуют национально озабоченную Светлану. Пани совершает грубейшую ошибку, когда утверждает, что события, описанные в романе Кондратьева, происходят якобы «на берегах Горыни». Если бы это было так, то в романе и фигурировала бы Горынь, а не Ярынь. Главная ровенская «просвитянка», видать, не знает, что художественный мир вовсе не обязан совпадать с тем, в котором приходится жить ей. Тот мир может строится по иным законам. К примеру, в известном романе Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота» легендарный красный командир тонет в реке УРАЛ. Однако это не тот Урал, что впадает в Каспийское море, УРАЛ здесь – это Условная Река Абсолютной Любви. И у Кондратьева Ярынь – это вовсе не Горынь, в которой при желании может наловить карасей Светлана Николина. Ярынь – это условная река восточнославянской мифологии, весь же роман в полной мере являет собой художественное воплощение того, что Афанасьев назвал «Поэтическими воззрениями славян на природу». Но вместо того, чтобы попытаться понять символичное и весьма непростое творчество Кондратьева, вместо того, чтобы попробовать подняться до его уровня, пани Светлана выбирает гораздо более легкое решение – она опускает писателя до своего уровня. В результате культура мышления отбрасывается на стадию родоплеменных отношений, когда представителя соседнего рода воспринимали как чужака и во всем «чужом» (то есть в том, что не из «моего села») инстинктивно чувствовали опасность. Надо, впрочем, признать, что вопрос, связанный с оппозицией «свое/чужое» очень непрост и требует всестороннего изучения, чем и занимаются многие исследователи. К примеру, в Петрозаводске ежегодно проходит международная научная конференция ««Свое» и «чужое» в культуре народов Европейского Севера», с материалами которой нам удалось познакомиться. В одном из докладов, в частности, говорится: «Возможно, архетип-дилемма «свое/чужое» является врожденным и наследуется по генетическим каналам, является инстинктивной реакцией, ведь мы обнаруживаем ее у животных, которые также осваивают мир». – В этой связи отметим, что наглядным примером того, что тема эта актуальна не только для Европейского Севера, но и для Украинского Запада, может служить реакция головы ровенской «Просвиты» на «чужака» Кондратьева. С другой стороны, уместно привести определения двух понятий из «Словаря иностранных слов» (М., Русский язык, 1988): «Культура (лат. cultura) – 1) совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человеческим обществом и характеризующих определенный уровень развития общества, различают материальную и духовную культуру; в более узком смысле термин культура относят к сфере духовной жизни людей; 2) уровень, степень развития, достигнутая в какой-либо отрасли знания или деятельности (культура труда, культура речи и т. д.); 3) степень общественного и умственного развития, присущая кому-либо…» «Троглодит (гр. troglodytes) – 1) первобытный пещерный человек; 2) грубый, некультурный человек». Обобщая вышесказанное, зададимся вопросом: на каком же уровне пребывает то общество, которое представляет голова ровенской «Просвиты»? Возвращаясь к Кондратьеву, обратим внимание, что не обошлось без него и на отмеченной выше петрозаводской конференции: в ее материалах находим доклад Т. Вержбицкой ««Новгородские суеверия» на берегах Ярыни: лихой домовой в поэтической мифологии А. А. Кондратьева». «Роман «На берегах Ярыни», – пишет исследователь из Карелии, – был создан в ровненской глубинке. Еще задолго до его появления А. Кондратьев сетовал в письме А. М. Ремизову, что жители Волынской губернии не очень охотно делятся многочисленными суевериями: «Главные действующие лица, повидимому, ведьмы и оборотни. <…> Насчет домовых – слабо». После публикации автор затронул проблему источников и в переписке с А. В. Амфитеатровым: «Фольклором местным заниматься трудно, ибо для этого надо к крестьянину уметь подойти. В книге “На берегах Ярыни” Вы заметили, вероятно, значительную дозу наших новгородских суеверий»». Для нашей темы данное свидетельство интересно по нескольким причинам. Во-первых, оно говорит о масштабе и контексте Кондратьевского творчества. Конечно, для Светланы Николиной имена Ремизова и Амфитеатрова говорят так же мало, как и имя Кондратьева, для себя же заметим, что именно эти авторы наиболее полно в русской литературе затронули в своем творчестве фольклорно-демонологическую тему: Ремизов – в сборниках сказок «Посолонь» и «Лимонарь», Амфитеатров – в романе «Жар-Цвет». Вовторых, сам Кондратьев свидетельствует об особенностях волынских суеверий, о том, что домовые в его роман пришли с Севера, так как на Волыни все больше встречаются ведьмы да оборотни. Весьма завлекательная тема, не правда ли? На первый взгляд она может показаться несколько надуманной, однако пристальное к ней внимание наводит на мысль, что Волынь действительно являет собой особое в оккультном смысле место. Помимо того, что здесь создавался уникальный роман «На берегах Ярыни», отметим также, что действие 2й части пугающе-блестящего Амфитеатрового «Жар-Цвета» разворачивается опять-таки на Волыни. А в недавней повести украинского писателя Володимира Пузия «Заклятий скарб» говорится буквально следующее: «Те місце, де у Вирії стояв Вовкоград, наЯву знаходилося під Рівним (якщо точніше, трохи північніше від нього, там пізніше збудують «місто Кісток»). А Рівне – під поляками. Далі й немовляті зрозуміло: тільки через Вирій туди і потрапиш, у Вирії кордони інші… – …Скажи, чому Яга, вмираючи, порадила мені з’їздити до Горині? Берегиня здригнулася. – Це страшне місце, – прошепотіла вона. – В усякому разі, у Вирії. Там вона тримала полонені душі. Іноді Хазяйка перетворювала їх на зміїв і відправляла у світ, наділяючи злобою і змушуючи коїти біди. Особливо вона ненавиділа ті душі, які не могла собі підкорити. Частина з них зібралася у місті двоєдушців і до останнього часу залишалася у безпеці. Але пані Хазяйка і полонила багатьох, а решта розбіглася хто куди… – От вона, Горинь, – сказав Андрій, рукою вказуючи на вузьку смугу ріки, що з’явилася на виднокраї. – Бачиш?.. Горинь кипіла. Її води кишіли створіннями, сам вигляд яких людину, менш звичну до химерій, назавжди зробив би заїкою. Рибораки, песиголовці з бахромчатими плавцями замість вух, рогаті жаби, які муканням своїм сповнюють береги по обидві сторони ріки; пернаті птахозмії і люди, в яких очі були на місці рота, а рот ворушив товстелезними губами на лобі… – Що це? – прошепотів Миколка. – Так, нечисть бешкетує…» Что это? Сказочные фантазии автора, работающего в жанре фэнтези? На мой взгляд, это тот случай, когда сказка ложь, да в ней намек… Как бы там ни было, но именно в это место волею судьбы был заброшен поэт, миссия которого состояла в том, чтобы художественным образом упорядочить мифологический космос восточнославянского народа. И так мы выходим на то, что касается столь ненавистной пани Николиной концепции «единого народа». Уразумейте наконец, пани, что в мифологическом космосе восточные славяне – это и есть единый народ. Ведь что такое «західноукраїнське Рівне» в контексте восточнославянской мифологии? Отвечу вам: это – западный форпост восточнославянского мира, точно так как Суздаль в свое время был его восточным форпостом. При всех региональных особенностях все, что находилось на этом пространстве – географическом и духовном – составляло единый мир. И этот единый мир – мир восточнославянской мифологии и демонологии – нашел свое воплощение в творчестве Кондратьева. Глобальный восточнославянский мир, а не локальный мирок ровенской глубинки! На этой вот глобальной обобщенности и построена поэтика произведений Кондратьева, как, к примеру, в нижеследующем описании прихода Весны: «Зашумели первой листвой, шепчась меж собою, деревья. Все мелкие твари, букашки, мухи, жуки, спавшие долгую зиму в темных дуплах и под корою деревьев, пробуждались после долгого сна и выползали поклониться богине. Вышли к ней навстречу и вылезшие из прудовой тины лягушки. Но, увидя шедшего перед Весною, с важным видом, на длинных красных ногах черно-белого аиста, с кваканьем стали спасаться в еще не покрытую зеленою ряскою воду. Звонко рассмеялась богиня, а под ее смех зажужжали весело пчелы над расцветшим орешником, загудели мохнатые шмели, привлеченные нежным ароматом венка из бело-розовых цветов яблони на челе у бессмертной. Аист же шел торжественным шагом, не обращая внимания ни на жуков, ни на лягушек. И деревья шептали друг другу: «Это он вывел нам из подземного царства Весну...» Отпраздновавшая незадолго перед тем именины свои, болтливая Сорока (подозрительного происхождения летунья), от которой ничто не укроется, которая все знает и все видит, успела уже потихоньку рассказать здесь и там, что Аист – принявший вид птицы юный бог, который победил недавно богиню зимы и пробудил от долгого сна, в плену у царя чародея, юную деву – Весну. – Теперь он идет около нее длинноногою птицей, ранее бегал он некогда по земле златорогим оленем, а потом, может быть, увидим его в другом каком-нибудь образе, – болтала сорока. – Все боги, как и Мать Земля, переменяют время от времени вид. Таков их закон...» (Кондратьев А. А. На берегах Ярыни) Итак, что же сделал Кондратьев? В чем его особая заслуга? В том, что он связал воедино восточнославянский миф (посему смешно предъявлять ему местечковые претензии). В том, что он вдохнул жизнь в мир народных поверий, восходящих к дохристианскому времени. Ранее о них, помимо первоисточника, можно было узнать из трудов по фольклористике Сахарова, Афанасьева, Зеленина, Максимова, Фаминцына. Но в отличие от этих ученых, живших в эпоху торжества рационалистических позитивистских идей, Кондратьев мистичен как поэт, а потому, благодаря его гению, разрозненные фрагменты народных побасёнок приобретают вид законченносовершенного художественного космоса. Примером подобного преображения могут служить многие истории, основные мотивы которых содержатся в «Сказаниях русского народа», изданных И. П. Сахаровым еще в 1837 году. Но если там это не более чем фиксация сведений о суевериях, то под поэтическим пером Кондратьева все это становится увлекательнейшим повествованием, полным жизни и света (как животворящего солнечного, так и отраженного лунного). Вот, в частности, история с домовым. У Сахарова: «Кудесы, унимающие лихого домового, заключаются в следующем: колдун, призванный во двор, ровно в полночь зарезывает петуха, выпускает кровь на голик. Этим-то голиком выметает все углы в избе и во дворе, вместе с причитанием разных заговоров. Все это совершается до пения последних петухов. Колдун получает подарки за свои кудесы, а хозяева остаются с уверенностью, что домовой смирится». А вот сонет Кондратьева «Домовой» из книги «Славянские боги»: Январской полночью под взмахом топора Петух затрепетал, с насеста схвачен сонный, И веник, кровию горячей окропленный, В дом дед-ведун несет. И спешно, до утра, Все уголки избы, сарая и двора, Конюшни и хлевов голик окровавленный Обходит и метет. И шепот потаенный Заклятий говорит душе моей: «Пора Владычества богов минула. Нет их боле. Лишь ты да лесовик, да кое-кто есть в поле, Да кое-кто в воде еще приемлют в дар Души загубленной петушьей сладкий пар, Иль гуся, или хлеб... Навеки чьей-то волей С народом связан ты, хотя уж слаб и стар». Но тут мы вступаем в область чистой поэзии, а потому самое время поинтересоваться мнением профессионалов. Отже, за вимогою пані Ніколіної ми поцікавилися професійною думкою… – втім, не членів обласної Спілки письменників, а тих, хто дійсно має причетність до літератури взагалі та до Кондратьєва зокрема. Итак… Евгений Пугачев, профессор, доктор технических наук, поэт, библиофил «Во-первых, хочется поздравить городской совет с тем, что он принял столь мудрое решение – назвать улицу именем Александра Кондратьева. Хорошо, когда улицы называют именами личностей светлых – а Кондратьев, несомненно, относится именно к таковым. Плохо, когда в силу политической конъюнктуры такой чести удостаиваются исторические деятели с весьма сомнительной репутацией. К примеру, рядом с моим жилищем есть улица Выговского, который в свое время привел Украину к гражданской войне, в результате чего погибло более 50 тысяч казаков и крестьян. И в честь такого человека названа улица! А в случае с Кондратьевым стремление сохранить культурное наследие, независимо от национальной принадлежности писателя, возобладало у депутатов горсовета над политической заангажированностью. То есть культура победила политику, – и это отрадно. Во-вторых, творчество Александра Кондратьева уже стало достоянием мировой культуры, и поэтому различные мелкопакостные выпады навредить ему никак не могут. Тем более, что у нас проходят «Кондратьевские чтения», приезжают люди на высоком уровне занимающиеся литературой… и никакие Светланы Николины просто не могут иметь здесь какого-то права на мнение, поскольку не являются профессионалами в данном вопросе». Евгений Васильев, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедры теории и истории мировой литературы Ровенского института славяноведения, председатель оргкомитета международной научной конференции «Кондратьевские чтения» «Високу оцінку творчість О. Кондратьєва отримала як серед письменників, так і літературних критиків ще на початку ХХ століття. Валерій Брюсов писав, що в нього, можливо, «найкраща російська мова в сучасній прозі», а Олександр Блок називав його «таємничим» і «глибоким». «Він – країна, – писав про Кондратьєва Блок, – після нього душа очищується…» На жаль, за радянських часів ім’я письменника було штучно вилучено з літературного процесу й історії літератури. Проте в останні роки науковий та читацький інтерес до творчості Кондратьєва безперечно посилився. Причому не тільки на його батьківщині, а в усьому світі. Так, у 1990 році в італійському місті Тренто було опубліковано монографію всесвітньо відомого вченого професора Володимира Топорова «Неомифологизм в русской литературе начала ХХ в. Роман А.А.Кондратьева «На берегах Ярыни»»», що стала першим серйозним дослідженням творчості письменника. Того ж року професором університету Айови (США) Вадимом Крейдом були здійснені публікації повісті Кондратьєва «Сны» («Новий журнал», США) та книги його поезії «Закат» (Орандж, Коннектикут, видавництво «Антиквариат»). У 1993 році у Санкт-Петербурзі видається об’ємний збірник творів Кондратьєва «Сны», а в 2001 році – зібрання поезій О. Кондратьєва «Боги минувших времен» виходить друком у Москві. Нарешті, у 2004 році професор Джорджтаунського університету (Вашингтон, США) Валентина Дж. Брухер здійснила англійський переклад створеного на Рівненщині кондратьєвського роману «На берегах Ярині»…» Александр Олексейчук, голова громады РУН-веры г. Ровно «Я глибоко поважаю Олександра Олексійовича Кондратьєва як творчу особистість, а особливо ціную збірник його сонетів «Слов’янські боги». Він зробив спробу відновити божественні лики слов’янського пантеону, і робив це, працюючи над усіма відомими йому текстами. Не втомлююся повторювати, що нація, яка не прагне зрозуміти і полюбити своє минуле, не буде мати майбутнього. Відомий етнограф Сергій Плачинда у своїй книзі «Лебедія. Як і коли виникла Україна» написав про те, як палили у 1939 році книги Кондратьєва у Рівному, а тих, хто в наші часи долучається до знищення та оббріхування його книг, назвав ворогами української культури. І в цьому він правий. Я дуже радію, що в нашому місті з’явилася вулиця Кондратьєва». Ирина Корсунская, поэт, прозаик, литературовед «Реакция местных деятелей на Кондратьева провинциальна. Кому-то может не нравиться, что сюжетные коллизии романа «На берегах Ярыни» не подаются с позиций «мого села», «тата з мамою», «рідної хати» и пр., но обвинять писателя на этом основании в украинофобии – значит ничего в самой культуре не смыслить. Тем паче политические претензии. Предъявлять их писателю, работавшему с мифами и снами, мягко говоря, не уместно, без контекста эпохи не исторично, а попросту глупо и пошло. А как относились к «незалежній» Украине княгиня Мария Несвицкая, князь Василий-Константин Острожский, писатель Владимир Короленко, барон Федор Штейнгель, проживавшие в разное время на этой же территории, но... в других государствах? В цивилизованных странах мыслят иначе. Пора бы неугомонным «просветителям» и «профессионалам» из ровенской «спилки» начать интересоваться судьбой и творчеством по-настоящему больших писателей, то есть писателей не местечкового направления, и часто писавших не на языке того этноса, из которого вышли или среди которого им выпало жить. Пример из школьной программы: великий сатирик Джонатан Свифт, проживая в Дублине, свои произведения писал на английском, чем и прославился. То же самое делали другие ирландцы: всемирно известный Джеймс Джойс и лауреат Нобелевской премии Уильям Батлер Йейтс. А как быть с немецкоязычным Густавом Майринком, выросшим и значительную часть своей жизни проведшим в Праге? Оттуда же вышел и тоже писал на немецком еврей по национальности Лео Перуц. Кстати, галичане сильно ли обижены на жителей Львува-Лемберга фантаста Станислава Лема или Леопольда Захер-Мазоха? Неужели эти писатели были «свидомыми» и «незалежными»? Очевидно, пани Николиной (кстати, фамилия явно не украинская!) стоит перенять опыт у львовских коллег, и не заниматься национальным мазохизмом». КТО ЕСТЬ КТО? или Полищук против Кондратьева Отсюда русских весей недруг злой, Надменный враг Никитича Добрыни, Могучий змей летал на грозный бой К брегам Днепра с крутых брегов Горыни. И разом богатырская стрела Меж ними счеты давние свела. А. Кондратьев В альманахе «Погорина», выпускаемом Ровенской «спілкою письменників», в № 6/7 за 2008 год появилась весьма занятная публикация – «репліка» под названием «Шкода праці». Ее автором значится некто Ярослав Полищук, предметом своей критики избравший творчество Александра Алексеевича Кондратьева – в частности, книгу «На берегах Ярыни», изданную Русским культурным центром Ровенской области в 2006 году. Что же не понравилось добродію Полищуку и чиєї праці йому шкода? 1 «Уже кілька років, – пишет Полищук, – як Російський культурний центр у Рівному цілеспрямовано проводить кампанію, яку можна назвати «повернення Кондратьєва» (таку назву носить одна з чільних публікацій на цю тему). Найважливішим її здобутком є видання творів призабутого російського письменника першої половини ХХ століття. Відбулася також наукова конференція, організовано вшанування пам’яті літератора. Справа, що й казати, шляхетна. Остільки, оскільки, звісно, вартує на це творча спадщина самого письменника, котрого вшановується. Але неприхованим оком видно тут кон’юнктуру ідеологічного характеру. Для російської громади постать Олександра Кондратьєва виявилася дуже зручною в тому сенсі, що дає підстави акцентувати на недооцінці російської культури в історії Волинського краю, і на цьому ґрунті виникають різного роду спекулятивні твердження. Так, редактор-упорядник однотомника письменника Олег Качмарський підкреслює, що постать Кондратьєва досі не зацікавила жодного краєзнавця, і бачить в цьому, очевидна річ, якісь злі інтенції. Лише завдяки активності російської громади, твердить О. Качмарський, стало можливим повернення письменника…» – Здесь я вынужден остановить плавное течение полищуковской мысли в связи с наметившейся со старта склонностью сего мужа к передергиванию карт, то бишь фактов. Но прежде всего зададимся вопросом: кто есть Полищук? Чтобы понять это, необходимо помнить о трех сущностях человека: кем он считает себя; кем его считают другие; каков он в действительности. В таком объеме вопрос, как видим, становится весьма непростым, поэтому, не претендуя на полное рассмотрение, в своей статье попробуем его хотя бы наметить. Итак, судя по всему, этот человек позиционирует себя как филолог-литературовед. Однако начало его статьи свидетельствует о совершенно ином способе мышления. С первых слов – как то: «цілеспрямовано проводить кампанію», «неприхованим оком видно тут кон’юнктуру ідеологічного характеру» тощо – повеяло специфическим душком «убойной» газетно-партийной публицистики. Характерным для такого рода творчества является следующее свойство – вместо того, чтобы попытаться понять смысл происходящего, всё увиденное доморощенные «акулы пера» норовят свести на свой уровень. Таким образом литературное искусство, равно как и культура вообще, низводится на уровень неких псевдорелигиозных ритуальных действ, в которых определяющими являются совершенно иные силы, энергии и интересы – вовсе не литературные и не научные. Именно этим миром мазаны фразы типа «організовано вшанування пам’яті літератора». Это что-то из «просвитянской» практики, где краеугольным камнем является отнюдь не любовь к изящной словесности и вовсе не поиски научной истины, а чувство национально-религиозно-корпоративной идентичности. Дело в том, что никаких абстрактных «вшанувань пам’яті» в связи с Кондратьевым не проводилось – посвященные ему мероприятия имели целью конкретное изучение его творчества. Ибо целью в данном случае является не создание еще одного культа, а расширение оперативного культурного пространства. Однако добродій Полищук мыслит другими категориями и потому сразу же переводит вопрос в громадсько-ідеологічний контекст. «Для російської громади постать Олександра Кондратьєва виявилася дуже зручною…»; «Лише завдяки активності російської громади, твердить О. Качмарський, стало можливим повернення письменника…» – сие есть чушь несусветная. Объясним добродію тот факт, что литературой занимаются не громады, а исследователи литературных пространств, – и потому к кондратьеведению російська громада не имеет ровно никакого отношения. И О. Качмарський вовсе ничего такого не твердить – это форменный поклеп, – ибо Общество книжной культуры и литературного искусства «Баюн», а также и Русский культурный центр, благодаря которым была издана книга Александра Кондратьева – это вовсе не російська громада. «Баюн» занимается делами литературными, РКЦ – культурными, громада же – громадськими. Подобная дифференциация неуловима для «просвитян» – в результате она полностью стирается в проводимых ими ритуальных заходах. В заходах громадсько-ідеологічнокультових, где имеет место культ, которому надлежит поклоняться – «вшанувати пам’ять». И оберегать его от различных угроз извне, в том числе и мнимых. Вот это и есть причина, по которой добродій Полищук, берущийся за «дело Кондратьева», изначально оказывается в положении слона в посудной лавке. Пребывая в «просвитянской» системе координат, такой же способ мышления он ошибочно приписывает другим: «для російської громади… виявилася дуже зручною… акцентувати на недооцінці… спекулятивні твердження» – и тому подобная бадяга. К этому он норовит приплести и Кондратьева, не понимая, что это явление другого – не громадсько-ідеологічного – порядка. Для которого совершенно не важно російський писатель Кондратьев чи французький. Интерес и уважение здесь определяется вовсе не национальной принадлежностью. И никак не уровнем известности и популярности в массах. К примеру, Шарль Нодье – для Полищука призабутий французький письменник першої половини ХIХ століття – для нас не менее интересен, чем Кондратьев. Вот только в отличие от последнего Нодье не занимался реконструкцией славянского мифологического космоса и не жил в Ровно. В силу этого Кондратьев и оказался ближе. 2 Чтобы получить дальнейшие сведения о характере нашего героя, вернемся к тому месту, на котором я прервал плавное течение его мысли: «Лише завдяки активності російської громади, твердить О. Качмарський, стало можливим повернення письменника – від моменту коли його твори – и тут Полищук, как бы в подтверждение своих слов, цитирует «твердження» О. Качмарського – «попали в руки литературных энтузиастов из «Баюна» и произвели на них неизгладимое впечатление. Как высоким литературным уровнем, так и тем фактом, что писатель жил и создавал свои шедевры на Ровенщине. И более 60 лет об этом – полный молчок. Напрашивается параллель: что, если бы в Ровно в свое время поселился и прожил длительный срок Гоголь или, скажем, Булгаков, – обратили бы на это внимание ровенские краеведы?»» То, что в приведенной цитате, равно как и во всей цитируемой статье нет речи о «российской громаде» – ни об активности, ни о пассивности таковой – свидетельствует, как мы показали, о неспособности дифференцировать явления культуры. Весьма характерны для мышления Полищука и последующие его рассуждения. «Докір на адресу краєзнавців, – пишет добродій, – видається, однак, пересадним і не зовсім коректним. По-перше, не їх вина в тому, що постать О. Кондратьєва в історії російської літератури ХХ століття є, м’яко кажучи, не першорядною й не привернула більшої уваги дослідників. <…> Схоже, ми іноді надто захоплюємося «поверненням несправедливо забутих імен», забуваючи, що в минулому лишилося також чимало справедливо забутих, бо культура – це не лише великі й безсмертні, геніальні таланти, а й рядові творці, котрі вичерпують властиву функцію в межах свого часу, свого покоління, – і немає в цьому трагедії, а є стійка закономірність розвитку. По-друге, порівняння з Гоголем чи Булгаковим тут явно накульгує. Не бачу підстав звинувачувати краєзнавців в упередженні саме до російської літератури, адже про Володимира Короленка чи Олександра Купріна, пов’язаних із Рівненщиною, написано чимало. Очевидно, у цьому випадку маємо скромніший талант і скромніший літературний доробок. Можна, ясна річ, сперечатися щодо цього, бо смаки в людей різні. Проте оцінювати твори Кондратьєва як «шедеври», – коли такої оцінки не підтверджує навіть жоден авторитетний російський літературознавець, – певно, не випадає». Анализируя этот фрагмент, приходишь к выводу: здесь что ни предложение, то недоразумение. Очень уж прямолинейно мыслит Полищук по поводу местных краеведов, когда находит в моих словах докір и звинувачення. Логика здесь «черно-белая»: раз краеведы помянуты не в радужных тонах, значит их обязательно укоряют и обвиняют. Видать, не понимает наш критик, что сложные явления, к каковым относятся и моменты культурной жизни, не могут быть сведены к банальной «черно-белой» оппозиции. В нашем случае имеет место вовсе не докір и не звинувачення, а простая констатация факта. Но чтобы понять эту простую истину, необходимо видеть не то, что хочешь, а то, что есть. Для полноты картины из предисловия к книге «На берегах Ярыни» приведем начало мысли, за хвост которой ухватился Полищук: «Настоящим подарком судьбы может считать Ровенская земля тот факт, что более двух десятилетий – с 1919-го по 1939 год включительно – жил в родовом поместье своей жены в Дорогобуже Кондратьев. Тот Кондратьев, о котором Александр Блок в своих дневниках написал следующее: «Кондратьев удивительный человек… Он – совершенно целен, здоров, силен инстинктивной волей; всегда в пределах гармонии, не навязывается на тайну, но таинственен и глубок. Он – страна, после него душа очищается – хорошо и ясно» (Блок А.А. Записные книжки. М., 1965. С. 84). Знаменитый поэт писал эти строки еще в 1906 году, в период, когда Кондратьев, живя в С.-Петербурге, только лишь начинал свою литературную деятельность. На годы же пребывания писателя на Ровенской земле приходится его литературный расцвет: роман «На берегах Ярыни» и сборник сонетов «Славянские боги». Однако ни в «советский», ни в «незалежный» период вплоть до 2001 года в местной печати о писателе Кондратьеве не было замечено ни одного упоминания. Как будто такого никогда здесь и не было». Итак, что же здесь есть, и как оно понимается Полищуком? Есть – констатация факта и вытекающий из него вопрос: обратили бы внимание ровенские краеведы, если бы вместо Кондратьева здесь проживали Гоголь или Булгаков? Вопрос этот вовсе не риторический, как то думает Полищук, но предполагающий размышление на тему: что такое краеведение и какими бывают краеведы. На мой взгляд, смысл краеведения состоит в исследовании того, что связано с краем – как позитивного, так и негативного, имеющего как глобальное, так и локальное значение. Но оказывается, что эта истина вовсе не очевидна для Полищука. Судя по приведенному выше высказыванию, он считает, что для ровенского краеведа определяющим фактором является место, которое занимает тот или иной писатель в історії російської літератури. Якщо ця постать «першорядна» і про неї пише багацько російських дослідників, тоді справа варта уваги й рівненських краєзнавців. І не їх вина, якщо вона не привернула великої уваги російських дослідників – адже, наша хата скраю! И надо признать, что именно на этом постулате зиждется наше краеведение. Но это опять-таки вовсе не укор и не обвинение, а простая констатация очевидного. В заидеологизированное советское время все решала отмашка из центра. А то еще возьмешься не за того, так потом беды не оберешься. Так что наше дело маленькое. Заидеологизированность осталась и поныне, – вот только идеология поменялась. Мышление же осталось прежним. Наглядным примером здесь может служить приснопамятный Гурий Бухало. В советское время главной темой для ровенских краеведов были, как известно, события Великой Отечественной – деятельность партизанского отряда Медведева. Вот и добродій Бухало успешно подвизался на этой тематике: в 1979 году львовским издательством «Каменяр» был издан путівник «Меморіальний музей-квартира М.І. Кузнецова у Ровно», автором текста которого значится Г.В. Бухало. С приходом же новой власти взгляды добродія изменились на диаметрально противоположные и главной его темой стала героика УПА. Во всем этом, как говорит Полищук, «неприхованим оком видно кон’юнктуру ідеологічного характеру». Кто платит, тот и заказывает музыку. Поэтому говорить о какой-то самостоятельности ровенских краеведов и, следовательно, укорять их и обвинять не приходится. Тогда уж нужно обвинять не конкретных людей, а одну и другую идеологическую систему, и еще косность человеческого мышления. Что было бы весьма наивно. 3 В свете сказанного странным выглядит еще одно заявление Полищука – о том, дескать, что в отличие от Кондратьева о Короленко и Куприне, также обитавших на Ровенщине, написано чимало. Поэтому нет оснований звинувачувати краєзнавців в упередженні саме до російської літератури. Странность данного пассажа состоит в том, что обе упомянутые здесь оппозиции, как то Кондратьев против Короленко и Куприна и ровенские краеведы против российской литературы, существуют исключительно в воображении самого Полищука. Ведь никто этих самых краеведов в предвзятости именно к русской литературе никогда не обвинял – Полищук это просто выдумал. Что же до противопоставления писателей с последующим выводом про «скромніший талант і скромніший літературний доробок» Кондратьева, то наш критик не понимает простого факта, что все дело здесь не в «таланте» и «доробке», а в той же идеологии. «Демократ» Короленко и «реалист» Куприн были вполне приемлемы для советской идеологии, чего совсем не скажешь о «мифологе» и «мистике» Кондратьеве. И о Короленке с Куприным писали, потому что это было разрешено. Но опять-таки возникает вопрос: каковы достижения местных краеведов в исследовании творчества Короленко и Куприна? «Написано чимало» – но кем? Наконец, давайте разберем высказывания Полищука о «скромности Кондратьевского таланта». И прежде всего отметим отсутствие той же скромности у нашего критика. В самом деле – неужели д. Полищук думает, что мы должны у него спрашивать, кого нам почитать и возвращать, и что он в состоянии определить степень таланта и «гениальности» того или иного писателя? Вот он говорит о том, что среди литераторов прошлого есть «чимало справедливо забутих». Объясним же человеку, что прежде чем учить других, необходимо самому научиться правильно мыслить. Дело в том, что «справедливо забытые» – это те, о которых никто больше и не вспоминает. И совсем другой случай, если творчество «забытого» вновь привлекает внимание. В начале XIX века во французской литературе забытыми были Франсуа Рабле и Сирано де Бержерак, о которых «вспомнили» благодаря деятельности Шарля Нодье; в конце XIX века в русской литературе «забыли» о поэтах Тютчеве и Баратынском, о которых вновь «вспомнил» Валерий Брюсов; в конце ХХ – начале XXI века в «забытых» числился Кондратьев, но память стала возвращаться благодаря Владимиру Николаевичу Топорову – автору монографии «Неомифологизм в русской литературе ХХ века. Роман А.А. Кондратьева “На берегах Ярыни”»; благодаря Олегу Седову и Вадиму Крейду, осуществившим переиздание произведений писателя в Санкт-Петербурге и Москве; благодаря Обществу Книжной Культуры и Литературного Искусства «Баюн» и Русскому культурному центру Ровенской области, инициировавшим «возвращение Кондратьева» на Волынь; благодаря Евгению Васильеву – организатору ежегодной научной конференции «Кондратьевские чтения» на базе Ровенского института славяноведения… Обратим внимание еще на одну особенность мышления Полищука – на постоянное апеллирование к «авторитетам». Раз не подтверждает «жоден авторитетний російський літературознавець» – значит дело ясное. Но специально для Полищука мы подыскали парочку авторитетов. Александр Блок, правда, не литературовед, но будет почище любого литературоведа. Как-никак «гениальный» поэт, чью «гениальность» Полищук наверняка признает – о ней ведь писано-переписано многими «авторитетными» литературоведами. И пускай Блок пишет не о произведениях Кондратьева, а о самом человеке, – но неужели подобная характеристика, выданная «гением», не свидетельствует о том факте, что Кондратьев – личность в высшей степени незаурядная? Но тут, глядишь, и «авторитетный литературовед» подвернулся. И не просто авторитетный, а в полном смысле «светило» литературоведения, коим является Владимир Топоров, посвятивший Кондратьеву целую монографию. Хотя я не удивлюсь, если окажется, что Полищук о таком исследователе не слышал, иначе, чем объяснишь его безапелляционные утверждения? Ну а почему «порівняння (Кондратьева) з Гоголем чи Булгаковим тут явно накульгує», критик прямо не объясняет. Считает это предельно понятным – куда, мол, никому неизвестному писателю до всеми признанных «гениев»! Таким образом становится ясным еще один критерий, применяемый д. Полищуком при оценке литературных явлений – фактор известности. О чем же свидетельствует столь плотная привязка к «авторитетным» мнениям и чисто количественному, но не качественному фактору известности? Очевидно, о стереотипности и несамостоятельности мышления. И это – в придачу к отмеченной выше «просвитянской» заангажированности, в результате которой даже в изучении творчества совершенно аполитичного Кондратьева, лежащем вне каких-либо идеологий, Полищуку «неприхованим оком видно тут кон’юнктуру ідеологічного характеру». Все это не могло не сказаться и при попытке непосредственного разбора нашим критиком романа Кондратьева «На берегах Ярыни». 4 Собственное «исследование» творчества Кондратьева Полищук начал довольно «оригинально». Вместо того чтобы непосредственно обратиться к произведениям писателя, он «умудряется» смотреть на них сквозь призму статьи своего коллеги Александра Галича. Для чего же эта призма понадобилась? «Істотним, – убежден Полищук, – а навіть знаковим чинником у процесі «повернення Кондратьєва» слід вважати статтю професора Олександра Галича «Олександр Кондратьєв і Україна», котра недавно побачила світ у журналі «Слово і час» (Галич О. Олександр Кондратьєв і Україна // Слово і Час. – 2008. - № 4). Фактів, що свідчать про знаковість цієї публікації, є кілька. Звернемо увагу, що слово врешті взяв авторитетний літературознавець, доктор філології, який, між іншим, тривалий час жив і працював у Рівному, тож знає особливості цього реґіону. Поза тим, статтю опубліковано в академічному часописі, що підносить її ранг і значення. Сама назва також симптоматична й амбітна, – вона інтригує читача перспективою з’ясувати зв’язки російського письменника з Україною, котрі досі не були предметом спеціального вивчення, проте дуже важливі в контексті сучасного «повернення Кондратьєва»». – И вновь налицо столько «перлов» фирменной полищуковской мысли, что необходимо сразу же их прояснить. Итак, чем же «авторитетен» вышеупомянутый літературознавець, котрий нарешті взяв «авторитетне» слово? Какими-то известными книгами и литературоведческими разработками? Что-то не доводилось видеть и слышать. Если Полищуку известны такие, тогда не мешало бы указать на них, а то получается как в старом анекдоте: ты Петьку с водокачки знаешь? Но критик наш, видать, считает, что для «авторитетности» достаточно одного лишь звания «доктор філології» чи «професор». Что и говорить, названия «авторитетные», вот только их носителей на Украине больше, чем во всех остальных странах вместе взятых. И вовсе не из-за чрезмерной учености наших граждан, а по причине прямо противоположной, приведшей к девальвации ученых званий и степеней. Так что вы уж в дополнение к званию извольте приводить и конкретные достижения. Говорите, что знає особливості реґіону? Никак, речь идет о геологии или этнографии? Я думал, что о литературе! Или, быть может, в Ровенском регионе литература и литераторы совершенно особенные? И еще мне до сих пор казалось, что ранг и значение статьи поднимают идеи и мысли, в ней содержащиеся. То есть главное, ЧТО в ней содержится. Правда, когда-то последователи Набокова стали доказывать, что главное не ЧТО, а КАК. Но Полищук пошел еще дальше: для него главное не ЧТО, и даже не КАК, а ГДЕ – в каком «часописе» напечатано – именно это определяет ранг и значение произведения! Тем не менее, что бы он ни говорил, а название, которое столь его интригует – «Олександр Кондратьєв і Україна» – нам видится откровенно банальным, ибо свидетельствует о конъюнктурности и полном незнании предмета. Неозброєним оком видно, что это обычная халтурная статейка, на скорую руку состряпанная для галочки. Но может, мы ошибаемся, и это только название столь неудачное, – сама же статья весьма основательна? Послушаем же, что говорит на сей счет обративший на нее внимание Полищук: «Однак текст згаданої статті дуже розчаровує. Окремі тези, головно, біографічного характеру (справді, письменник жив і працював на Волині, але це вже загальновідомо й не потребує доказів) О. Галича лише повторюють сказане іншими авторами, інші ж твердження про зв’язки з українською культурою залишаються голослівними й надалі потребують доведення. Одне слово, розважаючи порушену проблему майже на шести сторінках друкового тексту, автор приходить до такого висновку: «Докладніше хотілося б знати і про спілкування О. Кондратьєва з українськими письменниками, рівненськими й волинськими краєзнавцями, мешканцями Дорогобужа, від яких він засвоював невичерпні фольклорні скарби». Отакої! І читачеві хотілося б про це знати. Поготів, він і сподівався (наївно, мабуть!) довідатися про такі речі зі статті з інтригуючим заголовком «Олександр Кондратьєв і Україна». А тут – автор сам розводить руками… Якщо ж про зв’язки з Україною надалі говорити проблематично, то чи правомірно тоді називати міжвоєнне двадцятиліття «українським періодом життя призабутого російського письменникаемігранта», як це робить автор в анотації до журнальної статті?» – Отакої! І Поліщукові стаття Галича вельми не до вподоби! Тоді якого ляда ви, шановний добродіє, притягнули її сюди і ще назвали «істотним чинником»?! Чи може таким чином ви вирішуєте якісь особисті проблеми? Щоб й ненависного «москаля» помиями полити, й колезі свиню підкласти? И вот добродий просто крушит статью своего коллеги – благо, что крушить заведомо формальную заметку много ума не надо. «Проф. О. Галич, – пишет Полищук, – вважає творчою вершиною саме роман «На берегах Ярыни», через що й присвятив йому більшу частину свого тексту. Інтерпретація роману у виконанні професора, одначе, не найвищої проби. Критик застосовує формулу так званого пообразного аналізу. І чим же дивує читача? У кращому разі, переказуванням сюжетних перипетій героїв. І банальними спостереженнями, які ще можна було би допустити в опусі студента-першокурсника». Но зачем же обращать внимание на статью такого уровня? И чем объяснить тот факт, что половина собственной полищуковской «реплики», якобы о Кондратьеве, посвящена недостаткам «проходной» статьи Галича? Но самое смешное, что и здесь «рецензент» умудряется попасть впросак. Обнаружив неправильности перевода с русского на украинский, Полищук отмечает: «Враження недорікуватості підтверджують цитати у статті О. Галича, які дуже незґрабно перекладені з російської. Тут натрапляємо на перли типу: «скамейки» замість «лави», «тонкіші» замість «тонші», «на кінець» замість «урешті», «царька» замість «царка», «на дубовому стволі» замість «на кроні дуба», «гривню» замість «гривну» (грошова одиниця і прикраса – то таки різні речі!), «чортеня» замість «чортеняти», «Успеньєвого дня» замість «Успенського дня» або «на Успіння» тощо. Чи то автор так похапцем тлумачив текст, чи то редактор, читаючи рукопис статті, надто замріялася, але результат таки невтішний. Ліпше було би вже подавати цитати в оригінальному звучанні, по-російськи, ніж так шпетити нашу мову, котра – принаймні текст такого рівня – здатна передати цілком адекватно». Но, занимаясь отыскиванием соринок в глазу у ближнего своего, зрение у нашего критика настроено на тот лад, что в собственном глазу он оказывается не способен увидеть бревна. Ведь что такое найденные Полищуком ошибки по сравнению с тут же выданным его собственным «перлом» – «на дубовому стволі» замість «на кроні дуба»? Оказывается, что ствол и крона в разумении Полищука суть одно и то же! И в его редакции переведенный Галичем фрагмент о низвержении идола Перуна звучал бы следующим образом: «очолювані служителем ворожої йому віри, увірвалися в заборонену огорожу люди з сокирами, підрубали йому міцні ноги, що стояли НА ВКОПАНІЙ В ЗЕМЛЮ ТОВСТІЙ КРОНІ ДУБА…(у Галича: на вкопаному в землю товстому дубовому стволі… правильно – стовбурі)» – Браво, Полищук! Специально для него делаем выписку из толкового словаря: СТВОЛ (укр. СТОВБУР) – основная часть дерева или кустарника от корней до вершины, несущая на себе ветви; КРОНА – вся разветвленная часть дерева с его листвой. Интересна также реакция критика на сам факт перевода цитат. Он обращает внимание на недостатки перевода, а не на то, что, делая ссылку на конкретное издание, цитаты необходимо подавать исключительно в оригинале, то есть в том виде, в котором они поданы в цитируемой книге. На то и указывается издание, чтобы по нему можно было сверить цитату! Если же хочешь подать перевод, тогда делай сноску и приводи его рядом с оригиналом. Но самого этого факта, свидетельствующего о незнакомстве с формой написания научных статей, Полищук не замечает. По той причине, что сам грешит этим направо и налево: в его авторской монографии «Міфологічний горизонт українського модернізму» цитаты из русско-, англо-, немецкоязычных источников без всяких сносок подаются исключительно в украинских переводах. 5 Но не только для того, чтобы попробовать свои силы на поприще корректора, так вцепился в статью Галича его критик. Избрав своего коллегу на роль мальчика для битья, Полищук использует его неудачную статью в качестве трамплина для атаки на Кондратьева. И здесь определяющим для него оказывается заголовок – «Олександр Кондратьєв і Україна». Интересно, что в сборнике «Александр Кондратьев: исследования, материалы, публикации», в 2008 году выпущенном Ровенским институтом славяноведения, эта же статья носит несколько иной заголовок – «Жанрова своєрідність роману Олександра Кондратьєва «На берегах Ярині»». Можно предположить, что если бы это название было использовано и в журнале «Слово і час», то для своей «реплики» Полищуку пришлось бы искать другой «трамплин». Ибо все дело в названии: «Сама назва також симптоматична й амбітна, – пишет Полищук, – вона інтригує читача перспективою з’ясувати зв’язки російського письменника з Україною, котрі досі не були предметом спеціального вивчення, проте дуже важливі в контексті сучасного «повернення Кондратьєва»». Здесь сразу возникает несколько вопросов: действительно ли нужно з’ясовувати саме ці зв’язки? и почему они дуже важливі? и, главное, для кого? для Кондратьева или для Полищука? – В поисках ответов идем далее по тексту и натыкаемся на интересную фразу: «Питання ідентичності – досить дражливе в оцінці літературного доробку Олександра Кондратьєва». – Иными словами, Полищук утверждает, что оценивать литературные произведения следует исходя из «идентичности» писателя. В нашем случае это значит, что Кондратьев и его творчество будут оцениваться в зависимости от того, насколько они по своей сути являются «украинскими». И «украинскими» в понимании не Драгоманова, Хвылевого или, к примеру, Ярослава Галана, а «украинскими» в понимании, конечно же, д. Полищука. Посему главный удар по Кондратьеву, по мнению добродия, должен быть направлен на вскрытие его «неукраинской», а то и «антиукраинской» сути. Именно этому и посвящает значительную часть своих «изысканий» д. Полищук. Итак… - Крізь призму своїх переконань і травматичного минулого досвіду О. Кондратьєв сприймав Україну та українців, точніше, не сприймав – як усе, що руйнувало культ імперії Романових (згадується при цій нагоді подібного походження антиукраїнський пафос М. Булгакова в «Білій гвардії»). Той факт, що йому довелося тривалий час жити на Волині, у панській садибі в старовинному Дорогобужі, а також часом спілкуватися з місцевим українським населенням (тобто селянами), ще не дає підстав говорити про органічність зв’язків із Україною. - Зрештою, О. Галич сам свідомий цієї суперечності, коли аналізує роман «На берегах Ярыни». Він зокрема пише: «Якщо петербурзькі міфологічні твори О. Кондратьєва базувалися на античній міфології, то «На берегах Ярині» – це вже добре вивчений слов’янський фольклор, майстерно інтерпретований в романі. Можна навіть стверджувати – український фольклор, хоча сам автор національну приналежність міфів, легенд і переказів, що лягли в основу його твору, оминає, очевидно, вважаючи їх частиною російської культури». - Лектура творів О. Кондратьєва засвідчує, що українська культура присутня в них лише на марґінесі – як елемент екзотики, не більше. Це або згадки про самобутність «хохлацких» звичаїв, або наслідування раннього Гоголя. Не більше. - …вихований у колі петербурзької культури, він лишався кабінетним літератором і пріоритет надавав опрацюванню книжкових джерел, а не спілкуванню з носіями традиційної культури. Варто зауважити хоча б покликання на джерела в його збірці поезій «Славянские боги» (1936): там не зустрінемо жодного прізвища українського дослідника, включно з М. Костомаровим, якого цитує О. Галич. (У Галича: «Помітно також, що О. Кондратьєв добре простудіював теоретичну працю М. Костомарова «Слов’янська міфологія».) - …українська культура не існувала для письменника як самодостатня вартість, вона мислилася лише як регіональний різновид російської культури, згідно з поглядами тогочасної (чи тільки тогочасної?) російської еліти. - У романі «На берегах Ярыни» українська стихія присутня хіба що на номінальному рівні. Так, вона відлунює в окремих українізмах, що трапляються в мові автора: хата, особливо, небылица, зареготал, загукал, хлопец, бабуся, утомилась, склянка. (Кстати сказать, все эти «украинизмы» благополучно себя чувствуют в простонародном русском языке – О. К.). Часом – у номінуванні, як-от назва сусіднього села Бабин (справді, це сусіднє з Дорогобужем село на Рівненщині) або прізвища та імена – Гордейчуки, Горпина, Оксана тощо. Правда, цих назв значно менше, ніж властиво російських, що підтверджує нашу думку про марґінальну роль українського матеріалу. Однозначно можно утверждать, что для разбора всех несуразностей и безосновательных утверждений, допускаемых Полищуком в своей «реплике», не хватит места ни в одном даже очень «толстом» журнале. Обратим, однако, внимание на характерную особенность полищуковского «научного анализа». Только лишь узнав о существовании писателя Кондратьева, похапцем пробежавшись по биографии и некоторым его текстам, он уже считает себя вправе делать заключения космического масштаба (космической глупости при том). Как то об «органичности связей», об «антиукраинском пафосе М. Булгакова» – интересно, в чем же Полищук учуял «антиукраинский пафос А. Кондратьева»?; о «приоритетах» кондратьевской работы – реплика о «кабинетном литераторе» наводит на мысль, что Полищук вообще не имеет понятия о том, что такое литературное творчество. Вероятно, он думает, что серьезную литературу можно создавать на лужайке возле речки. Совершенно безглуздим, свидетельствующем о незнании предмета, является заявление о «наслідуванні раннього Гоголя»; в другом месте Полищук еще раз упоминает «Гоголя, якого високо цінував письменник (тобто Кондратьєв)» – сведения эти взяты, что называется, с потолка, вероятно, на том основании, что Гоголь – это единственное фольклорно-мистическое явление, известное Полищуку. В целом же все эти реплики удивляют какой-то инфантильной произвольностью. Неужели д. Полищук думает, что цель Кондратьева была потрафить именно его – полищуковским – представлениям о том, какой должна быть литература вообще и украинская литература в частности? Целью Кондратьева было вовсе не описание бытовых особенностей волынского крестьянства, а нечто совершенно иное. Только лишь исходя из понимания этих целей и можно давать оценку его произведениям. В противном случае это равносильно, как если бы предъявили претензии в адрес Станислава Лема – чего, мол, не писал о проблемах польского крестьянства, национальной идентичности и т. д.? Украинская тематика, украинская идентичность не являются предметами творческого постижения Александра Кондратьева, таковыми являются мифология и фольклор, единые для всего восточнославянского (а то и всего славянского) пространства. Здесь весьма уместно вспомнить формулировку Пушкина: «каждого писателя нужно судить по законам, им самим над собою признанными». А вот насчет Костомарова шановний добродій явно погорячился, забыл видать народную поговорку о том, что, дескать, не зная броду, нельзя соваться в воду. Возможно, Костомарова он спутал со Скуративским, но работы «Славянская мифология», которую, как считает А. Галич, проштудировал Кондратьев, д. Полищук наверняка в глаза не видел. Поэтому будет уместно привести если не всю ее полностью, то хотя бы некоторые фрагменты в необходимом для нашего исследования объеме. Итак, как говорит Н. Костомаров в своей работе «Славянская мифология»… - В одной старинной южнорусской сказке… - Слово ладность значит красоту; по-чешски лада – красавица; по-польски и поюжнорусски ladny – прекрасный; у русских лад и лада значат мужа и жену. - Лелис по-литовски значит светлый; но то же оно означает и по-славянски: тому доказательство глагол лелеть в малороссийском и простонародном русском языке, означающий: блистать, сверкать… Подобное осталось в великорусских простонародных играх… - Славянская космогония не оставила нам последовательного учения, однако есть следы того же понятия, например, в следующей червонорусской песне: Колись то було з початку світу, Тоді не було неба ні землі, Неба ні землі – нім синє море. - Еще Страбон говорит о жителях юго-западной России, что они поклоняются рекам и источникам… - У русских славян выказывается явное водопоклонение. В житии князя Константина Муромского говорится, что язычники русские приносили требы озерам и рекам… В русских песнях вода всегда играет важную роль как любимый предмет поэзии. - На праздник Купала делают чучело, называемое Морена, перескакивают с ним через огонь и топят в воде: это, по моему мнению, означает бракосочетание света с водою. Сходное с этим названием есть Маржана, у Длугоша; чучело, называемое так, топили в Польше весною – обряд общеславянский; до сих пор он существует по русским селам. - Корень слова русалка находится в языке кельтском, где рус значит вода; но как усвоено было это слово у нас, видно из множества названий рек, напр., Руса в Новгородской губернии, Россь, впадающая в Нарву, Рось в Киевской губернии, Русиловка в Полтавской… - В России, по свидетельству Герберштейна, верили в старину в каких-то полуденных духов, о которых сохранилось предание в заговорах. Сохранилось на Руси также темное предание о каких-то девках простоволосых. К лесным богам принадлежат Святибор, лешие у русских, представляемые одноглазыми, и великаны вырвидубы. - Скритки, у богемцев – пигмеи, кажется, были существа ни добрые, ни злые; так в России верят в котигорошек… - Славянская религия чужда была фатализма… Малороссийское слово доля не значит судьбу, а состояние, в котором находится человек… - Потом совершалось закликание или призывание весны. Это торжество у русских называется красною горкою, у червонорусов – гаивками. - Ярила празднуют теперь разным образом: в старину человек, разрумяненный, обвязанный лентами и колокольчиками, с красным колпаком на голове, шел, окруженный толпою народа, которая плясала, пела, пьянствовала и билась на кулачки нередко до смерти. В заключение хоронили чучело мужчины с лингамом. Так описан этот языческий праздник в Воронеже, в житии преосвященного Тихона, который истребил и проклял идола. В других местах – напр., в Воронежской губернии – Ярилом называют истукан, одетый в мужское и женское платье вместе. В Белоруссии Ярило изображался в виде молодого человека, убранного цветами. По всему, однако, видно, что Ярило однозначителен с Кострубоньком и Костромою, и наконец Ладом, ибо в Владимирской губернии называют Ярила Ладом (Рус. прост. празд., IV, 60). Ярило значит возбуждающий любовь и похоть, а погребение его есть повторение или перенесение на лето весеннего обряда погребения Кострубонька. Довольно из этого, чтобы видеть, что этот праздник отправлялся в честь света, изображаемого в смысле любовной плодотворной силы. Праздник ему приходится в то время, когда вся природа бывает, по русскому выражению, в яру. Принадлежностью этого праздника есть гадание, особенно посредством венков и цветов, которые бросают в воду. - Но как бы то ни было, эти игрища, по способу их отправления, заслуживали того, чтоб христиане ими гнушались. Самое верное доказательство есть то, что и теперь, особенно в Малороссии, на подобных игрищах совершаются такие остатки языческого стыда, которые вовсе уничтожают те похвалы чистой нравственности поселян, какие нередко читаем в наших книгах. - …торжество Купала у славян было общим праздником всего языческого мира. Вот как отправляется этот праздник в южной России: прежде всего юноши и девицы купаются, потом надевают венки из черноклена с душистыми травами, подпоясываются чернобыльником (artemisia vulgare) и, пред захождением солнца, собираются на возвышенном месте непременно над рекою… - В Малороссии бросают шелуху красных яиц в воду, надеясь, что она по воде дойдет к мертвым около дня Купала. Наконец, важно еще и то, что около этого праздника у малорусов есть день, называющийся навий великдень, т. е. воскресение мертвых. Я думаю, что славяне полагали день Купала, величайший день годичной деятельности солнца, днем окончательной победы огнесвета над тьмою и злом. - Когда жатва оканчивалась, отправлялся другой торжественный праздник СвентовитуЛаду, теперь называемый обжинки. Саксон Грамматик описывает его у прибалтийских славян таким образом. <…> Это драгоценное известие мы можем почитать, как бы оно было об нашем русском отечестве. До сих пор у малороссиян сохраняется подобный обряд, только перенесенный к времени рождественских святок. - У славян был в то время праздник, именуемый теперь Колядою; некоторые утверждали, что это наименование божества мира, другие отвергали всякое мифологическое происхождение этого праздника и думали, что Коляда есть испорченное слово Calendae и зашло в Малороссию от поляков, которые заимствовали от западных европейцев. Но мы знаем, что не только в Малороссии, но и в Великой России в самых отдаленных углах известно имя Коляды, при том находим видимое сходство обрядов этого праздника с древними подобными мифологическими торжествами. Я не стану излагать всех этих сходств, а укажу на прекрасное сочинение Снегирева «Русские простонародные праздники», где это достаточно показано. - Обычай посыпать зерном на новый год, наблюдаемый в Великой и Малой России, сопряжен с большим торжеством, которое называется авсень у великорусов и у малороссиян щедрым вечером… У малорусов поется при этом о святом Илье… - В прибалтийской славянщине богослужение носило правильный образ: жрецы имели белые богослужебные одежды, свои особенные термины и слова, священные палки, которыми они значительно ударяли в землю. Мы не можем ни утверждать, ни отрицать существования таких обрядов в прочих странах славянщины, хотя вероятно, что и у нас в России были положенные обряды, которые переходили от поколения в поколение, и так составляли богослужение. - Хотя Нестеровы боги, по-видимому, отличались от божеств других славян, но так как мифологические названия были коллономинациями одних и тех же существ, то несправедливо мнение тех, которые хотят отделить русскую мифологию от мифологии других славян. Кроме истуканов, поставленных на холме Перуновом, славяне русские имели еще обширнейший запас мифологии, ускользнувший от летописцев. Мы уже знаем наверное, что славяне русские чествовали Ладу, матерь-природу, и бога-света под мужским таким же именем, хотя у Нестора нет этих имен. Кроме сих имен, в песнях есть множество урочищ в России, напоминающих название Лады и Лада: в одной Новгородской губернии Ходаковский насчитал их девять… В свете вовсе не нуждающихся в комментариях костомаровских «откровений» весьма забавными выглядят «предъявы» Полищука в адрес Кондратьева. О том, что, дескать, «українська культура не існувала для письменника як самодостатня вартість, вона мислилася лише як регіональний різновид російської культури» – и это для писателя, занимающегося исключительно восточнославянскими – то бишь общерусскими – мифами и фольклором! Как видим, аналогичные претензии д. Полищук просто обязан предъявить и Костомарову. 6 Надо думать, что именно очевидная нелепость рассмотренной нами главной «предъявы» вынуждает нашего критика «вторую линию атаки» развернуть в художественном пространстве. Как ни крути, а сводить литературу к «национальному вопросу» не очень к лицу «доктору филологии»! И посему пред Полищуком вырисовывается вполне конкретная задача – доказать, что как писатель Кондратьев мало чего стоит, в сравнении, например, с такими колоссами, как то Влас Самчук, Олена Телига, Олег Ольжич или Лариса Косач. И вот после разминки на Галиче он набирает новый «запас стрел», чтобы обратиться непосредственно к художественному уровню романа «На берегах Ярыни». Читаем: «Утім, досить критичних стріл на адресу автора статті (тобто Галича). Либонь, і справді роман, котрий він узявся аналізувати, далеко не шедевр. Тому-то й доводиться збиватися на загальники та банальності». – Итак, критик утверждает, что слабость статьи Галича – все ее загальники та банальності – объясняются тем, что роман Кондратьева – далеко не шедевр. Надо полагать, что самому Полищуку раздраконить текст такого рівня – зважаючи на його власний рівень – не составит никакого труда. И это действительно интересно – Як то кажуть, дай бо нашому теляті вовка з’їсти! «На мене роман також справив неоднозначне враження, – делится впечатлениями д. Полищук. – Згода, віддамо належне авторові «демонологічного роману» за оригінальність жанрової креації. Але ж не досить вигадати оригінальну форму, треба її наповнити цікавим, свіжим змістом». – По-моему, это именно тот случай, когда доводиться збиватися на загальники та банальності! Не иначе, что и здесь сказывается парализующее влияние кондратьевского «далеко не шедевра»? Ведь что значит «цікавим, свіжим змістом»? Цікавим для кого? Не думаю, что цікавим для меня будет то же, что и для Полищука! Но читаем дальше: «Узявшись писати про «нечисть і нежить», автор, проте, не вельми чітко собі уявляв, як вибудує ієрархію цього уявного антисвіту та чим наповнить життя демонічних сил. Може, тому воно таке одноманітне, сіре, брудне, нерідко вульгарне. Надприродні сили поводять себе як звичайні люди: вони аномально похітливі, жадібні, примітивні, придуркуваті (Водяний, Лісовик, Домовик та ін.). А найвищим дарунком для кожного з них (у тому й для Диявола (Самого), що є розпорядником балу нечисті!) стає пляшка самогону (?!). Така ж атмосфера інтриг, наговорів, заздрощів панує на селі. Усупереч очікуванням читача, світ роману виглядає безпросвітним та грубим, позбавленим тієї високої поезії, якою він наділений у демонологічних віруваннях народу… Навіть, найбільше свято демонічних істот, яким є відьомський шабаш, не позбавлене нудоти та анемічності в описі автора. <…> Отака ось важка житейська проза, вовтузіння з прикріпленою пляшкою самогонки та ковбасою – замість романтично-захопливого польоту на мітлі. Аж незручно говорити після цього про вплив українського фольклору, цілком відмінного від подібного тону зображення потойбічних істот. Урешті, й у Гоголя, якого високо цінував письменник, народна демонологія зображена із заворожуючою силою, романтично-піднесено, а не брутально-натуралістично, як у романі «На берегах Ярыни». Бо чим вона тоді цікава для людей, якщо є відображенням тих самих примітивних звичаїв та порядків, котрі панують у людському світі?» В вышеприведенной тираде сосредоточены главные обвинения Полищука, в которых он заявляет не много не мало: (1) – о незнании Кондратьевым иерархии изображаемого им мира – то есть незнании того, чем писатель занимался всю сознательную жизнь; (2) – о «непоэтичности» его романа и (3) – о его «брутальной натуралистичности». Но, обвиняя Кондратьева в художественной несостоятельности, сам того не замечая, Полищук обнаруживает абсолютное незнание предмета, о котором речь. И вот здесь впору задуматься: в каких отношениях находится д. Полищук с литературой? Прежде всего, обратим внимание на, мягко говоря, странное для литературоведа обвинение в натуралистичности. То есть слово это, означающее особое литературное направление и приемы, в нем применяемые, употребляется Полищуком в однозначно негативном смысле. В таком случае для просвещения доморощенных наших «профессоров от филологии» представляется необходимым ввести их в определенный художественный контекст, с коей целью предпримем небольшое путешествие по страницам некоторых литературных произведений. Для начала обратим внимание на шабаш – на то, как это «найбільше свято демонічних істот» описывается в романе Валерия Яковлевича Брюсова «Огненный ангел». Итак, по заданию своей возлюбленной Рупрехт на себе испытал воздействие шабашной мази… …а после того дал мастеру Леонарду два установленных целования. Для первого протянул он мне благосклонно свою руку, и, прикасаясь к ней губами, успел я подметить одну особенность: пальцы на ней, не исключая большого, были все ровной длины, кривые и когтистые, как у стервятника. Для второго он, встав, повернулся ко мне спиной, при чем надо мной поднялся его хвост, длинный, как у осла, а я, ведя свою роль до конца, нагнулся и облобызал зад козла, черный и издающий противный запах, но в то же время странно напоминающий человеческое лицо… Одна из голых ведьм, ведших меня, приняла во мне особое участие и не захотела покинуть, когда другие, втащив меня в толпу, разбежались в стороны. Лицо ее привлекало веселостью и задорностью, а молодое тело, хотя и с повисшими грудями, казалось еще свежим и чувствительным… …главная фигура танца состояла в том, что, становясь вполоборота и не размыкая рук, соседи ударяли задом друг друга… …Слуги в бархатных кафтанах стали расставлять по столам разные кушанья, очень простые: чашки с супом из капусты или с овсянкой, масло, сыр, тарелки с хлебом из черного проса, крынки молока и кварты вина, которое, когда я его попробовал, оказалось кислым и низкого сорта. …я постарался расспросить Сарраску о разных, не совсем понятных мне подробностях этого празднования; она же, с прожорливостью набивая себе желудок предложенными угощениями, очень охотно удовлетворяла мое любопытство… Еще спросил я, не могут ли причинить вреда ползающие у наших ног змеи и тритоны, но Сарраска, опять хохоча, уверила меня, что это животные милые и безвредные, и тут же вытащила из-под стола змею и обкрутила ее вокруг своей груди; змея же ласково лизала ей шею раздвоенным языком и, играя, кусала ее красный сосок… Тогда я спросил еще, случалось ли ей испытывать ласки демонов и доставляют ли они наслаждение. Она, не стыдясь, заявила мне, что доставляют, и очень большое, только семя у демонов холодное, как лед. Но потом она придвинулась ко мне совсем близко и, бесстыдно касаясь рукою частей моего тела, стала говорить: – Но что там поминать прошлое, мой беанчик? Сегодня я тебя люблю, и ты мне желаннее всякого инкуба… …Нежная музыка флейт зазвучала над лугом, и в сгущавшемся мраке руки стали протягиваться к рукам и сплетенные тела, с тихими стонами, падать на землю, тут же, между столами, и на берегу озера, и в отдалении, под ветвями деревьев. Там видел я перед собою безобразное соединение юноши со старухой, там гнусную забаву старика с ребенком, здесь бесстыдство девушки, отдавшейся волку, или неистовство мужчины, ласкающего волчиху, или чудовищный клубок многих тел, переплетенных в одной ласке, – и дикие вскрики вместе с прерывистым дыханием неслись со всех сторон, возрастая и заглушая звуки инструментов. Скоро весь луг обратился в один оживший Содом, в новый праздник Кодра, или в страшный дом сумасшедших, где все были охвачены яростью сладострастия и бросались друг на друга, почти не различая, кто это: мужчина, женщина, ребенок или демон, – и непобедимый запах похоти подымался от этих темных роящихся груд, опьяняя также и меня, так что я чувствовал в себе то же мужское безумие и ту же ненасытную жажду объятия. Отака ось важка житейська проза, – сказал бы д. Полищук по прочтению романа Брюсова. Но судя по тем банальностям, которыми сыплет критик по поводу шабаша и тому подобного, создается впечатление, что этот роман находится вне поля его зрения. Может быть, и это – «далеко не шедевр»? Равно как и «Метаморфозы» Луция Апулея, где, вместо заворожуючої романтичної піднесеності, то и дело сталкиваешься с брутальнонатуралистическими описаниями наподобие следующего: …Горло его ударом меча было рассечено, и какой-то звук, вернее, хрип неопределенный, из раны вырвался, и он испустил дух. Затыкая эту разверстую рану в самом широком ее месте губкой, Пантия сказала: – Ну, ты, губка, бойся, в море рожденная, через реку переправляться! – После этого, отодвинув кровать и расставя над моим лицом ноги, они принялись мочиться, пока зловоннейшей жидкостью меня всего не залили. (Перевод с латинского М. Кузмина) А вот весьма интересное в свете обсуждаемой нами темы описание деревенской жизни из «магического» романа «Миракли» Славко Яневского: В изумлении великом позабыли про пост. Мясом упитывались и по пятницам, жрали по полмодия на дом. Спешили резать скотину: у той деревенели задние ноги, вспухали шея и челюсти, все равно поколеет. После солнечных закатов перед самыми звездами дули малоазийские ветры, в хвостах принося песок. От них арбузы высыхали под коркой, козы маялись глазной хворью – выдирали шерсть друг у друга. Пошло пьянство. Пили каждую ночь, будто она последняя. <…> Придурковато хихикали, пытаясь освободиться от тягостных дум и предчувствий. Над ними нависали Тимофей с Русияном, грозились, что оставят без медовины. Те скалились – упьются ночью и без ихнего изволения, как прибудет смена. И, словно упившись уже, запевали глухо и несогласно. (Перевод с македонского Н. Смирновой) Как тут не вспомнить полищуковские обвинения в адрес кондратьевских героев: все они, дескать, «аномально похітливі, жадібні, примітивні, придуркуваті… така ж атмосфера інтриг, наговорів, заздрощів панує на селі… світ роману виглядає безпросвітним та грубим, позбавленим високої поезії» – и все это, по заявлению критика, «усупереч очікуванням читача». Надо полагать, что под обобщенным «читачем» д. Полищук разумеет не кого иного как самого себя. И вот эта последняя фраза многое объясняет. Становится понятным, что в силу приобретенного образования и вкуса Полищук предпочитает нечто «романтично-піднесене», и не найдя этого в романе Кондратьева, но узрев в нем «брутальную натуралистичность», он здорово разочаровывается. Но возникает вопрос: разве это достаточные основания для обвинений в нехудожественности? Ведь в таком случае подобные обвинения просто необходимо направить в адрес таких произведений как «Мелкий бес» Федора Сологуба, «История жизни пройдохи по имени дон Паблос» Франсиско де Кеведо, а из тех, что известны Полищуку – в адрес «Мертвых душ» Гоголя и «Путешествий Гулливера» Свифта. 7 Очевидно, что само по себе обвинение романа Кондратьева в «брутальной натуралистичности», равно как и отсутствии в нем описаний «большой и чистой любви», выглядит, мягко говоря, несерьезным. Но если рассматривать обвинения Полищука дальше, то немудрено убедиться, что все дело здесь в недостатках не критикуемого произведения, а самого критика. В его полном неразумении того предмета, который он вздумал критиковать. «Узявшись писати про «нечисть і нежить», автор, проте, не вельми чітко собі уявляв, як вибудує ієрархію цього уявного антисвіту…» – говорить подобное может лишь тот, кто или очень невнимательно читал Кондратьева, или вообще ничего не смыслит в данном вопросе. Еще в 2006 году, готовясь к литературной конференции «Возвращение Кондратьева», приуроченной к выходу в Ровно книги «На берегах Ярыни», в статье «Великая культура маргинеса» мы отмечали: «Мир Кондратьева, изображенный в романе «На берегах Ярыни», представляет собой трехуровневый универсум: верхний слой занимают боги, являющиеся в то же время проявлениями природы; посредине находится мир людей, а нижний слой населяет разнообразная нежить и нечисть. Все три уровня взаимопересекаются и представляют собой единое целое». Данная характеристика требует некоторого уточнения. Дело в том, что, представляя собой вневременное пространство мифологического космоса, мир кондратьевского романа фокусируется в той точке, когда собственно боги восточнославянского пантеона сохранили по себе лишь призрачное воспоминание. В тексте романа этот момент олицетворяет пребывающий на дне Ярыни древний дубовый идол Перуна – в свое время верховного бога, свергнутого с небес на землю. Однако при этом верхний слой трехъярусного универсума ни в коей мере пустующим не остается – во-первых, по той причине, что это мир не только и не столько богов приходящих и уходящих, сколько незыблемых законов природы. Во-вторых, приходящие и уходящие боги ждать себя также не заставляют – ибо свято место пусто не бывает. Таким образом, напрашивается вывод, что боги являют собой не сам в себе высший мир, но связующую субстанцию между средним и высшим мирами, то есть миром людей и миром непреходящих законов Божественной Природы. В вышеупомянутом романе Славко Яневского «Миракли» мысль эта сформулирована следующим образом: «…боги владеют помыслом, умирает помысл – умирают боги». То же находим и у Кондратьева в гениально оформленных беседах низвергнутого Перуна с полубожеством низшего природного порядка – Водяным: – …Пока люди воздевали ко мне руки и приносили жертвы, я чувствовал, что одновременно и слушаю их мольбы и езжу на тяжелой колеснице, провожая огненными стрелами испуганных бесов. Но с тех пор как я лишился молитв, меня нет более и на небе. – А кто же грохочет там вместо тебя? – спросил Водяной. – А я почем знаю?! Боги сменяют и изгоняют богов… Через несколько страниц тема находит свое продолжение и развитие, ненавязчиво извлекаемое из памяти низвергнутого бога: Труп бесенка успел, однако, пробудить кое-какие воспоминания в идоле. Несколько дней спустя, во время грозы, когда хозяин омута лежал рядом с ним на илистом дне, прислушиваясь к отдаленному грохоту грома, дубовый бог беззвучно прошептал своему соседу: – Вспоминаю, как сыновья запрягали мне колесницу и я выезжал на ней поражать огненно-синими стрелами моих исконных врагов, не тех лягушат, что ты мне намедни показывал, а туманных, серых и мглисто-черных, вертящихся с кривляньем в пыльных столбах по дорогам, бегающих по человеческим кровлям, в ядовитых парах возникающих из болот. Они боялись меня и, приняв вид больших темных клубков, катились, спасаясь, по полям и тропинкам, прятались в звериные норы, но всюду находили их неотвратимые мои стрелы... – Какие стрелы? – спросил Водяной. – Те, что так ярко освещают ночью все твое дно, небесные огни, после вспышки которых слышен тяжкий грохот и гул, заставляющий тебя меняться в лице. – Заврался, старик! Я никогда ничего не боюсь. Кто-то другой производит этот шум, – сказал Водяник. – Как я себя помню, ты ни разу не пошевельнулся с тех пор, как тебя принесло сюда одним из весенних напоров воды. – Пусть так. Но я все-таки был когда-то богом, – упорно шептал идол. – Боги свергают и заменяют друг друга. И я когда-то согнал с небесного трона того, кто там сидел раньше меня. Но я был великодушен и оставил побежденному власть над всем покрытым шерстью скотом. Свергнув противника, я не преследовал его и не лишал радостей жизни и света... Данный фрагмент может служить хрестоматийным примером художественной реконструкции мифа. Мастерство поэта направлено здесь не на создание произвольных авторских фантазмов – как то имеет место у Гоголя – а на воссоздание восточнославянского мифологического космоса. Только лишь учитывая указанное различие творческих задач и методов Гоголя и Кондратьева можно сопоставлять их значение. О соответствии же кондратьевского текста мифологическим представлениям славян убеждаешься, читая труды по славянской мифологии. К примеру, в «Мифах русского народа» (М., «Астрель», 2003) Елена Левкиевская отмечает: «От Перуна Илья-пророк унаследовал и такой любопытный мифологический мотив: в народе верят, что во время грозы Илья (а в некоторых местностях считают, что Господь Бог) своими стрелами убивает нечистую силу, которая, дрожа от страха, стремится спрятаться где попало – под деревом, под лошадиным брюхом и даже у человека под одеждой. Белорусы до сих пор говорят: «ударит Перун, так это Илья нечистика бьет»». В том же издании находим и объяснение версии о предшественнике Перуна на небесном троне: «Стремясь восстановить древние поверья о Перуне, некоторые ученые пришли к выводу, что сказочный спор Ильи (или Бога) с чертом – не что иное, как позднее переосмысление древнего славянского мифа о борьбе громовержца Перуна с каким-то могучим противником. Они полагают, что этот сюжет и был центральным мифом славянского язычества, и на его основе создавались все остальные мифологические рассказы об отношениях между богами». – И далее: «Вероятно, именно Волос был могучим противником Перуна в древних языческих поверьях. <…> В отличие от Перуна, который царил в верхней части мирового пространства, на небе, Волос властвовал в нижней части и в подземном мире». Но так как временной фокус кондратьевского романа относится к фазе позднего двоеверия, то и владения Волоса давным-давно приобрели демонологическую окраску. Языческие представления здесь прочно переплелись с христианскими, а мир людей – с одной стороны, с миром природных полубогов, с другой – с миром нежити и нечисти. Переплетения эти настолько неоднозначно-разнообразны, что одно лишь недоумение вызывает утверждение д. Полищука о том, что Кондратьев-де не знал «чим наповнить життя демонічних сил. Може, тому воно таке одноманітне, сіре, брудне, нерідко вульгарне. Надприродні сили поводять себе як звичайні люди: вони аномально похітливі, жадібні, примітивні, придуркуваті (Водяний, Лісовик, Домовик та ін.). А найвищим дарунком для кожного з них (у тому й для Диявола (Самого), що є розпорядником балу нечисті!) стає пляшка самогону (?!)». – Який же він нехитрий! Тих, хто уособлює саме природні сили називає «надприродними» й не розуміє, що пляшка самогону в магічній традиції має дещо інше значення, ніж в його буденному житті. Согласно «Словарю символов» Х. Э. Керлота: «Алкоголь, или жизнь-вода (aqua vitae) является огнем-водой, то есть символом coincidentia oppositorum (соединения противоположностей), когда два принципа, один из которых активный, а другой пассивный, встречаются в жидкости и изменении, в созидательно-разрушительном отношении. В частности, горящий алкоголь символизирует одну из великих тайн Природы; Башляр удачно говорит, что когда алкоголь горит «он кажется как бы «женской» водой, утрачивающей всякий стыд; неистово отдает она себя своему господину – огню»». Таким образом видим, что главной причиной брюзжания является здесь исключительная неосведомленность д. Полищука практически по всему спектру идей, задействованных в романе Кондратьева. Потому и с искрометным юмором описанная в нем жизнь, до краев наполненная различными смыслами, видится ему «одноманитной», «брудной», «серой», «вульгарной», а ожившие под пером художника персонажи, такие как прекрасный в незамысловатой своей лесной мощи Леший, уморительные в постигших их несчастьях, инспирированных космическим принципом пола, Водяной и Домовой, видятся ему «аномально похотливыми» и «придурковатыми». Столь очевидная ничем не обоснованная напраслина может свидетельствовать лишь о собственных проблемах критика. Находясь под явным влиянием «Лесной песни» Ларисы Косач, где жизнь людей действительно подчинена примитивным порядкам, в то время как мир «нежити и нечисти» идеализирован, т. е. подан романтично-піднесено, Полищук норовит подогнать под сию мерку неизмеримо более сложное произведение, каковым является роман Кондратьева. Какого еще результата – кроме вульгарного и придурковатого – можно ожидать в таком случае? 8 «Отака ось важка житейська проза, вовтузіння з прикріпленою пляшкою самогонки та ковбасою – замість романтично-захопливого польоту на мітлі». – В данной фразе невооруженным глазом можно разглядеть две особенности ее автора. Во-первых, непреходящую юношескую блажь, вызванную «романтично-захопливим польотом на мітлі» булгаковской Маргариты. Похоже, что этим – наряду с «Лесной песней» и «ранним Гоголем» – исчерпывается знакомство д. Полищука с «демонологической» тематикой. Быть может, он еще в восторге от полетов на метлах Гарри Поттера и его друзей, но с Гарри или без, а знаний этих явно недостает даже для реферата на эту тему первокурсника. Во-вторых, весьма забавную смесь хитрости и наивности, непонятно на кого рассчитанную. Речь о том, что в своих примерах из Кондратьева Полищук выбирает вырванные из контекста вспомогательные фразы, тогда как стоит лишь передвинуть нос на следующую страницу – и найдешь то, что хочешь. Тот же «романтично-захопливий польот на мітлі»… – Пора! – Аниска перекинула ногу через прислоненный к печи ухват с помелом. Держась левою рукой за железо рогача, а правой за выступ припечка, она стала вдыхать в себя пар, густо подымавшийся теперь из горшочка. В голове ведьмы скоро стало кружиться, в теле чувствовались необыкновенная, почти невесомая легкость и какая-то слабость, соединенная с неукротимо влекущим порывом в пространство. Ноги стоявшей все время на цыпочках Аниски устало подогнулись, сердце замерло в ней, в глазах потемнело, и, чувствуя, что она падает в какую-то бездну, колдунья потеряла сознание... Это состояние длилось один только миг. В следующее мгновение ведьма ясно ощущала, что она не падает, но стремительно подымается вверх, летит на своем рогаче-помеле на заветную Осиянскую гору... Тело Аниски обдавала ночная прохлада; в ушах свистало, не то от быстроты полета, не то от встречного ветра, трепавшего ей распустившиеся по воздуху косы. В глазах, подобно искрам, мелькали частые, очень яркие звезды. Где-то далеко-далеко слышался растущий по мере приближения шум и грохот призывного бубна... Вот вдали сверкнула внизу не похожая на звезду ярко-красная точка, разросшаяся потом в целое сплетенье костров. Подлетев к ним ближе, Аниска разглядела, что костры эти образуют собою причудливое соединение круга с четырехугольником. Видно уже было, как взмывают к небу и лижут, колеблясь, ночную мглу алые языки этих призывных огней. О достоинствах романа «На берегах Ярыни» можно говорить бесконечно долго, об этом будет написано еще не одно исследование. В настоящей статье отмечу, тем не менее, то достоинство, которое, на мой взгляд, является основополагающим для Кондратьева. Это – умение абсолютной объективации, позволившее создать произведение по сути лишенное недостатков. Тех же, кто таковые якобы видит, могу заверить: это недостатки не романа, а вашего собственного видения, не выведенного пока на уровень абсолютной объективации. Как только это произойдет – будьте уверены: роман «На берегах Ярыни» откроется вам во всем своем великолепии. Творением, отмеченным печатью высшей мудрости и художественности, покоряющим душу как глубинным наполнением, так и мастерством внешней отделки, как полетом фантазии, так и строгим подчинением логике мифа, как совершенством композиции, так и искусством детали. И, конечно же, поэзией высшей пробы, примером чего может служить художественное постижение «зимнего» смысла праздника Рождества. В стороне от дороги, в укрытой от человеческих глаз сугробами уединенной долине, на снеговом престоле сидела царица Зима, задумчиво глядя на окружающих перед нею в быстрой пляске демонов вьюги. Мыслью унеслась чародейка в давно прошедшее, когда ее так радовала полученная ею на новых местах власть почти на полгода сковывать твердую землю, болота и реки. «Тогда меня тешило это; тогда я так была счастлива, как только мне удавалось прогнать с этих мест гордую золотистым румянцем щек своих Лето. Мне так хотелось в те времена как можно дольше держать в руках своих этот алмазный скипетр, делающий реки проезжей санной дорогой, а осмелившихся подглядывать за мною людей – неподвижными трупами. Мне нравились и песни полночных ветров, внуков Стрибога, и до сих пор непонятные для меня слова похоронный вой напоминающего пенья Пурги. Теперь я не дорожу своей царственной властью и бываю даже довольная, когда сын моей соперницы, в красный сарафан наряженной – Лета, приезжает меня изгонять из этой страны. Он очень красив на своем белом коне, в кольчатых червонных перчатках и в золотом шлеме с жемчужными подвесками. Стройные ноги его блестят серебром... Юное лицо солнечного бога всегда очень мне нравилось, и помню, я никогда с особой охотой не вступала с ним в бой. Я щадила молодого врага своего и старалась больше напугать его, оборачиваясь снежным драконом, чем причинить ему вред. Но разве я виновата, если он сам непременно хочет сражаться вместо того, чтобы сойти с коня и обойтись со мною как с расположенною к нему нежной подругой?.. Я так одинока!.. Разве я не могла бы, подобно Лету и скованной мною Земле, рождать каждый год радующее сердце потомство?.. Но, увы, нет около меня никого, кто бы нравился и сам хотел нравиться мне, а тот, от кого я некогда произвела на свет сына, Лада, теперь уже не в состоянии производить... И многих из тех, кого я знавала в дни юности, давно уже нет. Где теперь повелитель ветров, грозный Стрибог? В какую страну он удалился? Здесь остались лишь внуки его, которые не хотят или не могут мне рассказать о своем деде... Придворные мои советуют мне выбрать в мужья себе Вила. Говорят, он был когда-то мужем царившей здесь до моего прихода безобразной Лоухи. Он не бежал вместе со своею подругой, но задержался у племен, живущих в лесистой Литве. После его признали как бога и другие живущие здесь племена, считающие его также мужем Бабы Яги. После таких двух жен я не хочу быть третьей у этого Вила. Обойдусь как-нибудь и без него. Посмотреть разве, что делает теперь красавица Лето?..» – Студит, – крикнула царица, – принеси мне мой волшебный алмаз! Почтительно изгибаясь, поднес ей один из ее приближенных демонов крупный, на граненое яблоко похожий бриллиант. Взяв его в руки, поймала им Марена-Зима один из лунных лучей и стала внимательно смотреть в сверкающую кристальную грань. И увидала башню в далеких заоблачных странах, над теплыми синими морями, расписной косящатый терем вечно юной красавицы Лето. В терему том царило теперь оживление... Молодые розоликие гостьи, каждая со звездой на челе, одетые в алые, шитые золотом сарафаны, с голубыми и синими лентами, вплетенными в русые косы, собрались поздравить родильницу и пожелать здоровья новорожденному солнечному богу. Одна за другой склонялись они к колыбели малютки и клали около принесенные с собою дары... Досадой и гневом вспыхнули очи Зимы. На мгновение она вновь стала совсем молодой и прекрасной. Топнув ногой, поднялась ледяная богиня во весь рост и подозвала к себе главных демонов свиты своей: морозку по прозванию Ломоноса, Студита и Опоку. Все трое отдали царице низкий поклон и молча выжидали приказаний. – Слушайте, верные слуги. Опять там, – сказала Марена, указывая на восточную часть неба, – родился божич, который рано или поздно придет и прогонит нас с этого места, как ветер тучи, на самый край света. Позаботьтесь, чтобы возможно дольше мешать ему в этом. Крепче скуйте ручьи и речки по лесам и оврагам. Скажите полночным ветрам, чтобы они не пускали сюда прилетать полуденных братьев своих и боролись с ними изо всех сил. Не то скоро нам всем придется покинуть эти края. И поспешили исполнить этот приказ верные послушные слуги. 9 В 2002 году в ивано-франкивском издательстве «Лілея-НВ» свет увидел «Міфологічний горизонт українського модернізму» – «монографія» нашего героя добродия Ярослава Полищука. Перед написанием настоящей статьи – дабы оценить по достоинству научные изыскания оппонента – я счел своим долгом прочесть эту 390-страничную «монографию». Честно признаюсь, чтение это оказалось делом нелегким, растянувшимся на долгие месяцы. И все же сей скорбный труд увенчался успехом, после чего я принял поздравления от одного ровенского доцента-литературоведа, сообщившего, что я единственный из его знакомых, кому удалось осилить это творение от начала до конца. Сам он, кстати, одолел всего 17 страниц текста, что, впрочем, меня – хранящего еще живые впечатления от прочитанного – нисколько не удивило. А впечатления, надо сказать, незабываемые, ибо как можно забыть, к примеру, такой вот образчик фирменного полищуковского штиля со страницы 169: «Таємниця анагогії полягає в такому способі поєднання образних смислів, який забезпечує їх трансценденцію. Континуація загального ладу слів-образів здійснюється таким чином, що вони виражають паралельний, символічний сенс буття. Таким чином, візійна природа художнього образу виявляє свою стійкість, руйнуючи натомість імовірні ілюзії реальності чи інвазії дійсних, але не трансформованих творчістю, вражень світу. Ранній модернізм, спираючись на естетичний досвід домодерної літератури, створює імітацію всеохопного сну в характерних анагогічних формах – декадансу, сецесії, аісторизму. На рівні структур-бінарних опозицій, створюваних щодо конвенційного типу оповіді, вони утверджують своєрідний архетипний код у літературі кінця ХІХ та початку ХХ ст. Виразною ознакою цих форм є їх заангажованість у тенденції ідентичності, яка, з одного боку, сприяє їх повноправному конституюванню в літературній практиці, а, з іншого, апелює до риторики міфу як нереалізованої площини sacrum у культурній традиції». – Думаю, що лише за один цей зразок сучасної наукоподібної мови добродій заслуговує на бронзове погруддя, якщо не на подвір’ї Острозької академії, то принаймні на центральній площі рідного села Самостріли Корецького району. Интересен также тот факт, что, судя по названию «монографии», ее автор оказывается как бы причастен мифологии – тому предмету, о котором мы так много говорили, разбирая творчество Кондратьева. Учитывая это, может показаться странным то полное непонимание его сути, которое продемонстрировал Полищук в своей «реплике». Однако странность эта проясняется при знакомстве с содержанием полищуковской «монографии». Дело в том, что мифология для этого автора это вовсе не рассказ о богах, о мироустройстве, структуре мира; мифология для него это… нечто «модерное». Читаем, к примеру, на с. 57: «Принаймні, сам Барт, реконструюючи міфи масової свідомості, не міг не визнати, бодай непрямо, конструктивної, творчої функції міфу. Він роздумував над тим, як може утверджуватись «штучна» міфологія, котра заповнить лакуну розвінчаних суспільних міфів». – Или на с. 68: «Слушно визнають, що постмодерні наукові концепції самі багато в чому схожі на міфи, розгортаються та утверджуються за законами міфології». Таким образом, мифология для Полищука начинается не с Египетской Книги Мертвых, не с Ригведы, не с Авесты и не с Гат Заратустры, не с Теогонии Гесиода, – названий этих в «монографии» Полищука не отыскать, ибо для него «мифология» начинается с Ницше, Фройда, Бергсона, Фрая, Барта и других европейских философов нового времени. Не зная текста, можно предположить, что об основополагающих мифологических моментах автор не упоминает по той причине, что сие выходит за пределы его исследования, но моменты эти им вполне усвоены. Однако знакомство с текстом свидетельствует о чем-то прямо противоположном – о том, что автор профан не только в мифологии, но и в азах той философии, о которой берется рассуждать. Примеров этому настолько много, что приходится выбирать наиболее «яркие». Итак, с. 78… «Якщо людину постійно супроводжує страждання, то її життя виявляється сповненням певного приречення, у ньому не знаходиться місце втісі… Як вийти із зачарованого кола страждань? Шопенгауер вважає, що такий вихід можливий у разі заперечення людиною волі до життя… Неважко помітити, що в трактуванні цієї ідеї німецький песиміст не був оригінальним, адже задовго до його вчення була вироблена християнська традиція аскезисамозречення (як у католицизмі, так і в православ’ї), схоже тлумачення можна надибати також в інших світових релігіях». – Учитывая, что полищуковская «монография» обозначена как «наукове видання», и потому, надо думать, рекомендована студентам высших учебных заведений, от подобных «откровений» аж дух захватывает. Дело в том, что христианская традиция монастырской аскезы не имеет ничего общего с отказом от воли к жизни. То, что легло в основу философских взглядов Шопенгауэра и что пересказывает Полищук, является прямым заимствованием основного буддийского постулата о прекращении страдания, выходе из колеса сансары и достижении нирваны. И это знает каждый студент, изучающий религиоведение, – а вот «профессор» Полищук не знает! И свое незнание «развозит» по всему разделу, как то видно из следующих фрагментов: «…Ніцше виявляє інтерес до засад східних релігій, зокрема екзотичного в Європі буддизму. Там він знаходить підтвердження своїм уявленням про потребу культу світлого, життєствердного, сильного, здорового начала. Слід зауважити, що інтерес філософа до буддизму не був системним. Зрештою, його знаменитий герой Заратустра – своєрідний збірний образ». (С. 125); «Стихійна життєва воля Пера Гюнта – симптоматична ознака героя нової епохи європейської цивілізації. Вона виростає із заперечення пасивності християнства…» (С. 130) – В буддизме – основанном на отказе от воли к жизни – Ницше находит жизнеутверждающее начало?! Ай да Полищук! Это действительно «новое слово» – как в религиоведении, так и в философии… Интересно также, что постоянно называя Фридриха Ницше «автором Заратустры», д. Полищук ни словом не обмолвился об историческом Заратустре – основателе зороастризма. Никак, не знает такого? Что до второй цитаты, то здесь поражает заявление о «пассивности христианства» – при той активности, которая характерна для всех аспектов данной религии – исторического, миссионерского, душеспасительного. «Своеобразие знаний» демонстрирует Полищук и касательно классических представителей европейской философии. Как, например, на с. 77: «Категоричний висновок німецького песиміста (тобто Шопенгауера. – О. К.) засвідчує його позицію скепсису щодо пізнання. Він заперечував ту перспективу розвитку, яка цілком ясно уявлялася послідовникам раціоналізму Гегеля та позитивізму Канта і, зрештою, надихала їх на активну діяльність». – Что такое «позитивизм Канта» известно, наверное, одному лишь Полищуку. Не иначе, что агностика Иммануила Канта профессор спутал с основателем позитивизма Огюстом Контом. И удивляться здесь не приходится, потому как на с. 91 замість Бергсона маємо «філософію Бергмана». С. 90: «У науковій думці цього періоду співіснують дві моделі цивілізації. Перша успадкувала і логічно розвинула ідеї просвітництва та романтизму – Вольтера, Руссо, Гете, Гегеля, Гердера». – Кто же из перечисленных мужей, по версии профессора, представляет романтизм? Интересно также узнать, кем по этой версии является Гегель – просветителем или романтиком? С. 116: «У теорії Фройда, а ще більшою мірою – в працях його послідовників, зокрема, К. Юнга…» – Да будет известно профессору, что Юнг был последователем Фрейда лишь на самом раннем этапе, а с 1913 года стал его весьма жестким оппонентом. Такие вот познания демонстрирует «профессор» Полищук в религиоведении, истории философии, то же и в мифологии: «Ніцше запально переконував читача в необхідності визнання другої іпостасі культури, змодельованої ним в образі Діоніса – еллінського бога страждання, смерті та відродження…» (С. 86) – Если бы профессор изучал эллинскую мифологию не по Ницше, то он бы знал, что Дионис это, прежде всего, бог вина и виноделия (у римлян Вакх). В хрестоматийной книге Николая Куна он описывается следующим образом: «С веселой толпой украшенных венками менад и сатиров ходит Дионис по всему свету, из страны в страну. Он идет впереди в венке из винограда, в его руках тирс, украшенный плющом. Вокруг него в быстрой пляске кружатся с пением и криками молодые менады; скачут охмелевшие от вина неуклюжие сатиры… Весело идет по земле Дионис-Вакх, все покоряя своей власти. Он учит людей разводить виноград и делать из его тяжелых спелых гроздей вино». – Как видим, не очень похоже на бога страдания и смерти. Если же речь идет об ипостасях Диониса в Элевсинских мистериях, то момент этот необходимо оговаривать отдельно. Но особенно поразили нас феноменальные познания профессора в истории. На с. 250 мы нашли фразу, своей иррациональностью или – по выражению самого Полищука – «аисторизмом» способную вывести из строя самый совершенный компьютер. Оказывается… «Спочатку опосередковано, а згодом і відверто імперська Росія заявила про своє право присутності на Балканах, під цим приводом 1877 року оголосивши війну Туреччині. Війну Росія ганебно програла, заплативши за політичні ілюзії численними людськими жертвами». – Как видим, речь идет о русско-турецкой войне 1877-1878 гг., закончившейся подходом российских войск к Стамбулу, капитуляцией Турции и подписанием СанСтефанского мирного договора, в результате которого независимость получили Сербия, Румыния и Болгария. Все эти знания входят в курс программы даже не университета, а средней школы. Так что же в таком случае случилось с «доктором филологических наук», «профессором» Ярославом Полищуком? Неужели так давно закончил школу, что успел все забыть? Возможно, но главная причина, на мой взгляд, в другом. Ляпсус этот, скорее всего, стал результатом победы иррационального над рациональным – то бишь подсознательной русофобии над здравым смыслом. В свете чего становится вполне понятным и главный вопрос нашего исследования – реакция д. Полищука на «возвращение Кондратьева». А посему в качестве лекарства пропишем ему стихи болгарского поэта Ивана Вазова, написанные 22 ноября 1876 года – в преддверии той самой русско-турецкой войны, принесшей освобождение Болгарии. Итак, отрывки из стихотворения «Россия!» в переводе Н. Тихонова (специально для д. Полищука). Повсюду там, где вздох суровый, Где неутешно плачут вдовы, Где цепи тяжкие влекут, Ручьи кровавые текут, И узник-мученик томится, И обесчещены девицы, И рубища сирот сквозят, И старики в крови лежат, И в прахе церкви, сёла в ранах, И кости тлеют на полянах, У Тунджи, Тимока и Вита, Где смотрит жалкий раб забитый На север, среди темных бед, – По всей Болгарии сейчас Одно лишь слово есть у нас, И стон один, и клич: Россия! Россия! Свято нам оно, То имя милое, родноё, Оно, во мраке огневоё, Для нас надеждою полно. Напоминает нам, скорбящим, Что, всем забыты миром, мы Любовью сладостной, хранящей Озарены средь нашей тьмы. Земля великая, Россия, Всей ширью, светом, мощью – ты С небесной только схожа синью, С душою русской широты. О, здравствуй, Русь, в красе и мощи, Мир вздрогнет, услыхав тебя, Приди, царица полуночи, Зовём тебя, зовём любя. Народ зовёт единокровный, И час настал – к своим приди, Что предназначено – исполни, Завет великий воплоти! ПРОЩАНИЕ С МАСТЕРОМ К 115-летию со дня рождения, которое отмечали 15 мая сего года, Михаил Афанасьевич Булгаков подошел в ранге, что называется, писателя первого плана, – окончательно и бесповоротно вошедшим в пантеон литературных гениев и, как следствие, во все курсы школьных программ. (Даже в курс «Зарубежной литературы» для украинских школ!) Такое положение предопределилось признанием произведений Булгакова практически во всех слоях общества – и у «высоколобой» мыслящей интеллигенции, и у псевдоинтеллигенции, взращенной на романах Ильфа и Петрова, и даже – что особенно важно для создания культа – у молодежи нескольких последних поколений. Впрочем, объяснение булгаковского феномена лежит на поверхности – в его произведениях присутствует как элитарная, так и популярная составляющие. Но если в 70-80-е годы прошедшего столетия Булгаков бесспорно являлся писателем элитарным, то с годами соотношение это резко сместилось в пользу популярной составляющей. И наверняка этой тенденции в еще большей мере будет способствовать вышедший на телевизионные экраны в конце прошлого года сериал «Мастер и Маргарита» режиссера Владимира Бортко. Фильм вызвал многочисленные споры с резким разделением на сторонников и противников. Сами создатели сериала – Бортко энд компани – однозначно заявили, что, дескать, создали они невиданный доселе шедевр. Многочисленная армия телезрителей с этим согласилась, но не менее многочисленная армия так же однозначно заявила, что сия постановка – самая что ни на есть низкопробная халтура! Можно, конечно, не обращать на все это особого внимания, отделавшись дежурным «о вкусах не спорят»; можно примкнуть к одной из партий и восхищаться либо замечательным творением Бортко, либо первоисточником, который Бортко испоганил. Но, на мой взгляд, прекращать этот спор ни в коем случае не стоит, ибо вызвавшие его причины очень важны и интересны. И от Бортко они плавно переводят к самому Булгакову и заставляют по-новому взглянуть на его знаменитое творение. Об этом и пойдет речь дальше. Часть 1. Владимир Владимирович Для затравки – два отзыва. «…Бортко сделал не просто добротную экранизацию, но выдающееся по красоте и силе кино, местами конгениальное тексту. Это лучше, чем «Собачье сердце» и «Идиот». Кому-то не понравились первые серии, кого-то смутили третья-четвертая, но после пятой зрители почти единогласно сошлись на том, что на глазах происходит чудо». (Газета «2000» от 30.12.2005, Д. Быков) «Такое кино смотреть – себя не уважать (хотя сам посмотрел). Просто полный отстой. Господа киношники, ну я понимаю, ну хотели бабки отмыть, так и снимайте себе по Марининой или всяких расплодившихся ментов, зачем над Булгаковым надо было измываться?!!!» (реплика из Интернета, некто Александр) Где-то между этими диаметрально противоположными мнениями постараюсь разместить собственную позицию. Для меня смотреть работу Бортко было, прежде всего, тягостно. Чувство это определялось самой режиссерской концепцией – создать нечто, как можно более близкое к тексту. «Когда я писал сценарий картины, – в интервью «Российской газете» отметил Владимир Бортко, – я не добавил от себя ни единого слова». Такой подход, конечно, вполне обоснован, но у зрителя, прекрасно знакомого с первоисточником, он может вызвать также вполне обоснованные опасения. Так как на протяжении десяти часов смотреть то, что знаешь наперед, – занятие не слишком интригующее. Спасти ситуацию в этом случае могла только блестящая постановка: актерское мастерство, техническое совершенство и все объединяющая режиссерская мысль. Как, например, в «Мертвых душах» Швейцера или в «Собачьем сердце» того же Бортко. Несмотря на то, что знаешь первоисточник почти наизусть, и сами эти картины смотрел неоднократно, не устаешь наслаждаться ими еще и еще. Ясное дело, благодаря блестящей постановке, что называется, попаданию в десятку. Увы, что бы ни говорили и как бы этого кому-то ни хотелось, но с «Мастером и Маргаритой» такого попадания не произошло. И тут остается только спорить о том, куда именно угодили создатели фильма – в восьмерку, семерку, или же в «молоко»? Приведу некоторые собственные замечания, не позволяющие слишком высоко оценивать этот сериал. Итак. Как мне кажется, тягостность впечатления во многом вызывается «мертвой» привязкой к роману, что производит эффект прямо противоположный ожидаемому. Ведь то, что органично в пространстве романа, при буквальном переносе на экран органичность эту частенько утрачивает. Роман ведь – не готовая для постановки пьеса. А когда еще актеры не способны психологически оживить реплику, то в результате остается что-то заученно-искуственное. А актеры, надо сказать, подобраны, хуже некуда. В том числе и на главные роли. Самым первым бросается в глаза никакое попадание в образ Коровьева звезды советского кино и любимца советских женщин Александра Абдулова. Ведь насколько «кинематографично» выписан Коровьев в романе! Очень динамичный, весь в движении, трещит не умолкая, это Джингль из «Посмертных записок Пиквикского клуба», типаж тощий, длинный как жердь, вот как, например, Валентин Никулин… А что же делает Абдулов? Да ничего не делает. В смысле, для создания образа. Просто ряженый под Коровьева персонаж, тускло произносящий заученные булгаковские фразы, – и все это настолько заурядно! Очень банальным и совсем не удачным, как это кажется на первый взгляд, является выбор Александра Филиппенко на роль Азазелло. Банальным – потому как для Филиппенко подобные образы стали уже клише: как только что-то инфернальное, так сразу же Филиппенко. Начиная с роли Смерти в фильме о Хоакине Мурьете. А неудачным – потому как Бортко решил упростить булгаковскую демонологическую концепцию. Демоном смерти, на которого очень похож герой Филиппенко, у Булгакова является Абадонна. Азазелло же – такой себе демон-убийца, описанный Булгаковым как маленький, клыкастый, широкоплечий и огненно-рыжий. По-моему, удачный типаж в этом плане – Виктор Сухоруков как он есть в недавних «Жмурках». И крайне банальна, конечно же, исполнительница роли Маргариты. Банальна в смысле внешности – вот такая черноглазая, черноволосая, короче говоря, жгучая брюнетка. Это ведь наиболее расхожий образ такой себе очаровательной ведьмочки. Первое, что приходит на ум. Неужели нельзя придумать что-нибудь пооригинальнее? А игра? Большую часть игрового времени кричит и истерично смеется, на обеде у Воланда строит глазки и выкрикивает заученные реплики – очень попсово и непрофессионально… Из актеров второго плана совершенно бездарной игрой привлекают внимание исполнители ролей Лиходеева, Варенухи, старичка-буфетчика. Последний, к примеру, сидя у Воланда, с ничего не выражающей физиономией слушает, как ему сообщают о его собственной смерти. Ну а про массовки вообще говорить не хочется. Сцена перестрелки Кота с НКВД-истами (под дурацкий лейтмотив Корнелюка «тили-тили, трали-вали») сделана на уровне низкобюджетного телеспектакля; очень слабая массовка в сцене в торгсине – и крайне слабая работа Абдулова… От полного провала ситуацию спасают Басилашвили-Воланд, Адабашьян-Берлиоз, Галкин-Бездомный, Василий Ливанов в маленькой роли профессора Стравинского, Баширов-Бегемот, Лавров-Пилат и Любомирас Лауцявичус в роли Афрания. На мой взгляд, наибольшей удачей Бортко в этом сериале является прочитывание роли Афрания как ипостаси Воланда и очень удачное воплощение этого внешним сходством и характерной игрой двух актеров. Что же касается центральной роли Иисуса-Иешуа, то выбор на нее Сергея Безрукова иначе как конъюнктурным и не назовешь. Пускай и в булгаковской интерпретации, но это все же священный образ христианства, потому актера для его воплощения выбирать нужно очень и очень осторожно. Но для Бортко, видать, все это – религиозный подтекст и чувства верующих – не более, чем пустой звук. Потому и в роли Иисуса оказывается тот, кто у телезрителей еще долго (если не всегда) будет ассоциироваться с бандитом Сашей Белым. Совершенно не впечатляет сцена казни, а ведь по своему содержанию это одна из главных сцен. Вместо палящего солнца Голгофы имеет место умеренно-бархатный климат черноморского побережья. В общем, как ни старайся, но из Крыма Иудею не сделаешь. Одним словом, бутафория. Также как Левий Матвей, спокойно сидящий на заднице и в этой позе шлющий проклятия Небу… Еще одной нелепостью постановщика стало наделение Мастера-Галибина легко узнаваемым голосом Безрукова (как оказалось, без ведома Галибина). Для чего это было сделано? Может быть, чтобы чем-то связать Мастера с Иешуа? А может просто голос Галибина режиссеру не понравился? Как бы то ни было, а ничего хорошего из этого не вышло: это так же неприятно, как Трентиньян с голосом Штирлица-Тихонова в советской копии фильма «Мужчина и женщина». Количество столь очевидных просчетов в сериале настолько велико, что становится даже как-то неловко за тех, в чьем профессионализме до этого не приходилось сомневаться. (А многие борзописцы на полном серьезе именовали Бортко не иначе как «одним з найвидатніших режисерів сучасності»). Что же произошло? Что не сработало в системе Владимира Бортко? Ведь был же у него блестящий опыт экранизации Булгакова – «Собачье сердце». И в жанре телевизионного сериала он весьма поднаторел, и со столь сложной работой как экранизация «Идиота» справился на «отлично». Или «Мастер и Маргарита» – настолько крепкий орешек, что удачно воплотить его на экране невозможно в принципе? Сдается мне, что дело совсем в другом. Ну, во-первых, Владимир Бортко, при всем к нему уважении, это далеко не Тарковский. И наряду с упомянутыми выше удачами его послужной список содержит не менее явные провалы. Например, «Блондинка за углом» – комедия с настолько никудышным надуманным сценарием, из которого никакой актерский состав не смог бы сделать что-то путное. Заметим, что сценарий этот написан самим Бортко. Так же, как и сценарий «Мастера и Маргариты». Однако принципиальная разница заключается в том, что во втором случае это сценарий, написанный по уже готовому роману. Роману очень популярному, что называется, культовому. Поэтому чтобы понять причины неудачи Бортко, необходимо для начала уяснить те цели, которые он перед собой ставил. И тогда уже можно будет рассуждать о том, что у него получилось, а что не получилось. Как утверждает сам режиссер в интервью газете «2000» (от 30.12.2005) «единственный стимул к экранизации – когда книгу, которая тебе нравится, все читают неправильно. Вычитывают то, чего там нет. Не замечают очевидного». И продолжает об основной коллизии «Мастера»: «Есть некий человек… можно сказать, что дух или падший ангел, но я предпочитаю говорить, что человек. И узнает он, что в некой стране строят принципиально новое общество – без корысти, без угнетения, без пороков. А поскольку он в некотором смысле специалист по порокам, знаток их истории и теории – ему интересно, и он едет разбираться на месте: как так, что за новые люди? Произвел контрольные замеры. Это, кстати, ответ на вопрос: почему дьявол так сравнительно мало начудил в Москве? Почему не разнес все, ограничившись несколькими простыми чудесами, гастролью в варьете и спасением одной пары? Потому что ему больше ничего не надо было: он едет не конец света устраивать, а разбираться в ситуации. Ставит эксперименты: с деньгами, с разоблачением вранья… И видит, что люди как люди, квартирный вопрос их только испортил. Квартирный вопрос надо понимать в самом широком смысле». Такое вот понимание романа «Мастер и Маргарита» режиссером Владимиром Бортко, и исходя именно из этого понимания следует оценивать конечный продукт. Сразу же становится ясным зачем Бортко выпятил на передний план советскую действительность (указав даже год – 1935-й), – транспаранты, бравурные марши, портреты вождей, и вездесущее НКВД во главе с Гафтом-Берией, и совершенно, казалось бы, неуместную четырехминутную вставку кинохроники процесса Бухарина-Рыкова. Вот только здесь получается некоторая неувязочка: у Булгакова-то в романе все это если и присутствует, то, так сказать, в непроявленном, латентном, скрытом состоянии. Такое положение вещей делает роман «Мастер и Маргарита» вневременным, в корне отличным от таких вещей как «Дети Арбата», «В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ» и т. д. В бортковском же сериале в результате внедрения чуждой «Мастеру» эстетики этих конкретно антисталинских произведений как раз-то и разрушается присущая роману ВНЕВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТОНИКА. А ведь именно она делает роман безумно популярным и культовым. Так что, анализируя причины бортковской неудачи, в первую очередь обратим внимание на моменты несоответствия романа и его телевоплощения. Так сказать, на собственное бортковское «творчество». Помимо проходящей через весь фильм линии НКВД, отметим также некоторые упрощения первоисточника, и извращения оного. Например, такой момент, как произвольное распределение авторского текста между различными персонажами. Стараясь буквально воспроизвести текст на экране, Бортко наделяет авторскими монологами из романа кого ни попадя. Лиходеева, который за ужином в «Грибоедове» (что также не соответствует первоисточнику, ибо Лиходеев к МАССОЛИТу, а следовательно и к «Грибоедову» не имел никакого отношения) развязно рассказывает историю квартиры № 50; следователя НКВД, делающего доклад ГафтуБерии, и самого Лаврентия Павловича, в уста которого вложен авторский текст эпилога, – в фильме его в качестве доклада на конференции слушает вся Советская страна: крестьяне и сталевары, кавказцы и казахи, и даже чукчи возле своих чумов (как будто похождения компании Воланда в Москве могут быть интересны чукотским оленеводам). Вообще, попытка буквального воспроизведения текста эпилога свидетельствует о просто-таки смертном для художника грехе – об отсутствии чувства композиции. Ведь композиция романа и фильма не может быть тождественна. У этих жанров свои специфические законы, и если в булгаковском романе эпилог выглядит ненавязчивым послесловием, то воспроизведение его в бортковском фильме – это какой-то лишний аппендикс. Примером опрощения может также служить сцена в ложе Семплеярова на сеансе черной магии с ее «разоблачением». В полноценной романной версии рядом с Аркадием Аполлоновичем помимо жены находится еще молодая амбициозная родственница. Между этими тремя и разыгрывается искрометная уморительная перепалка, в фильме же все сводится к банальному «вот тебе! вот тебе!» – разъяренная жена бьет зонтиком неверного мужа. Пошлость и больше ничего. В сцене того же сеанса стоит отметить еще такую небрежность: обращаясь к незадачливому конферансье, Коровьев-Фагот в фильме произносит «Поздравляю вас, ГОСПОДИН соврамши!» – хотя по тексту надо бы «ГРАЖДАНИН соврамши!» Мелочь? Как сказать. Соврамши-то оказывается сам Абдулов. А вместе с ним и режиссер. Из-за такого вот невнимания к точности словоупотребления в фильм вкралась гораздо более чудовищная ошибка: в сцене на Патриарших Воланд-Басилашвили изрекает, что, дескать, «ХРИСТОС существовал». Это же каким нужно быть профаном, чтобы не чувствовать разницу с тем, что есть в тексте у Булгакова – «ИИСУС существовал»! И этот режиссер берется за фильм, напрямую связанный с вопросами христианства!* (* Христос – греческое соответствие еврейскому Мессия, т. е. тот, которого ждали в качестве Помазанника. Так что у Бортко выходит, что Сатана утверждает буквально следующее: «МЕССИЯ существовал»!) Наконец, чего стоит «ведьма» Наташа, вбегающая к Воланду с перьями на голове и нелепой заплаткой на срамном месте! Возникает вопрос: это кто – ведьма или танцовщица из «Мулен-Руж»? Опять-таки, к чему вся эта бутафория, если в тексте конкретно сказано: «Тут в открытую дверь вбежала Наташа, как была нагая…» Но эта бутафория является «фирменным» знаком всего сериала – знаком того, что Бортко оказался совершенно беспомощным в том пространстве, которое создал в своем романе Булгаков. В интервью газете «2000» режиссер утверждает: «Булгаков всю жизнь занимался политической и – шире – социальной сатирой, он сатирик по преимуществу, как и Гоголь. Чтобы написать жесткий и точный роман, ему понадобился сказочный и готический антураж. Только под маской сказки столь резкая книга и могла проскочить, он же не отказывался от надежды увидеть ее опубликованной! Вообще же «Мастер» – роман не мистический. Ему это приписывают, раздувают легенду о патологической невозможности его снять, о роке, который над ним тяготеет… В сотый раз повторяю: мистика действует на тех, кто в нее верит. Для меня вся чертовщина в романе – художественный прием, не более. Думаю, что и для Булгакова тоже. Он был врач, человек трезвый». Когда слушаешь эти рассуждения досточтимого Владимира Владимировича, на ум, как будто в насмешку, приходит еще один «трезвый» и рассудительный человечек, совершенно не верящий ни в Бога, ни в черта. Да-да, именно Михаил Александрович Берлиоз. Так что беда всего проекта под названием «Мастер и Маргарита Владимира Бортко» в том, что его командир не верит ни во что из того, о чем идет речь в романе. Он верит, что это роман социально-политический, а вся эта «чертовщина», а следовательно и мистика новозаветная, не более чем ширма. Оттого и результат: бутафория поразила весь проект, все сделалось фальшивым и ненастоящим, и только некоторые актеры силой своего профессионализма спасли его от полного провала. Таким образом, экранизация знаменитого романа получилась мертвой изначально: вроде бы обо всем сказано, а жизни нет. А просто не надо лезть не в свое дело. До этого Бортко не приходилось иметь дело ни с чем подобным. И его рационалистического мировоззрения вполне хватало. Даже на такой грандиозный проект как «Идиот». Этот роман весьма религиозен, но потому как произведение это выполнено в канонах классического реализма, проводником божественных мистических идей здесь служит человеческая психология. В результате великолепным творческим коллективом был создан тот сосуд, который в совершенстве подошел для изначального духа романа. Таким образом, изначальный идеалистический посыл Федора Достоевского оживил и детище режиссера. Нейтрализовал бортковский рационализм, о котором тот постоянно заявляет. Совсем не то «Мастер и Маргарита». Эта книга синтетична, она состоит из множества очень разных энергетических слоев. К тому же она явно недоработана, далека от совершенства, и от режиссера требует со-творчества, развития тех или иных идей, намеченных в романе. Но для этого их нужно понимать. Теперь немного о… любви. В 1972 году югославский режиссер Александр Петрович поставил весьма интересный фильм – он так и назывался – «Мастер и Маргарита». В нем есть то, что напрочь отсутствует в сериале Бортко – живая режиссерская мысль, отсутствие «мертвой» привязки к тексту и оригинальное прочтение образов: особенно впечатляют Уго Тоньяцци в роли Мастера (он же – писатель Максудов из «Театрального романа»), Ален Кюни в роли Воланда и лирическая блондинка (!) Мимси Фармер в роли Маргариты. А в общем фильм довольно сырой и неровный, но… живой. Двумя-тремя штрихами в фильме Петровича оживляется история любви Мастера и Маргариты. А надо отметить, что вдохнуть жизнь в так называемую любовь заглавных персонажей романа – задача не из легких. Вот, к примеру, на всем немалом протяжении фильма Бортко так и остается непонятным, что же все-таки связывает этих людей – странного персонажа, именующего себя мастером, и его женщину? Эта киношная «любовь» – как данность, которую зритель должен принять на веру. Интересны рассуждения на эту тему Анны Ковальчук – исполнительницы роли Маргариты – в интервью газете «Бульвар Гордона» (№ 11, март, 2006 г.). На вопрос о том, какие у нее сложились взаимоотношения с исполнителем роли Мастера, она весьма пространно ответила: «С ним – хорошие. А вот принять отношения Мастера и Маргариты мне было гораздо сложнее. Дело в том, что если я люблю, то буквально растекаюсь в этой любви. А вот моя героиня совсем другая – женщина-воин, женщина-мать, которая воспринимает возлюбленного, скорее, как ребенка. Она же всем ради него пожертвовала! По сути дела, она в этой любви была главной и ведущей, а он – ведомым. Я все думала: каково это – встретить человека и с первого взгляда понять, что эта любовь – навсегда? Поэтому мне очень нравится сцена с желтыми цветами: встретив Мастера, она увидела свою жизнь от начала до конца. Там, если вы заметили, герои не разговаривают, от их имени идет закадровый текст. Это потому, что когда разговаривают души, нет необходимости в вербальном общении. Кстати, на эту тему мы во время съемок много спорили с Бортко. Я ему доказывала, что главное в этом романе – любовь, а он стоял на том, что «Мастер» – социальная драма о сталинской эпохе…» Не правда ли, весьма ценное пояснение для того, чтобы понять причины неудачи постановки? Последняя фраза наталкивает на мысль, что работа велась по принципу «кто в лес, кто по дрова». Но опять-таки непонятно: Анна утверждает, что главное в этом романе – любовь, но в ее же разумении Маргарита – женщина-воин, женщина-мать, а отнюдь не женщина-любовница. Так о какой же любви идет речь в романе – о материнской или о любви к Родине?! А еще вот эта странная фраза: «Она же всем ради него пожертвовала!» Да, черт возьми, чем же?! Так что не удивительно, что образ Маргариты не вышел: разве можно с таким набором мыслей создать что-нибудь чувственное и лирическое? Что же до сцены с желтыми цветами, то бишь знакомства героев, то она, на мой взгляд, одна из самых бездарных в фильме. Помните: по какой-то искусственной безлюдной улице два объекта – объект А и объект В – с каменными лицами медленно приближаются друг к другу… А ведь этот момент в романе выписан довольно живо и совершенно не так: «…Она несла желтые цветы! Нехороший цвет. Она повернула с Тверской в переулок и тут обернулась. Ну, Тверскую вы знаете? По Тверской шли тысячи людей, но я вам ручаюсь, что увидела она меня одного и поглядела не то что тревожно, а даже как будто болезненно. И меня поразила не столько ее красота, сколько необыкновенное, никем не виданное одиночество в глазах! Повинуясь этому желтому знаку, я тоже свернул в переулок и пошел по ее следам. Мы шли по кривому, скучному переулку безмолвно, я по одной стороне, а она по другой. И не было, вообразите, в переулке ни души…» Так что встреча героев произошла не на безлюдной улице, а в многолюдном потоке на Тверской, это уже затем они свернули в безлюдный переулок, но пошли, заметьте, в одном направлении. Как видим, здесь имеет место случай опять-таки опрощения, которое столь много применил в своем фильме Бортко. Безусловно, режиссер имеет право на собственное видение, на развитие, переосмысление и изменение первоисточника. Но о ценности этого видения будет свидетельствовать результат. И если вместо живо описанной сцены мы видим нечто бездарно-бутафорское, то грош цена такому переосмыслению. Не менее фальшиво сделана и сцена, когда Мастер в любовном томлении ждет Маргариту. Правда, томления как такового у актера, изображающего Мастера, не наблюдается в принципе: в единственной постельной сцене его физиономия больше соответствует фильму «Молодая гвардия». Ну а в сцене ожидания, он изображает любовное томление, мечась по квартире, хватаясь за какие-то книги и неуклюже выбегая на крыльцо. Но вот, наконец, явилась Маргарита, и он после бурных объятий (наверное, в изнеможении) садится на ступеньки. Потом он что-то пишет, а она, вскипятив чайник и бегло пробежав глазами по его писаниям, изрекает: «Ты – мастер!» (ну прямо как у Хармса: «Да никако ты писака!»). После чего они в следующей сцене долго и беспричинно (причина остается за кадром) смеются и пьют вино. И опять он что-то кропает, а она вышивает ему шапочку и вещает подобно Сивилле: «Я предсказываю тебе славу, Мастер. Только работай быстрее, я жду эти последние волшебные слова: Пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат. В этом романе – моя жизнь». Повторю, что эти более чем странные взаимоотношения двух психологически мало понятных персонажей зритель должен принимать на веру. Как данность. При том, что как нельзя лучше сюда подходит хрестоматийное «Не верю!» Ну какому творческому человеку не известно, что «посещение музы» и процесс творения – явления, происходящие не одновременно? Особенно, если муза состоит из крови и плоти, а творение являет собой не послания любимой даме, а роман из новозаветной истории. Как говорится, вы или крестик снимите, или трусы наденьте. И наконец, коллизия с романом. Учитывая эпоху воинствующего атеизма с его «Библией для верующих и неверующих» Ярославского-Губельмана, какой мало-мальски рассудочный человек сунулся бы в атеистическое издательство с романом явно теистического содержания? А если уж сунулся, то каких отзывов он мог ожидать? Но самое главное: о какой славе мечтал Мастер вместе со своей подругой? Славе литературной? Ну тогда нужно было писать что-нибудь более соответствующее эпохе. Как Максим Горький, Маяковский или Шолохов. Но, думается, ежели он взялся за роман об Иисусе Христе, то неспроста это. Эта тема вне времени и выше какой-либо конъюнктуры. Но что такое в ее свете мирская слава? Суета сует, как сказал бы Екклесиаст. И понимая эту нехитрую истину, разве стал бы человек впадать в отчаяние и уныние по столь пустяковому поводу, как нежелание его печатать и негативные отзывы враждебных критиков? Так что в этом моменте кроется очевидная слабость образа Мастера. Но момент этот коренится не в фильме Бортко, а в самом первоисточнике, так что оставим с миром многострадальное творение Владимира Владимировича и окинем взором знаменитую сию культовую вещь – роман «Мастер и Маргарита». Часть 2. Михаил Афанасьевич Пожалуй, наибольшей заслугой фильма Владимира Бортко является тот факт, что, заставив еще раз непредвзято посмотреть на произведение Михаила Булгакова, он наглядно выявил слабые его стороны. Конечно, это не оправдание для режиссера – ему должно сделать лучше, чем написано… Но для этого надо быть не Бортко, а Тарковским. Иной раз мастерство актера способно вдохнуть жизнь в совершенно неприглядный литературный образ. К примеру, Сергей Юрский и Андрей Миронов, каждый по-своему, проделали сей акт с образом Остапа Бендера. И сейчас при этом имени вспоминаешь, прежде всего, этих великих лицедеев, а не серую личность со страниц романов Ильфа и Петрова. Увы, ничего подобного не произошло в сериале «Мастер и Маргарита»: Александр Галибин (с голосом Безрукова) и Анна Ковальчук никоим образом не оживили персонажей, описанных в романе Михаила Булгакова. А все из-за того, что, следуя буквально булгаковскому тексту, сделать это было практически невозможно. Ибо линия эта в романе выписана весьма и весьма условно. И дело вовсе не в том, что вторая часть романа осталась неотредактированной, как, к примеру, в таких вот оставшихся корявыми местах: «Рыжий оглянулся и сказал таинственно: – Меня прислали, чтобы вас сегодня вечером пригласить в гости». Это что-то из серии «А теперь позвольте Вам выйти вон!» из кинофильма «Свадьба». Действительно, что значит сказанное: вечером он хочет ее пригласить, или она прийти должна вечером? «Полночь приближалась, пришлось спешить. Маргарита смутно видела что-нибудь. Запомнились свечи и самоцветный какой-то бассейн. Когда Маргарита стала на дно этого бассейна, Гелла и помогающая ей Наташа окатили Маргариту какой-то горячей, густой и красной жидкостью. Маргарита ощутила соленый вкус на губах и поняла, что ее моют кровью. Кровавая мантия сменилась другою – густой, прозрачной, розоватой, и у Маргариты закружилась голова от розового масла. Потом Маргариту бросили на хрустальное ложе и до блеска стали растирать какими-то большими зелеными листьями. Тут ворвался кот и стал помогать. Он уселся на корточки у ног Маргариты и стал натирать ей ступни с таким видом, как будто чистил сапоги на улице. Маргарита не помнит, кто сшил ей из лепестков бледной розы туфли, и как эти туфли сами собой застегнулись золотыми пряжками». Вне всякого сомнения, что, находясь в полном здравии, блестящий стилист Булгаков не допустил бы корявостей, выделенных мною курсивом. Но повторю, дело вовсе не в этом, а в отсутствии той художественной правды, которая делает образ полноценным. Разбирая образ булгаковской Маргариты, обратим внимание на интересную полемику, в которую с известными булгаковедами на страницах своей книги «Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»: альтернативное прочтение» вступил некто Альфред Барков. Эпиграфами к соответствующей главе он приводит следующие цитаты: «Маргарита... остается... идеалом вечной, непреходящей любви». (Б. Соколов) «Основной чертой булгаковской Маргариты является чувство высокой, всепоглощающей любви. Такое благородство, цельность и сила чувства русской женщины породили многие пленительные образы русской литературы». (И. Бэлза) «Образ Маргариты продолжает славную плеяду русских женщин, изображенных... Пушкиным, Тургеневым, Толстым». (В. Петелин) Оспаривая эти утверждения, А. Барков указывает на заниженный стиль – по его мнению иронический, – которым написаны главы о Маргарите в противовес высокому стилю «исторических» глав. Обратив внимание также на ряд характеристик, имеющихся в романе, а именно: на склонность Маргариты к измене (не прочь, мол, пофлиртовать с первым встречным, вот только память о Мастере мешает), на постоянные ее чертыхания и даже «длинные непечатные ругательства», наконец, на ярко выраженный ее эксгибиционизм, – исследователь делает вывод, что образ Маргариты совершенно ошибочно трактуется положительно. «О том, – пишет А. Барков, – что главная героиня романа изначально замышлялась Булгаковым как воплощение порочных начал, свидетельствуют опубликованные недавно ранние редакции романа. Так, во второй полной редакции в сцене натирания кремом была такая характеризующая героиню фраза: «Сверкая распутными глазами». А вот выдержка из описания того, что в соответствии с первоначальным замыслом происходило на шабаше у Воланда (собственно, в окончательной редакции описано то же, только в более смягченном виде): «Гроздья винограду появились перед Маргаритой на столике, и она расхохоталась – ножкой вазы служил золотой фаллос. Хохоча, Маргарита тронула его, и он ожил в ее руке. Заливаясь хохотом и отплевываясь, Маргарита отдернула руку. Тут подсели с двух сторон. Один мохнатый, с горящими глазами, прильнул к левому уху и зашептал обольстительные непристойности, другой – фрачник – привалился к правому боку и стал нежно обнимать за талию. Девчонка уселась на корточки перед Маргаритой, начала целовать ее колени. – Ах, весело! Ах, весело! – кричала Маргарита, – и все забудешь. Молчите, болван! – говорила она тому, который шептал, и зажимала ему горячий рот, но в то же время сама подставляла ухо». Хочется надеяться, – продолжает Альфред Барков, – что апологеты «светлых образов» улавливают смысловую разницу между просто «плеваться» и «отплевываться»? Или их целомудрие не позволяет вникать в такие вопросы?..» Прототипом Маргариты общепринято считать третью и последнюю жену Булгакова – Елену Сергеевну. А. Барков категорически это отвергает: «…Как можно после такого красочного описания поведения шлюхи настаивать на версии о том, что под Маргаритой Булгаков подразумевал свою собственную жену, даже если она когда-то и давала для этого повод (если верить В. Я. Лакшину)?». И в противовес общепринятым трактовкам романа этот исследователь выстраивает собственную систему толкований смыслов и прототипов. Так как это вне настоящего исследования, отмечу только, что совершенно фантастическую систему. Конечно же, вдумчивый читатель, который художественные недоработки не принимает на веру, но и не ищет в них тайных смыслов, вправе спросить: Зачем Маргарите именно Мастер, на чем основывается эта любовь? Почему книга о Понтии Пилате, которую пишет Мастер, является «ее жизнью»? Ответов на эти вопросы в романе нет. Но в отличие от Альфреда Баркова, который, не сомневаясь в гениальности булгаковского творения, находит немыслимые толкования, я отвечу просто: Далеко не всегда любовь к какому-то человеку способствует творчеству. Часто бывает как раз наоборот. Недаром ведь говорят, что любовь слепа, зла и т. д. Совершенно понятно, что Булгакову хотелось воспеть любимую женщину, и, создавая образ Маргариты, он руководствовался не чутьем мастера, а чувствами влюбленного. Так что тот образ Маргариты, в котором А. Барков находит шлюху, а Б. Соколов, И. Бэлза, В. Петелин видят идеал, – это не более чем несовершенная оболочка, фантом, следствие. Причины же остались за пределами романа, в личной жизни автора. И это очень слабое место романа. Целью данного исследования не является попытка какого бы то ни было «наезда» на писателя Булгакова. Его место в истории русской литературы советского периода более чем почетно, и с репутацией писателя-классика также никто не спорит. Другой вопрос, насколько обоснованно стремление сделать его незыблемым пьедесталом роман «Мастер и Маргарита», объявить сие творение гениальным, а его автора гением, равным Достоевскому? Для меня и моего поколения – тех, чья юность пришлась на советское время, а период становления – на перестройку, – «Мастер и Маргарита» относится к разряду книг, ставших в свое время путеводными звездами. Для меня лично, наряду с такими вещами как «Белая гвардия» того же автора, «Фиеста», «Прощай, оружие», «По ком звонит колокол», «Старик и море» Папы Хэма, «Маленький принц» Экзюпери, «1984» Оруэлла, «Над кукушкиным гнездом» Кена Кизи, «Отныне и вовек» Джеймса Джонса. В то время «Мастер» воспринимался как роман крайне необычный, загадочный и оченьочень глубокий. Такой репутации способствовали все сюжетные линии романа, их пересечение и взаимодействие. И прежде всего линия Понтия Пилата: с новозаветным преданием мы знакомились именно по Булгакову. Потом уже стали издавать «Жизнь Иисуса» Ренана, Мориака, Фаррара, массово снабжать всех желающих «Новым заветом», знакомить советского зрителя с кинематографом на эту тему. Но началась она для нас романом «Мастер и Маргарита». Вторая линия, необычайно привлекшая к себе внимание тогда (и возбуждающая армию читателей-почитателей по сей день) – Воланд и вся чертовщина. Как то: Маргаритаведьма, бал у Сатаны, шабаш, полнолуние, уникальный Кот Бегемот, вампирша Гелла, зависающая над финдиректором Римским и прочее. Тогда это тоже было чем-то из ряда вон. Это потом уже как из нечистого рога изобилия поперла литературная и кинематографическая чернуха на любой вкус. Тогда же массовый читатель из подобного знал только гоголевского «Вия» да мрачные рассказы Эдгара По (Гофман расценивался тогда как сказочник, «Огненный ангел» Брюсова и сегодня немногие знают… да еще классический и потому совершенно не возбуждающий «Фауст»). Так что для материалистически настроенных мозгов совслужащих булгаковская сатаниада оказалась тем еще потрясением. Наконец, уморительные похождения шайки Воланда – Коровьева с Бегемотом. То есть не что иное как традиция плутовского романа – направление, также недоразвитое в тогдашней советской литературе, но очень популярное, о чем свидетельствует бешеный успех у тех же совслужащих дилогии Ильфа и Петрова. Вынырнув из забвения в явно застойное литературное время, роман с такой гремучей смесью составляющих его элементов не мог, конечно же, не вызвать бурю восторга. Посему «Мастер и Маргарита» представлялся нам как гениальный и совершенный роман, содержащий в себе великие идеи. И вот пришло время, чтобы разобраться так ли это. В последнее время за душу писателя Михаила Булгакова развернулась настоящая война. Воистину пророческими оказались слова Воланда, адресованные Мастеру, что, дескать, «ваш роман вам принесет еще сюрпризы». И главный сюрприз заключается в том, что действие из внутреннего пространства романа перетекло во внешнее, т. е. в реальную жизнь. Явившись в печатном урезанном виде через четверть века после смерти автора, еще через двадцать лет роман стал наиболее популярной книгой русской литературы. Таким образом Михаил Афанасьевич триумфатором на белом коне въехал в завоеванную столицу литературного мира. И слава, о которой мечтала Маргарита для своего Мастера, стала реальностью. Но каждое действие рождает противодействие. Оказавшись объектом всеобщего почитания, достигнув в этом отношении пика, у многих неординарно мыслящих людей роман стал вызывать довольно негативную реакцию: и раздражение, и снобистское пренебрежение, и смущение, и полное неприятие. В конце концов все это и обернулось войной за душу писателя. Причиной сего, как и следовало ожидать, стали выведенные в романе образы Иешуа Га-Ноцри (Иисуса Христа) и Воланда-Сатаны. В «Литературной газете» от 22-26 марта 2006 г. доктор филологических наук, руководитель Центра фундаментальных исследований русской средневековой культуры Александр Ужанков в статье «Коту под хвост» делает следующие выводы: «Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» можно назвать самым прелестным сочинением в русской литературе ХХ века. Если слово «прелесть» воспринимать в его первоначальном, древнерусском смысле, прелесть – как обман. А в православной традиции главным прелестником человека выступает дьявол, который пытается бороться с Богом за человеческие души». Главный обман романа Булгакова доктор Ужанков видит в подмене образа Иисуса Христа – вместо евангельского Богочеловека изображается, по его мнению, «обычный душевнобольной человек». «Иисус Христос, – пишет Ужанков, – немногословен, Иешуа Га-Ноцри чрезмерно болтлив. Если Иисус Христос – Сын Божий, и тем самым ему доступны все знания, то Иешуа всего лишь грамотей, который знает помимо арамейского языка еще и греческий. Если Сын Божий творит чудеса, исцеляет и воскрешает, то Иешуа Га-Ноцри всего лишь обыкновенный экстрасенс, который снимает головную боль у Понтия Пилата…» Совершив эту главную подмену, Булгаков по мнению Ужанкова, описывая московские проделки Воланда, кощунственно пародирует евангельскую историю: «В Москве происходит не просто искажение Нового Завета, но откровенное его выворачивание наизнанку. Миро на главу Спасителя возлила падшая женщина. Анна – в переводе значит благодать. Аннушка пролила масло, чтобы голова Берлиоза была отрезана. Здесь опять наблюдается явная аллюзия: голова Христа – голова Берлиоза…» «Великий бал у сатаны» д-р Ужанков расценивает как пародирование и осквернение божественной литургии: «Иисус Христос – Царь Иудейский, противоположность Ему – королева Марго – осознанная жертва, готовая «пострадать за други своя», точнее, за друга своего. Они ведь не венчаны. К тому же, уйдя от законного мужа, она разрушила «малую церковь» – семью…» Ну а Мастер по Ужанкову – это отражение Воланда, о чем свидетельствуют буквы «М» и «W», исполнитель его воли на написание «антиевангелия», которое подсовывается вместо «Библии». «Когда Коровьев, – пишет Ужанков, – устраивает пожар в подвальчике (по тексту романа это делает Азазелло. – Х. К.), где прежде жили Мастер и Маргарита, Мастер машинально с полки берет большую книгу и бросает ее в огонь. Она медленно начинает гореть. Только одна книга не имеет названия, потому что она так и называется – Книга. Это Библия. Роман Мастера остался потомкам взамен Библии!» – делает вывод Ужанков. Таким образом, исходя из интерпретации доктора Ужанкова произведение Булгакова – сатанизм чистейшей воды (если можно так выразиться). Что ж, мнение А. Ужанкова достаточно логично, обоснованно, опирается на мировоззрение православного христианина. Вот только главная его беда в том, что совершенно не учитывается при этом мировоззрение другого человека, а именно Михаила Булгакова. Ведь роман «Мастер и Маргарита» написан отнюдь не ортодоксальным христианином, а человеком с совершенно иной системой взглядов. И здесь весьма уместны слова Пушкина, что судить поэта нужно по законам, им самим над собою признанным. Но об этом ниже. А пока обратим внимание на «маленькое» шулерство д-ра Ужанкова. Это я о «сожженной Библии». В тексте читаем следующее: «В небе прогремело весело и коротко. Азазелло сунул руку с когтями в печку, вытащил дымящуюся головню и поджег скатерть на столе. Потом поджег пачку старых газет на диване, а за нею рукопись и занавеску на окне. Мастер, уже опьяненный будущей скачкой, выбросил с полки какую-то книгу на стол, вспушил ее листы в горящей скатерти, и книга вспыхнула веселым огнем. – Гори, гори, прежняя жизнь! – Гори, страдание! – кричала Маргарита». Интересно, где Ужанков взял информацию о размерах книги, что, дескать, она большая? И если подразумевалась Библия, то почему написано «какую-то книгу», ведь Библия – это не какая-то книга, а вполне определенная? Очень печально «борцов за истину» уличать во лжи. Весьма неожиданного союзника нашел Михаил Булгаков в лице диакона православной церкви известного миссионера Андрея Кураева. Этот написал целую монографию – «Мастер и Маргарита»: за Христа или против?», в которой умудрился, полностью разделяя систему взглядов на роман, подобную ужанковской, в то же время «выгородить» самого Булгакова. То есть роман написан об ужасных вещах, о сатанинских извращениях и т. д., но все равно роман-де гениальный, потому как Булгаков его написал как бы в назидание. Посмотрите, мол, к каким ужасным последствиям ведет воинствующий атеизм и изощренный сатанизм. Все персонажи романа по Кураеву однозначно негативны – и Иешуа, и Мастер, и Маргарита, и Иван Понырев-Бездомный, не говоря уже о Воланде и его шайке. Единственный положительный герой, утверждает диакон, это Никанор Иванович Босой. Потому что он искренне раскаялся. «Пилатовы главы», – пишет Кураев, – взятые сами по себе – кощунственны и атеистичны. Они написаны без любви и даже без сочувствия к Иешуа». Как утверждает диакон, образ Иешуа Га-Ноцри – это реконструкция Булгаковым морализаторской системы Льва Толстого, который лишил христианство мистического наполнения, оставив лишь учение о всепрощении. В результате, по мнению Кураева, в романе выведен крайне неприглядный образ Иешуа, а единственный тезис его учения – утверждение, что все люди добрые. Но в отличие от цитированного выше Ужанкова диакон Кураев этим не ограничивается, а предпринимает попытку доказать, что сам Булгаков крайне негативно относится к образу Иешуа. «Образ любимого и положительного героя, – пишет Кураев, – не набрасывают такими штрихами: «Иешуа заискивающе улыбнулся...»; «Иешуа испугался и сказал умильно: только ты не бей меня сильно, а то меня уже два раза били сегодня»; «Иешуа шмыгнул высыхающим носом и вдруг такое проговорил по-гречески, заикаясь». Булгаков не мальчик в литературе. Если он так описывает персонажа – то это не его герой». А раз Иешуа – не герой, то и так описавший его Мастер – тоже не герой, и не является, исходя из кураевской логики, автобиографическим образом Булгакова. По Кураеву, Мастер выполняет заказ Воланда, а в его романе излагается философия Толстого. Воланд же, в свою очередь, излагает философию Блаватской-Рерихов. Вот так вот все повязано (в пылком воображении диакона). Что наиболее удивительно в интерпретации булгаковского романа диаконом Кураевым и что делает ее гораздо менее логичной, чем интерпретация Ужанкова, это стремление отделить автора от всех его персонажей. «Памятник Булгакову нужен, – пишет диакон. – Но пусть его ставят те, кто умеет читать Булгакова. Пусть будет памятник. Пусть будут пьесы и фильмы по булгаковскому роману. Но есть формула их удачи: они должны совпадать с авторским, булгаковским видением его персонажей. А особенностью этого видения является то, что в романе просто нет положительных персонажей. Ни Воланд, ни Иешуа, ни Мастер, ни Маргарита не вызывают восхищения Булгакова и не заслуживают восхищения читателей и режиссеров». «Не в том смысле, – продолжает Кураев в другом месте, – что это не идеал с точки зрения моей или какого-то иного читателя. Важнее то, что Булгаков сам вносит занижающие черты в эти образы. Именно по стилистическим нюансам, которые всецело во власти самого автора, становится понятно, что отношение Булгакова к этим персонажам далеко не возвышенное. То у него Иешуа «шмыгнет носом», то Маргарита «улыбнется, оскалив зубы». Вы можете себе представить, чтобы у Льва Толстого Наташа Ростова «оскалила зубы»?» Последний аргумент, конечно же, сражает наповал. Следуя этой логике, можно утверждать, что к леди Чаттерлей и ее любовнику Д. Г. Лоуренс относится крайне неприязненно, ибо описывает их в таких откровенных сценах, в каких Чарльз Диккенс своих героев никогда не посмел бы изобразить. Так что тут одно из двух: или полное непонимание диаконом Кураевым особенностей культурных эпох и эстетических идеалов самих авторов, или опять-таки шулерство. Думается, что, скорее всего, второе, так как вся его книга и все его подобное творчество, строится на постоянных подтасовках. Но все эти «кураевские штучки» развеиваются в свете двух аргументов, убедительнее которых не сыщет ни Андрей Кураев, ни Альфред Барков, ни кто другой. Речь идет о жизнеописании Михаила Булгакова, и о тексте романа «Мастер и Маргарита». Понятно, что для церковно-христианского толкователя образ Воланда будет однозначно неприемлем. Это ведь сатана. И к чему бы тот ни прикасался, все будет напрочь скомпрометировано для подобного толкователя. Мастер и Маргарита – христопродавцы, образ Иешуа – карикатура, свита Воланда – пошлые негодяи. Но так ли это в тексте романа? Какие бы доказательства ни приводили Кураев и Ко, достаточно самому прочитать книгу, чтобы стало ясно, как к своим персонажам относится автор. У всех нормальных читателей (но не тех, кто умеет читать Булгакова по Кураеву) и Мастер, и Маргарита, и Воланд, и Иешуа, и даже Понтий Пилат, а также Коровьев, Кот Бегемот и Азазелло однозначно вызывают симпатию. (Чего не скажешь о Лиходееве, Варенухе, Берлиозе, Босом и т. д.) Именно это чувство симпатии красноречивее всех возможных и невозможных кураевских доводов свидетельствует об авторском отношении к своим персонажам. Можно привести примеры произведений, где действительно нет положительных героев: «Мертвые души» Гоголя (второй том не в счет) и «Мелкий бес» Федора Сологуба. Разве нужно в этих случаях доказывать, что герои этих романов не положительны? Так зачем же доказывать противное здравому смыслу в случае с «Мастером»? Впрочем, понятно зачем. Кураев стремится перепрофилировать, придать нужное для него толкование всему, что может послужить в его миссионерской деятельности. Это и молодежная рок-музыка, и популярные литературные произведения, даже такие откровенно конъюнктурные поделки как «Матрица» и «Гарри Поттер». Все переворачивается с ног на голову, втискивается в рамки кураевского богословия. Так случилось и с «Мастером». Ужанков расценил этот роман просто как сатанинский, и таким образом отверг и само произведение, и всех его почитателей. Тактика Кураева гораздо хитрее. Как у настоящего миссионера. Чтобы не отпугивать потенциальную паству, он пытается ее привлечь, осуществив ловкий маневр. Главная цель в таком подходе – не разобраться в настоящем смысле того или иного явления, а использовать его в своих целях. Вот только является ли такой подход христианским, а тем более, православным? Скорее, иезуитским. Так что Боже упаси нас от таких «друзей» как диакон Кураев. И Михаила Афанасьевича в первую голову нужно защищать именно от таких «толкователей». Ведь что он попытался сделать? А немного-немало просто вытряхнуть душу Булгакова из его же произведения, превратив его в нечто безжизненное, но не мешающее «работать». Иначе и не скажешь, ведь в подобных подходцах слова лишается главный свидетель – сам автор. Ведь достаточно открыть «Жизнеописание Михаила Булгакова» Мариэтты Чудаковой, чтобы понять, что рассуждения Кураева чистейшей воды инсинуации. Что книга во многом автобиографична, что Мастера автор во многом изображал с себя, а Маргариту – со своей жены. И мог ли такой человек как Булгаков посвящать последние дни своей жизни изображению черт знает чего? Но вернемся к главному предмету нашего исследования – к роману «Мастер и Маргарита» как он есть, а не как его хочет видеть диакон Кураев. Почему-то Кураев и Ко трактуют булгаковский текст со своих позиций, как будто автор мыслил так же как и они. Но Булгаков был не ортодоксальным христианином, а писателем-интеллигентом, для которого в своеобразный символ веры входит многоликая мировая культура, включающая многих из тех, кого на дух не выносят ревнители христианской веры: тот же Франс, Эрнест Ренан и т. д. Огромную роль в романе играют юмор, смех, ирония, карнавальность. Но этот аспект совершенно не учитывается «православными» толкователями булгаковского романа. Надо сказать, что одним из главных недостатков Кураева и Ко является именно отсутствие чувства юмора. А ведь юмор и ирония – те вещи, которые в корне меняют мироощущение человека. Булгаков был не богословом, а беллетристом с ярко выраженным сатирическим началом. Поэтому искать в беллетристическом опусе четко разработанные религиознофилософские системы просто смешно. Не менее бездарна также полярность кураевского мышления: хорошо-плохо, хорошие персонажи (которых, впрочем, нет) – плохие персонажи. А то, что любой из героев может содержать в себе обе стороны медали, ученому диакону невдомек. Исходя из булгаковского мировоззрения и нужно анализировать роман. Наши незадачливые богословы посчитали бы Мастера и Маргариту положительными героями, наверное, только в том случае, если бы их любовная связь была благопристойной, – как у батюшки с матушкой. Но Булгаков мыслил иначе. Он на собственном опыте знал, что в любовной страсти есть нечто инфернальное, именно это нечто он и назвал «финским ножом» и «убийцей в переулке». И смешны те, кто подобно А. Баркову утверждают, что подобными метафорами и эпитетами не награждают возлюбленных. Еще как награждают! Так что если и «оскалилась» Маргарита, то для кого-то этот оскал может быть милее всех хозяйственных и детородных способностей Наташи Ростовой. Так же и в случае со «шмыгающим» Иешуа. Это для Кураева и Ужанкова Иисус – незыблемая икона, но не для Булгакова, который, кстати, просто преклонялся перед Л. Толстым (что почему-то упустил Кураев), внимательно изучал версию «Жизни Иисуса» Э. Ренана, с которой во многом и совпадает внешняя канва «Евангелия по Булгакову». Очевидной целью Михаила Афанасьевича было по возможности реалистически – может быть, даже натуралистически – реконструировать те легендарные события. А не пересказать канонический взгляд. И в том, что человек «шмыгает носом» и ходит по нужде, ничего предосудительного нет. Даже если это Богочеловек, ибо, воплотившись в человеке, он прошел через все страдания, связанные именно с физической слабостью человека. В общем, это попытка личного художественного приближения к образу Иисуса, подобно Казандзакису, Пазолини, Скорсезе, Тиму Райсу, Сарамаго, Мелу Гибсону. Заметьте, что все эти попытки были осуждены Церковью, как не соответствующие Священному писанию. Теперь о том образе, который больше всего повергает в смущение христианских толкователей. Дело в том, что совершенно ошибочно отождествлять Воланда с традиционным христианским сатаной. Потому и Булгакову приписывать традиционный сатанизм также совершенно неуместно. Оттолкнувшись от гетевского «Фауста» в эпиграфе к своему роману, Булгаков предельно ясно дал понять, какой аспект он выводит на передний план в своем герое. «Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». В принципе, слова эти – единственное, что роднит гетевского Мефистофеля и булгаковского Воланда. И если у Гете – это действительно традиционный враг человеческий, то совсем не то у Булгакова. Так кто же такой булгаковский Воланд? Параллели можно искать повсюду. Вот, например, ветхозаветный сатана Книги Иова, выступающий как исполнитель воли Божией. Но здесь он очень фрагментарен. Вот Сатана из романа Анатоля Франса «Восстание ангелов», отождествленный с древнегреческим Дионисом, но олицетворяющий почему-то все разумное (это Дионис-то! полноте!) и творческое. Но слишком он здесь рационализирован, как, впрочем, и все мировоззрение Франса. А вот «дьволизированный Меркурий» Карла Густава Юнга. И это действительно нечто, попадающее точно в десятку булгаковского замысла. Хотя сам Михаил Афанасьевич наверняка не обладал познаниями швейцарского гения. Итак… «Медленно и нерешительно, словно во сне, столетия интроспективных раздумий выкристаллизовали фигуру Меркурия, создав тем самым символ, который по всем правилам психологической науки связывается с образом Христа компенсаторным отношением. Он не призван занять его место; и он ему не тождествен, иначе действительно мог бы его заменить. Своим существованием он обязан закону комплементарности, а его цель – посредством тончайшей компенсаторной настройки на образ Христа перекинуть мостик над бездной, разделяющей два душевных мира. Тот факт, что в «Фаусте» компенсаторной фигурой предстает не хитроумный посланец богов, которого мы почти должны были бы ожидать в этой роли, учитывая известное предрасположение автора к античности, но некий familiaris, поднявшийся из выгребных ям средневекового колдовства, как показывает само его имя («Мефистофель» — от mephitis, «вредное испарение» (лат.)), – факт этот доказывает, если он вообще может что-либо доказать, закоренелую «христианскость» гетевского сознания. Христианскому сознанию темный «другой» всегда и повсюду видится дьяволом. Итак, если Христос и это темное природное божество суть доступные непосредственному опыту автономные образы, то мы вынуждены перевернуть наш рационалистический причинный ряд и вместо того чтобы выводить эти фигуры из наших психических предпосылок – вывести наши психические предпосылки из этих фигур. Конечно, это означает требовать от современного разума слишком многого, что, впрочем, ничуть не нарушает стройности нашей гипотезы. С этих позиций Христос предстает архетипом сознания, Меркурий – бессознательного. В качестве Купидона и Килления он искушает нас, подстрекая к экспансии в пространстве чувственного мира; он – «benedicta viriditas» и «multi flores» ранней весны, морочащий и обманывающий бог, о котором по праву сказано: «Invenitur in vena/ Sanguine plena» («Он в вене находится, / Что кровию полнится»). Он одновременно Гермес Хтоний и Эрос, но по завершении пути земного из него исходит «lumen superans omnia lumina», «lux moderna» («свет, превосходящий все светы», «свет новый»), и он – не что иное как состоящая из одного света фигура, которая окутана материей. Именно это имеет в виду Августин, когда цитирует первое послание фессалоникийцам (1 Фес. 5, 5): «Ибо все вы – сыны света и сыны дня; мы – не сыны ночи, ни тьмы», и различает два рода познания, «cognitio vespertina» и «cognitio matutina»; первое соответствует «scientia creaturae» («знание твари»), второе – «scientia Creatoris» («знание Творца»). Если подставить вместо «cognitio» сознание, то мысль Августина следовало бы понимать в том смысле, что только человеческое, естественное сознание темнеет или смеркается, как может смеркаться под вечер. Но подобно тому, как вечер сменяется утром, так и из тьмы возникает новый свет, stella matutina, которая одновременно – вечерняя и утренняя звезда, lucifer, Светоносец. Меркурий вовсе не христианский дьявол – последний, уж если на то пошло, возник в результате «дьяволизации» Люцифера, иначе говоря, Меркурия. Меркурий есть затемнение изначальной фигуры Светоносца, а последний сам никогда не бывает светом: он – несущий lumen naturae, свет луны и звезд, затмеваемый новым рассветом, о котором Августин говорит, что он никогда уже не вернется к ночи, если Создатель не будет оставлен любовью создания. Но и это входит в закон смены дня и ночи. Гёльдерлин говорит: «...позорно Нам сила сердце рвет из груди; Всяк небожитель требует жертвы. Если одну не принес ты – После добра уж не жди». Конечно же, знать произведения Юнга Булгаков не мог, ибо разминулся с ним в духовном пространстве. А вот нашумевшие «Литании Сатане» Шарля Бодлера, как образованный человек, знал вне всякого сомнения. Во всяком случае, совпадения в трактовке образа поразительные. О мудрейший из ангелов, дух без порока, Тот же бог, но не чтимый, игралище рока… Все изведавший, бездны подземной властитель. Исцелитель страдальцев, обиженных мститель… Из любви посылающий в жизни хоть раз Прокаженным и проклятым радостный час… Вместе с Смертью, любовницей древней и властной, Жизнетворец Надежды, в безумстве прекрасной… Бунтарей исповедник, отверженных друг, Покровитель дерзающей мысли и рук… Отчим тех невиновных, чью правду карая, Бог Отец и доныне их гонит из рая, Сатана, помоги мне в великой нужде! (Отрывки из стихотворения приведены в переводе Вильгельма Левика) По-моему, иных доказательств не требуется. Достаточно сопоставить образ булгаковского Воланда, его роль в романе с любой фразой из цитат Юнга и Бодлера, чтобы убедиться в их полной идентичности. Исходя из приведенного отрывка из Бодлера, достаточно понятными становятся и мотивы, которые привели Булгакова к этому образу. «Сатана, помоги мне в великой нужде!» Хорошо известно, в каком состоянии находился писатель Булгаков – на грани отчаяния. Произведения его не печатали, пьесы не принимали, а если что-нибудь и ставили, то это выглядело куском, брошенным, чтобы не умер с голоду. В подобном состоянии пребывает и Мастер, и весь роман являет собой не что иное, как запечатленный писателем собственный исход. Но почему, могут спросить, он обратился за помощью к Сатане, а не к Богу? Но и здесь все предельно ясно, и ответ содержится в романе. «Он не заслужил света, он заслужил покой», – ведь это не только о Мастере, но и о самом себе. Булгаков не считал себя достойным непосредственного общения со Всевышним, потому прибегает к такому посреднику как Воланд. Но повторю еще раз: это ни в коем случае не традиционный христианский черт, и как видно из романа, зла он не творит, а напротив, повсюду восстанавливает справедливость. Это дух равновесия и возмездия. Так что совершенно излишне кричать «Караул!» и, подобно дьяку Кураеву, чадить кадилом. Удручает другое. А именно тот факт, что Булгаков вместе со своим романом вышел в тираж, из чтения элитарного превратившись в бульварное чтиво, которое даже в недалеких школьных программах проходят наряду со всякими «Парфюмерами» и прочей тухлятиной. И надо признать, что причина этой метаморфозы содержится опять-таки в самом романе. В свое время М. Золотоносов в статье «Булгаков грех. Неюбилейные размышления о итогах "булгаковского года"» ("Смена", СПб, 18.07.1992) отметил: «Желая роману надежного успеха, Булгаков обратился к бульварной мистике, к оккультизму, замешанному на антисемитизме. Расчет был прост: читатель сильно увлечется всем этим материалом, покоренный примитивной занимательностью». Оставляя на совести автора замечание об антисемитизме, которого я в упор не наблюдаю в романе, должен согласиться со всем остальным. Мы уже проследили очевидную фабульную слабость линии Мастера и Маргариты. Бульварность сгущается в теме магии и ведьм. Булгаков знал эти вопросы весьма и весьма поверхностно и использовал довольно безответственно. Это как раз и есть та «бульварная мистика» и бульварный же оккультизм, о котором говорит М. Золотоносов. Не мудрено, что именно эта тема и стала катализатором той нездоровой шумихи, которая сопровождает ныне роман. Основываясь на бульварной линии Маргариты-ведьмы у Булгакова появилось множество «последователей» уже на откровенно бульварном уровне. Попадаются уже какие-то продолжения «Мастера и Маргариты», а киевская журналистка Лада Лузина перенесла игру в ведьм в плоскость бытовухи: издает всевозможные советы ведьмы, основала общество «киевских ведьм» и аж пищит от восторга. В собственных же ее художественных опусах образ ведьмы становится чем-то сродни Старику Хоттабычу – бюро по выполнению любых желаний за соответствующую плату. А ведь тема эта очень серьезна, недаром ведь в свое время лилась кровь и пылали костры. Это не ограничивается одними лишь суевериями темных людей, а предполагает вторжение в астральный мир, кардинальное вмешательство в человеческую психику. Подобной глубины и знаний булгаковский роман, конечно же, напрочь лишен. В то время как интерес к этой теме весьма возбуждает. В этом противоречии и кроется элемент бульварности. Поэтому называть роман «Мастер и Маргарита» оккультным или магическим никак нельзя, ибо он не включает в себя оккультных знаний даже на поверхностном уровне. Знаний магического равновесия. В отличие от таких романов как «Огненный ангел» Валерия Брюсова и «Жар-Цвет» Александра Амфитеатрова, в отличие от сочинений Густава Майринка и Карлоса Кастанеды, и даже в отличие от «демонологического» романа Александра Кондратьева «На берегах Ярыни», где в мягких фольклорных тонах описана инволюция ведьмы из добродушной разбитной девахи в злобную тетку. На мой взгляд, шумиха вокруг какого бы то ни было явления – это профанация и опошление его, и случай «Мастера и Маргариты» – типичный тому пример. Но речь идет не только о бульварной раскрутке, но и о возведении на пьедестал «гениальности». Уверен, что медвежья услуга оказывается именно тем писателям, которых хором провозглашают гениями. Как это ныне происходит с Михаилом Булгаковым. В чем же природа гения? Какое произведение можно считать гениальным? Приведу свое понимание этого понятия. Гений проявляется в открытиях, в прорывах, в не озвученных ранее великих идеях. Гениальное произведение содержит идеи, способные вывести человеческое сознание на новый уровень, приблизить к божественному, разрешить, казалось бы, неразрешимые вопросы, запечатлеть жизнь во всем ее многообразии. Из русской литературы к таковым я бы в первую очередь отнес романы Достоевского «Братья Карамазовы» и «Бесы», «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, «Мечты и жизнь» Николая Полевого, «Фрегат «Надежда»» Бестужева-Марлинского, из ХХ века, конечно же, творения Даниила Андреева… Можно ли поставить в этот ряд роман «Мастер и Маргарита»? Думается, что нет. Это отличная (хотя и не без недостатков), увлекательная, оригинальная беллетристика. Но не более того. «Новозаветные» главы в ней – прекрасно выполнены литературно, но разве есть в них хоть что-то, близкое по силе идеям, содержащимся в Евангелиях? Линия Воланда? Действительно, она соответствует тем идеям, что были озвучены гением Юнга. Но в романе она всего лишь намечена, больше даже подсознательно. О линии Мастера и Маргариты говорить не приходится. В конце концов, «Мастер и Маргарита» – роман, в котором Булгаков, прежде всего, попытался разрешить свои собственные проблемы. И тот, кто движется по пути восхождения, кто стремится к новым вершинам, однажды должен сказать «Прощай!» старому своему другу – булгаковскому Мастеру. И тем не менее, роман этот, даривший в свое время истинное наслаждение, навсегда останется в жизни тех, кто его любил. Как «Три мушкетера». Как «Алые паруса». Как веха жизни. Как дверь по направлению к дальнейшим высотам. Ровно, весна 2006 г. ВОЗВРАЩЕНИЕ «МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ» «Ваш роман вам принесет еще сюрпризы», – напророчил Воланд Мастеру. Не иначе что именно одним из таких сюрпризов стал выход на широкий экран фильма Юрия Кара (исходя из титров к его фильмам, именно так – не склоняя – следует писать фамилию режиссёра) спустя 17 лет после его создания. Назвать эту премьеру долгожданной, пожалуй, даже и нельзя, потому как ждать-то давно перестали и про фильм этот пропавший прочно забыли. За это время общество кардинальным образом изменилось, а вместе с ним – отечественный кинематограф. Теперь, чтобы на фильм обратили внимание и его премьера стала кинематографическим событием, необходима мощная пиарподдержка. Ничего подобного в данном случае не наблюдалось и потому – в отличие от широко обсуждаемого пять лет назад сериала Бортко – никакого резонанса. Но в то же время, перипетии вокруг данной экранизации настолько интересны – как сами по себе, так и в связи с контекстом литературным, кинематографическим, общественнополитическим, – что творение режиссера Кара и продюсера Скорого оказывается в самом смысловом центре Булгакианы (или, по крайней мере, в непосредственной к нему близости). И для тех, кто интересуется Булгаковым независимо от пиар-акций, запоздавший этот фильм стал настоящим сюрпризом – подарком к 120-летию со дня рождения писателя. По той причине, что в хорошо известном он приоткрыл нечто новое – новые грани формы и содержания, новые созвучия мыслей и переплетения смыслов. Он появился Хотя почему собственно «запоздавший»? Если учесть, что сам роман «Мастер и Маргарита» был завершен Булгаковым в 1940 году, впервые же напечатан в 1967-м – то есть через 27 лет, а написанная в 1925-м повесть «Собачье сердце» в печатном виде увидела свет ни много ни мало через 62 года – в 1987-м! – то немудрено прийти к выводу, что 17 лет ожидания – вовсе даже и не срок! Начало работы над фильмом датируется 17 февраля 1991 года: в тот день кинокомпания «ТАМП» приобрела киносценарий «Мастер и Маргарита» авторства Юрия Кара и заключила с ним договор на создание художественного фильма. С июня по декабрь 1992 года в Москве и Израиле проходят съёмки; на первую половину 1993-го приходится монтажно-тонировочный период, затем – технические работы по печати пленки, и, наконец, в начале 1994-го – картина готова. А дальше – некий провал, пространственно- временная яма размером почти в два десятилетия, включающая в себя амбиции режиссеров-соперников, стяжательскую дурь новоявленных «наследников» и разное видение конечного продукта самими создателями. Начало 90-х в истории нашей страны – период полной дезинтеграции, распад СССР, развал и упадок всех отраслей народного хозяйства, в том числе и кинематографического. Работа над экранизацией «Мастера и Маргариты» пришлась именно на этот период и потому вполне понятна общая причина возникших трудностей. Частных же факторов, приведших к конфликтам вокруг фильма и затруднивших своевременный его выход на экраны, насчитывается, по крайней мере, три. Во-первых, это вопрос режиссера. То бишь честь стать режиссером, воплотившим на экране роман, в силу многих причин культовый, ставший к тому времени наиболее популярным произведением русской литературы. Известно, что сам Тарковский хотел поставить «Мастера и Маргариту», и остаётся только сожалеть, что это оказалось невозможным. Как бы поставил этот фильм Андрей Арсеньевич? Думаю, что его «Солярис» со «Сталкером» дают все основания для следующего предположения: бесспорно, что это был бы шедевр, потому как иначе этот режиссёр не умел, но… это был бы не Булгаков, а Тарковский. Когда же время фильма пришло, на эту честь претендовали такие асы как Эльдар Рязанов, Владимир Наумов, Элем Климов и Геннадий Полока, в 1989 году Климов уже и к съёмкам приступил – да что-то не срослось. И вот за дело берётся 37-летний уроженец Донецка Юрий Викторович Кара (род. 12.11.1954), в своём послужном списке к тому времени имевший совсем немного: экранизацию повести Бориса Васильева «Завтра была война» (1987), а также «Воров в законе» (1988) и «Пиры Валтасара или Ночь со Сталиным» (1989) – оба фильма по мотивам рассказов Фазиля Искандера из цикла «Сандро из Чегема». Работы вполне добротные, но далеко не шедевры. И то, что честь ставить «Мастера» выпала на долю не шибко авторитетного режиссёра, пришлось явно не по вкусу его собратьям по кинематографическому цеху, по советской традиции привыкшим к строгому соблюдению иерархии. В стремлении навредить своему молодому коллеге особенно усердствовал Элем Германович Климов… Вторым фактором задержки стал пересмотр в 1993 году в российском законодательстве статьи об авторском праве. Если раньше «общественным достоянием» считались все произведения автора по истечении 25 лет с года его смерти, то согласно новому закону «авторское право» сохраняется 50 лет с момента первой публикации (в 2004 году этот срок увеличен до 70 лет). Детей у Михаила Афанасьевича, как известно, не было, но они были – от первого брака – у Елены Сергеевны (той самой, что послужила прообразом Маргариты). И вот как черти из табакерки выскочили «наследники» Булгакова в лице внука его жены Сергея Шиловского и его племянницы Дарьи Писарчик – и ничтоже сумняшеся стали препятствовать выходу фильма. Бог весть, зачем они это делали – может, захотели насладиться вкусом свежеприобретённого права, или просто поправить материальное положение – да и то: нежданно-негаданно свалилось на голову бабкино наследство! – но как бы там ни было, а по иронии судьбы пошлость, которую высмеивал Булгаков в своём романе, всплыла в особе тех, кто выдаёт себя за его же наследников! Наконец, третий фактор – конфликт внутри творческой группы фильма «Мастер и Маргарита», а именно разногласия между режиссером Юрием Кара и продюсером Владимиром Скорым относительно продолжительности. Сколько длиться фильму: 3 часа 20 минут, как того хотел режиссер, или же не более двух часов, на чем настаивал продюсер? Не договорившись по-доброму, дело передали в суд, который после пяти лет разбирательств, в июне 1999 года признал право на фильм за кинокомпанией «ТАМП». Плёнки отдали на хранение начальнику службы безопасности компании Валерию Тарасову, – чтобы со временем сделать перемонтаж, – но тот, спрятав их в надёжном месте, неожиданно умер… И когда об этом фильме уже напрочь забыли, он таки появился – в двухчасовой киноверсии и с обещанием последующего выпуска на DVD полной режиссёрской версии. Но для того, чтобы сделать решающие выводы, ждать больше нет надобности. Дело в том, что полная режиссёрская версия (или нечто весьма близкое к таковой) несколько лет назад «пиратским» способом гуляла по интернету. Качество, конечно, не ахти – но и этого вполне достаточно для сравнения с киноверсией и уяснения сути противоречий. Итак, 17 лет потребовалось, чтобы, преодолев все препятствия, предстать пред зрителем. И каков результат? Стоило ли ждать? Для того, чтобы – не впадая в голый субъективизм и вкусовщину – ответить исчерпывающе, вопрос необходимо переформулировать следующим образом: какова самоценность данного продукта и как он соотносится с первоисточником? Конец системы Станиславского Прежде всего, обратим внимание на первую особенность. Фильм снимался в одну общественно-политическую эпоху, но вышел совсем в другую. С одной стороны, вспоминается народная мудрость: хороша ложка к обеду! Но ведь и обед можно перенести на час-другой, и если он не скоропортящийся, тогда его ценность не только не пропадёт, а ещё и увеличится. Если это тот случай, тогда можно сказать, что фильм дождался своего времени, в котором он и восприниматься будет по-другому. Как это случилось и с самим романом, в связи с чем отметим вторую особенность: в контексте четырёх различных эпох «Мастер и Маргарита» и статус имеет различный. Для 1940 года – это «книга в стол», для 1967-го – элитарное чтение, для 1991-го – самый популярный роман, для 2011-го – ? (искомая величина: что такое роман «Мастер и Маргарита» сегодня? и что такое фильм Кара, снятый в 1992-м, но вышедший в 2011-м?) За 20 последних лет отечественный кинематограф не просто изменился, он переродился в основе своей. Сущностное содержание процесса можно обозначить такими словами как голливудизация, сериализация, стандартизация, шаблонизация, что в общем и целом означает низведение на общедоступный усреднённый уровень, а в плане актёрской школы – конец системы Станиславского. Показательным примером может служить имеющий непосредственное отношение к нашей теме телесериал «Мастер и Маргарита», в 2006 году поставленный петербургским режиссёром Владимиром Бортко. Не вдаваясь в подробности, суть этой работы можно выразить несколькими словами: она ничего не прибавила и ничего не убавила, а просто низвела вещь до уровня низкопробного – зато общедоступного! – продукта. Многим нравится? – Этого и добивались! – Но многим также и не нравится! – А на них и не рассчитывали! Просматривая интернет-отзывы на фильм Юрия Кара, обратил внимание на поток гневной брани из среды почитателей Бортко. Казалось бы, всё нормально – вкусы разные, одним нравится одно, другим – другое. Но вот что интересно: особенности восприятия – как в масскульте, поп-культуре. Есть почитаемый объект – но тут появляется соперник, конкурент… и понеслась: «Только что вернулись с показа фильма Ю. Кары «Мастер и Маргарита»... Шла домой и думала: кто же этот добрый человек, который не давал ему столько лет выйти на экран? Спасибо Климову и всем, кто так или иначе не выпускал его показ! Какое кощунство! Какая бездарная игра такого количества прославленных актеров!» «Фильм Кары – это просто издевательство над Булгаковым. Что он хотел от актеров, совершенно не понятно, но они ведут себя как клоуны. Хорошо, что эту бездарщину показали после фильма Бортко, а то бы я никогда не убедил сына прочитать эту действительно великую вещь! Спасибо Владимиру Бортко – он реально МАСТЕР». «Мне фильм Бортко понравился намного больше. Особенно по постановке. Что касается главных исполнителей, то актеры в фильме Кары проигрывают. Маргарита-Вертинская вообще никакая, совершенно не раскрыт образ, да и старовата для Маргариты…» «Экранизация Бортко – от начала до конца живая книга! Подбор актеров гениальный, как и игра. Тогда как экранизация Кары явно запоздала и в никакое сравнение не идет, ее уж точно пересматривать не будет никакого желания…» «Мне кажется, что роль Маргариты, это самая неудачная роль Вертинской. Просто ни о чем. А Басилашвили прекрасен. Ну, воистину Воланд!!! Не надо быть кинокритиком, чтобы заметить насколько Бортко интересней и ближе к автору». Как видим, здесь не до взвешенного анализа – всё на страстях, на эмоциях. Оно и понятно: для фаната Филипп Киркоров без сомнения великий певец, а Майкл Джексон – вообще бог. Причём, каждый считает себя вправе давать оценки, не допуская и мысли, что его собственное развитие никак этого не позволяет. Конечно, это глас народа неискушенного – стихийно зафиксированные субъективные мнения людей, не обладающих достаточными знаниями. Но дело в том, что именно на это и ориентируется современный конъюнктурный кинематограф. Потому что при чисто коммерческом подходе массовый потребитель – это и есть основа основ, определяющая конъюнктура. Но для того, чтобы почувствовать разницу, вовсе не нужно рвать на себе рубаху, доказывая превосходство Бортко над Кара или наоборот. Достаточно последовательно просмотреть аналогичные сцены из обоих фильмов – к примеру, сцену в психлечебнице. У Кара этот эпизод снят в лучших традициях советской эксцентрической комедии. Играют все – и главные, и второстепенные: энергетический центр в лице Ивана Бездомного (актёр Сергей Гармаш) заводит вокруг себя настоящую карусель в исполнении всех, кто в кадре. При этом – что психиатр (актёр Евгений Весник), что поэт Рюхин (?) настолько живы и колоритны, что данный эпизод хочется смотреть и смотреть. А что в этой сцене у Бортко? Более-менее сносно играющий Владислав Галкин в окружении не актёров, а откровенных статистов! Впрочем, к актёрам мы ещё вернёмся, а пока обратим внимание на весьма интересное обстоятельство – на проявившееся в двух постановках и в отношении к ним извечное противостояние двух российских столиц. Причём ситуация на этот раз явно не в пользу Северной Пальмиры – питерский снобизм однозначно проигрывает московской основательности по той причине, что «Мастер и Маргарита» – роман глубоко московский. Думается, что это сказалось и на конечном результате, и на отношении к делу: немаловажная ведь деталь – где снимать! Напомним, что Кара снимал фильм в Москве (на Патриарших прудах, Арбате и на других прудах – Чистых, в связи с отсутствием на Патриарших трамвайной линии) и в Палестине, то есть в полном соответствии с книгой. А вот у Бортко московские сцены снимались в Питере, новозаветные – в Причерноморье (Крыму и Болгарии). И бутафория налицо. Спор о 80 минутах Конфликт между режиссёром и продюсером относительно продолжительности фильма, приведший к длительному судебному разбирательству, тривиален лишь на первый взгляд. При внимательном же изучении именно здесь обнаруживается ПРУЖИНА, приводящая в движение процесс переосмысления романа Булгакова на новом этапе, открытия в его недрах новых смыслов. Что такое режиссёрская версия Юрия Кара и киноверсия продюсера Владимира Скорого? По сути это два принципиально разных конечных продукта. А что такое 80 минут, которые составляют это различие? Не что иное как столкновение двух взглядов, двух отношений, двух подходов к знаменитой книге Булгакова. Кара смотрит на роман Булгакова как человек искусства, как благодарный потомок на любимого классика – снизу вверх, с превеликим пиететом, Скорый – сверху вниз: как человек бизнеса, главная цель которого – из материала, созданного режиссёром, сделать продукт наиболее оптимальный для кинопроката. Поэтому режиссёр стремится создать по возможности полную экранизацию, в то время как продюсер безжалостно режет по возможности всё, что не вписывается в отведённый лимит времени. В результате: урезаны сцена на Патриарших, сцена допроса Иешуа; полностью выпущены сцена в психлечебнице с профессором Стравинским (таким образом, актер Игорь Кваша вообще не попал в киноверсию); сцена приезда Поплавского – дяди Берлиоза – для унаследования квартиры; все сцены с домработницей Наташей, включая её полёт верхом на борове; многие сцены с Вертинской: Маргарита на балконе дразнится с соседом Николаем Ивановичем, откровенно вертя голым задом; Маргарита у Воланда: натирание колена, партия в шахматы, болтовня после бала… – всё это безжалостно вырезано, что наверняка привело в ужас режиссёра, добросовестно стремившегося как можно полнее – поближе к тексту – охватить романное пространство. Однако при знакомстве с обеими версиями замечаешь, что, избавившись от длиннот и побочных линий, фильм не только ничего не утратил в смысловом, содержательном плане, но выиграл в цельности и динамичности. Сокращение дает замечательный эффект: дело в том, что стремление буквально следовать за всеми перипетиями романа превращает фильм в копию литературного произведения (3 часа 20 минут – это уже мини-сериал: 4 серии по 50 минут) – а копия, как водится, всегда хуже оригинала. К тому же для человека, прекрасно знающего первоисточник, отслеживать наперёд известные события – занятие малоинтересное. При сокращении же – поскольку оно удачно и органично – рождается новое произведение. В этой связи важно увидеть и понять, что длинноты, от которых освободил фильм продюсер, вовсе не придуманы режиссёром Кара (он же сценарист), а целиком и полностью взяты им из первоисточника. И это вовсе не значит, что у Кара эти фрагменты малоинтересны, а у Булгакова – верх совершенства. Никак нет! В романе много откровенной чепухи, стилистических недоработок и смысловых несоответствий (концы не сходятся с началами – что особенно характерно для финальной части). Чтобы не быть голословным, приведём в качестве примера фрагмент из главы «Извлечение мастера»: «Кусая белыми зубами мясо, Маргарита упивалась текущим из него соком и в то же время смотрела, как Бегемот намазывает горчицей устрицу. – Ты еще винограду сверху положи, – тихо сказала Гелла, пихнув в бок кота. – Попрошу меня не учить, – ответил Бегемот, – сиживал за столом, не беспокойтесь, сиживал! – Ах, как приятно ужинать вот этак, при камельке, запросто, – дребезжал Коровьев, – в тесном кругу… – Нет, Фагот, – возражал кот, – бал имеет свою прелесть и размах. – Никакой прелести в нем нет и размаха также, а эти дурацкие медведи, а также и тигры в баре своим ревом едва не довели меня до мигрени, – сказал Воланд. – Слушаю, мессир, – сказал кот, – если вы находите, что нет размаха, и я немедленно начну держаться того же мнения. – Ты смотри! – ответил на это Воланд. – Я пошутил, – со смирением сказал кот, – а что касается тигров, то я их велю зажарить. – Тигров нельзя есть, – сказала Гелла. – Вы полагаете? Тогда прошу послушать, – отозвался кот и, жмурясь от удовольствия, рассказал о том, как однажды он скитался в течение девятнадцати дней в пустыне и единственно, чем питался, это мясом убитого им тигра. Все с интересом прослушали это занимательное повествование, а когда Бегемот кончил его, все хором воскликнули: – Вранье! – Интереснее всего в этом вранье то, – сказал Воланд, – что оно – вранье от первого до последнего слова». Интереснее всего, что тому подобное враньё растянуто здесь как минимум на добрых три страницы; то и дело всплывает оно и в других местах, особенно в тех, что связаны с Маргаритой. Потому вопрос: нужно ли тащить в фильм всё, что есть в книге? Впрочем, если учесть, что над завершающей частью романа автор работал, находясь при смерти, то в подобных провисаниях ничего удивительного нет. Так же как нет ничего ставящего под сомнение репутацию Булгакова-художника – чисто физически не успел он устранить все неточности и слабые места в главном произведении своей жизни. Это он оставил для своих – нет, не почитателей! – для продолжателей дела. Не в бездумном преклонении, не в слюнях восторга, а в том, чтобы домыслить, переосмыслить, доработать и развить то, что не успел Мастер, – вот в чём состоит истинное дело для его продолжателей. Потому как – не догма, а руководство к действию… Вот и получается, что гений, подвигнувший Михаила Афанасьевича на создание феноменального романа, через семь десятков лет водил также и рукой с продюсерскими ножницами. Ибо без 80-ти сокращённых минут фильм Юрия Кара – не что иное как эссенция романа Булгакова, где за ненадобностью отброшено всё второстепенное и оставлено главное. Таким образом, киноверсия оказалась лучше не только полной режиссёрской версии, в некотором смысле она оказалась лучше самой книги. «Фауст» наоборот Эссенция (essential) в переводе с латинского – сущность. Каким же образом сущность «Мастера и Маргариты» проявилась в киноверсии? Для того, чтобы спокойно и объективно оценить экранизацию данного романа – и не только каровскую – необходимо, в первую очередь, избавиться от того навязчивостереотипного о нём представления, которое утвердилось ныне в массовом сознании. Согласно этому представлению, итоговый роман Булгакова – недосягаемый шедевр из шедевров, классика из классики, чьё величие и не позволяет достойно его экранизировать (как – приводят пример – нельзя экранизировать «Сто лет одиночества»). Есть, однако, и диаметрально противоположное мнение, постепенно утвердившееся в среде снобистски настроенных интеллектуалов и озвученное некогда Сашей Соколовым – известным писателем-модернистом, автором романа «Школа для дураков» – о том-де, что «Мастер и Маргарита» – не что иное как популярное чтиво для детей старшего – а то и среднего! – школьного возраста. Причём, по мере того как бешеная раскрутка романа на деле оборачивается безмерным раздуванием исключительно бульварных его сторон, вторая точка зрения получает всё больше подтверждений. На наш взгляд, это именно тот случай, когда истина находится посередине. Роман имеет как сильные, так и слабые стороны. Но главная его особенность – в незавершённости. Лунное, суггестивное (от лат. suggestio – внушение), подсознательное, непонятное, незавершённое – а потому и привлекательное: каждый стремится самостоятельно завершить, увидеть нечто своё. Но и это бы не действовало, если бы не было точных попаданий в архетипическое. И таковые попадания – благодаря как великолепной актёрской игре, так и режиссёрскому чутью – отчётливо проявились в киноверсии Кара. И тут остаётся только снять шляпу пред канувшей в лету основанной на системе Станиславского советской актёрской школой. Итак, Валентин Гафт в роли Воланда и Александр Филиппенко в роли Коровьева. Для того, чтобы узреть, ощутить, прочувствовать филигранную точность попадания в образ и не говорить глупостей о переигрывании и фиглярстве (на что горазды всевозможные интернет-знатоки), необходимо понимать суть этих образов. «…так кто ж ты, наконец? – Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо», – эти строчки из гётевского «Фауста» значатся эпиграфом к булгаковскому роману; то, без чего невозможно понять замысел Булгакова и смысл его романа. «Но вначале – первым толчком для этого необыкновенного замысла, – пишет Лидия Яновская в книге «Творческий путь Михаила Булгакова» (М.: Советский писатель, 1983), – был всё-таки не Гёте. Вначале была музыка, источник простой и поэтичный – опера Шарля Гуно «Фауст», написанная на сюжет «Фауста» Гёте и поразившая Булгакова в детстве – на всю жизнь». Таким образом, «Фауст» – в музыкальном ли обрамлении, или же в классическом своём виде – точка отсчёта. Но в то же время это и точка отталкивания, полемического переосмысления на основе собственного жизненного опыта. В результате главные герои претерпевают внутреннюю метаморфозу: Фауст утрачивает имя, становясь безымянным мастером, и в сущностных отношениях с возлюбленной меняется с ней местами. Маргарита же, сохраняя имя, обретает совершенно иную энергетическую направленность. В «Фаусте» она в безумии убивает своего новорожденного ребёнка – у Булгакова освобождает Фриду от бесконечного наказания за аналогичное деяние. В «Фаусте» в ночь перед казнью она отказывается от помощи в виде спасительных коней Мефистофеля, ибо по замыслу автора спасение из рук дьявола обрекает её на вечные душевные муки. У Булгакова же любовники охотно принимают помощь от Воланда, садясь в финале на – не иначе всё тех же! – инфернальных его коней. В прямой противоположности с расположением главных фигур «Фауста» булгаковский Мастер оказывается отодвинутым на задний план, находящимся в смысловой связи с Иешуа (то есть Христом) и выполняющим явно пассивную функцию. Маргарита же, напротив, выходит на передний план, оказывается в непосредственной связи с Воландом (то есть дьяволом) и выполняет активную функцию. Что же до ключевой здесь позиции сатаны, то при столь кардинальном изменении не могло остаться прежним и внутреннее его наполнение. Таким образом, у Булгакова вольно или невольно происходит отказ от христианской концепции дьявола. Кем же в таком случае оказывается этот загадочный Некто? Что говорят на этот счёт лучшие булгаковеды? Лидия Марковна Яновская в упомянутой выше работе отмечает: «У булгаковского Воланда как литературного героя родословная огромна. Образ сатаны привлекал великих художников. Вырастал до огромных философских обобщений в сочинениях Мильтона, Гёте, Байрона, был наполнен неистовой лирической силой в поэме Лермонтова «Демон», стал толчком для прекрасных произведений М. Мусоргского, Ш. Гуно, А. Бойто, Г. Берлиоза, Ф. Листа, воплотился в великих созданиях живописи и скульптуры. Демон, дьявол, сатана, Вельзевул, Люцифер, Асмодей, Мефистофель…» – Но что общего у лермонтовского Демона или мильтоновского Сатаны с героем Булгакова? Ведь при неполном даже и формальном сходстве внутренне это и вовсе различные образы, в коих заложены в корне различные идеи. В той же работе находим ценную информацию о происхождении имени нашего героя: «Самое имя Воланд, также восходит к Гёте. Оно возникает в «Фаусте» одинединственный раз: так называет себя Мефистофель в сцене «Вальпургиева ночь», прокладывая себе и Фаусту дорогу на Брокен среди мчащейся туда нечисти… Автор прозаического и очень внимательного перевода «Фауста» А. Соколовский (СПб, 1902) имя Воланд дал в тексте: «Мефистофель. Вон куда тебя унесло! Вижу, что надо мне пустить в дело мои хозяйские права. Эй, вы! Место! Идет господин Воланд! Дорогу, почтенная шваль, дорогу!» И в комментарии немецкое «Junker Voland kommt» пояснил так: «Юнкер значит знатная особа (дворянин), а Воланд было одно из имен черта. Основное слово «Faland» (что значило обманщик, лукавый) употреблялось уже старинными писателями в смысле черта»». В ПОИСКАХ ЗАГАДОЧНОГО НЕКТО Список Соответствий Соколова «Литературная родословная Воланда, использованная Булгаковым, чрезвычайно многогранна», – буквально вторит Лидии Яновской ещё один видный булгаковед (и не только булгаковед, а, надо сказать, автор чрезвычайно широкого профиля) Борис Вадимович Соколов, автор исследований «Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Очерки творческой истории» (М.: Наука, 1991), «Булгаков. Энциклопедия» (М.: Алгоритм, 2003) и «Расшифрованный Булгаков. Тайны «Мастера и Маргариты»» (М.: Яуза, Эксмо, 2006). В разделе последней книги, озаглавленном как «Нечистая сила – добрая или злая?», находим подробное исследование литературного – и, в некоторой степени, философского – контекста, в котором, по мнению Соколова, создавалась демонологическая линия «Мастера и Маргариты». Обзор велик – включает, надо полагать, всю известную автору литературу, так или иначе связанную с мистикой и оккультизмом (а то и вовсе не связанную), – повсюду находятся параллели и соответствия с булгаковским текстом. Приводим полный список, обнаруженные автором соответствия отмечая лишь в особых – наиболее не прочитывающихся – случаях. Итак… Андрей Белый: стихотворение «И опять, и опять, и опять» (1918), «Северная симфония» (1904), «Возврат. III симфония» (1905); «Московский чудак» (1925); М. А. Орлов: «История сношений человека с дьяволом» (1904); Александр Чаянов: «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей» (1921); Астольф де Кюстин: «Россия в 1839 году» (1843) – описание бала в Михайловском дворце; Леонид Андреев: «Жизнь человека» (1907); Вашингтон Ирвинг: «Альгамбра» (1832); Гёте: «Фауст», Шарль Гуно: опера «Фауст» (1859); Михаил Кузмин: «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро» (1916); Каролина Павлова: стихотворение «Разговор в Трианоне» (1849), представляющее собой воображаемый диалог Мирабо и Калиостро;; П. А. Флоренский: «Столп и утверждение истины» (1914); Гофман: «Эликсиры сатаны» (1816); Лермонтов: «Фаталист» (1841) – мысль о дьявольском роке; Эмилий Миндлин: «Возвращение доктора Фауста» (1923); Гейне: «Путевые картины» (1826) – здесь и в последующих трёх источниках: Анатоль Франс: «Сад Эпикура» (1894); Д. А. Ф. де Сад: «Новая Жюстина» (1797); Вольтер: «Задиг, или Судьба» (1748) – автор находит созвучные булгаковским рассуждения о соотношении добра и зла; Мартин Хайдеггер: «Исток художественного творения» (1936) – слова Воланда в театре Варьете о внешних изменениях и внутренней неизменности; С. Н. Булгаков: «На пиру богов» (1918); А. К. Толстой: «Упырь» (1841); Достоевский: «Село Степанчиково и его обитатели» (1859) – Коровкин как прообраз Коровьева; Сергей Заяицкий: «Жизнеописание Степана Александровича Лососинова» (1928) – финальное превращение Коровьева-Фагота в угрюмого рыцаря и кота Бегемота – в юношу-пажа; И. Я. Порфирьев: «Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях» (1872) – упоминание о Бегемоте (морском чудовище) и Азазеле; Лукиан и Апулей (II в.) – сюжеты с волшебной мазью; Николай Полевой: «Аббадонна», Жуковский – стихотворение «Аббадона» (1815) – образ демона войны; Валерий Брюсов: очерк «Легенда об Агриппе» (1913) – фокус с червонцами; Александр Амфитеатров: рассказ «Питерские контрабандистки» (1898) – откуда, по мнению Соколова, заимствован магазин моды во время сеанса черной магии; роман «Жар-цвет» (1895-1910), трактат «Дьявол» (1911); Михаил Зощенко: рассказ «Землетрясение» (1929) – персонаж в подштанниках, гуляющий по Ялте; Федор Сологуб: «Мелкий бес» (1905) – образ конферансье Жоржа Бенгальского; Юрий Тынянов: «Подпоручик Киже» (1928), Ильф, Петров: «Золотой теленок» (1931) – история с костюмом председателя Зрелищной комиссии Прохора Петровича; Густав Мейринк (Майринк): «Голем» (1915), «Вальпургиева ночь» (1917), «Белый доминиканец» (1921), «Ангел Западного окна» (1927). Каков же вывод можно сделать из всех этих литературных параллелей и соответствий? С одной стороны, экскурс Бориса Соколова вызывает уважение своей щепетильностью, ибо помогает увидеть множество скрытых нитей, устанавливающих литературный контекст, свидетельствующих о многообразии и единстве мировой литературы. Но с другой стороны – поскольку всё в мире взаимосвязано – подобные соответствия можно находить до бесконечности. И в то же время, все эти рассуждения, интересные сами по себе, никак не раскрывают ключевых образов и, следовательно, идей булгаковского романа. Исследование же в таком случае идёт не вглубь, а вширь; обращается в количество, а не в качество. Очевидно, что во избежание столь экстенсивного и малоперспективного пути следует, не ограничивая оперативного пространства, фокусировать внимание не на поверхностных соответствиях (а то и случайных совпадениях), а на моментах наиболее интересных и перспективных с точки зрения главной задачи – прояснения ключевых образов и идей. Белый и Булгаков: противоречие в сходстве Обратимся же к первому в Списке Соответствий Соколова, коим является выдающийся русский поэт-символист Андрей Белый (наст. имя – Борис Николаевич Бугаев). В его творчестве действительно видим подобно перепелиным яйцам на поле там и сям разбросанные идеи, мысли и образы, так или иначе вошедшие затем в последний булгаковский роман. Прежде всего, это касается двух произведений – во-первых, «Северной симфонии», в которой видны явные источники таких эпизодов «Мастера и Маргариты» как полёт Маргариты, сцены шабаша и бал у Сатаны – как сказал выступавший в роли устроителядворецкого Коровьев: «Он называется весенним балом полнолуния, или балом ста королей». Да и не только отдельные эпизоды, в целом это раннее – написанное в романтическом духе – произведение А. Белого стало как бы фоном, подкладкой, тем слоем романа М. Булгакова, в котором явственно видны отголоски средневековой западноевропейской демонологии: «В те времена все было объято туманом сатанизма. Тысячи несчастных открывали сношения с царством ужаса, над этими странами повис грех шабаша и козла… В ту пору еще странствовал здесь пасмурный католик на куриных лапах… Как часто среди камней и вереска насмешливый католик совершал черную мессу и ему прислуживали диаволы Астарот и Богемот… Дворецкий отдавал приказания. В замке возились. Готовились к вечернему приему… И когда часы хрипло пробили десять, возвестили о начале ужаса… Какой-то забавный толстяк взгромоздился на стол, топча парчовую скатерть грубыми сапожищами, подбитыми гвоздями. Он держал золотой кубок, наполненный до краев горячею кровью… Подходили рыцари, закованные в броню, преклоняли колени на ступеньках трона, держа в руках свои пернатые головные уборы. И всякому она протягивала руку, белую, как лилия, ароматную, и он прикладывал ее к устам. Всякому улыбалась…» Вторым произведением А. Белого имеющего непосредственную взаимосвязь с романом М. Булгакова является «Московский чудак» – первая часть трилогии «Москва». Здесь в портретах дельца Эдуарда фон Мандро и его подручных Грибикова и уродца-карлика Кавалькаса находим явные прообразы Воланда и его присных. МАНДРО: «Среди прочих тащился на Ваньке брюнет, поражающий баками, сочным дородством и круглостью позы: английская серая шляпа с заломленными полями весьма оттеняла с иголочки сшитый костюм, темно-синий, пикейный жилет и цепочку: казалось, что выскочил он из экспресса, примчавшего прямо из Ниццы, на Ваньку; он ехал со злобой в прищуренном взоре, сморщинивши лоб и сжимая тяжелую трость; а другая рука, без перчатки, лежала на черном портфелике, отягощавшем колено; увидевши юношу, вскинул он брови, показывая оскалы зубов, набалдашником трости ударил в извозчика: – Стой». «Происхождение рода Мандро было темно; одни говорили, что он – датчанин; кто-то долго доказывал – вздор: Эдуард Эдуардович – приемыш усыновленный; отец же его был типичнейший грек, одессит, – Малакаки; а сам фон-Мандро утверждал, что он – русский, что прадед его проживал в Эдинбурге, был связан с шотландским масонством, достиг высшей степени, умер – в почете; при этом показывал старый финифтевый перстень; божился, что перстень – масонский». «…манеры Мандро обличали приемы искусства, которым, казалось, владел в совершенстве; взглянув на него, все хотелось сказать: – Станиславщина». ГРИБИКОВ: «Проходил обыватель в табачно-кофейного цвета штанах, в пиджачишке, с засохлым лицом, на котором прошлась желтоеда какая-то, без бороды и усов, – совершенный скопец, в картузишке и с фунтиком клюквы; шел с выдергом ног; и подпек бородавки изюмился под носом; Митеньку он заприметил; прошлось на лице выраженье, – какое-то, так себе тихо прислушивался он к расторгую, толкаемый в спину, скрутил папироску». «– Стало, – батюшка – вас не снабжает деньжатами? – злобно мещанствовал Грибиков: – Денежки нынче и крысе нужны… «Какой приставала, – подумалось Мите, – отделаться бы»…») «Дворник прикрикнул: – Ну, ты, – человечищем будешь в сажень, а все – эханьки». «Одет был в старьишко; вблизи удивил старобабьим лицом; вид имел старьевщика; был куролапый какой-то, с черватым лицом, в очень ветхих, исплатанных штаниках; глазки табачного цвета, бог весть почему – стервенели: носочек – черственек: роташка – полоска (съел губы): грудашка – черствинка: ну, словом: весь – черствель: осмотр всего этого явно доказывал: все – оказалось на месте: а то все казалось – какой-то изъян существует: не то съеден нос (но – вот он), не то – ухо (но – было!) или горло там медное (нет – настоящее!)» Итого, по выражению профессора Коробкина – того самого «московского чудака»: «– В корне взять, – чорт!» А теперь вспомним, как один вслед за другим появляются аналогичные персонажи у Булгакова. Итак, как говорил небезызвестный втируша-регент: «Эйн, цвей, дрей!»: 1. «И тут знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин престранного вида. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузый воздушный же пиджачок… Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно, и физиономия, прошу заметить, глумливая. <…> – Фу ты черт! – воскликнул редактор, – ты знаешь, Иван, у меня сейчас едва удар от жары не сделался! Даже что-то вроде галлюцинации было…» 2. «И вот как раз в то время, когда Михаил Александрович рассказывал поэту о том, как ацтеки лепили из теста фигурку Вицлипуцли, в аллее показался первый человек. <…> …ни на какую ногу описываемый не хромал, и росту был не маленького и не громадного, а просто высокого. Что касается зубов, то с левой стороны у него были платиновые коронки, а с правой – золотые. Он был в дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет костюма, туфлях. Серый берет он лихо заломил на ухо, под мышкой нес трость с черным набалдашником в виде головы пуделя. По виду – лет сорока с лишним. Рот какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз черный, левый почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой. Словом – иностранец. Пройдя мимо скамьи, на которой помещались редактор и поэт, иностранец покосился на них, остановился и вдруг уселся на соседней скамейке, в двух шагах от приятелей. «Немец», – подумал Берлиоз. «Англичанин, – подумал Бездомный, – ишь, и не жарко ему в перчатках»». 3. «– Турникет ищете, гражданин? – треснувшим тенором осведомился клетчатый тип, – сюда пожалуйте! Прямо, и выйдете куда надо. С вас бы за указание на четверть литра… поправиться… бывшему регенту! – кривляясь, субъект наотмашь снял жокейский свой картузик. Берлиоз не стал слушать попрошайку и ломаку регента, подбежал к турникету и взялся за него рукой. Повернув его, он уже собирался шагнуть на рельсы, как в лицо ему брызнул красный и белый свет: загорелась в стеклянном ящике надпись «Берегись трамвая!»» Однако всё – столь впечатляющее – сходство персонажей двух романов оказывается чисто внешним – никак не сущностным! Дело в том, что у Белого это, в конце концов, не более чем шайка проходимцев, родиной же самого фон Мандро оказывается вовсе не Ницца, и никакая другая заграница, а всего лишь… волынские Киверцы. Да-с! «Его детство – Полесье; действительно, – отроком бегал он в Киверцах…» Следовательно, Булгаков позаимствовал у Белого лишь внешнюю оболочку выдуманных им персонажей и в эту оболочку отпетых мошенников вложил совершенно иной – выходящий за рамки рацио – смысл. Известно, что роман «Московский чудак» был подарен Булгакову автором 20 сентября 1926 года с дарственной надписью: «Глубокоуважаемому Михаилу Афанасьевичу Булгакову от искреннего почитателя. Андрей Белый (Б. Бугаев)». Однако, из «Жизнеописания Михаила Булгакова» М. Чудаковой (М.: Книга, 1988) мы узнаем, что: «Литературное отношение Булгакова к Белому было отрицательным, а с 1933 года к этому примешалось, пожалуй, раздражение – Белый выступал против постановки «Мертвых душ» в МХАТе, уверяя, что ни постановщики, ни автор инсценировки не поняли Гоголя (в тот год А. Белый выпустил свою труднодоступную для чтения и замечательную богатством мысли книгу «Мастерство Гоголя»). Можно думать, что в постоянной и творчески-многообразной ориентации Булгакова на Гоголя в эти и последующие годы была какая-то доля внутренней полемики с Белым, который считал себя «возобновителем» Гоголя, «новым Гоголем». Это усиливало ту неприязнь Булгакова к Белому, которая и продиктовала резкие слова, зафиксированные в той же записи Еленой Сергеевной и важные для нас главным образом как один из немногих случаев прямых высказываний Булгакова: «– Всю жизнь, прости господи, писал дикую ломаную чепуху. В последнее время решил повернуться лицом к коммунизму. Но повернулся крайне неудачно… Говорят, благословили его чрезвычайно печальным некрологом»». (Указ. соч. Сс. 515, 516) Таким образом, во взаимоотношениях двух именитых литераторов обнаруживается камень преткновения – Гоголь. Для обоих он – непревзойдённый авторитет, литературный идеал и образец для наследования – и кто же – Белый или Булгаков – может по праву считаться гоголевским наследником №1? Думается, что однозначно ответить на этот вопрос не представляется возможным по той причине, что литературное движение «соперников» происходило в разных направлениях. Белый – модернист, его проза – элитарное чтение для единиц (наподобие «Поминок по Финнегану» Джойса), для которого характерны: специфическая манера, бесконечная словесная игра (непереводимая игра слов – на 800 страниц!), стремление посредством слов добиться тотальной ритмичности и музыкальности – но не той плавной музыкальности, что присуща музыке классической, а ритмически изломанной, сотканной из диссонансов музыкальности академического модерна. Булгаков – традиционалист, сохраняющий ориентацию и на идейно-тематическую отчётливость, и на фабульную занимательность. Посему идейно-тематическая, равно как и фабульная размытость, характерные для Белого, вызывали у него вполне объяснимое раздражение. Но возникает вопрос: только ли внешние заимствования соединяют Булгакова с Белым? Не тут-то было! Вчитываясь в текст «Москвы», постепенно находишь нечто большее, чем поверхностные соответствия с последним романом Булгакова – и это несмотря на реплику про «дикую ломаную чепуху». Возьмём, к примеру, хорошо известное булгаковедам место, где, завершая визит к фон Мандро, профессор Коробкин в сопровождении хозяина и его дочери, направляется в прихожую: «И втроем – побежали: втроем очутились – в передней, в коврах, заглушавших пришлепочки эхо к раздельным хлопочкам шагов; уж профессор просунулся в шубу; неясно он видел (очки запотели): лежит размехастая круглая шапка его. Цап ее на себя! В тот же миг оцарапало голову что-то: из схваченной шапки над ярким махром головы опустились четыре ноги и пушистый развеялся хвост: этой шапкой взмахнувши, – ей в землю! Пред нею раскланялся он: – Извините-с – пожалуйста-с! – Шапка же стала… – Ах, чорт дери: Васенька! – Стала котом!» У Булгакова этот мотив оборачивается сценой с незадачливым буфетчиком, шляпа на голове у которого также оборачивается чёрным котёнком. Но здесь это откровенно периферийный эпизод, не относящийся к главным идейным пружинам. Казалось бы, заимствование чисто внешнее, не затрагивающее сути? Однако у Белого далее следует: «В чем дело? Мандро! Если б мог осознать впечатленье от звука «Мандро», то увидел бы: в «ман» было – синее: в «др» – было черное, будто хотевшее вспомнить когда-то увиденный сон; «ман» – манило; а «др» – ? Наносило удар. – Да, удар – над Москвой! – Что такое сказал он, совсем неожиданно; и – осмотрелся: проперли составы фасадов: уроды природы; дом – каменный ком; дом за домом – ком комом; фасад за фасадом – ад адом; а двери, – как трещины. Страшно! Свисает фасад за фасадом под бременем времени: время, удав, – душит; бремя – обрушится: рушатся старым составом и он, и Москва, провисая над Тартаром». – И последние слова «Московского чудака» – первой части трилогии «Москва»: «Он надел на себя не кота, а – терновый венец». Как видим, здесь нет ничего раз навсегда зафиксированного – в непрерывном движении пребывает внешнее и внутреннее, суть и форма: «Круг – двигался. В центре его проходил не Мандро: на стене отражалися не бакенбарды, а – дьявольщина». – Так кто же он – банальный мошенник родом из Киверец? или же… Мандро – нависающий над Москвой, угрожающий Москве? (напомним, что второй роман трилогии называется «Москва под ударом», третий – «Маски») – персонификация по-настоящему демонической идеи? Да всё что угодно! И одно, и другое, и третье… «Круг двигался» – и в результате такой подвижности то и дело открываются как новые внутренние смыслы, так и новые параллели с произведениями Булгакова. И здесь находим соответствие уже и с «Белой гвардией» – романом, из всех произведений Булгакова наиболее родственном Белому: как эстетически – в силу своего модернизма, так и содержательно – ибо это роман о городе – а у А. Белого помимо «Москвы» есть ещё и знаменитый «Петербург». Кроме того, это роман о городе, находящемся под ударом. В «Белой гвардии» гроза разразилась – город ввергнут в водоворот судьбоносных трагических событий. В «Москве» же Белого видим болезненно дышащую бесформенную массу, находящуюся в ожидании грозы – в преддверии ада. Внутреннее видение Москвы, некогда внешне описанной Гиляровским. Вид изнутри: «Подхватят тогда краснокудрый дымок из трубы раздуваи ветров, и воззрится из вечера стеклами тот красноокий домишечка, чтобы потом под измятой периною тьмы почивали все пестрости, днем бросающие красноречие пятен, а ночью притихшие; ноченька там за окошками повеселится, как лютиками, – желтоглазыми огонечками: ситцевой и черно-желтою кофтой старухи, томительно вяжущей спицами серый чулок из судеб человеческих; в эти часы за воротами свяжется смехотворная скрипитчатая, сиволапые краснобаи; и кончится все – размордаями и подвываньями бабьими; и у когото из носу пойдет краснокап; и на крик поглядит из-за форточки там перепуганный ктонибудь. Грибиков будет беззвучно из ночи смотреть, ожидая каких-то негласных свиданий, быть может – старуху, которая кувердилась чепцом из линялых кретончиков в черненькой кофте своей желтоглазой, которая к вечеру, подраспухая, становится очень огромной старухою, вяжущей тысяченитийный и роковой свой чулок. Та старуха – Москва». Но ведь и «Мастер и Маргарита» – роман также о городе – о той же Москве (с Ершалаимской параллелью). Таким образом выходим на еще одно соответствие в творчестве двух гоголевских наследников: Киев и Москва у Булгакова против Петербурга и Москвы у Белого. И, наконец, образ грозы – и вновь соответствие: «Гроза, о которой говорил Воланд, уже скоплялась на горизонте. Черная туча поднялась на западе и до половины отрезала солнце. Потом она накрыла его целиком… Эта тьма, пришедшая с запада, накрыла громадный город. Исчезли мосты, дворцы. Все пропало, как будто этого никогда не было на свете. Потом город потряс удар. Он повторился, и началась гроза. Воланд перестал быть видим во мгле». «И – загрозарело; деревья склонились друг к другу бессмыслицей, шопотный смысл в них явивши; и пагубородное что-то закрыло луну, перед нею пропятяся лапой – когтистою, черной – подкравшейся тучи; уж лапа разорвана в желто-зеленые и в желто-черные клочья; над ней, за трубой дымовой, – черно-желто-зеленая пасть: ужу жутя, в пустом переулке дряхлец тащит челюсть на шее; фасад за фасадом – ад адом. И двери, как трещины. Загрозарело: ругается где-то прохожая туча; темнеет; за крышею семиэтажного кубища небо – взадуй: сухоплясами в окна; и – молньями в окна; дом, каменный ком, вспыхнув в выжелчень пламени, смерк; и в нем кто-то, дряхлый, на белой стене в переулочке, вспыхнувши шеей и челюстью, – смерк». Сходство налицо. Однако… это то сходство, которое порождает противоречие – в силу разности эстетических и мировоззренческих как внешних ориентиров, так и внутренних установок. Чересчур они разные – во многом даже диаметрально противоположные – и потому прямое заимствование одного у другого не только не роднит их, а еще больше углубляет их сущностный антагонизм. Но следить за рождением булгакова космоса из белого хаоса – занятие чрезвычайно интересное… Рождение Коровьева: «Кекал Грибиков: – Вот и не знаешь. – И сфукнул в кулак. – Я то знаю, что валятся, точно в помойную яму, в нас всякие дряни… – Шипнул как на печке кусочек коровьего масла: – В большую, брат, яму, – побольше и хламу… – Ответил плёвом». Ещё параллели Однако, несмотря на столь очевидное переплетение образов и идей в отмеченных произведениях Булгакова и Белого, соответствие это: – в обрисовке конкретных персонажей – имеет поверхностный характер: при очевидном портретном сходстве столь же очевидное различие в их функциях; – в идейных же сходных мотивах – затрагивает общефилософские горизонты, но не касается смыслового острия. Тема эта весьма интересна для обширного научного исследования, но подобное исследование – в силу отмеченного нами сущностного антагонизма двух авторов – будет опять-таки (как частный случай Списка Соответствий Соколова) направлено в ширь, а не в глубь главного вопроса – о смысловом острие романа «Мастер и Маргарита». Более перспективным в этом смысле может стать изучение вопроса о влиянии на Булгакова творчества не модерниста Белого, а писателя-традиционалиста начала ХХ века Леонида Андреева. Вадим Соколов упоминает лишь одно произведение этого автора – пьесу «Жизнь человека». А ведь творчество Андреева – одного из наиболее значительных русских писателей своего времени, мимо которого никак не мог пройти и Михаил Булгаков – содержит в себе произведения тематически явно созвучные «Мастеру и Маргарите». Здесь и основанные на переосмыслении христианских идей философские пьесы: помимо «Жизни человека» (1906) это ещё и «Анатэма» (1909); и евангельская тема в повести «Иуда Искариот» (1907) (по её мотивам в 1991 году режиссёр Одесской киностудии Михаил Кац поставил замечательный кинофильм «Пустыня»); и, наконец, итоговый для писателя неоконченный роман, само название которого – «Дневник Сатаны» (1919) – в любом случае должно привлечь внимание исследователя булгаковского творчества: «Сегодня ровно десять дней, как Я вочеловечился и веду земную жизнь… Скажу заранее, – чтобы ты не слишком разевал твой любопытный рот, мой земной читатель! – что необыкновенное на языке твоего ворчания невыразимо. Если не веришь Мне, сходи в ближайший сумасшедший дом и послушай тех: они все познали что-то и хотели выразить его… и ты слышишь, как шипят и вертят в воздухе колесами эти свалившиеся паровозы, ты замечаешь, с каким трудом они удерживают на месте разбегающиеся черты своих изумленных и пораженных лиц? …Я мог бы сочинить тебе одну из тех смешных историек о рогатых и волосатых чертях, которые так любезны твоему скудному воображению, но ты имеешь их уже достаточно, и Я не хочу тебе лгать так грубо и так плоско… А правду – как ее скажу, если даже мое Имя невыразимо на твоем языке? Сатаною назвал Меня ты, и Я принимаю эту кличку, как принял бы и всякую другую: пусть Я – Сатана. Но мое истинное имя звучит совсем иначе, совсем иначе! Оно звучит необыкновенно, и Я никак не могу втиснуть его в твое узкое ухо, не разодрав его вместе с твоими мозгами: пусть Я – Сатана, и только. И ты сам виноват в этом, мой друг: зачем в твоем разуме так мало понятий? Твой разум как нищенская сума, в которой только куски черствого хлеба, а здесь нужно больше, чем хлеб. Ты имеешь только два понятия о существовании: жизнь и смерть – как же Я объясню тебе третье? Все существование твое является чепухой только из-за того, что ты не имеешь этого третьего…» Как ни странно, но ни у Соколова, ни у Яновской, ни у Чудаковой в «Жизнеописании Михаила Булгакова» об этом романе нет ни единого упоминания. В то же время Мариэтта Чудакова довольно обстоятельно анализирует произведения российских авторов, вышедшие в начале 20-х, в которых усматриваются параллели с образом Воланда. Здесь и «Фанданго» А. Грина, и «Любовь на Арбате» А. Соболя, и «Обломки» того же автора, и «Иностранец из 17-го» О. Савича, наконец, «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей» А. Чаянова. Но наиболее интересной параллелью является в этом ряду первый роман Ильи Эренбурга. Мариэтта Омаровна, указывая на временные особенности работы над разными редакциями романа, ставшего в конце концов «Мастером и Маргаритой», отмечает: «Появление же дьявола в первой сцене романа было гораздо менее неожиданным для литературы в 1928 году, чем через десять лет – в годы работы над последней редакцией. Эта сцена и вырастала из текущей беллетристики, и полемезировала с ней. «26 марта 1913 г. я сидел, как всегда, на бульваре Монпарнас…» – так начинался вышедший в 1922 году и быстро ставший знаменитым роман Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников». На следующей странице: «Дверь кафе раскрылась и не спеша вошел весьма обыкновенный господин в котелке и в сером непромокаемом пальто». Герой сразу понимает, что перед ним сатана, и предлагает ему душу и тело. Далее начинается разговор, получающий как бы перевернутое отражение в романе Булгакова: «Я знаю, за кого вы меня принимаете. Но его нет». И герой добивается у сатаны ответа: «Хорошо, предположим, что его нет, но что-нибудь существует?.. – Нет»; «Но ведь на чем-нибудь все это держится? Кто-нибудь управляет этим испанцем? Смысл в нем есть?» – эти безуспешные взывания героя-рассказчика у Эренбурга заставляют вспомнить как бы встречный вопрос «иностранца» в первой главе романа Булгакова: «Кто же распоряжается всем этим?» (редакция 1928 г.) и последующий спор». – И несколькими строчками ниже: «В дальнейшем личность Эренбурга быстро привлекла не слишком дружелюбное внимание Булгакова: роман Эренбурга в 1927 году – накануне обращения Булгакова к новому беллетристическому замыслу – был переиздан дважды». И вновь – в который уже раз – полемика! Переосмысление главных образов «Фауста», в том числе и позиции Мефистофеля, неприемлемость творческого метода Андрея Белого при явной перекличке некоторых мотивов, и теперь – зеркальное отталкивание от Эренбурга. Всё это говорит о том, что роман Булгакова – и в частности образ Воланда, равно как и философская идея с ним связанная, – формировался в сознании автора путём отрицания неприемлемых ему концепций. Кого же видит в этом образе Булгаков? Но прежде чем приступить к рассмотрению этого вопроса, обратим внимание ещё на одно смежное произведение, упоминающееся как Соколовым, так и Чудаковой – на небольшую повесть «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей». Её автор – Александр Чаянов (1888 – 1937) – видный учёный-аграрий, раздавленный репрессивной сталинской махиной. Книжку Чаянова, вышедшую в 1921 году и подаренную Булгакову оформлявшей её художницей Н. А. Ушаковой, Михаил Афанасьевич любил. И было за что. Дело в том, что главный герой повести, столкнувшийся на улицах Москвы с некой сатанинской личностью, носит фамилию… Булгаков! «…Ошибиться было невозможно. Это был он! Не нахожу теперь слов описать мое волнение и чувства этой роковой встречи. Он, роста скорее высокого, чем низкого, в сером, немного старомодном сюртуке, с седеющими волосами и потухшим взором, все еще устремленным на сцену, сидел направо в нескольких шагах от меня, опершись локтем на поручни кресла, и машинально перебирал свой лорнет. Кругом него не было языков пламени, не пахло серой, все было в нем обыденно и обычно, но эта дьявольская обыденность была насыщена значительным и властвующим». – Преодолевая мыслью расстояние, Венедиктов – та самая сатанинская личность – призывает к себе главного героя и делится с ним своими необычными переживаниями: «Беспредельна власть моя, Булгаков, и беспредельна тоска моя; чем больше власти, тем больше тоски». И он со слезами в голосе повествовал, как склоняются перед ним человеческие души, как гнутся они под велением его воли». – И тут раскрывается причина того непостижимого влияния, которое имеет над героем Венедиктов. Оказывается, что в неком инфернальном клубе он выиграл в карты его душу: «Ничего ты не понимаешь, Булгаков! – резко остановился передо мной мой страшный собеседник. – Знаешь ли ты, что лежит вот в этой железной шкатулке? – сказал он в пароксизме пьяной откровенности. – Твоя душа в ней, Булгаков!» – Герою повести таки удаётся преодолеть эту власть – обыграв Венедиктова в карты – и избавиться от дьявольского наваждения. А как решил этот вопрос сам Михаил Афанасьевич? Разговор о добре и зле Из читанных мною книг и материалов, посвященных Булгакову, наибольшее уважение вызывают «Творческий путь Михаила Булгакова» Лидии Яновской и «Жизнеописание Михаила Булгакова» Мариэтты Чудаковой. Главный предмет этих исследований – личность писателя, цель – систематизация всех доступных источников о его жизни и творчестве. И как результат успешной работы – признание неоспоримой ценности данных книг. Иное дело – книги, посвящённые анализу творчества Булгакова – и прежде всего анализу романа «Мастер и Маргарита». Здесь во главу угла ставится уже не горизонт охвата материала, а именно глубина анализа. Монография Бориса Соколова «Расшифрованный Булгаков. Тайны «Мастера и Маргариты»» (М.: Яуза, Эксмо, 2006) – типичный пример исследования экстенсивного. Однако автор всё же предпринимает попытку углубиться и выйти на острие вопроса – обязывает как-никак и учёное звание – доктор филологических наук, и само название книги – «Расшифрованный Булгаков»! Острие вопроса – философский и метафизический смысл образа Воланда – поскольку именно здесь находится ключ к пониманию смысла всего романа. Своё рассуждение на этот счёт Борис Соколов начинает с отталкивания от мысли Павла Флоренского о бесплодности зла, а следовательно и дьявола. Мысли о том, что дьявол это не более чем «обезьяна Бога», автор противопоставляет позицию Булгакова, у которого, дескать, лишь в ранних редакциях этот образ был наделён шутовскими чертами, в окончательном же варианте «Воланд стал иным, «величественным и царственным», близким традиции лорда Джорджа Байрона и Иоганна Вольфганга Гёте, Михаила Лермонтова и иллюстрировавшего его «Демона» художника Михаила Врубеля». Однако вместо того, чтобы доказать, что булгаковский Воланд действительно близок этой традиции, автор перескакивает на Гофмана и Лермонтова – только не на «Демона», а на «Фаталиста», то есть рассматривает Воланда как носителя судьбы, рока, фатума – после чего формулирует следующий – никак не связанный с им же отмеченной традицией – тезис: «Это первый дьявол в мировой литературе, который наказывает за несоблюдение заповедей Христа». После такой мысли логично было бы ожидать и соответствующего вывода. Перефразировав известную реплику – «Мне кажется почему-то, что вы не очень-то кот», – впору было бы заявить: «Мне кажется почему-то, что вы не очень-то дьявол». Однако к такой мысли Соколов почему-то не приходит. Он опять растекается вширь, обращается к «Путевым картинам» Генриха Гейне, к его иронической идее взаимоотношения добра и зла, к тому месту из «Фауста», что стало эпиграфом к «Мастеру и Маргарите» – и всё это для того, чтобы выдать на-гора формулировку: «У Булгакова Воланд, как и герой Гёте, желая зла, должен совершать благо». – Но вопрос: это какое такое благо совершает – или должен совершать – герой Гёте – этот типичный искуситель? А также: из чего это следует – из какого места в тексте – что Воланд желает зла? Но дальше – главное. Тот ключевой в авторских рассуждениях момент, который по идее должен разрешить главную задачу – разъяснить смысл Воланда, а следовательно и всего романа: чтоб, как и было обещано, явить читателю «расшифрованного Булгакова». И что же предлагает нам автор? «Диалектическое единство, взаимодополняемость добра и зла наиболее полно раскрывается в словах Воланда, обращенных к Левию Матвею, отказавшемуся пожелать здравия «духу зла и повелителю теней»: «Ты произнес свои слова так, как будто ты не признаешь теней, а также и зла. Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом: что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей. Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом? Ты глуп»». Пожалуй, было бы лучше, если бы автор обратился к известной со школьной скамьи диалектической идее единства и борьбы противоположностей. Но, пытаясь отыскать путеводную нить среди известных ему и применимых к случаю философских концепций, Борис Соколов находит нечто гораздо более сомнительное: «Здесь… – пишет он, – приходит в голову философский трактат французского писателя, лауреата Нобелевской премии Анатоля Франса «Сад Эпикура», где утверждается: «Зло необходимо. Если бы его не существовало, то не было бы и добра. Зло единственная причина существования добра. Без гибели не было бы смелости, без страдания – сострадания. На что бы годились самопожертвование и самоотвержение при всеобщем счастье? Разве можно понять добродетель, не зная порока, любовь и красоту, не зная ненависти и безобразия. Только злу и страданию обязаны мы тем, что наша земля может быть обитаема, и жизнь стоит того, чтобы ее прожить. Поэтому не надо жаловаться на дьявола. Он создал по крайней мере половину вселенной. И эта половина так плотно сливается с другой, что если затронуть первую, то удар причинит равный вред и другой. С каждым искорененным пороком исчезает соответствующая ему добродетель»». От Франса путеводная нить ведёт Соколова к маркизу де Саду, к его роману «Новая Жюстина» – к месту, где переосмысливается повесть Вольтера «Задиг». И вот – на стыке философских концепций трёх этих французов – и находит он место для Воланда. «Вольтер, стилизовавший свое сочинение под «восточную повесть» из «персидской жизни», дуализм добра и зла воспринял от древнеперсидской религии – зороастризма, где бог света Ормузд, или Ахурамазда, упоминаемый в повести, находится в постоянном сложном взаимодействии с богом тьмы Ариманом, или Анграмайнью. Оба они олицетворяют два «вечных начала» природы. Ормузд не может отвечать за зло, которое порождается Ариманом и принципиально неустранимо в этом мире, а борьба между ними – источник жизни. (Но как с этим можно соотнести булгаковского Воланда?! – О. К.) Вольтер помещает праведников под покровительство верховного существа – создателя иного, совершенного, мира. Де Сад же сделал добро и зло равноправными в природе... Франс, подобно де Саду, из вольтеровской концепции исключил верховное существо, а добро и зло уравнял в их значении. Такое же равноправие добра и зла отстаивает Воланд… Воланд выполняет поручения Иешуа Га-Ноцри – таким оригинальным способом Булгаков осуществляет взаимодополняемость доброго и злого начала». К сожалению, Борис Соколов не только не прояснил сути вопроса, напротив – он ещё больше его запутал. Случилось это в результате, прежде всего, недостаточно глубоких познаний в метафизике. В своих рассуждениях – которые мы привели в достаточной полноте – автор выстраивает следующую цепочку: Воланд – Франс – де Сад – Вольтер – зороастризм – Вольтер – де Сад – Франс – Воланд. Центральным звеном цепочки является, как видим, зороастризм (другое название – парсизм). Однако утверждение, что сутью данной религии является якобы изначальный дуализм, есть не что иное как профанация. И чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в «Зенд-Авесту» – главную книгу зороастризма – и прочитать: «Boun-Dehesch (вторая по значимости книга парсов. – О. К.) обещает, что в будущем можно будет увидеть с одной стороны Ормузда и семь первичных гениев, а с другой Аримана с таким же числом демонических духов, приносящих вместе жертву Вечному, Zervane-Akerene». Разъяснение данного места находим в опубликованной в 1913 году книге Юрия Николаева (псевдоним Юлии Данзас) «В поисках Божества. Очерки истории гностицизма»: «По древнему преданию роль Зороастра в Персии состояла именно в том, что он научил магов, исповедовавших дуализм, познанию Единой Непостижимой Божественной Сущности, пребывающей бесстрастно и неизменно за пределами всех мировых антитез и вмещающих их в Себе. По учению Зороастра, эта идея Неизъяснимого Божества отнюдь не исчерпывается понятиями об Ормузде и Аримане, олицетворяющих свет и тьму, добро и зло и т. д. То лишь видимые проявления Непостижимой и Неизреченной Сущности – Ормузд – Светлая Эманация из Неё, положительный, активный принцип, Ариман – отрицание всего положительного. По характерному древнему определению, – Ариман есть сомнение Ормузда в самом себе. Но все эти антитезы положительного и отрицательного начал, все формулы бытия содержатся в Неизъяснимой Сущности (Zervane-Akerene), всеобъемлющей, бесстрастной, превышающей всякое восприятие и всякое познание». (К.: София, 1995. – с. 32) Как видим, всё гораздо сложнее и в то же время понятнее. И дуализм – как «равноправие добра и зла» – из приведённых Соколовым концепций наблюдается только у Франса. У де Сада же – вовсе не то, что говорит Соколов, – никакого уравнивания: этот автор производит подмену – зло здесь объявляется по сути добром, причём зло в высшей степени концентрированное. А теперь что касается мнимого «дуализма» Воланда и, соответственно, Булгакова. Анализируя известный монолог Воланда, обращённый к Левию Матвею, укажем на содержащиеся в нём противоречия, незавершённость и недодуманность. «Дух зла и повелитель теней» – странно, почему теней? Свету ведь противостоит не тень, а тьма! А тень – это, как известно, взаимодействие света и тьмы. Идём дальше: зло – вовсе не тень добра, зло – это отсутствие добра. Это болезнь, нарушение нормального функционирования организма. Разве без болезни не было бы здоровья? – это уже насчёт приведённых Соколовым рассуждений Франса – риторический вопрос, выявляющий абсурдность подобного дуализма. Но вернёмся, однако, к Воланду и задумаемся, о каком таком зле он бает? Где это зло? Как оно выглядит? Совершают ли зло Воланд и его присные? А Мастер и Маргарита, вступая в контакт с якобы Князем тьмы – разве во зло впадают? Что же злого они делают? Духом какого зла является Воланд, если на протяжении всего романа только то и делает, что восстанавливает справедливость? Таким образом, видим здесь зло условное, гипотетическое, – не зло, а лишь разговор о нём. За пределы дуализма Поскольку в христианском вероучении дьявол – враг рода человеческого, искуситель, соблазнитель, вредитель, то логика тут проста и понятна: если он не творит зло, то никакой он в таком случае не дьявол, не сатана. Кто же он тогда? Добрый Сатана? Но это ведь всё равно, что доброе зло! Интересно, что многие писатели и толкователи, обращающиеся к образу Сатаны, не видят абсурдности в подобном сочетании. Пытаясь опровергнуть представление о дьяволе, они наделяют его прямо противоположными чертами. Кто во что горазд! В романе «Восстание ангелов» Анатоля Франса Сатана отождествляется с древнегреческим Дионисом – вероятно, по причине его центрального положения в мистериях, и в то же время объявляется покровителем искусств и наук! У Марка Твена в «Таинственном незнакомце» персонаж этот вообще становится каким-то добрым волшебником из детской сказки. По той причине, что, не приемля церковно-христианской доктрины, они в то же время намертво, по самые уши погрязли в христианском дуализме. Тут в самый раз вспомнить слова из романа Леонида Андреева: «Ты имеешь только два понятия о существовании: жизнь и смерть – как же Я объясню тебе третье? Все существование твое является чепухой только из-за того, что ты не имеешь этого третьего…» – И вся беда здесь в том, что в случае с сатаной дуализм характерен не так зороастризму, как христианству – по крайней мере, его упрощённой форме. А именно эта упрощённая форма – с однозначным противопоставлением света и тьмы, добра и зла, Бога и дьявола – фактически главенствует в христианском мире. В рамки христианского дуализма многие толкователи Булгакова пытаются втиснуть и образ Воланда. Такая ограниченность является главной причиной их неудач. Дело в том, что роман Булгакова абсолютно не вписывается в дуалистическую концепцию. Одной ногой автор ещё пребывает в церковно-христианской системе – Воланд называется Сатаной. Да и то – как там у Андреева? – «А правду – как ее скажу, если даже мое Имя невыразимо на твоем языке? Сатаною назвал Меня ты, и Я принимаю эту кличку, как принял бы и всякую другую: пусть Я – Сатана. Но мое истинное имя звучит совсем иначе, совсем иначе!» Однако чисто интуитивно Булгаков уходит от дуализма. Носитель оного – Левий Матвей! Именно он называет Воланда «духом зла и повелителем теней», на что Воланд отвечает – «ты глуп!» И в этой связи становится вполне понятен главный тезис Иешуа Га-Ноцри о том, что «все люди добрые» – тезис этот направлен на то, чтобы выйти из-под воздействия христианского дуализма. Булгаковский Иешуа вовсе не Бог, не Иисус Христос в христианском понимании, так же как Воланд – не дьявол, не сатана, не противник Бога. Но он – ТРИКСТЕР, тень Бога, его негатив, и в то же время посланник Бога, связующая субстанция. Хорошее определение этого понятия находим в статье Юрия Манина «Психологический плут» по данным психологии и теории культуры» (журнал «Природа» №7-1987): «В мифах и эпосе разных народов известны комически-демонические фигуры, получившие название плутов или трикстеров (от англ. trick – обман, хитрость, фокус, трюк). Это Локи у скандинавов, Гермес у греков, Сырдон у осетин, Вакдьюнкага у индейцев виннебаго, Ворон в чукотскокамчатском эпосе… Собственно говоря, мифологический плут является пародийным двойником Культурного Героя. Его как бы братом-близнецом, негативным комическим вариантом… В архаических системах Культурный Герой – созидатель. Он активный деятель мифов о происхождении, он изобретает (или отнимает у богов) первопредметы культуры: добывает огонь, оживляет первых людей, устанавливает культурные запреты – табу. Плут напротив – разрушитель, он пародирует Героя. Трикстер уничтожает, нарушает, лжет – словами и делами, снами и пророчествами. Он крадет (как Гермес стадо коров у Аполлона), он строит беспричинные козни (как Локи, подсунувший слепому Хёди побег омелы, который убил Бальдера)… Он – посредник между живыми и мертвыми, между богами и людьми. Он – оборотень, меняющий облик и пол… Плут является как бы персонификацией комического, но совсем не обязательно смешного. Чаще – враждебного и страшного. А в христианской Европе в средние века он – персонификация дьявольского: «…дьявол трактовался как simia Dei, как «обезьяна Бога», его недостойный подражатель, трикстер, полишинель неба и земли»». Таким образом, в христианской традиции идея трикстера проецируется на дуалистическую плоскость противопоставления света и тьмы, добра и зла, Бога и дьявола, в результате чего и получается «обезьяна Бога», олицетворяющая всё однозначно злое и дурное. Если же выйти из узких рамок христианского дуализма – всё станет на свои места и появится нечто «третье», порождённое взаимодействием «первого» и «второго». В образ не сатаны, не дьявола, а именно этого третьего феноменально точно попадает Валентин Гафт в фильме Юрия Кара. Особенно он великолепен в стартовой сцене на Патриарших: резкий поворот головы от Берлиоза к Бездомному: «А дьявола тоже нет?» – вдруг весело осведомился больной у Ивана Николаевича», – блуждающе-скользящая ироническая улыбка, исходящая из внутренней субстанции трикстера. Он и шутлив, и таинственен, загадочен, но не зловещ в своей серьёзности как Басилашвили. Он не дьявол, он трикстер! Это Джокер – главная карта, позволяющая выиграть любую партию, – но только в том случае, когда понимаешь правила и условия игры. Каким-то седьмым чувством понимает это режиссёр Кара, используя эпизод из ранней редакции романа, не вошедший в окончательный вариант текста, когда Воланд изобразив на песке лик Иисуса, предлагает поэту Бездомному растоптать его, и когда – уязвлённый обидным прозвищем «интеллигент» тот в конце концов решается на это и уже заносит ногу, пространство сотрясает возглас: «Стойте!! – громовым голосом воскликнул консультант… – После моего Евангелия, после того, что я рассказал об Иешуа, вы, Михаил Александрович, неужели вы не остановите юного безумца?! А вы, – и инженер обратился к небу, – вы слышали, что я честно рассказал?! – и острый палец его вонзился в небо. – Остановите его! Остановите! Вы – старший!» По сути дела – это «проверка на вшивость». Он не искушает для того, чтобы погубить, как то делает христианский дьявол, он даёт шанс и одному, и другому… Впрочем, к этой сцене мы ещё вернёмся, а пока – о джокере… Потерянный ключ Самым непостижимым оказывается отсутствие в трудах булгаковедов главного соответствия – повести Александра Куприна «Звезда Соломона». Впервые напечатанная в сборнике «Земля» за 1917 год под первоначальным названием «Каждое желание» данная повесть в готовом виде содержит в себе моменты, ставшие ключевыми для «Мастера и Маргариты». Итак, главный герой повести – мелкий чиновник Иван Степанович Цвет – после вчерашней пирушки с друзьями просыпается в своей комнате. «– Извиняюсь за беспокойство, – сказал осторожно чей-то голос. Цвет испуганно открыл глаза и быстро присел на кровати. Был уже полный день. Кенарь оглушительно заливался в своей клетке. В пыльном, золотом солнечном столбе, лившемся косо из окна, стоял, слегка согнувшись в полупоклоне и держа цилиндр на отлете, неизвестный господин в черном поношенном, старинного покроя, сюртуке. На руках у него были черные перчатки, на груди – огненно-красный галстук, под мышкой древний помятый, порыжевший портфель, а в ногах у него на полу лежал небольшой новый ручной саквояж желтой английской кожи. Странно знакомым показалось Цвету с первого взгляда узкое и длинное лицо посетителя: этот ровный пробор посредине черной, седеющей на висках головы, с полукруглыми расчесами вверх, в виде приподнятых концов бабочкиных крыльев или маленьких рожек, этот большой, тонкий, слегка крючковатый нос с нервными козлиными ноздрями; бледные, насмешливо изогнутые губы под наглыми воинственными усами; острая длинная французская бородка. Но более всего напоминали какой-то давнишний, полузабытый образ – брови незнакомца, подымавшиеся от переносья круто вкось прямыми, темными, мрачными чертами. Глаза же у него были почти бесцветны или, скорее, в слабой степени напоминали выцветшую на солнце бирюзу, что очень резко, холодно и неприятно противоречило всему энергичному, умному, смуглому лицу. – Я стучал два раза, – продолжал любезно, слегка скрипучим голосом незнакомец. – Никто не отзывается. Тогда решил нажать ручку. Вижу, не заперто. Удивительная беспечность. Обокрасть вас – самое нехитрое дело. <…> Я бы, конечно, не осмелился тревожить вас так рано. – Он извлек из жилетного кармана древние часы, луковицей, с брелоком на волосяном шнуре, в виде Адамовой головы, и посмотрел на них. – Теперь три минуты одиннадцатого. И если бы не крайне важное и неотложное дело… <…> – Ах, это ужасно неприятно, – конфузливо сказал Цвет. – Вы меня застали неодетым, погодите немного. Я только приведу себя в порядок и сию минуту буду к вашим услугам. Он обул туфли, накинул на себя пальто и выбежал в кухню, где быстро умылся, оделся и заказал самовар. Через очень короткое время он вернулся к своему гостю освеженный, хотя с красными и тяжелыми от вчерашнего кутежа веками. Извинившись за беспорядок в комнате, он присел против незнакомца и сказал: – Теперь я готов. Сейчас нам принесут чай. Чем обязан чести… – Сначала позвольте рекомендоваться. – Посетитель протянул визитную карточку. – Я ходатай по делам. Зовут меня Мефодий Исаевич Тоффель». Думаю, что не требуется приводить ещё и цитату из Булгакова, чтобы узнать то место, в котором Воланд является директору театра Варьете Стёпе Лиходееву, очнувшемуся после тяжёлой попойки в собственной квартире. Вспомним лишь первые слова гостя: «– Добрый день, симпатичнейший Степан Богданович!» – и сопоставим их с характерным обращением из «Звезды Соломона»: «– …Я говорю из чувства личной, горячей симпатии к вам. …Ну, дайте же, дайте мне слово, прелестный, добрый Иван Степанович». Однако если у Булгакова Лиходеев – персонаж проходной, вспомогательный, то Цвет, встречающийся с Тоффелем в повести Куприна, – главное действующее лицо, и сюжетные линии здесь развиваются совершенно в другом направлении. Но дело в том, что главное соответствие заключается вовсе не в вышеприведённом эпизоде, а – в образе таинственного гостя. «Одно только беспокоило и как-то неприятно, пугающе раздражало Цвета в его праздничном путешествии. Стоило ему только хоть на мгновение возвратиться мыслью к конечной цели поездки, к этому далекому имению, свалившемуся на него точно с неба, как тотчас же перед ним вставал энергичный, лукавый и резкий лик этого удивительного ходатая по делам – Тоффеля, и появлялся он не в зрительной памяти, где-то там, внутри мозга, а показывался въявь, так сказать живьем. Он мелькал своим крючконосым, крутобровым профилем повсюду: то на платформе среди суетливой станционной толпы, то в буфете первого класса в виде шмыгливого вокзального лакея, то воплощался в затылке, спине и походке поездного контролера». – Как видим, в образе Тоффеля здесь прочитывается соответствие уже не с Воландом, а с Коровьевым-Фаготом. Однако читаем дальше – и с каждым словом удивляемся всё больше: «Немного времени спустя к нему вошел его личный секретарь, ставленник Тоффеля, низенький и плотный южанин, вертлявый, в черепаховом пенсне, стриженный так низко, что голова его казалась белым шаром, с синими от бритья щеками, губами и подбородком. Он всем распоряжался, всеми понукал, был дерзок, высокомерен и шумлив и, в сущности, ничего не знал, не умел и не делал. Он хлопал Цвета по плечу, по животу и по спине и называл его «дорогой мой» и только на одного Тоффеля глядел всегда такими же жадными, просящими, преданными глазами, какими Тоффель глядел на Цвета. <…> Цвет побаивался его и всегда ежился от его фамильярности. – К вам домогается какой-то тип – Среброструн. Что он за тип, – я не могу понять. И как я его ни уговаривал, он таки не уходит. И непременно хотит, чтобы лично… Ну? – Просите его, – сказал Цвет и скрипнул зубами. И вдруг от нестерпимого, сразу хлынувшего гнева вся комната стала красной в его глазах. – А вы… – прошептал он с ненавистью, – вы сейчас же, вот как стоите здесь, исчезните! И навсегда! Секретарь не двинулся с места, но начал быстро бледнеть, линять, обесцвечиваться, сделался прозрачным, потом от него остался только смутный контур, а через две секунды этот призрак на самом деле исчез в виде легкого пара, поднявшегося кверху и растаявшего в воздухе. «Первая галлюцинация, – подумал Цвет тоскливо. – Началось. Допрыгался». И крикнул громко, отвечая на стук в дверях: – Да кто там? Войдите же! Он устало закрыл глаза, а когда открыл их, перед ним стоял невысокий толстый человек, весь лоснящийся: у него лоснилось полное румяное лицо, лоснились напомаженные кудри и закрученные крендельками усы, сиял начисто выбритый подбородок, блестели шелковые отвороты длинного черного сюртука. – Неужели не узнаете? Среброструнов. Регент». Итак, что же видим? У Тоффеля появляется некий «вертлявый» заместитель. Этот доставала настолько досадил Цвету, что тот – силой своего желания – растворил его в воздухе. У Булгакова вертлявый доставала Коровьев появляется именно «соткавшись из воздуха» – обратный, так сказать, процесс. В обоих случаях у наблюдавших этот процесс – и у Цвета, и у Берлиоза – тоскливая мысль о «галлюцинации». И, наконец, ещё один посетитель – и кто же? Регент! Конечно, «вертлявый» у Куприна лишь слегка намечен – появляется один-единственный раз, – но если вспомнить, насколько выписан Грибиков в «Московском чудаке» Белого, то картина становится полной: внешность образа – из Белого, его внутренняя суть – из Куприна. Но и это ещё не всё – ибо буквально через страницу: «По Александровской улице сверху бежал трамвай, выбрасывая из-под колес трескучие снопы фиолетовых и зеленых искр. Описав кривую, он уже приближался к углу Бульварной. Какая-то пожилая дама, ведя за руку девочку лет шести, переходила через Александровскую улицу, и Цвет подумал: «Вот сейчас она обернется на трамвай, замнется на секунду и, опоздав, побежит через рельсы. Что за дикая привычка у всех женщин непременно дожидаться последнего момента и в самое неудобное мгновение броситься наперерез лошади или вагону. Как будто они нарочно испытывают судьбу или играют со смертью. И, вероятно, это происходит у них только от трусости». Так и вышло. Дама увидела быстро несущийся трамвай и растерянно заметалась то вперед, то назад. В самую последнюю долю секунды ребенок оказался мудрее взрослого своим звериным инстинктом. Девочка выдернула ручонку и отскочила назад. Пожилая дама, вздев руки вверх, обернулась и рванулась к ребенку. В этот момент трамвай налетел на нее и сшиб с ног. Цвет в полной мере пережил и перечувствовал все, что было в эти секунды с дамой: торопливость, растерянность, беспомощность, ужас. Вместе с ней он – издали, внутренно – суетился, терялся, совался вперед и назад и, наконец, упал между рельс, оглушенный ударом. Был один самый последний, короткий, как зигзаг молнии, необычайный, нестерпимо яркий момент, когда Цвет сразу пробежал вторично всю свою прошлую жизнь, от крупных событий до мельчайших пустяков. <…> Все это промелькнуло в одну тысячную долю секунды. Теряя сознание, он закричал диким голосом: – Афро-Аместигон! Очнулся он на извозчике, рядом с Тоффелем, который одной рукой обнимал его за спину и другой держал у его носа пузырек с нашатырным спиртом. Внимательным, серьезным и глубоким взглядом всматривался ходатай сбоку в лицо Цвета, и Цвет успел заметить, что у него глаза теперь были не пустые и не светлые, как раньше, а темно-карие, глубокие, и не жестко-холодные, а смягченные, почти ласковые». Сколько здесь чисто булгаковских (или, точнее, воландовских) мотивов! Испытание судьбы, игра со смертью, трусость как причина… до боли знакомый трамвай, отрезающий голову… проходящий через пытку главный герой (вспомним мытарства Ивана Бездомного, приведшие его в сумасшедший дом)… и, наконец, в корне изменившийся Тоффель… вечно меняющийся, морочащий бог… «Меркурий во втором доме…» «– Выпейте-ка, дорогой мой патрон и клиент, – сказал он, наливая Цвету большую рюмку. – Выпейте, успокойтесь и поговорим. – Он слегка погладил его по колену. – Ну-с, самое главное свершилось. Вы назвали слово. И, видите, ничего страшного не произошло. ( У Булгакова: «Ну, вот, все в порядке, и дочь ночи Мойра допряла свою нить». – О. К.) Коньяк согрел и успокоил Цвета. Но в нем уже не было ни вражды к Тоффелю, ни презрения, ни прежнего с ним повелительного обращения. Он самым простым тоном, в котором слышалось кроткое любопытство, спросил: – Вы – Мефистофель? – О нет, – мягко улыбнулся Тоффель. – Вас смущает Меф. Ис… – начальные слоги моего имени, отчества и фамилии?.. Нет, мой друг, куда мне до такой знатной особы. Мы – существа маленькие, служилые… так себе… серая команда. – А мой секретарь? – Ну, этот-то уж совсем мальчишка на побегушках. Ах, как вы его утром великолепно испарили. Я любовался. Но и то сказать, – нахал! Однако о деле, добрейший Степан Иванович… Ну, что же? Испытали могущество власти?» И, наконец, в итоговой беседе Цвета с Тоффелем, вернее монологе Тоффеля, явственно просматриваются многочисленные мотивы финальных размышлений Воланда и его напутствий в адрес Мастера. Правда, у Булгакова в этом моменте преобладает некая лирическая неопределённость, в то время как у Куприна – философская и логическая обоснованность: «– …вы получили ни с чем не сравнимую, поразительно громадную власть. <…> И счастье ваше, что вы оказались человеком с такой доброй душой и с таким… не обижайтесь, мой милый… с таким… как бы это сказать вежливее… простоватым умом. <…> Нет, вы не властолюбивы. Но вы и не любопытны. Отчего вы ни разу не захотели, не попытались заглянуть в ту великую книгу, где хранятся сокровенные тайны мироздания. Они открылись бы перед вами. Вы постигли бы бесконечность времени и неизмеримость пространства, ощутили бы четвертое измерение, испытали бы смерть и воскресение… <…> Вы отвернулись от знания, прошли мимо него, как прошли мимо власти, женщины, богатства, мимо ненасытимой жажды впечатлений. И во всем этом равнодушии – ваше великое счастье, мой милый друг. – Но у нас, – продолжал Тоффель, – осталось очень мало времени. Склонны ли вы слушаться меня? Если вы еще колеблетесь, то подымите вашу опущенную голову и всмотритесь в меня. Иван Степанович взглянул и нежно улыбнулся. Перед ним сидел чистенький, благодушный, весь серебряный старичок с приятными, добрыми глазами мягкотабачного цвета. – Я повинуюсь, – сказал Цвет». К каким выводам приходишь, сравнивая два произведения – повесть Александра Куприна «Звезда Соломона» и роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»? Убеждаешься, во-первых, в том, что влияние первой на второго неоспоримо, во-вторых, что оно – фундаментально, так как проявляется как на внешнем, так и на сущностном уровне. В то же время это никак не умаляет достоинств романа Булгакова. При всех отмеченных соответствиях и явных заимствованиях, тем не менее, это два совершенно разных произведения и говорить о каком-либо плагиате не приходится. У Куприна в центре внимания мысль, сконцентрированная посредством глубинной философии и архитектурно точных логических построений. У Булгакова много лирики, эксцентрики, сатиры, развитие самых разнообразных идей и мотивов. У Куприна – конкретная философская идея, у Булгакова – множество общих философских идей в их взаимосвязи. Но главное, что мы выяснили благодаря «Звезде Соломона» – разъяснили загадочного Некто. Джокер – главная карта, с помощью которой тот, кому она выпадает, при любых раскладах выигрывает любую партию. Но в данном случае она выпадает далеко не каждому и вовсе не случайно – легко и органично она ложится в руки тех, многократно их усиливая, кто благодаря своим внутренним качествам находится в согласии с высшими законами мироздания (Цвет у Куприна, Мастер и Маргарита у Булгакова). Конечно, это никакой не Сатана, не Дьявол, ибо зло с его помощью не творится и те, кому он помогает, вовсе не заманиваются в погибельные психологические ловушки. Для них он, напротив, – как бальзам на душу. Этот «ходатай по делам» не кто иной как Гермес, Меркурий, неуловимый как ртуть посланник богов. ВОЗВРАЩАЯСЬ К ФИЛЬМУ Точные попадания В романе Булгакова превосходно выписано его пришествие и манера его действий. Вначале он один: «– Один, один, я всегда один, – горько ответил профессор». Но тут же их уже двое, затем трое, четверо. Также филигранно точно отображено это в фильме Кара. Коровьев – трикстер в квадрате, шут шута, отпочкование Воланда, с появлением которого сам Воланд перестаёт кривляться. Эта рокировка как по нотам разыграна в финальном эпизоде на Патриарших: разгневанный Гармаш-Бездомный после трамвайной катастрофы возвращается к известной скамейке, чтобы спросить с преступного консультанта. Но путь ему преграждает как чёрт из табакерки выскочивший Филиппенко-Коровьев – и, пользуясь случаем, Гафт-Воланд с иронической миной удаляется. Сыграно и снято – любо-дорого смотреть! Отныне Воланд важно сосредоточен, Коровьев же – шутник-виртуоз; именно виртуозность – главное в этом образе и соответственно в этой роли, что как нельзя лучше удалось Александру Филиппенко. Вершина мастерства – лицедейский его дуэт с Куравлёвым-Босым – по праву может быть признан одной из лучших сцен советского комедийного кинематографа. А вот Азазелло – убийца-исполнитель, серая личность, держащаяся в тени. И Владимир Стеклов в этой роли – на своём месте. Потому как не должен Азазелло затмевать Коровьева – как это наблюдалось в сериале Бортко! (И раз уж речь зашла об этом сериале, вспомним, что вторым актёрским пересечением двух постановок наряду с Филиппенко является Гафт. Но если в фильме Кара гениальность артиста раскрывается в полной мере, то у Бортко он, будучи формально задействован сразу в двух ипостасях, фактически находится на периферии! – во вспомогательной роли Каифы и в совсем уж ненужной роли человека похожего на Берию. Что смешно – точно в таком же образе главы НКВД Валентин Гафт предстаёт в фильме Юрия Кара «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным»!) И, наконец, кот Бегемот – чисто юмористический персонаж, лишний раз подчёркивающий пародийную сущность трикстера. О проблеме, связанной с кинематографическим воплощением этого образа, часто приходилось слышать из уст очень серьёзных режиссёров. Элем Климов: «Даже Тарковский не знал, как сделать кота». А проблемы-то в сущности и нету – слишком серьёзно подходят к этому откровенно декоративному моменту. Котообразный Виктор Павлов – лучшее решение несуществующей проблемы. А теперь от Трикстера и его свиты попробуем обратиться к Герою – от тени к свету. И для начала приведём критическое замечание из – в целом довольно благосклонного к фильму – интернет-отзыва: «…а вот Н. Бурляев порадовал меньше. Ведь вниманию зрителя представлена воландовская версия развития событий, а Иешуа Бурляева получился очень уж каноничный, по мне – нужно было играть Иешуа как героя романа Булгакова, а не как Иисуса Христа. И свет, который исходил из Бурляева, когда тот говорил: «сейчас голова пройдёт» по мне выглядел довольно нелепо». Данная реплика представляет собой тот довольно распространённый случай, когда, рассуждая о деталях, человек при этом совершенно не понимает общего смысла. Дело в том, что образ Иешуа – будь то в романе Булгакова, или же в фильме Кара – является главным смысловым и энергетическим центром, основой абсолютного единства. По сути это и есть тот самый Герой, тенью и негативным двойником которого выступает Трикстер, повсюду за ним следующий. «– Дело в том… – тут профессор пугливо оглянулся и заговорил шепотом, – что я лично присутствовал при всем этом. И на балконе был у Понтия Пилата, и в саду, когда он с Каифой разговаривал, и на помосте, но только тайно, инкогнито, так сказать…» Поэтому образ, созданный Николаем Бурляевым, не что иное как единственно правильное прочтение и оптимальная кино-интерпретация архетипического смысла булгаковского романа. От этого образа ДОЛЖЕН исходить свет – и не столько тот свет, что создаётся с помощью визуальных киноэффектов, сколько свет внутренний. И трудно представить, кому удалось бы это лучше того актёра, чей творческий путь столь символично начинался в «Ивановом детстве» и «Андрее Рублёве». В киноверсии «Мастера и Маргариты» на роль Иешуа выпадает совсем немного игрового времени. Но его оказывается ровно столько, чтобы быть главным объединительным центром, вокруг которого располагаются все производные, и происходит вечное действие, порождающее противодействие. Всеединству как высшей истине противостоит ошибочная расстановка приоритетов, приводящая к необратимо пагубным последствиям. Это – сделавший неправильный выбор Понтий Пилат, чей образ более чем убедительно воспроизвёл на экране Михаил Ульянов. Небесной иерархии предпочтя земную, из трусости перед земным кесарем Пилат не выполняет высшего долга, за что – в вечном сожалении, размышлении и осознании – бесконечно долго ждёт он прощения. Это и Левий Матвей, в силу ограниченности мышления не способный понять высшего единства: «– Эти добрые люди… ничему не учились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной. <…> …ходит, ходит один с козлиным пергаментом и неправильно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил. Я его умолял: сожги ты бога ради свой пергамент! Но он вырвал его у меня из рук и убежал. – Кто такой? – брезгливо спросил Пилат и тронул висок рукой. – Левий Матвей…» Как правильно отмечают многие комментаторы: Иешуа Га-Ноцри – это вовсе не канонический Иисус Христос. Но так же верно, что это… Иисус Христос, каким его представляет сам автор. Тот, в которого только и может верить писатель Булгаков: «– Бог один, в него я верю». Главное несоответствие истинного учения Иешуа с тем, как его понял Левий Матвей, это, прежде всего, несоответствие всеединства и дуализма. Всеединство предполагает абсолютный приоритет добра – «все люди добрые», его непонимание порождает дуализм – раздвоение и в результате потерю нравственных ориентиров. И это автор чётко фиксирует вместе со своим Пилатом: «– Ты, я знаю, считаешь себя учеником Иешуа, но я тебе скажу, что ты не усвоил ничего из того, чему он тебя учил… Ты жесток, а тот жестоким не был». И ограниченность сознания, и непонимание всеединства, и порождение дуализма, и утрата нравственных ориентиров – всё это в сцене на Лысой Горе: «…Тогда Левий закричал: – Проклинаю тебя, Бог! – Осипшим голосом он кричал о том, что убедился в несправедливости Бога и верить ему более не намерен. <…> – Я ошибался! – кричал совсем охрипший Левий, – ты бог зла!» – Этот момент фиксирует кинокамера оператора Евгения Гребнева в одном из наиболее впечатляющих эпизодов фильма: шлющий проклятия Небу Левий Матвей в исполнении Льва Дурова – и тут же – как высшее трагическое безмолвие – лицо Иешуа. Эпитафия эпохе… (линия Мастера) Наконец, Мастер, которого сыграл Виктор Раков, и Маргарита в исполнении Анастасии Вертинской. Как и следовало ожидать, больше всего критики – в адрес именно этих двух. По той причине, что хотят видеть нечто эффектно-героическое, выстраивают своих Мастера и Маргариту в лучших традициях собственной фантазии, порождающей, как правило, супер-женщин и супер-мужчин наподобие главных персонажей советскоголливудовской ленты «Москва слезам не верит». И потому мало находится желающих обратить внимание на то, во-первых, что в романе эти образы явно недоделаны, и, во-вторых, что за ними скрыты сам писатель и его последняя жена с их вполне конкретными взаимоотношениями. А что же был тогда писатель Булгаков? Это была тень, ещё одна тень – но не в том смысле, что Воланд, а в переносном: тень, оставшаяся от писателя, от человека, лишённого средств к нормальному существованию, тень, в которую его превратила система. И потому призрачный Виктор Раков в роли мастера с маленькой буквы, потерявшего имя обитателя сумасшедшего дома, почти бесплотного, но внутренне живого – ещё одно точное попадание. Куда уж точнее? И мы, наконец, подошли, к искомой величине – к ответу на вопрос, поставленный в начале нашего исследования: что такое роман «Мастер и Маргарита» сегодня? и что такое фильм Кара, снятый в 1992-м, но вышедший в 2011-м? Первая часть ответа состоит в том, что сегодня этот фильм прочитывается как эпитафия Советскому государству, эпитафия той системе, которая погибла из-за неверия в высшее божественное предначертание; из-за непонимания законов духовного равновесия, принципа воздаяния. Вернёмся же к сцене, исключённой из окончательного варианта романа, но использованной в фильме Юрия Кара – к сцене на Патриарших, в которой Воланд в присутствии Берлиоза предлагает поэту Бездомному в подтверждение своего неверия растоптать лик Христа – и в то же время пытается предостеречь от столь неразумного шага. Он даёт шанс и одному, и другому, апеллируя к Небу. В конце концов поэт топчет лик при невмешательстве Берлиоза. «Ну, вот, все в порядке, и дочь ночи Мойра допряла свою нить» – в результате чего предводитель советских писателей остаётся без головы. Но без головы он – а вместе с ним и вся писательская организация – остаётся ещё до того, как её отрежет трамвай, это произошло немного раньше – когда при его попустительстве был растоптан лик Христа, и даже ещё раньше – когда, проводя разъяснительную работу с молодым поэтом, он пытался вытравить саму память об Иисусе, то есть убить его ещё раз. За что и расплата. Таким образом, в лице Берлиоза (актёр Михаил Данилов) имеем по сути символ всей советской системы, поводыри которой сознательно отказались от веры в высшие законы мироздания, введя тем самым в системную программу вирус самоуничтожения. А поэта Бездомного спасает не что иное как его неистовая вера. «– А вы, Иван Николаевич, здорово верите в Христа. – О, началась чёрная магия!» – Ну просто здорово верующий молодой поэт, дерзновенно пытающийся эту веру вытеснить, – оттого-то он и нарванный такой, каким его представил на суд зрителей Сергей Гармаш (это вовсе не тот – похожий на Шуру Балаганова – раздолбай, которого в исполнении Владислава Галкина наблюдаем у Бортко) – оттого и Иисус получился у него как живой, оттого и свечечка с иконкой сразу же под руку попались – в этой безумной безумной безумной гонке – через Кремль: «– Здесь, в Кремле укрылась нечистая сила!» – через ресторан «Грибоедов»: «– Здорово, православные!» – и с конечным пунктом назначения – «С дороги, арамей!» – в сумасшедшем доме по Карла Маркса, 13. (Интересно, что реплики про чёрную магию и арамеев взяты из ранней редакции романа, а про Кремль, Карла Маркса да православных введены в сценарий Юрием Кара). Итак, сумасшедший дом оказывается естественным укрытием как для поэта – «Говорит поэт Бездомный из сумасшедшего дома!», так и для мастера – «Только сумасшедший может написать в наше время роман о Христе и Пилате». Понятно, что такое положение дел ничем хорошим закончится не может. Посему и вывод: роман Булгакова был создан в результате наибольшего нарушения равновесия в общественном организме – талант писателя искал выход, то есть применения в новой системе, искал и не находил. В конце концов он воплотился в «Мастере и Маргарите» – романе о вере и неверии, о любви и предательстве, о высшем долге и о том, что будет в результате его невыполнения. Итак, РОМАН-ПРИГОВОР – вот чем видится «Мастер» в наше время, – и это «тёмная» часть ответа. …и советскому кинематографу (линия Маргариты) «Светлая» же – «Маргарита» – заключает в себе воспоминание о достоинствах прошедшей эпохи. Но прежде чем перейти к образу Маргариты, обратим внимание на любопытные высказывания двух наших кинорежиссёров. Элем Климов на вопрос о причинах неудачи его постановки «Мастера и Маргариты» ответил: «Почему не вышло? Потому что это так называемое «сверхзвуковое кино» – то, которого еще нет. Попытка сделать невозможное. Этих технологий еще нет – их надо разработать. А старого кино я уже наснимался... Требовались большие деньги. Тогда я их не нашел». Геннадий Полока по этому поводу заметил: «...Я знал, что Климов не будет ставить. Не буду объяснять, почему. Я знал, что всегда найдутся причины, которые позволят ему эту картину не делать. Я их знаю. Ему, конечно, не надо было браться... И не Кара ему помешал. Если бы он захотел – от Кары бы пыль осталась! Кара – это вообще несерьезно. Если бы Климов захотел – он бы имел восемь иностранных кинозвезд!... Что такое Кара и Климов? Это несоизмеримые вещи. Фильм Кары я не видел. У меня нет оснований относиться к нему плохо. Но... Я сейчас в таком возрасте, что предвижу...» Но не в том суть, что предвидел почтеннейший Геннадий Иванович, а в том, что и он, и Элем Германович читали и восхищались «Мастером и Маргаритой» в то время, когда этот роман имел статус произведения сугубо элитарного. Вот и сложилось у одного представление о том, что и постановка этой вещи должна являть собой что-то невообразимо-«сверхзвуковое», а у другого – что экранизировать это под силу лишь кинематографическому гению, даже не Климову, а как минимум Феллини. Куда уж там Кара! И вот с одной стороны в связи с этими высказываниями, с другой – в связи с изменившимся статусом романа, и с третьей – в связи с вышедшим фильмом Кара – родилась мысль о замечательном явлении, название которому – срединный или лёгкий советский кинематограф. Есть в нашем кино Мастер – Тарковский – не знаю можно ли называть это «сверхзвуковым кино», но то, что это «высший пилотаж» – спору нет. Но это ещё и кино воистину элитарное, а потому и доступное далеко не каждому. А есть ведь любимые всеми – простоватыми и высоколобыми – фильмы Гайдая и Данелия, Рязанова и Захарова, Птушко и Роу, Швейцера и Фрида… И «московская буффонада» из «Мастера и Маргариты», равно как и лирическая линия заглавных персонажей, требует вовсе не драмы, не трагедии, а оперетты, мюзикла, комедии. Ибо так же, как и Мастер, Маргарита – личность вовсе не героическая; это образ, в котором серьёзность вытекает из несерьёзности, сила – из лёгкости, активность порождается женской пассивностью; это женщина со всеми достоинствами, являющимися продолжением недостатков. И хоть в массе своей – по указанной выше причине – такую трактовку этого образа нынешняя публика не воспринимает, но попадаются и счастливые исключения – и вот пример: «Маргарита. Традиционный типаж женщины, погружённой в траур и тени забытого прошлого, нудно зудящей строки про Ершалаим, вдребезги разбит глазастой А. Вертинской, создавшей образ чуть ли не простой русской бабы, которая и избу на скаку остановит, и горящего коня потушит. Кремом можно было и не мазаться, она бы и так на бал сатаны попала». – Трудно не согласиться с анонимным интернет-автором: Маргарита в исполнении Анастасии Вертинской – образ из феерии, сказки, оперетты. Путешествие верхом на метле, хотя и сопровождается героическим «Полётом Валькирий», но вместе с визуальным рядом вызывает ассоциации вовсе не с героикой вагнеровской оперы, а с детства знакомыми сказочно-магическими действами «мистерий» Роу и Птушко – «Вечерами на хуторе близ Диканьки», «Майской ночью», «Русланом и Людмилой», «Алыми парусами». С той только разницей, что больно много здесь обнажённой натуры – впрочем, с этим нет никакого перебора – вполне согласуется и с текстом Булгакова, и с оккультно-магическим антуражем. Кстати, насчёт ведьм: оккультно-магический здесь только антураж, но никак не сущность. И Маргарита – ведьма только в том смысле, что женщина, но никак не ведьма в понимании чёрной магии. Поэтому и эпизод с домработницей Наташей – откровенная блажь, глупость: «– Душенька, Маргарита Николаевна, – умоляюще заговорила Наташа и стала на колени, – упросите их, – она покосилась на Воланда, – чтоб меня ведьмой оставили… Мне господин Жак вчера на балу сделали предложение… – Маргарита обратила вопросительный взор к Воланду. Тот кивнул головой. Тогда Наташа кинулась на шею Маргарите, звонко ее расцеловала и, победно вскрикнув, улетела в окно». – И то, что подобные «перлы» вырезаны ножницами продюсера, можно только приветствовать. В том же, что осталось в двухчасовой киноверсии – ни единого провисания, ни единой длинноты. Это фильм, когда два часа проходят на одном дыхании, и по этому поводу опять возникает сравнение с шедеврами из нашего «золотого фонда». Фильм Кара буквально нашпигован самопроизвольными аллюзиями из классики. Вот эпизод, в котором финдиректор Римский (актёр Виктор Сергачёв) подвергается атакам вампиров – Геллы (в исполнении Александры Захаровой) и администратора Варенухи (Борислав Брондуков), с финальным пением петуха – ну, конечно же, «Вий»! И тут же следующий кадр – Куравлёв на допросе! А Куравлёв и Брондуков (оба в вышиванках!) – как не вспомнить «Афоню»? Ещё одна – хотя не столь явная – пара: Захарова и Раков – из захаровского «Убить дракона», да и вся линия «романтического Мастера» и ещё более романтической Маргариты весьма под стать романтизму незабвенных телепостановок Марка Захарова. Но здесь и эксцентрика Гайдая: «знаменитый грибоедовский джаз», вводящий в эпоху нэпа – ту, что в гайдаевских – равно как и в захаровских – «Двенадцати стульях» по Ильфу и Петрову, в «Не может быть» по Зощенко. Здесь Наталья Крачковская в роли Настасьи Непременовой, «сочиняющей батальные морские рассказы под псевдонимом «Штурман Жорж»», Всеволод Ларионов – в роли критика Латунского (и надо же – на нашего Яворивского здорово похож!) Здесь бесподобный Гафт – знакомый по «Гаражу» и «Чародеям», да только ещё лучше. Здесь Спартак Мишулин (в роли Арчибальда Арчибальдовича – директора ресторана «Грибоедов») и Роман Ткачук (в роли швейцара Николая из того же заведения) – Ба! Знакомые всё лица – пан Директор и пан Владек из «Кабачка 13 стульев»! В общем же и целом «московские сцены» – благодаря бесподобному подбору артистов – являют собой концентрат, эссенцию, тинктуру советской комедии, сказки, феерии 60-80-х годов прошедшего столетия. И в то же время это – ЭПИТАФИЯ СОВЕТСКОМУ КИНЕМАТОГРАФУ – тому самому – срединному, лёгкому. Такое ощущение усиливается в связи с тем, что фильм снимался в одну эпоху, а вышел уже в другую, когда многие участники проекта отошли в мир иной. Посему этот «Полёт валькирий», это «Болеро» Равеля, эта прекрасная музыка великого Шнитке звучит, конечно же, в их честь. Так же, как в их память написано и настоящее эссе. Post Scriptum Из статьи Андрея Плахова «Фильмы не горят»: «…В Европе все же появилось несколько экранизаций. Самая известная из них, подписанная именем югослава Александра Петровича, оказалась неудачной. «Пилат и другие» Анджея Вайды включил в себя только иудейские эпизоды романа и в контексте творчества польского классика занял периферийное место. Приходится признать, что при всех несовершенствах телевизионная версия Владимира Бортко ближе других к букве и сути литературного оригинала». Интернет-отзыв на эту статью: «Удивительно, что такой тонкий критик как Андрей Плахов считает «неудачным» гениальный фильм Александра Петровича с совершенно изумительной игрой Уго Тоньяцци, Мимси Фармер, Алена Кюни и блестящей плеяды югославских актеров. Конечно, фильм в сюжетных линиях далеко ушел от Булгакова (это скорее фильм «по мотивам», чем экранизация), но по передаче духа Булгакова, «со-чувствию» его идеям и авторскому видению здесь 100-процентное попадание. Не меньше удивляет, что Плахов пишет о «близости к литературному оригиналу» совершенно никакого, пошлого и пустого телесериала Бортко. Вот в нем ни Булгаковым даже и близко «не пахнет», ни своего видения не предложено – примитивный «ширпортреб», – хотя по сюжетным линиям вроде бы в основном и следует роману. …Еще забыл сказать про красивую и фантастически созвучную фильму Петровича «Il maestro e Margherita» (в оригинале фильм итало-язычный) музыку Эннио Морриконе. Кстати, основная ее тема стала очень популярной и давно живет своей, отдельной от фильма жизнью. Ещё один интернет-отзыв: «Я здесь за то же самое, что и вы, за Понтия Пилата. Мне кажется, роман «Мастер и Маргарита» – одна из составляющих таких понятий как «быть русским» и «загадочная русская душа». Не верится, что иностранцы способны понять десятую долю романа и нашего отношения к нему. А посему к любой попытке его экранизировать мы априори относимся очень ревностно, а тем более иностранцами или сериальными режиссерами. Это должны быть лучшие. А так получается, что всё лучшее в отечественном кинематографе на сегодняшней день осталось в Советском Союзе. Я пошла в кинотеатр только из-за состава актеров, который гарантировал отличную игру. И не разочаровалась. На фоне бесталанных или слабо талантливых актеров нулевых видеть в одном фильме целую плеяду профессиональных актеров – это как глоток свежего воздуха. Воланд убедителен, свита великолепна! Жертвы нечистой силы выше всяких похвал! Сцены про Понтия и Иешуа правдивы… Может быть, только Мастер бледен, на мой вкус, и Маргарита противоречит моим представлениям о ней. Но какой режиссер согласился бы снимать М и М, если бы у него не было своего видения Маргариты и своего прочтения романа? Эта Маргарита мне не понятна, но вызывает определенную симпатию. Я смотрела в кинотеатре, в котором обычно аплодируют даже проходному фестивальному фильму, снятому за месяц. После последних кадров «Мастера и Маргариты» оваций не последовало. Зал замер. Он приходил в себя. Шедевр фильм или нет решают не сборы, не критики, не награды, а одно лишь время. Я говорю этому фильму: Да!» Стихи Ирины Корсунской, написанные в то же время, что и вышеизложенное исследование: Как тесно в городе двоим – там где-то притаился третий. Ершалаим! Ершалаим! Мы этих двух тысячелетий не сдержим рушащийся храм. Развалины сродни дарам – ложись под них, мудрец и мистик! Ведь в унисон семи ветрам нашептывает каждый листик – и с той и с этой стороны – что в счёт неведомой вины, сорвавшись на смертельном трюке, мы здесь почти погребены… А город умывает руки, а время разевает пасть, а мир блефует картой битой, а люд, слезливо-деловитый, ругает власть, рыдает всласть над Мастером и Маргаритой.