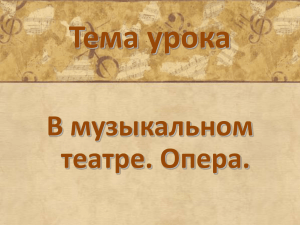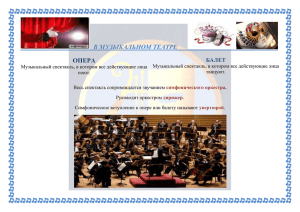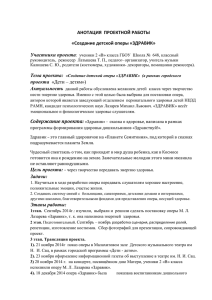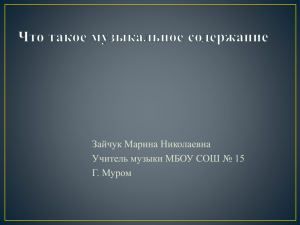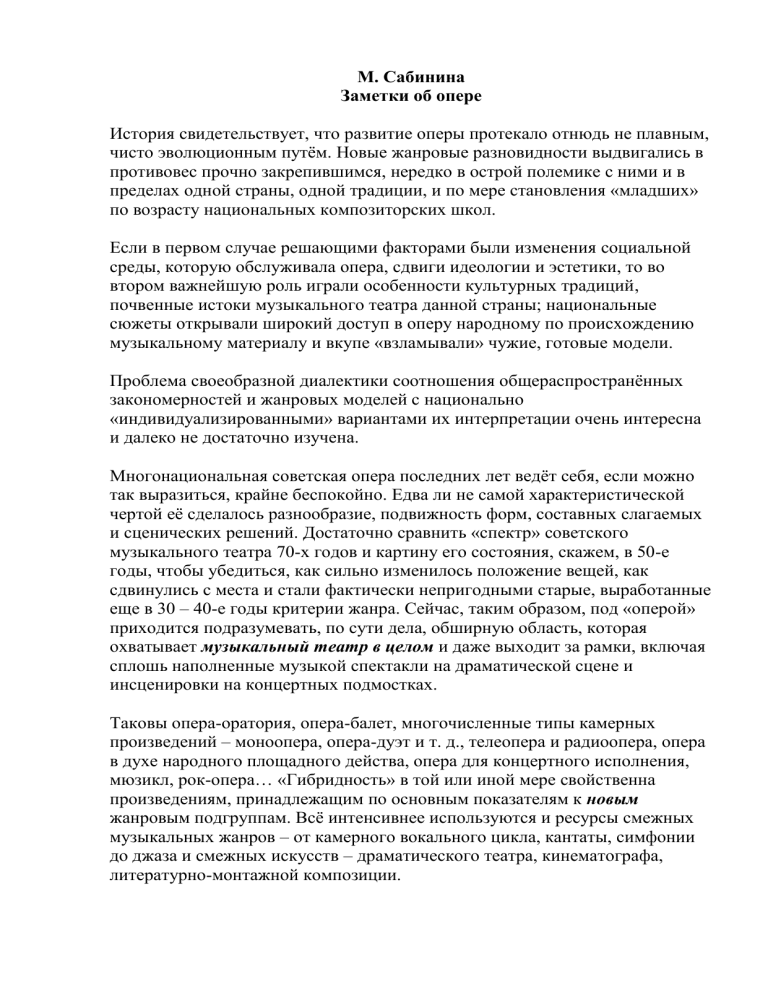
М. Сабинина Заметки об опере История свидетельствует, что развитие оперы протекало отнюдь не плавным, чисто эволюционным путём. Новые жанровые разновидности выдвигались в противовес прочно закрепившимся, нередко в острой полемике с ними и в пределах одной страны, одной традиции, и по мере становления «младших» по возрасту национальных композиторских школ. Если в первом случае решающими факторами были изменения социальной среды, которую обслуживала опера, сдвиги идеологии и эстетики, то во втором важнейшую роль играли особенности культурных традиций, почвенные истоки музыкального театра данной страны; национальные сюжеты открывали широкий доступ в оперу народному по происхождению музыкальному материалу и вкупе «взламывали» чужие, готовые модели. Проблема своеобразной диалектики соотношения общераспространённых закономерностей и жанровых моделей с национально «индивидуализированными» вариантами их интерпретации очень интересна и далеко не достаточно изучена. Многонациональная советская опера последних лет ведёт себя, если можно так выразиться, крайне беспокойно. Едва ли не самой характеристической чертой её сделалось разнообразие, подвижность форм, составных слагаемых и сценических решений. Достаточно сравнить «спектр» советского музыкального театра 70-х годов и картину его состояния, скажем, в 50-е годы, чтобы убедиться, как сильно изменилось положение вещей, как сдвинулись с места и стали фактически непригодными старые, выработанные еще в 30 – 40-е годы критерии жанра. Сейчас, таким образом, под «оперой» приходится подразумевать, по сути дела, обширную область, которая охватывает музыкальный театр в целом и даже выходит за рамки, включая сплошь наполненные музыкой спектакли на драматической сцене и инсценировки на концертных подмостках. Таковы опера-оратория, опера-балет, многочисленные типы камерных произведений – моноопера, опера-дуэт и т. д., телеопера и радиоопера, опера в духе народного площадного действа, опера для концертного исполнения, мюзикл, рок-опера… «Гибридность» в той или иной мере свойственна произведениям, принадлежащим по основным показателям к новым жанровым подгруппам. Всё интенсивнее используются и ресурсы смежных музыкальных жанров – от камерного вокального цикла, кантаты, симфонии до джаза и смежных искусств – драматического театра, кинематографа, литературно-монтажной композиции. В мировой театральной и композиторской практике XX века многие почти забытые формы, скажем, формы типа обрядовых представлений с музыкой, мистерий, игрищ, народных балаганных комедий, которые мы привыкли считать архаическими, не доросшими до оперы, вдруг оказались необычайно привлекательными, свежими и интересными, обладающими активными потенциями. Чуть ли не более свежими, гибкими и современными, чем столь гибкие и ёмкие традиционно-классические оперные формы, доведённые до пределов совершенства ХІХ столетием. Налицо некое «движение вспять» под новым углом зрения, на новом витке исторической спирали. Композиторы и деятели музыкального театра ратуют за экстренную необходимость новых форм гораздо откровеннее, нежели музыковеды, критики. Критика того периода с подозрением встречала произведения более сложные по драматургическому профилю и языку, нежели взятая за некий эталон песенная опера, либо те, которые принадлежали к обособленным жанровым разновидностям – опере лирической, лирико-психологической, комедийно-бытовой, сатирической и т. п. Если песня, взятая в её «сыром» виде, вместе с присущими ей формами, становилась основным компонентом оперного произведения и возникала проблема симфонизации всего произведения, так как песенные формы были недостаточно гибки и податливы для симфонического сквозного развития и объединения ткани. Современные бытующие интонации в этих песенных формах не поднималась до художественного обобщения и по сути дела зачастую возникал сплав элементов массовой песни, городской песни-романса, романса эстрадного и «адаптированных» элементов оперной виртуозности. Конечно, в условиях молодых оперных школ национальных республик Советского Союза дело обстояло иначе: там обращение к любым пластам народного мелоса независимо от их возраста и происхождения обеспечивало опере стилистическую свежесть, там было закономерно преобладание форм простейших. Перечень произведений, в той или иной степени отразивших идею унификации жанра или потерпевших фиаско из-за несоответствия ей, мог бы быть очень длинным и ему здесь не место. Но нельзя не напомнить всё-таки о судьбе гениальных творений Прокофьева и Шостаковича. Трагедия-сатира «Катерина Измайлова», «Семён Котко», в которых авторам удалось, казалось бы, именно то, к чему призывала критика – сочетать признаки народной музыкальной драмы и бытовой комедии, революционной хроники и драмы лирико-психологической – были отринуты в силу своей нестандартности, хотя они не менее чутко, чем оперы песенные, откликнулись на обновление интонационного словаря эпохи. Поворот к обновлению жанровых, композиционно-драматургических и стилистических решений обозначился одновременно и в сферах большой, историко-легендарной, и психологической оперы, причём нередко ему помогало возрождение ранее написанных, но некогда не получивших признания опер (Б. Лятошинский «Золотой обруч», оперы Прокофьева и Шостаковича). Однако в последнее десятилетие искания композиторов вступили в особенно острый конфликт с инерцией, неповоротливостью театров, со сложившимися там привычными шаблонами «оперности». В репертуар попадает сравнительно немногое из того, сто пишется и содержится в композиторских портфелях. Поэтому выводы, построенные на основании афиш оперных театров, дадут весьма неточное представление о реальной картине творчества, диапазоне его направлений. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что театры наиболее охотно и легко берут произведения, которые в вариантах репродуцируют нехитрые жанрово-драматургические схемы советской оперы 30 – 40-х годов – лишь бы был достаточно актуален сюжет, тема оперы. Нин наивная поверхностность воплощения обязывающей темы, ни бедность языка, образов, почти невозможные в условиях современного драматического театра и кинематографа, не закрывают операм дороги на сцену. Но подобные произведения всё-таки до сих пор составляют некий среднестатистический слой оперной продукции. Сергей Прокофьев, как известно, куда интенсивнее опосредовал современный бытовой интонационный материал, нежели Шостакович, и в чистом, «сыром» виде почти никогда не допускал его в свои оперы и балеты (кроме «Повести о настоящем человеке»). Он предпочитал мелодии старой крестьянской традиции, за что, кстати, был осуждён критикой. Тут, пожалуй, и кроется одно из кардинальных отличий его творческого метода от метода Шостаковича. «Прокофьевское» - прежде всего в контрапунктической, подвижной организации массовых сцен, портретной нагрузке мельчайших вокальных реплик, в том числе речитативных. «Шостаковическое» - в смелой полифонии стилей, функциях оркестровых тембров, симфонических антрактов и отыгрышей. И у Щедрина, и у Слонимского в операх налицо и полижанровость, и, как мы бы сегодня выразились, полистилистика. Следовательно, оценка может базироваться только на конкретном художественном результате, качествах реализации принципа, а не критериях отвлечённых. До рубежа 60 – 70-х годов, для подавляющего большинства советских опер главной областью засилья трафарета служила лирика. Уточним: имеется ввиду лирику как выражение индивидуального и неповторимого внутреннего мира личности, а не некий условно-«лирический» мелос, связанный с пересадкой в оперу интонаций советской массовой лирической песни или воспроизведением формул лирико-ариозного мелоса оперы конца XIX века. «Не только любовь» Р. Щедрина и «Виринея» С. Слонимского – отрадные исключения; хотя, можно сказать, что последний любовный дуэт Виринеи и Павла или финальный монолог Варвары, несколько ординарнее прочих страниц этих талантливых партитур. В «Заблудившихся птицах» Ю. Лаурушаса (1969), где все события показаны сквозь воспоминания умирающего героя, юноши Тедаса (типичный приём психологической монодрамы!), опять-таки недостаёт раскрытия образа внутри. Отсутствие развивающегося интонационного конфликта Ю. Лаурушас, подобно многим другим композиторам, пытается компенсировать модными театральнорежиссёрскими приёмами типа монтажной перебивки кадров, наплыва, ненотированной декламации, сольной и хоровой. Но эксплуатация этих приёмов сама по себе драматургию музыкальную не обогащает, а, напротив, усиливает иллюстративность функции музыки. «Гибель эскадры» В. Губаренко (либретто В. Губаренко и В. Бычко, 1967) по содержанию и взволнованному, романтико-революционному настрою близка своей ровеснице «Оптимистической трагедии» Холминова, хотя драматургия в опере Губаренко отличается более симфонизированным тематическим развитием и более активным темпоритмом благодаря «перебивкам» включениям невидимого хора (в духе ораториального «закадрового» комментария) и фрагментов разговорной речи. Музыкальные характеристики персонажей плакатно лапидарны, типизированы, линия личных взаимоотношений между героями намечена крайне скупыми штрихами. А моноопера «Нежность» («Письма любви», либретто по новелле Анри Барбюса, 1970) погружена в мир интимнейшей лирики, в ней возникает естественный сплав декламационности и ариозности, причём, образные контрасты выращиваются на основе трансформаций сквозной лейттемы. Видимо, для Губаренко обращение к жанру камерной монодрамы не прошло даром, принесло полезнейший опыт исканий и решений той, едва ли не наиболее трудной художественной задачи, которую до сих пор в рамках большой оперы автор решить не мог. Стало быть, малые жанры имеют не узкую, замкнутую в себе творческую ценность. Они открывают горизонты возрождению в опере подлинно глубокого психологизма, которым искони славилась русская классическая опера. Открывают они простор и раскованной, поэтически одухотворенной и вместе с тем по-новому свежей, не заштампованной лирике, современной вокальной мелодии. Свидетельство этому – камерные лирические оперыдуэты «Белые ночи» Ю. Буцко и «Бедные люди» Г. Седельникова. Малые жанры свидетельствуют и о своей способности воплощать актуальную гражданственную тематику. Сошлёмся хотя бы на синтез публицистики, проповедничества и искренней задушевной лирики в моноопере «Дневник Анны Франк» Г. Фрида. Мотивами социально обличительными в той или иной мере проникнуты все только что названные сочинения. Драматургическим центром «Дневника Анны Франк» является оркестровая Интерлюдия, разделяющая две части произведения, а общей кульминацией трагической линии – тоже Пассакалия, предваряющая катарсический финал. Близка к характеру пассакалии, между прочим, и первая Интерлюдия «Нежности» В. Губаренко, мрачное Адажио, раскрывающее страшную реальность, которая до самого последнего, четвёртого письма прячется за выдуманным содержанием картин – писем давно уже мёртвой героини. Следовательно, малые жанры помогают на новом этапе вернуть – владели же этим мастерством наши классики! – и отшлифовать мастерство симфонизированной оперной драматургии. Итак, очищение лирики от сентиментализма и шаблона, разработка мира психологических переживаний в их процессуальности; активное обобщение жанрово-бытовых элементов; симфонизация драматургии, обретение новых форм. Всё это – бесспорные достоинства камерных опер последнего периода. Поскольку в камерной и моноопере тематический материал, мелос подвергается более энергичному «дроблению», чем в опере большой, и значимость текста, декламационных нюансов намного выше, национальное тут в большой степени связано с духом и характером словесно-речевого, поэтического и разговорного интонирования определённого рода. Отсюда – менее прямая и открытая связь с фольклором музыкальным. Это может послужить известной помехой для восприятия оперы широкой аудиторией в тех условиях, когда она ещё недостаточно подготовлена к более сложным видам искусства, уже освоенным в других республиках. Камерная моноопера, несомненно, есть плод высокоразвитой художественной культуры, её формы тонки и изощрены. Потому образцов камерных – в настоящем толковании термина – произведений творчество композиторов ряда республик почти не даёт. Несколько размытое понятие «камерная опера», иногда принимая во внимание лишь размеры произведения или сюжет и употребляя его и тогда, когда перед нами жанры смешанные, гибридные. Например, строго говоря, гибриды все новеллы оперного триптиха О. Тактакишвили, включая и «Двух братьев», ибо там очевидно присутствие принципов ораториальных. Ораториальная же опера, о которой речь пойдет дальше, наряду с оперой комической, создаёт особо благоприятные условия для выработки нового подхода к национальному фольклору. Так, различные жанровые русла «распределяют» между собой функции в смысле методов и приёмов обновления, осовременивая музыкального театра. Композиторы сегодня охотно обращаются у опере комической, сатирической, опере в духе свободно интерпретированного неоводевиля, опере-игре, наконец, к крайней, уже вполне современной, близкой популярной эстраде разновидности музыкального театра: мюзиклу, рок- и зонг-опере. Такие жанрово нестандартные оперы пишут русские авторы – Г. Банщиков («Любовь и Силин», «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»), А. Холминов («Коляска», «Двенадцатая серия») и др. Если камерная и моноопера основываются на малых литературных жанрах, то опера-оратория – обычно на жанрах больших, прозаических и поэтических, или на монтаже фрагментов нескольких литературных источников, в том числе фрагментов документальных, эпистолярных и т. д. Здесь преобладает тематика эпическая, историко-революционная, трагедийная, гражданственно-публицистическая. Она выражается «панорамами», то есть работает планами общими и средними (массовыми), в которых выделяются группы фигур. Главный принцип оперы-оратории – контрастирование больших тематических блоков, их чередование и полифоническое наслоение. В ораториальной сфере вполне уместна песня, взятая как целое. Но чаще – с перебивками, наложениями на сольную песню речевых диалогов, хорового или оркестрового комментария, или, наоборот, сольных реплик и диалогов – на песенный по интонационному складу хор. Ораториальные оперы последних лет как бы приняли на себя дальнейшее развитие народной линии, суммируя опыт и достижения советского творчества в опере и ораториикантате. Ораториальная опера предполагает еще большую работу ассоциативного восприятия, чем любой другой жанр современной оперы. Ведь время и пространство в ней ещё более условны, фабульность как таковая может быть выражена очень слабо; событийный ряд иногда прочерчивается «пунктирно», прерываясь разного рода наплывами и обобщающими комментариями, переключениями планов от конкретно-действенного к условному, символическому. Разумеется, в разных операх-ораториях соотношение конкретно-действенного и надвременного, символического, неодинаково. Совмещение балета и оратории приносит большие удачи и в творчестве композиторов ряда других национальных республик, главным образом, композиторов молодого и среднего возраста. Назовём первый в Таджикистане балет с хорами «Спитамен» молодого Т. Шахнди (1976), где солист, настоящий народный певец-хафиз, служит повествователем и комментатором драматических событий. Подобная форма способствовала свободе в современности интерпретации фольклора, обеспечении вместе с тем и живую достоверность его звучания, благодаря специфике народной исполнительской манеры пения солиста. В «Мёртвых душах» Р. Щедрина (1977) – самом высоком достижении советской оперы последних лет, главным стержнем драматургии служит противостояние двух пластов: пласта народного, который несут песни и плачи, исполняемые в народной манере пения и пласта «космополитического», складывающегося из гротескно претворенных ресурсов большой оперы – речитативы секко, виртуозные рулады, грандиозные ансамбли и т. д. Эти два пласта выстраиваются двумя взаимно обособленными рядами, как бы по принципу параллельного монтажа, и контрастном чередовании, перебивке эпизодов. Естественно, народные эпизоды обрамляют оперу. В общем плане вся опера выглядит подобно рондо, где эпизоды гораздо крупнее рефрена и сами, как правило, организуются рондообразно, благодаря кратким, повторяющимися рефренами-репликами, а рефрен высшего порядка, вариантно изменяющийся по интонационному наполнению, тексту, масштабам, но стилистически и темброво стабильный, есть народная песня-плач. Такой метод формообразования по сути близок прокофьевскому, но Прокофьев применяет его обычно на пространстве сцены, картины, акта, а не оперы в целом.