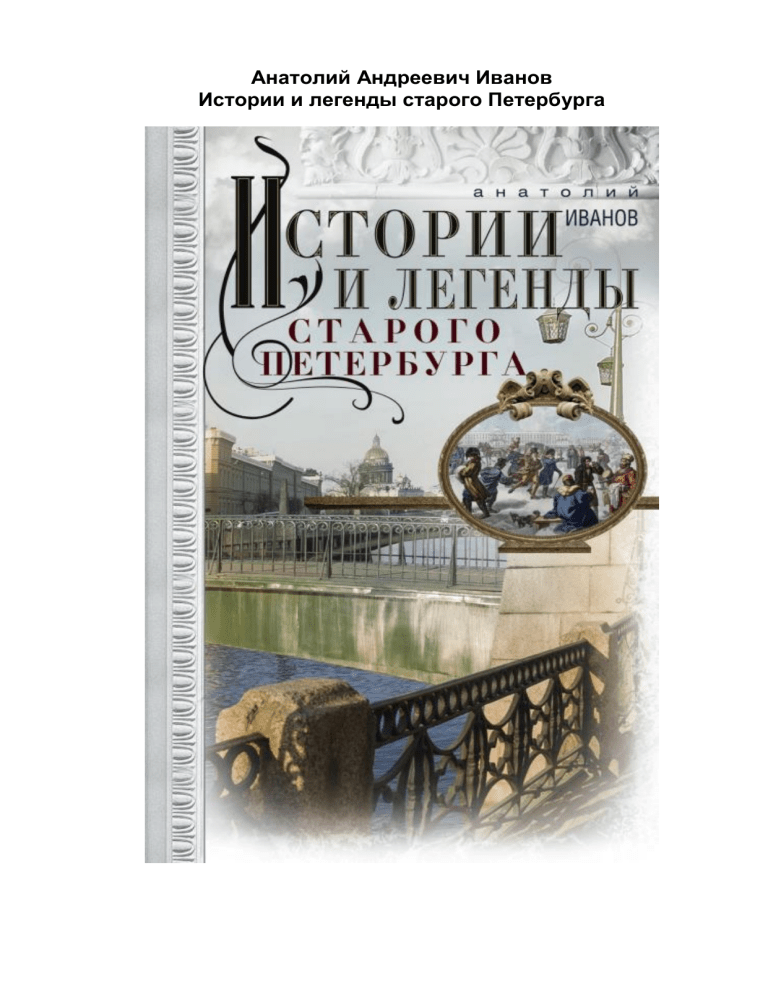
Анатолий Андреевич Иванов Истории и легенды старого Петербурга «Истории и легенды старого Петербурга / А.А. Иванов»: Центрполиграф; Москва; 2019 ISBN 978-5-227-08303-6 Аннотация В этой книге собраны очерки Анатолия Иванова, посвященные российской истории, начиная с основания Санкт-Петербурга. На ее страницах увлеченного читателя ожидает удивительное разнообразие: прогулки по старым и современным улицам Северной столицы, знакомство с бытом и нравами XVII – начала XX столетий, в том числе и глазами иностранцев, возможность окунуться в атмосферу минувших дней. Встречи с примечательными личностями – яркими представителями своего времени, а то и вовсе его опередившими. Старинные развлечения различной степени приятности, курьезные случаи и воспоминания мемуаристов, запечатлевших события и слухи ушедших годов на бумаге. Написанные живо и ярко, составленные на основе исторических документов, писем и дневников, рассказы поведают о самых разных людях, оставивших свой след в истории, – государственных деятелях, дипломатах, военачальниках, путешественниках и многих других, и о местах, по которым им довелось ходить. Анатолий Иванов Истории и легенды старого Петербурга Вступление Книга, которую вы держите в руках, составлена из исторических очерков Анатолия Иванова: часть из них впервые увидела свет в «Санкт-Петербургских ведомостях», а после перекочевала на книжные страницы, часть также уже встречалась читателям в прошлых изданиях. Все они тем не менее впервые публикуются под одной обложкой. Соседство это неслучайно: очерки объединены общей темой – путешествием в прошлое России, начиная с появления новой столицы. Истории из жизни старого Петербурга помогут лучше узнать город и тех, кто в нем жил, оставив свой, порой значительный, а порой небольшой, но отчетливый след в отечественной истории. Длинной чередой перед читателем пройдут иностранные дипломаты и путешественники, государи и их лукавые сатрапы, сыны отечества, трудившиеся для общего блага, и вороватые чиновники. Россия открывалась перед ними с разных сторон, и воспринимали они ее по-разному. Вероятно, все знают, что основанию Петербурга в мае 1703 г. предшествовало взятие шведской крепости Ниеншанц, расположенной на мысе при впадении реки Охты в Неву. Менее известно то, что построена она была на месте русского поселения Канцы, появившегося еще в середине XIV века; в 1611 году Россия лишилась этих земель, вновь отвоеванных Петром I в начале 1700-х гг. И уж совсем немногие знают, что в промежутке между этими событиями Ниеншанц на короткий срок перешел под власть русского государя. Случилось это в 1656 году, при отце Петра I Алексее Михайловиче; имей он тогда более сильное войско и сумей удержать добытое, возможно, наш город возник бы несколькими десятилетиями раньше. Однако оставим зыбкую почву предположений и обратимся к историческим фактам. П.И. Потемкин Кто же был тот доблестный военачальник, несколько преждевременно осуществивший заветную мечту будущего государя? Звали его Петр Иванович Потемкин, родился он в 1617 году, а умер около 1700 года; принадлежал к тому же старинному дворянскому роду, известному с XVI века, что и светлейший князь Г.А. Потемкин, но к другой его ветви. Начав царскую службу при дворе, побывал стряпчим, потом – стольником, сопровождая набожного царя в его выездах в окрестные монастыри на богомолье. Участвовал в войне с поляками, вспыхнувшей в 1654 году по причине присоединения Украины к России, и после успешной осады взял город Люблин. Воспользовавшись тем, что Швеция в свою очередь увязла в войне с Польшей, русское правительство послало воинский отряд под командованием Потемкина на берега Невы, в шведские владения, чтобы попытаться вернуть выход к Балтийскому морю. Подойдя к Ниеншанцу, Потемкин осадил его; в январе 1656 года крепость сдалась. Через полгода отряд подступил к другой шведской крепости – Нотебург, в прошлом русский Орешек, предварительно разбив шведов и захватив множество пленных. Немалую помощь в этом оказали местные финские и карельские племена, перешедшие на сторону русских. Хотя Орешек для Потемкина, как впоследствии и для Петра, оказался «зело крепок», ему все же удалось его разгрызть, и он стал воеводой поверженной твердыни. К сожалению, одержанные победы оказались, по сути дела, напрасными, так как уже в первой половине 1658 года все завоеванное пришлось вернуть Швеции: Кардисский мир, заключенный в 1661 году, подтвердил прежние границы, установленные ранее Столбовским договором… В не меньшей степени, чем на военном, Петр Иванович известен на дипломатическом поприще. Он возглавлял посольства во многие европейские страны, причем вел себя с большим достоинством, стремясь не уронить чести пославшего его государя. Так в 1680 году, получив аудиенцию у Людовика XIV и не добившись признания им царского титула российского самодержца, Потемкин прервал бесплодные переговоры и отказался принять от короля ответную грамоту. Курьезный случай, неслыханный в дипломатической практике, приключился с Петром Ивановичем в Дании, куда ему велено было заехать по пути и непременно получить аудиенцию у тамошнего монарха. На его беду, король в ту пору оказался болен, и к нему никого не допускали. Однако русский посланник, памятуя данный ему наказ, что он представляет особу своего государя и никоим образом не должен уступать связанных с этим преимуществ, продолжал настаивать на свидании. В ответ на заверения придворных, что король лежит в постели, Потемкин потребовал поставить в королевской опочивальне еще одну кровать, лежа на которой он мог бы побеседовать с августейшей особой. Не желая ссориться с возможным союзником, придворные вынуждены были согласиться на столь необычное требование, и «постельная» аудиенция состоялась… Этот анекдотический случай прочно запечатлелся в памяти потомков, и спустя много лет о нем рассказывали за столом цесаревича Павла Петровича. Но мы будем помнить П.И. Потемкина как человека, пусть и на короткое время, водрузившего российский флаг над невскими берегами, где через полвека суждено было возникнуть Петербургу. Глава 1 О названиях и не только Дом Неллиса в Эртелевом переулке Все старые улицы возникали примерно одинаково: сперва прокладывалась безымянная дорога; со временем она застраивалась, обретала свое лицо, индивидуальные признаки, наконец получала имя, прозвище, выделявшее ее из ряда ей подобных. Случалось, что прозвище бывало не совсем благозвучным; порой оно употреблялось наряду с другим, и оба названия существовали одновременно. Но в конце концов побеждало одно, которое уже надолго, если не навсегда, закреплялось за улицей. Эртелев переулок (с 1923 года – улица Чехова) в этом смысле не исключение. Он находится в Литейной части, между улицами Жуковского и Некрасова, и проложен на территории бывшей слободы Преображенского полка. Время его возникновения можно определить с точностью до одного года. На так называемом сенатском атласе столичного города Санкт-Петербурга 1798 года он еще не обозначен. А в следующем году в «Ведомостях» появляется такое объявление: «От Конторы городских строений объявляется, что принадлежавшая прежде гвардии Преображенскому полку земля по Всевысочайшему Его Императорского Величества повелению продаваться будет для выстроения домов в пользу обывателей, местами; желающие оную покупать могут являться для торгу в упомянутую Контору…» (Санкт-Петербургские ведомости. 1799. 26 апреля). Полковая слобода уничтожалась в связи с переводом полка на новые квартиры в Миллионной улице, поближе к дворцу. Тогда-то и была проложена параллельная Литейному улица; о ней мы узнаём из объявления в тех же «Ведомостях» за 1800 год: «Между Литейной и Итальянской слободками, в новой улице, продается каменный дом… О цене можно узнать от г. коллежского советника Рыкова, живущего во втором каменном от Вспомогательного Банка доме». Поясню, что упомянутый в объявлении банк с 1798 года находился на месте нынешнего дома № 44 по Литейному проспекту, а дом Рыкова занимал смежный участок позади него, там, где позднее был выстроен дом № 8 по Эртелеву переулку, о котором у нас и пойдет речь. Коллежский советник Рыков промышлял торговлей недвижимостью, и в газете то и дело появлялись объявления о продаваемых им земельных участках и домах; и везде улица, на которой стоял дом Рыкова, именуется то «новой», то «новопроложенной». К концу XVIII века на ней стояло всего пять небольших домиков, представлявших собой не что иное, как перестроенные казарменные «светлицы». Улица еще не имела названия. Однако в Адресной книге Реймерса 1809 года она уже именуется Грязным переулком; таковым он и оставался до 1830-х, когда получил иное название – Эртелев переулок. Впрочем, до начала 1860-х наряду с этим бытовало и прежнее, не слишком красивое, указывавшее на отсутствие каменной мостовой. Но вернемся к участку Рыкова. После смерти владельца в 1809 году наследники долгое время безуспешно пытались продать его владение, однако удалось им это лишь семь лет спустя. Новый хозяин, каретный мастер Эвальд Вилле, снес прежнее, обветшавшее строение и к 1818 году соорудил на его месте каменный одноэтажный дом в одиннадцать окон по фасаду, украшенному классическими сандриками. Надо сказать, немецкие каретники и седельники издавна облюбовали Литейную с ближайшими к ней улицами и селились здесь столь же охотно, как и в Мещанских. Объясняется это просто: на Кирочной, расположенной вблизи Литейной, и на Невском, как раз напротив Большой Мещанской, существовали лютеранские храмы Святой Анны и Святых Петра и Павла. Хотя имя каретника Вилле было не столь известным, как имена его соплеменников и коллег Иохима и Фребелиуса, мастер Эвальд, рекламируя в газетных объявлениях свои изделия, скромно называл себя «одним из лучших здешних мастеров». Улица Чехова, дом № 8. Современное фото В 1824 году участок Вилле приобретает другой немецкий ремесленник – слесарь Яхтман, который владел домом в Эртелевом, или Грязном, переулке свыше двадцати лет. А к середине 1840-х он переходит к новому хозяину, опять-таки каретному мастеру, Карлу Матвеевичу Неллису. Датой основания предприятия считается 1827 год, и начиная с этого времени фирма постепенно, шаг за шагом закладывала фундамент своего будущего процветания и успеха, медленно, но неуклонно упрочивая солидную репутацию. К 1870-м экипажная фабрика Неллиса слыла уже одной из лучших в столице. Но не будем забегать вперед. Добрых лет пятнадцать после покупки участка Карл Матвеевич довольствовался прежним домом, а под мастерскую арендовал смежный участок нынешнего дома № 10 у жены столяра Никитина. Дела его шли вполне успешно, и в 1863 году на месте старого одноэтажного строения он возвел по проекту К.Ф. Мюллера четырехэтажный дом в так называемом кирпичном стиле, то есть из неоштукатуренного кирпича. Это был один из первых жилых домов в Петербурге, выстроенных в подобном стиле, нашедшем большее применение в промышленной архитектуре. Долгие годы над парадными по обеим сторонам ворот красовались ныне сломанные полукруглые козырьки-навесы, а посредине фасада, под сдвоенными окнами второго этажа, латинскими буквами была выведена надпись: «К. Nellis». Спустя три года мастер приобретает смежный участок Никитиной и по проекту Г.Ф. Геккера строит на нем в том же кирпичном стиле одноэтажное здание экипажной фабрики с широкими арочными проемами. Обе постройки – дом и фабрика – превосходно гармонировали друг с другом, а их близкое родство скрепляла увенчанная двуглавым орлом та же надпись на сей раз русскими буквами «К. Неллис», в полукружии фронтона каретного заведения. После смерти К.М. Неллиса дом и фабрика достались в наследство его сыну Карлу Карловичу, купцу второй гильдии. Он повел хорошо налаженное дело столь же умело, как отец, и добился того, что фирма Неллиса, наряду с каретными заведениями Брейтигама, Корша и Шварце, считалась не только одной из лучших, но и самых дорогих. Она изготовляла ландо, коляски и кареты по ценам от 1200 до 1700 рублей, доступным лишь людям богатым. Экипажная фабрика Неллиса, впоследствии перешедшая к акционерному обществу «Фрезе и Кº», стала колыбелью отечественного автомобилестроения и своего рода полигоном для испытания новых транспортных средств. В 1896 году бывший морской офицер Е.А. Яковлев, производивший в своих мастерских керосиновые двигатели с электрическим зажиганием, и горный инженер П.А. Фрезе, возглавлявший акционерное общество, построили здесь первый в нашей стране автомобиль, экспонировавшийся затем на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде. А шесть лет спустя здесь же происходили испытания нового транспортного средства – троллейбуса. Журнал «Автомобиль» за 1902 год сообщал своим читателям в № 4: «В настоящее время в Петербурге устроен автомобиль, приводимый в движение электрической энергией, получаемой от проводов вдоль пути, но ходящий не по рельсам, а по обыкновенной дороге… В России это первый опыт, и демонстрирование такой повозки-автомобиля для грузов производилось на фабрике «Фрезе и Кº» во дворе дома № 10 по Эртелеву переулку 26 марта». Несколькими днями позднее там же были проведены повторные испытания в присутствии министра путей сообщения князя М.И. Хилкова и членов специальной комиссии. Завершились они так же успешно, как и первые, но тогда этим все дело и кончилось; новый вид транспорта нашел широкое применение лишь много лет спустя. В 1903 году экипажная фабрика «Фрезе и Кº» получила от Министерства почт и телеграфов заказ на изготовление нескольких почтовых автомобилей. К началу XX века дом Неллиса был обычным доходным домом, и населяла его самая разнообразная публика, начиная от члена Государственного совета сенатора Ф.М. Маркуса и кончая небогатыми купцами и мещанами. С 1906 по 1914 год в доме № 8 по Эртелеву переулку нанимал квартиру лидер кадетской партии Павел Николаевич Милюков, и здесь же ему довелось пережить несколько неприятных часов. За обличительные статьи против «заговорщиков справа», опубликованные в редактируемой им газете «Речь», он подвергся нападению наемного террориста-черносотенца, который нанес ему, как пишет сам П.Н. Милюков в своих воспоминаниях, «два сильных удара по шее», сбив с него при этом котелок и расколов пенсне. Далее Павел Николаевич рассказывает: «В противоположном моему кабинету окне дома в Эртелевом переулке производились какие-то таинственные приготовления, которые приятели объясняли как установку огнестрельного оружия для выстрела в меня». Но, к счастью, страхи оказались напрасными, и все закончилось благополучно… Незадолго до Октябрьской революции дом и фабрика в Эртелевом переулке перешли к барону Н.Б. Вольфу, который сдавал фабричные помещения в аренду заводу «Руссо-Балт», устроившему в них гараж и авторемонтную мастерскую. И поныне здание используется по тому же назначению. Колесники и каретники Кому из зажиточных петербуржцев 1820—1830-х годов не знакомо было имя каретного мастера Иохима? Многие заказывали у него экипажи, и никогда им не приходилось жалеть об этом: немец брал дорого, но зато делал прочно, на целые десятилетия. В одном из писем жене за 1832 год А.С. Пушкин, между прочим, жалуется: «Каретник мой плут; взял с меня за починку 500 рублей, а в один месяц карета моя хоть брось. Это мне наука: не иметь дела с полуталантами. Фребелиус или Иохим взяли бы с меня 100 р. лишних, но зато не надули бы меня». Оба названных лица принадлежали к наиболее славным представителям петербургских немцев-ремесленников, многократно изображавшихся нашими писателями-классиками, но почему-то всегда в смешном виде. Вероятно, причиной тому послужило их довольно изолированное существование обособленными группами, сохранявшими черты своего национального быта, столь не похожего на русский. Впрочем, профессиональное мастерство немецких умельцев никогда и никем не ставилось под сомнение; в полной мере это относилось и к каретникам, добрая слава за которыми укрепилась с давних пор. В путеводителе по Петербургу, вышедшем в свет в 1820 году, читаем: «Немецкие колесники и каретники живут по большей части в Литейной и в Мещанских улицах. Они с большим вкусом и прочнее отделывают свою работу, нежели парижские, лондонские и брюссельские мастера». Но вернемся к Иохиму, которого на Руси, как водится, перекрестили из Иоганна в Ивана. Первоначально он основал свою мастерскую на углу Литейной и Пантелеймоновской (ныне ул. Пестеля), там, где сегодня возвышается громада невероятно изукрашенного лепными безделушками бывшего дома Тупикова (№ 21/14). Произошло это около 1805 года. Дела его пошли хорошо, он взял себе на подмогу еще несколько человек и вскоре сумел завоевать репутацию надежного и добросовестного мастера. В немалой степени упрочению его славы способствовали публичные выражения признательности за безупречную работу, да еще от самого Ф.Ф. Эртеля, в недавнем прошлом столичного обер-полицмейстера. Вот какое благодарственное объявление поместил тот в «Санкт-Петербургских ведомостях» осенью 1810 года: «Генерал-майор Эртель долгом себе поставил в одобрение каретного мастера Ивана Иохима сим объявить, что он деланные тем мастером коляску и карету, употребляв в езду по С.-Петербургу более пяти лет, быв в должности обер-полицмейстера, и потом в экстренном переезде по почтовому тракту более 16-ти тысяч верст, не имел доныне надобности исправлять оных, чем и доказывается совершенная прочность экипажей работы сего мастера, привлекающая к нему полное доверие почтеннейшей публики». Не исключено, что Эртелем отчасти двигало похвальное желание поддержать соплеменника, но, разумеется, дело было не только в этом; в данном случае реклама соответствовала качеству товара и не вводила в заблуждение. Заказы сыпались как из рога изобилия, что, естественно, приносило свои плоды. Спустя несколько лет, в 1813 году, Иохим перебирается уже в собственный, им же построенный дом на Большой Мещанской улице (ныне Казанская, 39), где позднее жили Гоголь и Мицкевич. Со временем он становится владельцем еще двух каменных домов и незастроенного участка на Фонтанке, близ Измайловского моста. Чтобы закончить об Иохиме, добавлю, что после смерти старика Иоганна в 1834 году один из сыновей продолжил его дело, но уже к середине XIX века знаменитая фирма фактически перестала существовать. Второй из упомянутых Пушкиным мастеров, Иоганн Фребелиус, коллега и сосед Иохима по Мещанской улице, оказался долговечнее в своем потомстве: предприятие, носившее его имя, существовало еще в 1870-х годах, хотя уже и не значилось в списке лучших. После того как Иохим покинул свою экипажную мастерскую на Литейной улице, «Санкт-Петербургские ведомости» в том же 1813-м опубликовали следующее объявление: «Литейной части, в 1-м квартале, в угловом доме под № 42, находится полное заведение для делания карет, восемь уже лет известное по изящнейшей, прочнейшей и в новейшем вкусе отделке оных теми самыми немецкими мастерами, кои в сем доме работали для седельника Иохима и которые, конечно, известны почтенной публике весьма с хорошей стороны. Хозяин оного дому желает найти такого человека, который бы снял все сие заведение так, как имел оное седельник Иохим…» Хотя хлопоты домовладельца о сохранении в своем доме, надо полагать, выгодного для него каретного заведения не увенчались успехом, в целом в Литейной части их оставалось предостаточно. Традиция эта держалась и в дальнейшем; еще в 1874 году из четырех лучших экипажных фабрик Петербурга три располагались в Литейной части: Брейтигама – на Захарьевской, 8, Неллиса – в Эртелевом переулке, 10, и Шварце – на Литейном, 20, причем фирма «И. Брейтигам», по тому же адресу, просуществовала до самой Октябрьской революции. Помимо немецких ремесленников, обитавших в центральных, густонаселенных кварталах Петербурга, в окрестностях столицы с давних пор селились немцы-колонисты, занимавшиеся сельскохозяйственным трудом, но жившие такими же обособленными сообществами, как и первые. Когда и почему они там появились? Немецкие колонии под Петербургом 14 октября 1762 года Екатерина II издала указ, которым предписывала Сенату без «дальнейшего доклада» и излишних формальностей позволять всем желающим иностранцам селиться в России. Особым манифестом от 4 декабря того же года им жаловались всевозможные льготы, а в скором времени «Санкт-Петербургские ведомости» оповестили всех заинтересованных о том, что «Ее Императорское Величество указать соизволила, выходящим разного звания на поселение в Россию иностранным людям, позволить жить с приезду их сюда по 2 недели без всякого платежа за постой в доме Далмана, состоящем в Миллионной улице (ныне дом № 32. – Л. И.), дабы таковые приезжающие сюда иностранные на перьвой случай имели пристанище, равным образом и в здешнюю таможню предписано, дабы оная при самом таковых чужестранных приезде о том им объявляла» (Санкт-Петербургские ведомости. 1763. № 56). Для «опекунства иностранных» была заведена особая канцелярия, разместившаяся в купленном для нее доме, ранее принадлежавшем барону Черкасову (наб. р. Мойки, 12). Столь трогательная забота объяснялась просто: императрица надеялась, что прибывшие в Россию иноземцы (преимущественно немцы) научат ее подданных тому, как надо правильно вести хозяйство и обрабатывать землю. Будущее показало, что расчеты государыни не оправдались: колонисты, освобожденные на несколько лет от всяких податей и наделенные достаточным количеством земли, действительно привели свои наделы в цветущее состояние, но при этом сохранили полную культурную и этническую обособленность, никак не влияя на соседствовавших с ними русских мужичков, находившихся в совершенно иных экономических и социальных условиях. Первыми прибыли в Петербург 60 семейств из Бранденбурга и Вюртемберга; они обосновались на правом берегу Невы, создав там колонию, которую русские именовали Ново-Саратовской, а сами немцы – «колонией шестидесяти». Вслед за ней в окрестностях столицы возникло еще несколько немецких поселений; одной из самых известных была колония в Стрельне, образованная в 1810–1812 годах и состоявшая из двух деревень – Нейдорф и Нейгаузен. Колонисты пользовались покровительством великого князя Константина Павловича, которому принадлежала в то время Стрельна. П.П. Свиньин в своих «Достопамятностях Петербурга и его окрестностей» так описывает положение переселенцев: «В продолжение первых 10 лет они не платят никаких податей, по прошествии же сего времени должны вносить поземельные пошлины, каковые платят вообще живущие около Петербурга колонисты. Они находятся в весьма хорошем состоянии, ибо имеют случай выгодно продавать на самом месте все хозяйственные произведения свои… Удобрение же покупают весьма сходною ценою от находящейся здесь кавалерии. Колония сия имеет еще пред прочими преимущество в удобном разделении домов и выгодном местоположении… Чистая речка и большая Рижская дорога, усаженная березами, идущая через деревни сии, придают много приятности и живости сему поселению. Можно сказать также, что Стреленские жители весьма довольны их соседством, ибо теперь всегда имеют свежие продукты, в коих прежде всегда нуждались». К началу XX века число пригородных немецких колоний достигло девяти; помимо Ново-Саратовской и Стрельнинской к ним добавились еще Шуваловская, Петергофская, Кронштадтская, Средне-Рогатская, Колпинская, Кипенская и Гражданка. Последняя, по утверждению «Географическо-статистического словаря Российской империи», возникла в 1830 году и, в отличие от русской деревни с тем же названием, именовалась Немецкой Гражданкой. Немецкая колония в Стрельне. Начало XX в. Колонисты, наряду с охтянами, поставляли в столицу молочные продукты, а также картофель и прочие плоды земные. Известный петербургский публицист А. Бахтиаров писал в 1903 году: «Колонист тщательно выбрит, одежда у него немецкого покроя, а колонистки являются в город, на рынок, в неизбежных чепчиках – такого своеобразного фасона, по которому вы сразу отличите их от чухонок… Фасон чепчика, вывезенного некогда из своего отечества, колонистка строго сохраняет и передает из поколения в поколение, как наследие старины, своим дочерям…Как-то раз летом я проезжал по Муринскому шоссе с одним колонистом из деревни Гражданка. Небольшая немецкая деревушка по первому же впечатлению носит следы довольства и благополучия. Дома – довольно большие, в два этажа, верхний – холодный, обшитые тесом, впереди небольшой садик, в котором разбиты клумбы с цветами. Все дома выстроены по одному типу: с неизбежными двумя балконами по фасаду. Заборы и палисадники, выкрашенные белой краской, стоят прямо, ровно, точно вытянулись в струнку. Свои чистенькие домики колонисты сдают на лето внаем петербургским дачникам». Потомки немецких поселенцев сберегли не только фасоны одежды своего бывшего отечества, но и язык его, в том самом виде, в каком он был вывезен их предками. В этом отношении их судьба схожа с судьбой русских староверов, бежавших от преследования властей за океан, в Америку или Канаду, и до сих пор изъясняющихся на старинном, давно вышедшем из употребления диалекте. Немецкая колония Гражданка в районе нынешнего огромного жилмассива существовала до самой Великой Отечественной войны; в путеводителе по Ленинграду 1933 года о ней говорится, что до наших дней она сохранила «свой язык, обычаи и несколько замкнутый образ жизни». Война с фашистской Германией положила конец существованию немецких поселений в окрестностях нашего города. Кроме немцев в Петербурге проживало также немало англичан, по большей части купцов; некоторые из них содержали «аглинские» магазины, торговавшие модными галантерейными товарами и сыгравшие не последнюю роль в развитии у русской публики вкуса к добротным и красивым вещам. «Все, чем для прихоти обильной…» Средоточием расселения английских граждан в Петербурге была Английская набережная; вначале она звалась Нижней (в отличие от Верхней – нынешней Дворцовой), затем Галерной, а с 1804 года за ней официально закрепилось название Английская, наиболее точно отражавшее ее специфику. Здесь издавна существовали английская церковь и английский трактир; недоставало только английского магазина. И он появился. Правда, в отличие от церкви и трактира он был предназначен не столько для англичан, сколько для русских. В 1784 году купец Джон Пикерсгиль открыл на Галерной набережной (участок дома № 26) магазин и в том же году поместил в «Санкт-Петербургских ведомостях» такое объявление: «В Аглинской лавке у купца Пикерсгиля, живущего у Галерного двора в доме под № 221, продаются разные новомодные товары за сходную цену, как то: разные чулочные бумажные и гарусные материи, шляпы мужские и женские, чулки, стеганые одеялы, выбойка, ситец, сукна, канифас, флер, ленты, ковры, самой лучшей доброты атлас, кисея, бархат, камзолы и бахромки первых аглинских фабрик». Невский проспект, дом № 1. Начало XX в. На первых порах магазин еще именуется лавкой, да и сам выбор товаров не поражает изысканностью и обилием. Но почин уже сделан. Спустя год в большом каменном доме, незадолго до того построенном купцом Гейденрейхом на углу Невского проспекта, «насупротив Адмиралтейства», где уже помещался к тому времени трактир «Лондон» (Невский пр., 1), открывается «новый Аглинской Магазейн», в котором продаются «всякие наилучшие аглинские товары за умеренную цену». Правда, просуществовав всего пять лет, он уступил место «Немецкой лавке», оповещавшей, однако, что в ней «продаются аглинские белые лайковые перчатки». Очевидно, марка английских изделий пользовалась уже в то время непререкаемым авторитетом. А тем временем Пикерсгиль, поторговав два года, решил перебраться поближе к центру и к русскому покупателю. Продав дом на набережной, он приобретает другой, на Невском проспекте (№ 14), а сам уезжает в Англию, оставив вместо себя заместителя. Об этом мы узнаем из напечатанного им объявления: «Аглинской купец Пикерсгиль… в скором времени намерен отсюда отъехать в Англию;…также объявляет он, что чрез короткое время новая его лавка по Невской преспективе в скором времени открыта будет… Торг в оной лавке именем его, Пикерсгиля, или жены его произведен будет». В 1786 году английский магазин Пикерсгиля открывается, но не в его доме, а в смежном, на углу Невского и Большой Морской (№ 16/7), где ему и суждено было, меняя владельцев, оставаться около ста лет. Невский проспект, дом № 16. Начало XX в. К концу XVIII века в Петербурге существовал уже четыре английских магазина. Кроме известного нам заведения Пикерсгиля (в 1791-м оно перешло к Гою и Беллису) открылись магазины в доме графини Матюшкиной (ул. Малая Морская, 4), в доме Вольного экономического общества (Невский пр., 2) и на 1-й линии Васильевского острова. Интересно, что три из них, не опасаясь конкуренции, расположились буквально в нескольких десятках метров друг от друга. Это говорит о том, сколь велик был спрос на иностранные, в особенности английские, товары. Постепенно вкусы богатой столичной публики утончались, росло ее стремление к роскоши, соответственно чему менялся и ассортимент английских магазинов. Как известно, кабинет Онегина украшало «все, чем для прихоти обильной торгует Лондон щепетильный и по балтическим волнам за лес и сало возит нам». Слово «щепетильный» употреблено здесь в своем первоначальном, прямом значении применительно к товару и подразумевает в данном случае драгоценные мелочи, безделушки, продававшиеся в тех же «аглинских» магазинах, к усладе светских щеголей и щеголих. Надо признать, что английские и вообще иностранные магазины внесли немаловажный вклад в европеизацию русской торговли, в постепенное освобождение ее от таких допотопных приемов, как назойливое зазывание покупателей, обмер, обсчет, запрашивание вчетверо и впятеро против настоящей цены, – словом, от всего того, что веками процветало в торговых рядах. Поговорив о петербургских немцах и англичанах, перейдем к другим материям. Для начала побываем в одном из тихих уголков бывшей Литейной части – в Гусевом переулке, что даст нам повод затронуть тему о старинных названиях и о том, стоит ли их возвращать. Но сперва об истории переулка. Гусев переулок Это название исчезло из городских справочников после декабря 1952 года, когда районные власти решили увековечить память героини-комсомолки Ульяны Громовой дешевым и испытанным способом, переименовав в ее честь скромный и малоизвестный переулок между Знаменской (ныне Восстания) улицей и Лиговским проспектом. Почему Гусев переулок стал так называться? Да потому, что самым большим и заметным там был дом купца Гусева, стоявший к тому же на углу. Он-то и служил ориентиром при отыскивании переулка. Впрочем, дом, как и название, появился не сразу. Вначале возник безымянный проезд между «птичным двором», где ныне пролегает четная сторона переулка, и огромным участком И.И. Шувалова, лежавшим напротив. Сведения о «птичном дворе» впервые находим у А. Богданова, в его дополнении к описанию Санкт-Петербурга, относящемся к 1751–1762 годам; он был «состроен» на пустом участке за Итальянским садом около 1752 года, и сюда перевели птиц, содержавшихся прежде вместе с мелкими животными на «зверовом дворе» у Симеоновского моста, «в Хамовой улице», то есть на Моховой. Гусев переулок. Современное фото А в 1761-м фаворит императрицы Елизаветы Петровны Иван Иванович Шувалов получил вблизи этого места громадный участок земли под загородный дом. Выстроенные им деревянные «хоромцы» состояли всего лишь из девяти покоев и оказались маловаты для обширного пустующего пространства, поэтому заботы о «регулярстве» окружающей застройки побудили полицию в 1779 году отдать часть шуваловского участка вдове коллежского асессора Козловой, которая возвела на углу Знаменской, или Офицерской, как она в ту пору звалась, улицы и безымянного переулка каменный двухэтажный дом. Спустя девять лет вдова продает его чиновнице Дьяковой, а у той в 1792-м его покупает петербургский купец Петр Евсеевич Гусев. На сенатском атласе Петербурга 1798 года переулок значится под своим первоначальным наименованием – Литовский, но оно не прививается, и в Адресной книге 1809 года он уже зовется Гусевым. Это и неудивительно: к концу XVIII века участок богатого торговца занимал почти всю правую (считая от Знаменской) сторону переулка и изрядную долю уличного квартала. Он построил на нем четыре каменных и столько же деревянных флигелей; словом, то был воистину Гусев переулок, и Петр Евсеевич царил там безраздельно. По левую же сторону стояло несколько невзрачных деревянных домишек, появившихся на месте распроданного к тому времени по кускам бывшего «птичьего двора». Правда, уже в начале XIX века участок Гусева значительно поубавился; сперва была продана часть, выходившая на Знаменскую (дом № 11), а в 1804-м купец расстался и с угловым домом (№ 13/1), оставив за собой лишь каменный флигель с пустопорожним местом в переулке, окрещенном его именем (ныне участок дома № 3). Покупателем двухэтажного углового дома с садом оказался знаменитый архитектор Иван Егорович Старов, продавший взамен того Гусеву свой дом у Симеоновского моста (наб. р. Фонтанки, 32/1). Возможно, к совершению этой сделки Старова принудили материальные соображения, но возможно и то, что он к тому времени уже не нуждался в таком обширном жилище, каким был построенный по его проекту дом на набережной реки Фонтанки. Так или иначе, сделка состоялась, и семья архитектора перебралась в Гусев переулок. Здесь и скончался И.Е. Старов в апреле 1808 года. После него участком владел его сын Петр, а позднее – вдова сына, умершая в 1851 году, после чего ее наследники жестоко перессорились со своими соседями Яковлевыми, подавшими на них в суд за «захват чужой земли». В 1882-м дом, как водится, был надстроен, через восемь лет – еще один раз и в таком виде дошел до нашего времени. В середине XIX века Гусев переулок представлял собой отдаленную окраину: половина домов – деревянные, по обеим сторонам длинные заборы, скрывавшие неказистые служебные постройки. Зато вдоволь было зелени, чуть не при каждом доме – сад, иногда довольно большой. И жизнь здесь текла тихая, размеренная и спокойная, во многом схожая с той, какую вели обитатели соседних Песков, в то время совсем уж глухого захолустья. В июне 1867 года мирное существование жителей Гусева переулка неожиданно потрясло страшное событие – злодейское убийство целого семейства – майора Ашморенкова с женой и сыном-кадетом вместе с двумя их слугами, – проживавшего на первом этаже дома № 2/15. Все они были зарезаны во время сна. Виновницей оказалась женщина – прачка Анфиса, ранее служившая у майора и попросившаяся переночевать у своих бывших хозяев. Это преступление, совершенное из корыстных побуждений, наделало в ту пору немало шума и было раскрыто знаменитым сыщиком Иваном Путилиным. На другом углу четной стороны переулка, на пересечении его с набережной Лиговского канала, до 1854 года находился изрядных размеров сад купчихи Ефросиньи Щукиной со стоявшим в глубине его двухэтажным деревянным домом. После смерти владелицы наследники продали участок некоему Ф.П. Сливчанскому, который выстроил на нем ныне существующий четырехэтажный доходный дом (пятый этаж добавлен позднее) довольно безликой архитектуры. Зимой 1873 года здесь поселился Ф.М. Достоевский с семьей, наняв квартиру на втором этаже, окнами на Лиговку; здесь же он начал писать роман «Подросток», позднее опубликованный в «Отечественных записках». Однако отношения писателя с хозяином дома не заладились. «Это был старичок очень своеобразный, с разными причудами, которые причиняли Федору Михайловичу и мне большие огорчения», – пишет в своих воспоминаниях А.Г. Достоевская. Сам же Федор Михайлович в одном из писем к жене от 19 августа 1873 года выражается об этих причудах гораздо резче и определеннее: «Сливчанский – это какой-то помешанный… Встает чем свет и целый день ходит по всем лестницам и по всему дому, шпионит и порядки производит… Положительно говорю – не хочу оставаться на этой квартире… Желал бы нанять хоть на Песках, только бы не жить в этом доме…» Очевидно, фигура домовладельца, которого Достоевский всячески старался избегать, опасаясь «истории», все же в какой-то степени послужила материалом для творческой фантазии писателя и в этом смысле оказалась не бесполезной. В мае 1874 года Ф.М. Достоевский уезжает на лечение за границу и больше уже в дом Сливчанского не возвращается. К концу XIX века Гусев переулок стал таким, каким его видим сегодня: застроенный большими пятиэтажными домами в эклектическом стиле, очень петербургский по своему облику, он напоминает узкий коридор между громоздкими, дедовскими шкафами. И особенно странным кажется его нынешнее наименование, которое, разумеется, не пристало, да и никогда не пристанет к нему, потому что приклеено насильно, а значит, непрочно, без учета законов русского языка и языковых традиций. Пришла пора немного отдохнуть от воображаемого путешествия по питерским улицам и переулкам и поразмышлять о том, почему одни названия выговариваются легко и ловко, не цепляясь за язык, а другие доставляют почти физическое неудобство, как плохо сшитая обувь? Стоило ли переименовывать улицы в Советскую и Социалистическую, лишая их исконных, исторических названий? Разумно ли вообще навязывать топонимам идеологическую нагрузку или присваивать их в чью-то честь? Обо всем этом далее. «Позолота сотрется…» Чем ценны старинные наименования? Тем, что они накрепко связаны с особенностями или приметами обозначаемых ими мест. По ним, как по карте, можно проследить историю расселения первых обитателей Петербурга (Дворянская, Посадская, Мещанская), их занятия (Монетная, Ружейная, Литейная, Пушкарская), характер местности (Песчаная, Болотная), специфику торговли (Мясная, Дровяная, Сенная). Нередко название велось от фамилии домовладельца, которому принадлежал угловой или особенно заметный дом. Так возникли Гороховая улица, Гусев и Зимин переулки, а также многие-многие другие. Стихийно возникавшие названия никогда не присваивались в честь какого-либо лица или события, а служили исключительно для ориентирования в городе и всегда имели форму согласованного определения, обычно прилагательного; не переулок Гусева, а Гусев переулок, не мост Харламова, а Харламов мост и т. д. Информативность, краткость, удобопроизносимость – вот что было важно. Конечно, со временем многие первоначальные наименования утрачивали прямой смысл, становясь своего рода памятниками прошлого. Первая волна массовых переименований прокатилась по столице в конце 1850-х, когда целый ряд улиц и переулков получил названия городов и рек России, остзейских губерний и Финляндии. В результате Петербург наводнился бесчисленными Лифляндскими, Роченсальмскими и Гельсингфорсскими… Хотя тогдашние переименования были оправданы существованием множества одноименных улиц и переулков, они все же привели к достойным сожаления утратам. Так, Бочарная улица, напоминавшая о слободе пивоваров, возникшей еще в петровские времена, превратилась в безликую Симбирскую (ныне ул. Комсомола), а колоритная Шестилавочная сделалась скучновато-абстрактной Надеждинской (ныне ул. Маяковского). Но вот над страной пронесся революционный шквал и повлек за собой несчетные, большей частью совершенно бессмысленные переименования, смахивавшие на какие-то диковинные псевдонимы или партийные клички. Нахлынули целые толпы «Красных Текстильщиков», «Красных Командиров» в сопровождении «Союза Печатников» и прочих «союзов»; они расселись на номерных знаках и табличках, знаменуя собой новую эпоху. Названиям стали силком навязывать идеологическую нагрузку, нимало не заботясь об их главнейших свойствах, а рассматривая как еще одно средство наглядной агитации. Минули годы, революционный пыл поугас, а затем и вовсе сошел на нет, а Советская и Социалистическая улицы остались – кому приятным, а кому и не очень приятным напоминанием о прошлом. Стоит ли возвращать им прежние названия? Думаю, что стоит. И еще об одном. Стремление «отречься от старого мира» приводило к нигилистическому отречению от собственной истории, а желание увековечить память о героях и выдающихся личностях удовлетворялось (и удовлетворяется) простым и испытанным способом – присвоением их имен улицам, площадям и набережным, да еще с забвением исконных, исторических названий, да еще в форме несогласованных определений! К примеру, не Тюленинский переулок, а непременно переулок Сергея Тюленина или улица Петра Алексеева вместо простых, исконных – Зимина и Спасского переулков. Зачем было переименовывать старинный Гусев переулок в переулок Ульяны Громовой? Славы это героине не прибавило, а горожан принуждает к косноязычию и уродованию родной речи. Ведь на вопрос «Где ты живешь?», заданный кому-нибудь из обитателей бывшего Гусева переулка, вы непременно услышите в ответ ужасную по своей бестолковой и даже кощунственной нелепости фразу: «На Ульяны Громовой». Таков непреложный языковой закон: устная речь стремится к краткости, и слова частого, повседневного употребления, каковыми являются городские названия, абсолютно непригодны к прославлению кого или чего бы то ни было, потому что затираются быстро, как медные пятаки, совершенно утрачивая возвышенный смысл, который насильно пытаются в них вкладывать. И тут уж ничего не поделаешь. Прав был великий Андерсен: «Позолота сотрется, свиная кожа остается!» Вдоль по речке Негодяйке Под плотной корой современных городских наименований, порой совершенно отвлеченных, ничего не говорящих ни уму, ни сердцу, часто таятся сочные народные словечки и прозвища, повествующие о ранней истории данной местности. Изучая объявления в «Санкт-Петербургских ведомостях» XVIII – начала XIX века, становишься свидетелем непрерывного процесса образования новых названий, словно попадаешь в некую топонимическую литейную: одни словесные заготовки еще не остыли, не затвердели, они изменчивы и непостоянны; другие уже обрели свою окончательную форму, которую сохраняют и по сию пору. Одновременно шел естественный отбор, что-то отсеивалось, отпадало, заменяясь новым, более метким и запоминающимся. Возьмем, к примеру, Разъезжую – так она звалась еще с 1730-х, когда была простой дорогой. Но вот у этого названия появился соперник: в конце 1770-х годов при урегулировании полковой Преображенской улицы (позднее она звалась Грязной, затем Николаевской, ныне это улица Марата) вырубили большой участок леса вблизи пересечения ее с Разъезжей, и на образовавшемся пустыре, «на новых пеньках», построили столь нужный окрестным обывателям деревянный Ямской рынок. Спустя некоторое время Разъезжую все чаще стали именовать Большими Пеньками – видать, немало их осталось на месте вырубки. «У Владимирской… в улице Больших Пеньках, что от Чернышева переулка идет к мясному ряду, продается лошадь». Подобные объявления можно было часто встретить в газете с середины 1780-х до начала 1800-х годов. А потом первоначальное название все же одержало верх и навсегда утвердилось за улицей. В Коломне некогда существовали две улицы, которые из-за природного рельефа именовались Бугорками, одна – Малым, другая – Большим. В объявлениях так и писали: «На Большом бугорке, в доме купца Киреева, у отъезжающего продается девка 20 лет» (Санкт-Петербургские ведомости. 1787. № 77). Или: «Продаются… лошади. Спросить об оных в малой Коломне на Малом бугорке, в доме полковницы Гавриловой…» (Санкт-Петербургские ведомости. 1811. № 12). Названия эти оставались как бы неофициальными, просторечными, и, может быть, в этом их особая прелесть. Официально же улицы именовались Хлебной (Большой Бугорок) и Упраздненной (Малый Бугорок), а с 1859 года – Витебской и Псковской. Из объявлений также видно, что в одно время в Петербурге было значительно больше рек, чем теперь, причем некоторые из них носили весьма необычные и самобытные названия. Слышал ли кто-нибудь, например, о речках Металовке, Негодяевке или Саморойке? Название Металовка – нерусского происхождения, да и к металлу не имеет никакого отношения. Когда-то неподалеку от устья Фонтанки находилась финская деревушка Метилле, а рядом с ней – маленькая речонка. В первые годы существования Петербурга этот населенный пункт звался просто «чухонской деревней» (так она значится на плане Зихгейма 1738 года), но спустя два десятилетия финское название обрусело и превратилось в деревню Металову, а безымянная речушка – в Металовку. В одном из июньских номеров «Ведомостей» за 1758 год можно встретить такое объявление: «Лейб-гвардии Измайловского полку капитана Е. Щербинина желающим нанять… двор, состоящий за Измайловским парадным местом при деревне Металове на речке Металовке… могут осведомиться у оного капитана». Еще на исходе XVIII века в столице существовала Металловская улица (см. «Описание Петербурга» И. Георги), но речка к тому времени приобрела, неизвестно по какой причине, совсем уж свойское название – Таракановка. В 1900-х ее частично засыпали, а образовавшуюся улицу нарекли Таракановской. Ныне это улица Циолковского. М.Я. Виллие. Угол Кирочной и Потемкинской улиц Схожий конец ожидал и речку со столь выразительным прозвищем Негодяевка. Впрочем, у тех, кто его дал, вероятно, и в мыслях не было намекать на то, что по ее берегам обитают исключительно негодяи; скорее оно относилось к ни на что не годной, на их взгляд, речушке, где и рыба-то вряд ли водилась. Протекала Негодяевка (или Негодяйка, как она обозначена в справочной книге «Нумерация домов в С.-Петербурге» 1836 года) «с Выгонного поля, чрез Бабурин переулок (ныне улица Смолячкова), Сампсониевский проспект и Зеленков переулок до Б. Невки». В середине XIX века часть теперешней Беловодской улицы, выходившая к Большой Невке, именовалась Негодным переулком, который, несомненно, обязан был своим обидным прозвищем близкому соседству все той же Негодяевки, или Негодяйки. К 1849 году средняя ее часть была уже засыпана и оставались лишь начало и конец; через место ее впадения в Большую Невку был перекинут мостик. Окончательно речка Негодяйка исчезает с городских планов только в 1900-х годах, после застройки кварталов между Бабуриным переулком и новообразованной Тобольской улицей. Что касается Саморойки, которая, судя по названию, сама (хотя и не без помощи людей) прорыла себе русло, то она вытекала из Лиговского бассейна, устроенного для снабжения водой фонтанов Летнего сада, и, как видно на плане 1738 года, первоначально впадала в небольшой естественный водоем, сообщавшийся с Невой; надо полагать, что таким образом в бассейне поддерживался постоянный уровень воды. Позднее Саморойку стали использовать для подпитки прудов Таврического сада, и еще в 1890-х она пересекала Кирочную и Виленский переулок, но в начале XX века речку заключили в трубу, и теперь о ней напоминает лишь Фонтанная улица рядом с Мальцевским рынком, проходящая поверх ее русла. Помимо названных, в устной традиции жителей Петербурга бытовало немало и других топонимов, так никогда и не ставших официальными наименованиями. Чаще они относились к природным особенностям данной местности, как, например, Пески, о которых и пойдет речь далее. Пески, переставшие быть Песками Из множества некогда существовавших, пусть и неофициальных, но весьма выразительных городских топонимов – Бугорки, Графский пролом, Большие Пеньки, Костыль, Чекуши, Вшивая биржа и т. д. – до нас дошли единицы, да и те употребляются все реже, постепенно выходя из обихода. Если и можно иной раз услышать Семенцы или Пески, то разве что от старожилов, а молодежь не знает их вовсе. Между тем каждое из перечисленных названий отражает какую-либо особенность данной местности, историческую, бытовую или просто геологическую, как в случае с Песками, сделавшимися невидимыми для глаза под толстыми наслоениями вначале булыжных, а затем асфальтовых мостовых. Именно песчаная почва дала наименование большому, когда-то окраинному участку Петербурга в районе нынешних Советских (до 1923 года – Рождественских) улиц. Двести пятьдесят лет назад здесь обосновалась слобода Конторы строения домов и садов, в которой обитали служащие этого учреждения, а помимо них – многочисленные рабочие и ремесленники, занятые на строительстве дворцов и зданий Придворного ведомства. По свидетельству И. Георги, относящемуся к 1794 году, «слобода… лежит в виде косого четвероугольника на открытом поле, по Лиговскому каналу. Она содержит в себе деревянные жилища… военных и штатских служителей, также церковь Рождества Христова. Улицы здесь почти все немощеные». План Рождественской части В ту пору они выглядели примерно так, как на публикуемом рисунке того времени архитектора Д. Кваренги. Упоминаемая Георги каменная церковь была построена в начале 1780-х в самом центре слободы (теперь на ее месте жиденький сквер на углу 6-й Советской и Красноборского переулка) и сразу сделалась окрестной достопримечательностью. Главной святыней храма стала икона Рождества, слывшая покровительницей Песков. К концу XVIII столетия Рождественская часть, одна из самых незначительных по территории, относилась и к самым малолюдным: здесь проживало всего лишь около 3 процентов жителей столицы. Проходили десятилетия, но жизнь на Песках текла по-старому, хотя состав местного населения претерпел значительные изменения, превратившись из некогда однородного в довольно пестрый и неопределенный. Единственное, что в большой степени уравнивало здешних обывателей, была их бедность. Пески, наподобие столь же захолустной Коломны, обозначали не просто часть города, а образ жизни и даже судьбу. Жить на Песках значило принадлежать к определенной социальной прослойке, обладавшей весьма скромным достатком, но довольной своим жребием и не гнавшейся за теми, кто селился в более богатых и благоустроенных частях столицы. «Надобно пожить на Песках, – утверждал автор описания Петербурга, опубликованного в 1862 году, – чтобы ознакомиться с жизнью их обитателей, большею частью бедных чиновников, отставных военных, вдов, живущих пенсионами, старых дев, оставшихся без родителей. Дешевизна квартир, сравнительно с центральными частями столицы, привлекает сюда этих людей, неприхотливость которых скоро свыкается с отдаленностью этого предместья и грязью его улиц. Странно, что его называют „Пески“, а вместо них встречается только непроходимая грязь, особенно у Лигова канала. Гораздо натуральнее было бы называть „Грязи“, потому что о песках тут нет и помину». Как видим, за годы, прошедшие со времени выхода в свет книги И. Георги, ничего не изменилось, и улицы, в подавляющем своем большинстве, так и остались немощеными. К неудобствам жизни добавлялись, кроме того, плохое сообщение, почти полное отсутствие учебных заведений, недостаток хорошей воды, тусклое масляное освещение, довольно частые пожары, скудость торговли, деревянные мостки вместо тротуаров… Но постепенно и на этой утопавшей в грязи окраине стали происходить кое-какие перемены к лучшему. С 1 октября 1864 года к единственной линии омнибусов, связывавших Пески с прочими частями города, добавилась еще одна, до Троицкого собора на Измайловском проспекте. Эти омнибусы имели на своих боках курьезные надписи: Кирочно-литейно-загородно-измайловские. В 1866 году на Песках с большой торжественностью был открыт сквер, который корреспондент «Петербургского листка» незаслуженно величает садом: «15 августа… был открыт для публики новый сад на Мытнинской площади, устроенный не на счет города, а на счет купца Овсянникова, и которому Высочайше присвоено наименование Овсянниковского. Сад этот занимает довольно обширное место и обнесен чугунною решеткою. Против двух входов, со стороны Песков и со стороны Невского проспекта, устроены два бассейна, посреди которых бьют фонтаны… Посредине сада устроена беседка, предназначенная для вместилища хора музыки. Беседка большая, круглая, отделана в русском вкусе… Тени в саду нет никакой, так как деревья посажены очень маленькие. Несмотря на то что только внуки наши будут наслаждаться тенью Овсянниковского сада, все-таки он составляет истинное счастье для пыльных Песков». Помимо всего прочего, Пески также страдали от некоторой изолированности, что может показаться странным, учитывая их сравнительную близость к Невскому проспекту. Все дело было в том, что, к большому огорчению местных жителей, главная здешняя магистраль – Слоновая улица (ныне Суворовский проспект) – не имела прямого выхода к нему. «Это… единственная у нас порядочно вымощенная, довольно широкая улица, – жаловался в том же году «Петербургскому листку» один из его читателей, – но, к сожалению, упирающаяся в забор, отстоящий в каких-нибудь саженях 20 или 30 от столичной жизни, от Невского проспекта… Если же вывести Слоновую улицу прямо на Невский проспект, то… наших родимых Песков узнать будет нельзя, в особенности когда их осветят газом, а не „курам на смех“…Если, наряду с продолжением Слоновой улицы до Невского проспекта, была бы выведена на этот проспект и Дегтярная, идущая вдоль всех Песков параллельно со Слоновою, то радость наша была бы велика». Церковь Рождества Христова. Западный фасад Однако эти сетования долгое время оказывались безрезультатными; только в 1903 году, вероятно по случаю 200-летнего юбилея Петербурга, городские власти решили наконец преподнести обитателям Песков подарок, соединив Суворовский и Невский проспекты. В это же время облик бывшего захолустья начал коренным образом меняться, о чем свидетельствуют строки из дневника одного столичного жителя: «1903 г. 26 августа. – Строительная горячка, несколько лет назад охватившая наш Богом подмоченный Петербург, продолжает свирепствовать. Везде леса и леса; два-три года тому назад Пески представляли собой богоспасаемую тихую окраину, еще полную деревянных домиков и таких же заборов. Теперь это столица. Домики почти исчезли, на их местах, как грибы, в одно, много в два лета повыросли громадные домины; особенно быстро похорошела третья Рождественская». Перед Первой мировой войной на Песках, помимо конки, ходили уже трамваи трех маршрутов, прочно связавшие эту часть города с остальными. По характеру своей застройки она также ничем от них не отличалась. Вслед за наружными переменами произошли и внутренние: утратив прежний, полупровинциальный облик, Пески потеряли и присущее им своеобразие, а снос в 1930-х годах храма Рождества Христова навсегда лишил их единственной исторической реликвии, напоминавшей о существовавшей здесь слободе строителей, чьими руками создавался Петербург… Среди исчезнувших названий были и такие, чье происхождение связывалось с деятельностью человека. Графский пролом Вероятно, мало кому знакомо это странное название. Так именовалась с середины XVIII века часть Гороховой улицы от Мойки до Большой Мещанской (ныне Казанская улица). Как же оно возникло? В петровские времена, когда Мойка была границей города, места по левому ее берегу отводились под загородные усадьбы приближенным царя. Среди них был окольничий и воевода И.А. Мусин-Пушкин, возведенный в 1710 году в графское достоинство. Его участок простирался за Красным мостом почти до самого Глухого протока (канал Грибоедова). Согласно преданию, Иван Алексеевич был незаконнорожденным сыном царя Алексея Михайловича, который, бывало, под веселую руку называл его «мой сын Пушкин». Не отрекался от этого родства и царь Петр. Посылая сына Ивана Алексеевича для обучения за границу, он писал князю Борису Куракину: «Посылаем мы к вам для обучения политических дел племянника нашего Платона…» Платон Иванович Мусин-Пушкин, впоследствии президент Коммерц-коллегии и сенатор, унаследовавший участок отца, был человеком очень талантливым, блестяще образованным; за участие в кружке «конфидентов» Артемия Волынского его приговорили в 1740 году «к урезанию языка» и ссылке в Соловецкий монастырь, где он и скончался. От него и повелось название Графский пролом: на фиксационном плане Петербурга 1737 года видна просека («пролом»), проложенная через участок графа от реки Мойки до Глухого протока по трассе будущей Гороховой улицы. В 1738-м она была соединена со вновь образованной «Средней проспективой» в одну магистраль, но долго сохраняла свое народное название. Дальнейшая судьба Графского пролома связана с историей двух старинных барских усадеб по обеим его сторонам. После того как имущество сосланного Платона Ивановича было конфисковано, бывшие владения графа на левом берегу Мойки перешли к двум его родственникам – Аполлосу Эпафродитовичу Мусину-Пушкину и князю Никите Юрьевичу Трубецкому. Первому досталась незастроенная часть участка по левую руку от Красного моста (где ныне дом № 54/18 по набережной реки Мойки), а второму – по правую, от Гороховой до Демидова переулка, с каменным домом в глубине и служебными постройками. В 1749 году указом императрицы Елизаветы участок А.Э. Мусина-Пушкина был у него отобран, поскольку он не возвел на нем никакого строения, и отдан будущему фельдмаршалу и графу А.Б. Бутурлину, о котором его правнук М.Д. Бутурлин написал в своих «Записках», что «он был прямодушный, хороший во всех отношениях человек и усердный христианин, но не особенно даровитый в военном искусстве, а взыскан был милостями дочери Петра, как ее когда-то фаворит». Новый владелец выстроил деревянный усадебный дом, далеко отступя от «красной линии», как было принято в то время. Внешний вид этого здания, исчезнувшего еще в конце XVIII века, можно видеть на аксонометрическом плане Сент-Илера – Соколова 1764–1773 годов. На том же плане изображен и новый дом, построенный уже по «красной линии» и выходивший на Мойку и Гороховую улицу. Фасад его оформлен в стиле раннего классицизма, что позволяет датировать постройку началом 1770-х. Очевидно, возводил его уже сын Бутурлина – Петр Александрович, так как старый граф скончался в 1767 году. С 1774-го по 1778-й здесь помещался Английский клуб. Наиболее интересной фигурой среди графов Бутурлиных, несомненно, был следующий и одновременно последний владелец из этого рода – Дмитрий Петрович Бутурлин (1763–1829), известный не только в России, но и в Западной Европе библиофил, собиратель уникальной библиотеки в 30 тысяч томов. Правда, жизнь этого незаурядного человека связана в основном с Москвой, куда он переехал, продав в 1797 году свой участок купцу Кусовникову, который значительно увеличил главное здание новыми пристройками. Большой зал в доме Кусовникова привлек внимание членов вновь образованного Музыкального общества, и они в том же 1792-м сняли его для устройства концертов и «маскерадов». Об одном из таких концертов «Санкт-Петербургские ведомости» сообщали своим читателям следующее: «Начнется оный большою симфониею г. Гейдена, после которой славный г. Гезелер будет играть концерт на фортепиано. Потом будут петь несколько арий, и после оных кончится концерт торжественною музыкою сочинения г. Сарти с роговою музыкою и с хорами». В 1817-м Кусовников продал дом Училищу глухонемых. Свой нынешний вид он приобрел в 1840-х годах, после перестройки архитектором П.С. Плавовым, и в настоящее время входит в комплекс зданий Педагогического университета. Что до генерал-прокурора князя Н.Ю. Трубецкого, к которому отошла вторая часть конфискованных владений, то он не заслужил столь снисходительных оценок, как А.Б. Бутурлин. Известный историк XVIII века князь М.М. Щербатов называет его человеком умным, но чрезмерно честолюбивым, пронырливым, злым и мстительным. Другой же из хорошо знавших его, канцлер А.П. Бестужев-Рюмин, говаривал, что у Никиты Юрьевича душа истинно золотая, потому что, кроме золота, он никогда ничего не любил. Трубецкой расширил и перестроил дом сосланного сенатора, придав ему тот вид, который запечатлен на чертеже из коллекции Берхгольца, хранящейся в Национальном музее в Стокгольме. За домом был разбит регулярный сад, а на набережную реки Мойки выходили два одноэтажных флигелька, соединенные красивой оградой. После Трубецкого усадьбой долго владел двоюродный брат царицы Елизаветы, М.К. Скавронский, наследники которого продали участок в 1780 году купцам Петру и Михаилу Кусовниковым, а в начале XIX века он перешел к купцу Христофору Талю. Здесь около двадцати лет размещался Английский клуб, затем Третье отделение… Ресторан «Контан», наб. р. Мойки, 58. Начало XX в. В конце прошлого столетия в старинном особняке открылся популярный впоследствии ресторан «Контан», фотографическое изображение которого дошло до наших дней. На снимке хорошо виден неоднократно перестраивавшийся бывший усадебный дом и два уже упоминавшихся флигеля. В 1913-м, в связи с постройкой по проекту архитектора Р.Ф. Мельцера существующего доходного дома (наб. р. Мойки, 58), флигеля были разобраны. Здание же ресторана уцелело и продолжало использоваться для тех же целей. Снесли его уже в советское время, и ныне от усадьбы не осталось и следа. Углубившись в историю усадеб, находившихся некогда по сторонам Графского пролома, мы немного отвлеклись от темы о происхождении городских названий, а между тем она далеко не исчерпана. В следующей главе поговорим о «кабацкой топонимике». Поцелуев и другие Вы никогда не задавались вопросом: сколько наименований в Петербурге повелось от питейных домов? Кабак всегда играл важную роль в жизни народа; туда заходили погреться, отдохнуть, выпить стаканчик-другой, излить душу перед приятелем… Кабаки, как правило, открывали на перекрестках улиц, у мостов и перевозов – словом, в тех местах, где всегда было людно и оживленно. Самыми усердными их завсегдатаями были кучера и извозчики, которым приходилось подолгу стынуть на морозе, поджидая хозяев или седоков. Правда, для них на некоторых улицах и площадях устраивались специальные очаги для обогрева, но, во-первых, это благодетельное нововведение началось лишь со времен Екатерины II, а во-вторых, такие очаги сооружались отнюдь не на каждом шагу, тогда как кабак всегда был под рукой: на углу Фонарного переулка и Офицерской – «Фонарный», у Поцелуева моста – «Поцелуй», у Кашина моста – «Кашин» и т. д. Кучерам и извозчикам важно было иметь ориентиры, чтобы ехать в нужном направлении: «Куда прикажете везти, барин?» – «В Никольскую улицу!» – «Это что у Харламова кабака, не доезжая Кашина? Пожалуйте двугривенный». Кстати сказать, дома в Петербурге стали обозначаться номерами только с 1780 года. Но и после этого, чтобы дать понять, к примеру, о местонахождении лавки, в газетных объявлениях писали: «На Сенной, напротив Кокушкина кабака, в доме Комиссара Бушератова… продается рыба в маленьких бочонках» (Санкт-Петербургские ведомости. 1783. № 8). От Кокушкина кабака в доме купца Кокушкина и переулок, в котором он находился, и близлежащий мост тоже стали именоваться Кокушкиными. А вот другой пример. Некий итальянец Лукини вознамерился «обучать у себя на дому играть на клавикордах и петь» (Санкт-Петербургские ведомости. 1788. № 12); тем, кто пожелал бы отдавать своих детей учиться, он сообщал, что живет «в Офицерской улице, в доме под № 436, близ Фонарного питейного дома», будучи уверен в надежности данного ориентира. Со временем питейный дом перестал существовать, но название за переулком, на углу которого он находился, сохранилось по сей день. Некогда на углу Стремянной улицы и Владимирского проспекта помещался так называемый «Ведерной кабак», где водка отпускалась ведрами. Название кабака чуть было не утвердилось за улицей, что видно из следующего объявления: «В Московской части, в приходе церкви Владимирской Богородицы, в Ведерной, или Стремянной, улице желающим купить деревянный дом капитана Андрея Наумова, о цене спросить в том же доме» (Санкт-Петербургские ведомости. 1770. № 90). Некоторое время употреблялись оба названия, но в конце концов победило более старое, как это уже было с Разъезжей улицей. Нагляднее всего процесс образования названия от питейного дома можно проследить на примере с Поцелуевым мостом. С 1738 года на этом месте существовал деревянный пешеходный мост, перестроенный тридцатью годами позже для транспортного движения. Некоторое время он именовался Желтым – по цвету окраски. Но вот в начале 1770-х купец Поцелуев открыл в каменном двухэтажном доме надворного советника Вахтина, стоявшем у самого моста, на месте дома № 100 по набережной реки Мойки, кабак, который сразу завоевал популярность из-за своего выгодного расположения. Вскоре он стал служить ориентиром. Первое упоминание о нем содержится в № 30 «Санкт-Петербургских ведомостей» за 1774 год: «Сего месяца 12-ого дня едучи от Поцелуева кабака к каменному мосту потеряна записная книжка…» Вторично с этим названием встречаемся пятью годами позже, когда оно уже успело принять иную, более краткую форму – «Поцелуй». Отсылая возможных посетителей к дому графа Андрея Петровича Шувалова (нынешний адрес – наб. р. Мойки, 94), податель объявления уточняет его местонахождение: «…по Мойке, неподалеку Поцелуя кабака» (Санкт-Петербургские ведомости. 1779. № 32). На плане Петербурга 1792 года это название уже переходит на мост через Мойку, который значится там под тем же выразительным названием «Поцелуй». Но эта форма, как слишком уж поэтическая и необычная, не привилась и постепенно видоизменилась в привычное для нашего уха название – Поцелуев мост, хотя и оно в свое время послужило источником для разных фантастических истолкований. Но пожалуй, ни в одной другой части города не осталось столько «кабацких» наименований, как на Петроградской стороне: Теряева, Плуталова, Шамшева, Барочная, Гулярная, Полозова – таков неполный список улиц, получивших прозвища от расположенных на них питейных домов. Причиной тому, скорее всего, отсутствие на них более примечательных построек. Не надо забывать, что Петроградская (Петербургская) сторона в прежние времена, застроенная почти исключительно низенькими деревянными домишками, напоминала собой глухую провинцию. Обилие же кабаков объясняется размещением там гарнизонных полков – Невского (Колтовского), Белозерского, Копорского, солдаты которых охотно посещали такого рода заведения. Порой городские легенды так перемешаны с историческими фактами, что отличить правду от вымысла бывает совсем не просто. В самом центре Петроградской стороны затерялась улица с неприметным наименованием Лахтинская. Она получила его в 1887 году, а прежде, начиная с конца XVIII века, звалась Петровской, Петрова, но чаще – Андрея Петрова. Название с вывески В наше время последнее не вызвало бы ни малейшего удивления; поэтому, думаю, сохранись оно доныне, многие бы решили, что его присвоили в честь известного петербургского композитора. Однако до 1880-х такая форма увековечения была не принята, и за редчайшими исключениями, вроде Екатерининского канала да еще Николаевской улицы, вы не найдете подобных примеров. Редкие, слабые попытки присвоить официальное название по имени царственной особы обычно успеха не имели. К чести тогдашних властей нужно сказать, что они не настаивали на своем выборе и утверждали устоявшиеся народные прозвища. К примеру, построенный в 1780-х в ряду семи прочих однотипных переправ через Фонтанку каменный Чернышев мост поначалу был также назван Екатерининским, но уже через десяток лет за ним оставили прочно приставшее название по одноименному переулку. Городские топонимы, в том числе и образованные от имен собственных, возникали самопроизвольно и служили отнюдь не прославлению данных лиц, а всего лишь для лучшего ориентирования и запоминания. Владельцы наиболее примечательных, чаще всего угловых домов, содержатели усердно посещавшихся питейных заведений и лавок нередко имели удовольствие видеть свои имена запечатленными в названиях. Отметим при этом, что последние отличались краткостью, удобопроизносимостью и имели форму согласованного определения: Мошков переулок, Кокушкин мост. То же самое происходило и на захолустной в ту пору Петербургской стороне, почти сплошь застроенной одноэтажными деревянными домиками, лишь изредка перемежавшимися более представительными зданиями. Размещавшиеся здесь гарнизонные полки стали причиной того, что многим окрестным улицам вместо названий присвоили порядковые номера по батальонам и ротам, что, естественно, не устраивало местных жителей, которые стремились заменить их чем-то более запоминающимся. Наиболее верными и надежными маяками в лабиринте не богатых достопримечательностями окрестных улочек служили бесчисленные кабаки, как правило называвшиеся по фамилиям содержавших их откупщиков или домохозяев – Теряев, Полозов, Шамшев, Плуталов и т. д. Они же дали наименования улицам, сохранившим их на протяжении более чем двух столетий. Что же касается улицы Андрея Петрова, то, вероятно, именно необычность названия из двух слов, да еще в форме несогласованного определения, породила легенду о его возникновении. Впервые ее приводит в очерке «Петербургская сторона», опубликованном в 1844 году в альманахе «Физиология Петербурга», второстепенный литератор «натуральной школы» Е.П. Гребенка. В игривом тоне он излагает историю весьма почитаемой в народе Ксении Блаженной, будто бы проживавшей в свое время на этой улице, названной так в ее память. Согласно преданию, она была женой придворного певчего Андрея Федоровича Петрова, состоявшего в чине полковника, и приобрела известность во времена императрицы Елизаветы Петровны. Овдовев в молодых летах, Ксения раздала свое имущество бедным, надела на себя одежду покойного мужа и под его именем странствовала сорок пять лет, не имея постоянного пристанища. В журнале «Русская старина», в историческом очерке, посвященном Смоленскому православному кладбищу, автор, священник отец Стефан Опатович, рассказывая о сохранившейся там могиле Ксении Блаженной, также утверждает, что «главным местопребыванием служила для нее Петербургская сторона… где одна улица долго называлась ее именем», имея в виду все ту же улицу Андрея Петрова, о которой пишет Гребенка. На самом деле происхождение названия, как это обычно бывает, оказалось проще и прозаичнее. В этом убеждает объявление, помещенное в № 5 «Санкт-Петербургских ведомостей» за 1789 год: «На Санкт-Петербургской части, по малому проспекту, между казенными питейными домами, называемыми Шамшиным и Полозовым, в 4-м батальоне по 6-й линии продается деревянной дом с лавкою и с принадлежащим к нему строением, с садом, плодовитыми деревьями, яблонями, вишнями и огородом. Желающие оной купить, могут спросить хозяина, Подпоручика Андрея Петрова, живущего в том доме». Указанное местоположение участка Петрова в точности соответствует местоположению улицы, получившей в скором времени свое название. Разумеется, в этом нет никакой заслуги гарнизонного служаки: все дело в лавке, над входом в которую, надо полагать, крупными буквами значились имя и фамилия владельца. Ничего более примечательного не нашлось, и надпись с вывески на долгие годы перешла в название улицы. В Литейной части, как уже знаем, находились казармы гвардии Преображенского полка, чье пребывание тоже оставило свой след в ряде названий (Парадная улица, Фуражный, Госпитальный и Солдатский переулки); многие из них не сохранились: бывшая 9-я рота превратилась сначала в Бассейную, а затем в улицу Некрасова, Преображенской уже в советское время, неизвестно по какой причине, присвоили имя Радищева, а некоторые со временем забылись или подверглись переосмыслению, изменив первоначальное название. Озерной или Озеров? Есть в Литейной части небольшой переулок, пролегающий между бывшей Знаменской улицей (ул. Восстания) и Лиговским проспектом; он носит немного странное наименование – Озерной. Откуда оно взялось? Никаких озер здесь никогда не бывало, а объяснение, содержащееся в известной книге К. Горбачевича и Е. Хабло, согласно которому «он был так назван в 1825 году по находившимся недалеко от него бассейнам Лиговского канала», выглядит не особенно убедительным. Во-первых, название Озерной появилось не в 1825-м, а гораздо раньше: оно приводится еще в «Санкт-Петербургской адресной книге на 1809 год», а во-вторых, два прямоугольных водоема, большой и малый, некогда существовавшие на месте Некрасовского сквера и питавшие фонтаны Летнего сада, мало походили на озера и вряд ли могли послужить основанием для подобного наименования. План Литейной части В сенатском атласе Санкт-Петербурга 1798 года оно звучит иначе: не Озерной, а Озеров переулок; проходивший же параллельно Хлебный (ныне Ковенский), оказывается, изначально назывался Хлебниковым. Чтобы понять причину таких метаморфоз, следует обратиться к истории возникновения этих переулков, а также нескольких других, расположенных по соседству. При устройстве в 1740-х годах слободы лейб-гвардии Преображенского полка между нынешними улицами Жуковского и Кирочной проложены были десять параллельных им переулков, застроенных деревянными «связями», или «светлицами». О том, что представляли собой эти казарменные помещения, можно понять, читая, к примеру, «Записки» графа Е.Ф. Комаровского: «В царствование императрицы Екатерины солдаты гвардейских полков жили в так называемых светлицах; светлица была деревянная связь, разделенная сенями пополам, и состояла из двух больших покоев; в каждом из них помещались и холостые, и женатые солдаты. Между строением находилось довольно большое пространство пустой земли, которая занималась огородами. Светлицы выстроены были по обеим сторонам улицы, в линию, и в каждой из оных квартировала одна рота, а потому и теперь называют еще улицы, находящиеся в гвардейских полках, по номерам живших тогда в оных рот. Офицеры жили в больших деревянных связях: у богатых и у женатых оные были прекрасно убраны». При Павле I безымянным доселе слободским переулкам присвоили имена; три из них стали называться по угловым офицерским светлицам – Путятин, Хлебников, Озеров. Обращение к спискам офицеров, служивших в конце XVIII – начале XIX века в Преображенском полку, подтвердило наличие в них таких фамилий. Интересно, что потомки прапорщика Путятина, чье жилище стояло некогда на углу одноименного переулка и прежнего Среднего проспекта, или Шестилавочной (ныне ул. Маяковского), владели участком до 1860-х годов, когда сам переулок в этом месте давно уже исчез под позднейшей застройкой. Вообще, многие улицы и переулки бывшей Преображенской слободы со временем сильно укоротились, хотя все десять налицо. Это нынешние Солдатский (часть бывшего Путятина переулка), Ковенский, Озерной, улица Некрасова (быв. Бассейная, или 9-я рота), Басков, Митавский (и его продолжение – Виленский), Саперный, Гродненский, улица Рылеева (быв. Спасская) и Манежный переулок. С 1798 года, после перевода полка в другое место, освободившиеся участки стали распродавать всем желающим. Постепенно прежние названия заменялись новыми или подвергались переосмыслению: так, уже в 1809 году Хлебников переулок превратился в Хлебный, а к бывшему Озерову пристало видоизмененное Озерной, или Озерный, старое же вышло из употребления и забылось. Забылось и другое название, несмотря на то что оно выбито на мраморной доске, укрепленной на здании Старого Эрмитажа со стороны Зимней канавки у Дворцовой набережной. На ней русскими и латинскими буквами сделана надпись: «Почтовая» – и указаны часть города и квартал (1-я Адмиралтейская, 1-й квартал). Она относится к набережной Зимней канавки (почему доска и обращена в ее сторону), носившей некоторое время наименование Почтовой улицы. В подтверждение можно привести объявление, помещенное в № 17 «Санкт-Петербургских ведомостей» за 1775 год: «Иван Фази, нынешний придворный часовой мастер, живший прежде сего в Неймановом доме, ныне живет в доме Кошелева у Зимней канавки, подле дому Шепелева, что в Почтовой улице». (Дом генерал-поручика Р.М. Кошелева стоял на месте Старого Эрмитажа, а дом обер-гофмаршала Д.А. Шепелева – на месте Нового Эрмитажа. – А. И.) Но почему же набережная Зимней канавки именовалась Почтовой? А дело в том, что к началу 1732 года взамен обветшавшего мазанкового почтового двора, находившегося до пожара 1735 года на месте Мраморного дворца, был построен новый, каменный, более обширный и удобный. Находился он там, где ныне жилой дом бывшего штаба гвардии (ул. Миллионная, 38). Первое упоминание о нем находится в тех же «Ведомостях» в начале 1732 года. В течение последующих пятидесяти лет, до постройки нового здания на Почтамтской улице, все почтовые операции совершались в доме на Миллионной; там же в 1730-х годах происходили и публичные аукционы. Вступив на престол, император Павел распорядился снести старое здание почтамта вместе с двумя другими, смежными, возвести на этом месте экзерциргауз, позднее перестроенный А.П. Брюлловым. От старого почтового двора осталось лишь воспоминание, увековеченное на мраморной доске. Тему о названиях хотелось бы завершить рассказом о трех топонимах, два из которых не объяснены, а один – объяснен неправильно. Майор фон Резен и братья Ждановы В Петроградском районе, между Колтовской (ныне Адмирала Лазарева) набережной и Глухой Зелениной, пролегает небольшая улица с непонятным названием – Резная. Может быть, некогда здесь селились резчики по дереву? Но никаких сведений о такой слободе нет. Да и неоткуда было ей взяться в этой части города, где проживал военный люд, служивший в Невском гарнизонном полку, звавшемся по фамилии его командира Колтовским, и мастеровые, приписанные к зелейному, то есть пороховому, заводу, чем и объясняется первоначальное наименование улицы – Средняя Зелейная. К тому же будь оно образовано от резчиков, то звучало бы по-иному – Резинковая, или Резникова, но никак не Резная. И вот как-то, просматривая в библиотеке «Санкт-Петербургские ведомости» за 1777 год, наткнулся на любопытное объявление: «На Санкт-Петербургской стороне в Колтовской на берегу малой Невки противу рыбной ловли Крестовского острова г. пример-майор (премьер-майор, старший, ибо были еще и секунд-майоры, младшие. – А. И.) фон Резен продает дом… с принадлежащею к оному немалою землею…» Зная, что рыбная тоня (место, где рыбаки забрасывали невод) на Крестовском острове существовала как раз напротив того участка Колтовской набережной, откуда берет начало Резная улица, нетрудно догадаться, что ее название произошло от измененной на русский лад немецкой фамилии Резен. Не одно старинное петербургское название возникло путем замены чужеземного слова понятным и привычным. Вспомним хотя бы такие: остров Голодай – от искаженной английской фамилии Голлидэй; Дунькин (ныне Крестьянский) переулок – столь же свободное переосмысление шотландской фамилии Дункан; или Коломна, происшедшее от слова «колонна», в значении «просека». Примером такой же народной этимологии является и Резная улица. Другое, не объясненное до сих пор название носит Заячий переулок, который находится в Центральном районе, между Суворовским проспектом и Дегтярным переулком. Название это сравнительно недавнее, ему немногим более ста лет. До 1886 года переулок именовался Глухим, а поскольку в других частях города имелись еще два Глухих переулка, в городскую думу было внесено предложение о переименовании его в Слоновый. Напомню, что Суворовский проспект также именовался в то время Слоновой улицей – от расположенного здесь когда-то Слонового двора. Этот вопрос Дума рассмотрела 5 октября 1886 года, и переулок переименовали, но не в Слоновый, как предлагалось, а в Заячий. Очевидно, гласные сочли, что по своей незначительности он не может претендовать на большее. Если же говорить серьезно, то причиной тому было желание избегать одинаковых названий. Тогда еще никто не мог предвидеть, что через четырнадцать лет Слоновая улица превратится в Суворовский проспект. Что касается третьего названия – река Ждановка, то здесь, казалось, была полная ясность. В книге «Почему так названы?» утверждается, что пошло оно от фамилии ученых-мастеров, братьев Ивана и Николая Ждановых, участок которых, полученный ими в XIX веке, тянулся по Петровскому острову, вдоль берега безымянной дотоле речки. Здесь братьями, изобретателями весьма популярной в середине прошлого столетия «ждановской жидкости» для истребления зловония, был построен химико-аптекарский завод. На первый взгляд версия вполне убедительная и не вызывала никаких сомнений до тех пор, пока в тех же «Санкт-Петербургских ведомостях» за 1778 год не было найдено: «Состоящий на Санкт-Петербургской стороне по берегу речки Ждановки близ кадетского шляхетского инженерного корпуса… продается деревянный дом…» Вот тебе и на! Выходит, название речки существовало задолго до появления здесь указанных заводчиков. Но самое интересное заключалось в том, что, как оказалось, название действительно было связано с братьями Ждановыми, только не с Иваном и Николаем, а Иваном и Семеном, жившими здесь не в начале XIX века, а на сотню лет раньше, и не на Петровском, а на Петербургском острове. Вот какие бывают совпадения! А выяснилось это следующим образом. В предисловии ко второму тому сочинений известного экономиста и публициста петровского времени И.Т. Посошкова, изданному в 1863 году, приводятся выдержки из показаний, данных Посошковым в 1725-м в Тайной канцелярии, вскоре после ареста (после смерти Петра I он подвергся несправедливым обвинениям и кончил жизнь в Петропавловской крепости): «А в допросе сказал, недвижимого у него, Ивана, имения в Санкт-Петербурхе на санктпетербургском острову, в Малой Никольской улице, двор его в приходе церкви Успения Пресвятой Богородицы с деревянным строением, который он, Иван, на свое имя купил в прошлом 716 и 717 году… у подьячих Ивана да Семена Ждановых, дал 400 рублев…» Церковь Успения стояла на месте нынешнего Князь-Владимирского собора на проспекте Добролюбова, а Малая Никольская улица проходила примерно там, где теперь улица Блохина (быв. Церковная). Вот этот-то дом братьев Ждановых, перешедший к Посошкову, стоимостью в «400 рублев» – немалые деньги по тому времени, – и явился тем заметным ориентиром, который дал название речке. Как читатель, вероятно, уже заметил, очень часто отвечать на возникающие вопросы помогают объявления, публиковавшиеся на протяжении многих десятилетий «Санкт-Петербургскими ведомостями» XVIII–XIX веков. Трудно переоценить значение этого источника для историка города. В подтверждение своих слов приведу два примера, когда неожиданные находки на страницах газеты помогали установить авторов произведений, считавшихся доселе работами неизвестных мастеров. Два памятника – две судьбы Среди надгробных монументов Александро-Невской лавры этот неизменно привлекает внимание: фигура плакальщицы с урной у сломанного дерева, крест, якорь – вся эта романтическая атрибутика словно намекает на существование некой тайны, будит воображение. Надгробие А.Я. Охотникова. Скульптор – Ф. Тибо, 1807 г. Надгробие и в самом деле связано с загадочной историей несчастной любви супруги императора Александра I Елизаветы Алексеевны и красавца кавалергарда Алексея Яковлевича Охотникова (1781–1807), поплатившегося жизнью за свою роковую страсть. Памятник был установлен самой императрицей и во всех печатных изданиях именуется «работой неизвестного мастера начала XIX века». И вот однажды в «Санкт-Петербургских ведомостях» за 1815 год, в № 65, обнаружилось любопытное объявление: «Скульптор Франц Тибольт объявляя чрез сие, – что неизвестной ему особе из числа почтеннейшей здешней публики нравится сделанный им лейб-гвардии Преображенского полка для офицера Охотникова памятник, поставленный в Невском монастыре, – вызывает сию особу для удовлетворения ее желания пожаловать явиться к нему Литейной части 2-го квартала, по Моховой, в доме купца Барсукова под № 117 (нынешний адрес – ул. Моховая, 31. – А. И.). …При том извещает он, что кроме сего памятника есть у него и другие готовые, кои можно получать от него за сходную цену, а равно заказывать ему лепную работу». Прочтя это, я сразу подумал, что речь идет о надгробии А.Я. Охотникова, но почему-то податель объявления называет его офицером Преображенского полка, в то время как Охотников служил в Кавалергардском. А.Я. Охотников Что это, случайная ошибка, объясняющаяся тем, что со времени создания памятника прошло уже восемь лет, или был другой Охотников, преображенец? Пришлось обратиться к спискам офицеров Преображенского полка, служивших в нем в конце XVIII – начале XIX века. Оказалось, что офицера с такой фамилией в них нет. Значит, все же памятник принадлежит тому самому Охотникову и скульптор просто ошибся. По-видимому, надгробие стало вызывать интерес уже вскоре после своего создания; вероятно, имелись и копии с него. Как можно понять из того же объявления, мастер, по желанию заказчика, готов был повторить свое произведение. Франц Тибольт, как он сам себя называет, следуя тогдашнему русскому произношению, часто коверкавшему иностранные имена и фамилии, а на самом деле Франсуа Тибо, помимо знаменитого надгробия оставил и другой заметный след в нашем городе. В книге «С.-Петербург в конце своего первого столетия», опубликованной на немецком языке в 1805 году и до сих пор полностью не переведенной, ее автор, Реймерс, называет Франсуа Тибо создателем пяти скульптурных барельефов на аттике северного фасада Инженерного замка, выходящем в сторону Летнего сада, на Мойку. В них прославляются добродетели правителя: справедливость, милосердие, мудрость и т. д., облеченные в форму классических аллегорий. Эта работа была выполнена мастером в 1798 году, что подтверждается архивными источниками. Типография Академии наук. Современное фото Прибыв из Франции, Тибо, похоже, всю оставшуюся жизнь прожил в России. По крайней мере, в архиве хранятся документы, свидетельствующие о том, что еще в 1836 году некий Ф. Тибольт исправлял статуи на крыше Александрийского театра. Если это не тезка и не однофамилец, то мастера можно поздравить с завидным творческим долголетием! Большой проспект Васильевского острова не богат постройками в стиле классицизма, поэтому здание на углу 9-й линии не может не привлекать к себе внимание: старинный особняк с шестиколонным ионическим портиком по главному фасаду и монументальной каменной оградой с воротами по боковому невольно притягивает взоры любознательных прохожих. Из прибитой на стене охранной таблички можно почерпнуть мало сведений, но в капитальном труде «Памятники архитектуры Ленинграда» (Л., 1976) ему посвящены полтора десятка строк. Оказывается, дом был возведен в 1808–1810 годах для португальского консула, виноторговца Педро Лопеса, а в 1825-м куплен для академической типографии, переехавшей сюда со Стрелки, из старого здания Академии наук. Ценность бывшего особняка Лопеса в том, что он без изменений сохранил свой внешний облик, а это – большая редкость. Автор проекта не установлен; предположение о том, что им был А.А. Михайлов 2-й, не подтвердилось. Случайным образом удалось пролить свет как на имя архитектора, осуществлявшего постройку, так и на одно знаменательное происшествие, сопутствовавшее строительству. В № 52 «Санкт-Петербургских ведомостей» за 1808 год привлекает примечательное сообщение: «От С.-Петербургского военного губернатора объявление. Сего июня с 17 на 18 число в 11 часу ночи у португальского купца Лопеса в производимом строении обрушился свод, и хотя на сей раз приключение сие никому вреда не причинило, но ясно обнаруживает незнание ремесла того, кому производство того строения вверено было. А как по исследовании о том… открылось, что производил то строение архитектор надворный советник Порто и следственно он и единый виновник в том, то дабы упредить последствие подобных случаев… обязанным себя считаю то происшествие и имя виновника его, архитектора Порто, сделать для общей осторожности известным. Подлинное подписано: князь Лобанов-Ростовский ». Об архитекторе Антонио Порто, итальянце по происхождению, известно крайне мало, и это тем более удивительно, что он создатель таких замечательных сооружений, как Монетный двор в Петропавловской крепости и комплекс зданий Военно-медицинской академии на Выборгской стороне. Даже дата его смерти неизвестна. Отвлечемся от скорбной судьбы А. Порто и побываем в двух удаленных друг от друга уголках старого Петербурга, которые объединяла торгово-промышленная специфика: один из них считался средоточием конного торга, а другой, по причине своей близости к Сенной площади, был густо заселен купцами и ремесленниками. В обоих случаях есть на что посмотреть и с чем сравнить. Торговая и Конная На наших глазах меняется Невский проспект, ежедневно и чуть ли не ежечасно. Открываются все новые и новые магазины, лавки и лавчонки, вывешиваются яркие рекламные щиты – словом, внешние перемены налицо. Особенно заметны они в той части проспекта, которую горожане по традиции именуют Старо-Невским. Так стала называться первоначальная, заболоченная монастырская дорога после прокладки графом Минихом в 1730-х «новой невской перспективы» – от Лиговки к Александро-Невскому монастырю по трассе нынешних Гончарной и Тележной улиц; после осушения старой дороги и соединения ее с основной частью Невского проспекта необходимость в новой «перспективе» отпала, но неофициальное название Старо-Невский осталось. До начала 1990-х годов этот отрезок проспекта выглядел гораздо скромнее, казался тише, спокойнее и был несомненно чище. И все же нынешние перемены, пока только внешние, не идут в сравнение с теми, что произошли здесь в 1870—1890-е годы, когда на месте небольших каменных зданий, деревянных домишек и многочисленных пустырей начали, как грибы после дождя, вырастать огромные по тем временам пяти- и четырехэтажные строения, в которых можно наблюдать все многообразие эклектического декора. Благодаря компактному времени застройки эта часть Невского проспекта образует стилистическое единство, своего рода архитектурный ансамбль. Проходя по Невскому от Дегтярной улицы до Перекупного переулка, мимо почти непрерывного ряда каменных громад по обеим сторонам проспекта, большинство современных петербуржцев и не подозревает, что полтора века назад на этом месте простиралась Торговая площадь, шумная и оживленная в утренние и дневные часы, но пустынная и унылая в остальное время суток. Экипажи здесь встречались нечасто, и запоздалый прохожий с трудом мог найти извозчика. И эта площадь, долгое время именовавшаяся Александровской, и находившаяся в двух шагах от нее Конная появились в начале 80-х годов XVIII века. В 1781-м «Санкт-Петербургские ведомости» в № 94 оповестили горожан: «Желающие к выровнению приисканного во исполнение имянного Ее Императорского Величества Высочайшего повеления господином обер-полицмейстером для продажи съестных припасов места, именуемого Александровская площадь, и к постройке на нем караульной избы, важни и мостков, явились бы в Санкт-Петербургскую палату к торгу сего ноября 23 дня». Проблема устройства рынка в этой окраинной части столицы к тому времени уже давно назрела: город рос, росло и его население. Для бедного, преимущественно ремесленного люда, обитавшего в Александро-Невском и Московском предместьях (с 1782 года – Рождественская и Каретная части), требовалось место, где он мог бы покупать продукты питания и продавать изделия собственного промысла. Изрядную долю тамошних жителей составляли ямщики и каретники, проживавшие в Ямской и Каретной слободах, протянувшихся вдоль Литовского канала в сторону нынешнего Обводного (тогда еще просто городского вала), начиная от Невской перспективы. Нужны были тележные или каретные ряды и торговая площадь, где можно было бы продавать и покупать лошадей. До этого конная торговля производилась на Сенной площади, но там ей стало тесно, поэтому понадобилось подыскать новое место. Оно нашлось поблизости от вновь устраиваемой Александровской площади. После того как был построен новый каменный рынок, а вслед за ним мытный двор и тележные лавки, новые Александровская и Конная площади приобрели свои первоначальные границы, значительно превосходившие нынешние. Друг от друга они отделялись отходившим под острым углом от Невского Калашниковским (ныне Бакунина) проспектом, который начинался у «дехтярных сараев» и упирался в невскую набережную возле хлебных амбаров купца Калашникова. Поблизости от сараев в скором времени открылся кабак, прозванный «Дехтярным», и тут же сделался незаменимым ориентиром при отыскании нужного адреса. Для примера можно привести такое объявление: «Продается дом в Рожественской части, на Конной, от нового Дехтярного питейного дома четвертый…» (Санкт-Петербургские ведомости. 1788. № 42). Именно от кабака, а не от сараев и повелось нынешнее название улицы – Дегтярная, впервые встречающееся только в 1790-м. В описании Санкт-Петербурга, изданном И. Георги в 1794 году, говорится: «Открытое пустое место между частным рынком, мытным двором и тележными лавками называется Александровскою площадью. Сюда чинится зимний привоз всех для города потребных припасов, как то: битой скотины, рыбы, дичины, масла и пр. Ежедневное стечение народа на сию площадь чрезвычайно велико, для чего происходит здесь и наказание уголовных преступников». Множество лавок торговали экипажами самого разнообразного назначения, начиная от простых телег и кончая изысканно отделанными каретами, изготовленными русскими мастерами. Тут же приобретались дрожки и сани, потому что немцы неохотно занимались этой малоприбыльной работой. На плане Петербурга, составленном под руководством Ф. Шуберта в 1828 году, площадь еще обозначена как Александровская сенная, но позднее ее переименовывают в Торговую. Сделано это было, по-видимому, для того, чтобы обыватели не путали ее с вновь образованной Александрийской площадью перед одноименным театром. Конная же не только сохранила свое наименование, но даже «размножилась», разделившись на Зимнюю и Летнюю, находившуюся там, где ныне расположены детская больница имени Раухфуса и Концертный зал «Октябрьский»; на ней же некогда устраивались лошадиные бега. Зимняя Конная площадь, называвшаяся также Мытнинской, кроме своего прямого назначения до 1864 года продолжала использоваться для публичных наказаний, мрачная процедура которых подробно описана Всеволодом Крестовским в его «Петербургских трущобах». Еще до открытия в 1866-м на Мытнинской площади сквера, устроенного на средства купца Овсянникова, конную торговлю перевели на Торговую площадь, прямо на Невский проспект, который отнюдь не выиграл от такого соседства. Корреспондент «Петербургского листка» в № 33 за 1866 год нарисовал выразительную картину этого торжища: «По необходимости немощеная площадь служит резервуаром пыли, и надо самому испытать, чтобы убедиться, как она куролесит при ветре: не только нельзя отворить окон, но нет даже возможности открыть глаза и свободно дышать. В дождливое время, благодаря Конной, Невский проспект от Александровского рынка и почти до монастыря – непроходим: грязь собирается в потоки и переливается через тротуары, барышники же и покупщики лошадей развозят ее в изобилии из средины площади по всему проспекту… Существованию этой торговли надо приписать и то, что вся площадь оцеплена кабаками, трактирами и пивными лавками, из которых многие едва ли закрываются в сутки часа на четыре. Известно, что вообще кабацкая публика не стесняется приличиями, а здешняя всех в этом превзошла: пьяные, скученные на небольшом пространстве, стараются перещеголять друг друга, даже в известных случаях не отворачиваются от окон, а, напротив, с циническими шутками располагаются посредине улицы; прибавьте к этому несколько пьяных баб, камелий низшего сорта, и вы можете вообразить, чего тут в конный день наслушаетесь и насмотритесь. А таких дней три на неделе, из которых один – воскресенье, когда благочестивые жители Петербурга толпами проходят в Невскую лавру». Нынешний петербуржец, привыкший за последние годы к грязи во всех ее разновидностях, возможно не будет чрезмерно потрясен приведенным описанием, но современников это безобразие сильно возмущало, и газета еще не раз возвращалась к данной теме. Впрочем, возмущение, как водится, ни к чему не вело, и конный торг продолжал оставаться здесь, пока площадь не застроилась многоэтажными доходными домами. Только к 1890 году он окончательно прекратил свое существование на этом месте, оставив по себе память в таких названиях, как Конная улица, Перекупной переулок. А о располагавшихся на другой стороне Невского тележных лавках напоминает нынешняя Тележная улица. «Чудо» в Апраксином переулке Если Садовую улицу можно уподобить полноводной реке, то Апраксин переулок заслуживает сравнения с питающим ее притоком: неиссякаемые толпы народа, переливающиеся из его узкого русла на главную магистраль, устремляются к близлежащему морю – Сенной площади, принимающей в себя бурные потоки и вновь извергающей их во всех направлениях. Вряд ли камергер граф Федор Андреевич Апраксин, получая от императрицы Анны Иоанновны под загородную усадьбу обширный участок заболоченной земли у речки Фонтанной, мог себе представить, что не пройдет и двадцати лет, как поблизости возникнет оживленная площадь, на которой станут продавать лошадей и сено, а еще двадцать лет спустя его сын Матвей Федорович, как заправский барышник, начнет спекулировать построенными на своем «дворе» торговыми лавками! Апраксин переулок. Вид от улицы Садовой. Современное фото Судя по плану Петербурга 1738 года и по махаевскому, изданному к пятидесятилетнему юбилею столицы, первоначально усадьба Апраксина была значительно больше, простираясь до будущей Гороховой улицы, а безымянный переулок, названный позднее Апраксиным, рассекал графские владения надвое. Интересно, что деревянные господские хоромы находились на берегу Фонтанки, но не в левой части усадьбы, где ныне универмаг «Апраксин двор» и где в ту пору стояли лишь служебные постройки, а в правой, образующей нечетную сторону нынешнего переулка. Уже к концу XVIII века Апраксины перестали владеть ею, и она была застроена обывательскими домами. Народ здесь испокон веку селился темный, кондовый, хотя и не без купеческой сметки. Как уже говорилось, территория апраксинской усадьбы была сильно заболочена; для ее осушения хозяин распорядился выкопать три пруда, два из которых находились в левой части, где впоследствии выросли торговые ряды. Постепенно пруды забросали барочными досками и всякой всячиной да и забыли о них; между тем вода, продолжавшая понемногу выступать из-под земли, не находя выхода, устремилась вниз и, скорее всего, по подземным трубам просочилась к углу Апраксина переулка, где неожиданно забила сильным ключом. Окрестный люд заволновался и пришел в изумление от столь необычного явления; пошли толки о некоем чудотворном источнике. Не говоря уж о простом народе, тут же уверовавшем в чудо, со всех сторон к нему начали съезжаться разряженные барыни в дорогих каретах, черпавшие чайничками грязную воду и, по словам очевидца, «мазавшие оною себе головы и другие части тела». В течение нескольких суток столпотворение на углу Апраксина переулка не прекращалось, так что полиции пришлось принять меры к тому, чтобы разрушить эту вонючую лечебницу… К середине XIX века окончательно сложился характер плотной каменной застройки переулка, в основном трех- и четырехэтажной, густо заселенной купцами, мещанами и мастеровыми. Любопытное описание Апраксина переулка, такого, каким он был более ста тридцати лет тому назад, дает обозреватель «Петербургского листка» за 1865 год в № 123: «Несмотря на небольшое протяжение, он принадлежит к числу самых многолюдных в городе; большинство обитателей составляет ремесленный класс, как-то: башмачники, сапожники, фуражечники, столяры и проч. Ежедневно массы прохожих с утра до вечера снуют по тротуарам и мостовым переулка; в праздники же количество прохожих увеличивается обитателями самого переулка, которые, собравшись в кучки и потолковав между собой, отправляются в ближайшее питейное заведение или трактир, и место их тотчас занимают другие. Количество трактиров, питейных и прочих торговых заведений в этом переулке соответствует количеству его населения; на протяжении каких-нибудь 180–200 сажен (400–450 метров. – А. И.), в двадцати домах, составляющих этот переулок, помещаются следующие торговые заведения: трактиров и гостиниц – 14; винных погребов, кабаков (первые, в сущности, отличаются от последних только виноградной кистью над входом) и портерных – 33; съестных и пирожных лавок – 8; мелочных и сливочных – 16. Кроме поименованных лавок и заведений есть еще много других, как-то: мясных, кожевенных, шпилечных, железных лавок, инструментальных мастерских и одна баня; перед каждым домом, у тротуаров, сидят женщины, продающие вареные и печеные яйца, картофель, треску, жареную салакушку, селедки, гнилые лимоны, подсолнечники и прочее. В разных местах стоят несколько торговцев, продающих с лотков печенку, рубцы и прочую мясную, самого низшего сорта пищу; все эти съестные припасы (большая часть которых весьма сомнительной свежести) распространяют в воздухе весьма неприятный запах (особенно в жаркие дни), но этот запах ничто в сравнении с атмосферою многих, так называемых задних, дворов; сии последние представляют из себя род помойных ям: везде грязь, нечистоты, зловоние; а между тем здесь живут сотни людей, принужденных вдыхать это зловоние и употреблять вышеупомянутую пищу». Похоже, сегодняшнее поколение снова вернулось к состоянию первобытного капитализма, запечатленному автором приведенных строк; по крайней мере, сравнения напрашиваются сами собой. Того и гляди, вновь забьет «чудотворный источник» и ринутся толпы кропить себя грязной водой… А теперь поговорим о столичных стражах порядка – будочниках, чьи фигуры были неотделимы от городского пейзажа того времени. В полосатой будке у моста… Архитектурный фон на литографии К.П. Беггрова по рисунку В. Форлопа с изображением перекрестка Невского проспекта и набережной реки Мойки изменился мало: дворцы А.С. Строганова и К.Г. Разумовского по левую сторону и дом Н.И. Чичерина по правую выглядят почти так же, как в 1820-х годах. Зато все остальное изменилось коренным образом, начиная от булыжной мостовой и кончая внешним обликом людей. Крупным планом представлена неизменная принадлежность тогдашней жизни – полосатая полицейская будка с двумя стражами порядка, один из которых держит длинную алебарду, – скорее символ власти, чем оружие. О петербургских будочниках, прообразе будущих городовых и постовых, можно было бы написать целую книгу. Говоря современным языком, служба охраны правопорядка в начале XIX века находилась в далеко не блестящем состоянии, о чем свидетельствовали частые грабежи и драки. Ни ловить грабителей, ни разнимать дерущихся было некому: как пишет в своих «Записках» граф Е.Ф. Комаровский, обыватели посылали в будочники кого попало; при желании от этой повинности можно было откупиться, уплачивая по 9 рублей в месяц. Однако сыскать добровольцев, готовых за такие деньги бессменно стоять на часах, в особенности в зимнюю стужу, не было никакой возможности, а посему будки сплошь и рядом оставались пустыми. Помимо прочих обязанностей, на будочников возложили еще одну: при возникновении пожара они должны были ходить с трещотками по улицам и созывать людей, выделенных домовладельцами для тушения огня. Все это, вместе взятое, не способствовало порядку в городе. Мойка у Полицейского моста. Литография К.П. Беггрова по рисунку В. Форлопа В 1811 году, по инициативе упомянутого мной графа Комаровского, Александр I издал указ о создании внутренней стражи – особого рода войск, набиравшихся по большей части из отставных солдат, предназначенных исключительно для несения караульной службы. Тогда-то и появились на городских улицах служивые с алебардами, несшие службу у своих будок и в них же проживавшие. Стало ли после этого в столице безопаснее? Судя по отзывам современников, ненамного. В памяти невольно оживает печальная история гоголевского Башмачкина, который в первый же вечер лишился новой шинели, прямо на глазах у безучастно наблюдавшего за этим караульного. Вспоминая о петербургских мостах, один из современников не забыл упомянуть и будочников: «У мостов же обыкновенно воздвигались и будки, где доблестные стражи, лишенные уже алебард, отнятых у них в 1830-х годах, продолжали ревностно охранять самих себя, изредка забирая под гостеприимный кров уже чересчур подгулявших и расходившихся граждан». Не обошел вниманием тогдашних стражей порядка и знаменитый юрист А.Ф. Кони. В своем очерке «Петербург. Воспоминания старожила» он пишет: «На углу широкого моста, ведущего с площади на Невский, стоит обычная для того времени будка – небольшой домик с одной дверью под навесом, выкрашенный в две краски: белую и черную, с красной каймой. Это местожительство блюстителя порядка – будочника, одетого в серый мундир грубого сукна и вооруженного грубой алебардой на длинном красном шесте. На голове у него особенный кивер внушительных размеров, напоминающий большое ведро с широким дном, опрокинутое узким верхом вниз. У будочника есть помощник, так называемый подчасок. Оба они ведают безопасностью жителей и порядком во вверенном им участке, избегая, по возможности, необходимости отлучаться от ближайших окрестностей будки. Будочник – весьма популярное между населением лицо, не чуждое торговых оборотов, ибо, в свободное от занятий время, растирает у себя нюхательный табак и им не без выгоды снабжает многочисленных любителей». Упоминаемый Кони широкий мост назывался Знаменским и был перекинут через засыпанный позднее Литовский канал. Чтобы закончить тему о мостах, а заодно показать, как нелегка была в России полицейская служба вообще и будочников в частности, приведу еще один отрывок, на сей раз из «Записок» весьма осведомленного в таких вопросах Е.Ф. Комаровского: «Во время командования моего петербургскою полициею я испросил высочайшее повеление, чтобы через мосты не позволено было скакать во всю прыть, ибо находил сие для мостов весьма вредным, особливо устроенных на плашкоутах (то есть наплавных. – А. И.), а чтобы ехали по оным маленькой рысью. О сей высочайшей воле объявлено было, с подпискою, всем обывателям петербургским, и на обоих концах и на средине мостов сначала поставлены были полицейские офицеры. Но до того доходило, что когда карета скакала на мост, то будочник старался ее остановить, и если в карете сидела почетная особа, то офицер подходил к ней и говорил учтивым образом, что по высочайшему повелению запрещено ездить так скоро по мостам. Некоторые из сих почетных особ доходили до того, что даже плевали в глаза офицерам с досады, что не позволяют им скакать как бешеным. Я всякий раз доводил сие до сведения государя; сим плевателям в глаза хотя и делаемы были выговоры, но офицер не менее был обесчещен». С момента написания этих строк прошли годы и целые столетия, изменились экипажи, одежда и многое другое, но российская распущенность и недисциплинированность, увы, остались теми же! Дом Н.И. Чичерина, о котором упоминалось выше, появился на Невской перспективе в конце 1760-х годов; ранее же здесь стоял деревянный Зимний дворец императрицы Елизаветы Петровны, построенный в небывало короткий срок на месте сгоревшего в 1736 году Гостиного, или Мытного, двора. «Достоин удивления…» Двести пятьдесят лет тому назад Большая Невская перспектива, как назывался в ту пору Невский проспект, еще не ставший главной городской магистралью, обогатилась новым великолепным зданием – деревянным Зимним дворцом, чье изображение дошло до нас благодаря, в частности, известной гравюре Ф.Т. Внукова по рисунку М.И. Махаева. Главный дворцовый фасад простирался от набережной реки Мойки у Зеленого (позднее Полицейского) моста до Большой Луговой – нынешней Малой Морской улицы. Построенный в качестве временной императорской резиденции по проекту Бартоломео Растрелли, который одновременно возводил всем известный каменный Зимний дворец, он отличался таким же богатством наружной и внутренней отделки. Позднее, перечисляя осуществленные им в течение многих лет постройки, сам зодчий напишет о своем произведении: «Это здание состоит более чем из 156 комнат, с каменными погребами, большой галереей в середине фасада, выходящего прямо на большой проспект… Все парадные апартаменты, приемные, Тронный зал, галерея и прочие были украшены лепным позолоченным орнаментом и несколькими плафонами, помещенными в главных апартаментах». Правда, повинуясь требованиям будущей хозяйки, архитектору пришлось значительно отступить от первоначального плана, в результате чего тот утратил прежнюю гармонию и логику, но делать было нечего. Дворец возвели в необычайно короткий срок, что не могло не вызвать всеобщего изумления. Деревянный Зимний дворец. Гравюра XVIII в. 5 ноября 1755 года «Санкт-Петербургские ведомости» оповестили своих читателей: «Прошедшего воскресения в 7-ом часу по полудни изволили Ее Императорское Величество из Летнего дворца перейти в новопостроенный на Невской перспективе деревянный зимний дворец, который не токмо по внутреннему украшению и числу покоев и зал, коих находится более ста, но и особливо потому достоин удивления, что с начала нынешней весны и так не более, как в шесть месяцев, с фундаментом построен и отделан». 6 января следующего года, в праздник Богоявления, на реке Мойке, напротив окон нового царского жилища, впервые была поставлена Иордань и, по словам очевидца, «от церкви Казанской Богоматери приходили с крестами, а полки у дворца и по берегам оной реки с обеих сторон стояли». Императрица Елизавета Петровна полюбила новый дворец, в котором ей суждено было шесть лет спустя окончить свои дни. О ее смерти ходили разные слухи: некоторые считали, что государыню отравили по приказу прусского короля, поставленного победоносными русскими войсками в ходе Семилетней войны в безвыходное положение… Как и многие обыкновенные женщины-дворянки того времени, государыня любила проводить свой досуг сидя у окна и наблюдая за разворачивавшимися перед ее глазами сценами городской жизни. В один прекрасный день она заметила, что от парадного подъезда ее соседа, молодого барона А.С. Строганова, чей недавно выстроенный дом находился на противоположном берегу Мойки, протянулась странная процессия: в центре ее, с трудом передвигая ноги, шествовал фельдмаршал граф П.С. Салтыков, заботливо поддерживаемый двумя солдатами, а позади него другие служивые таким же манером вели самого Строганова и еще нескольких известных вельмож. Маскарад в деревянном Зимнем дворце. Гравюра XVIII в. Заинтересовавшись столь необычным зрелищем, Елизавета послала узнать, в чем дело и куда их ведут. Выяснилось, что собравшееся в тот день у гостеприимного барона общество, вдоволь угостившись старым венгерским вином из хозяйских запасов, решило отведать сего напитка уже из салтыковских погребов, чтобы, оценив его качество и крепость, решить, чье лучше. Для этого оно и направилось в дом графа, расположенный неподалеку. Сжалившаяся над ослабевшими путниками императрица решила положить конец их странствованиям, пригласив всех к себе во дворец и предложив попробовать своего вина, которое, по ее уверению, было лучше салтыковского… Перемена жилья оказалась на пользу и великой княгине Екатерине Алексеевне, будущей Екатерине II. В своих «Записках» она упоминает о том, что особенно была поражена красотой, высотой и размерами отведенных ей покоев. Немалым достоинством в глазах великой княгини являлась также их удаленность от комнат ненавистного супруга, что позволяло ей, переодевшись в мужское платье и убрав волосы под шляпу, совершать при содействии камер-юнкера Льва Нарышкина ночные вылазки в город, к друзьям. Екатерина проделывала это многократно, всякий раз оставаясь незамеченной, хотя, по свидетельству одного иностранного автора, «Зимний дворец, в котором они живут восемь месяцев в году, имеет вид огромной деревянной клетки. Он весь сквозной, так что ни войти в него, ни выйти из него нельзя иначе как чтобы все видели». Одна из ее поездок в дом Нарышкиных ознаменовалась знакомством с молодым секретарем английского посольства Станиславом Понятовским, вскоре перешедшим в бурный роман. 28 июня 1762 года великая княгиня Екатерина Алексеевна была провозглашена императрицей. На совещании с участниками заговора, состоявшемся в деревянном Зимнем дворце, было принято окончательное решение выступить с преданными ей гвардейскими полками походом в Петергоф, где в ту пору находился Петр III, чтобы добиться его отречения от престола. В дворцовой церкви сенаторы, члены Синода и все присутствовавшие вельможи присягнули ей. При этом не обошлось без курьезов. По свидетельству Н.И. Панина, «все вельможи были пожалованы сенаторами (вот почему в настоящее время в России так многочислен состав Сената); их держали в безпрерывном сборе во дворце под предлогом подписи разных подлежащих обнародованию распоряжений». Вслед за тем новопровозглашенная императрица вновь облеклась в мужскую одежду, но на сей раз в гвардейскую форму, с Андреевской лентой через плечо. Переворот осуществился без сучка без задоринки, и в скором времени отстраненный от власти государь скончался, как значилось в обнародованном манифесте, от «прежестокой колики», в действительности же задушенный могучими руками бывшего лейб-кампанца Александра Шванвица, воспользовавшегося для этого ружейным ремнем. Примечательный факт: сын этого Шванвица впоследствии сделался деятельным помощником Емельяна Пугачева! После воцарения Екатерины II пришедший в запустение деревянный Зимний дворец, в коем уже отпала надобность, стал быстро ветшать и разрушаться. Вдобавок он, по всей вероятности, пробуждал у новой императрицы тягостные воспоминания о той малоприятной роли, какую ей скрепя сердце приходилось играть при дворе покойной государыни. Началось расхищение не только внутреннего убранства, но и конструктивных элементов обезлюдевших чертогов. Новые приближенные и фавориты пожелали получить при этом свою долю. Так, роскошный живописный плафон, написанный по эскизам знаменитого Д. Валериани, понадобился графу А.Г. Орлову, пожелавшему также взять окна, двери и резные детали Тронного зала, а для З.Г. Чернышева содрали с крыш все железо, вынули из окон стекла, разобрали и вывезли изразцовые печи. В 1767 году деревянный дворец на Невской перспективе (или, вернее сказать, то, что от него осталось) перестал существовать. 15 мая «Санкт-Петербургские ведомости», некогда восхищавшиеся этой постройкой, сообщили об ее окончательном уничтожении: «Оставшегося от разломки Зимнего деревянного дому немалое число мелкого щебню и всякого грузу, которой канцелярия строения Е. И. В. домов и садов отдавать будет безденежно, желающие брать, явиться могут в Гоф-Интендантской конторе немедленно». На следующий год генерал-полицмейстер Н.И. Чичерин приступил к возведению на освободившемся месте ныне существующего дома, постепенно вытеснившего из памяти горожан прежнее царское жилище… Интересно бывает из сегодня взглянуть в далекое прошлое, чтобы сравнить «век нынешний и век минувший». Что веселило наших предков, привлекало их внимание? Конечно, характер развлечений зависел и от достатка зрителей, поэтому сразу оговорюсь, что речь пойдет о зрелищах для петербуржцев, готовых оплачивать свои увеселения. О том, насколько они были изысканны, пусть судит сам читатель. Глава 2 Зрелища и увеселения «Великанка Гаук» и музыка Баха Перелистаем страницы «Санкт-Петербургских ведомостей» начиная, скажем, с 1730-х годов и выберем наиболее характерные объявления. Одно из них, относящееся к ноябрю 1738-го, оповещает: «Прибывшие сюда из Голандии комедианты, которые по веревкам ходя танцуют, на воздухе прыгают, на лестнице ни за что не держась в скрыпку играют, с лестницею ходя пляшут, безмерно высоко скачут и другие удивительные вещи делают, получили от двора позволение в летнем Ее Императорского Величества доме, на театре игру и действия свои отправлять…Цена смотрельщикам положена с первых мест по 50 коп., с других по 25, а с третьих мест по 10 коп. с человека». Необычность зрелища, по-видимому, и побудила императрицу Анну Иоанновну предоставить для него свой деревянный дворец в Летнем саду, построенный В. Растрелли в 1732 году. Пожалуй, это была первая труппа гастролеров в Петербурге и первое публичное представление, доступное для всех желающих и могущих уплатить требуемую сумму. Отметим, что месячный заработок первоклассного плотника составлял в ту пору 4 рубля, а фунт говядины стоил 3 копейки. Спустя пять лет Петербург навестили актеры-кукольни-ки, о чем любители театральных представлений узнали из следующего объявления: «Чрез сие чинится известно, что находящийся здесь комедиант Мартин Ниренбах… продолжать имеет марионеттовы Итальянские комедии, сперва фигурами, а потом живыми персонами, так что смотрители наконец великое удовольствие из того получить могут». Так впервые столичная публика познакомилась с комедией дель арте. Трудно сказать, получила ли она при этом обещанное «великое удовольствие», но надо полагать, что такого рода спектакли были делом неубыточным, поскольку примерно тогда же на углу Большой Морской улицы и Адмиралтейской перспективы (позднейшая Гороховая) было выстроено каменное здание «Немецкого комедиального дома», предназначенного для подобных зрелищ. Несколько позже, в 1750-м, на Царицыном лугу появился деревянный театр, сооруженный также по проекту Растрелли. О характере дававшихся там представлений можно судить по объявлению, опубликованному в августе 1758 года: «Сего месяца 30 числа… на Императорском театре близ летнего саду представлена быть имеет новая Пантомима, называемая: „Отец солюбовник сыну своему, или Обвороженная табакерка"». Тот, кто не желал или не имел возможности смотреть пантомимы «на Императорском театре», мог выбрать зрелище попроще: «Прибывший сюда фигляр венгерец, Венцель Мейер, между прочими своими фиглярствами делает одною шляпою 48 разных перемен, как носят разные народы». И неприхотливый зритель охотно шел смотреть «фиглярства» заезжего «венгерца». Известный в 1760—1770-х годах театр в доме графа Ягужинского, находившийся на нынешней Почтамтской улице (участок № 14/5), предлагал своим посетителям услуги другого виртуоза: «Как известный англичанин Сандер… искусство свое уже оказал при здешнем дворе знатному дворянству, почтенному купечеству и публике, то паки намерен он в наступающее воскресение показывать разные достойные зрения на проволоке равновесия, також и другие забавы, как по веревке плясать, ломаться, прыгать и порхать». Стоили эти ломания и порхания недешево: за ложу брали 1 рубль, а за партер – 50 копеек. Замечательно, как артист определяет круг лиц, которому адресовано его искусство: дворянство, купечество и просто «публика». Очевидно, к последней категории причислялись мещане. Среди всех этих канатных плясунов, фигляров и комедиантов встречаются исключительно иностранные фамилии; объясняется это тем, что русский театр делал в то время лишь первые шаги, отечественные же скоморохи, потешавшие люд честной на площадях, не сообщали печатно о своих выступлениях. Любопытно, что даже объявления о серьезных музыкальных концертах, на которых звучала музыка Баха и исполнялись итальянские арии, заканчивались подчас такими странными для нас словами: «…Девица Гаук ласкает себя (то есть льстит надеждой. – А. И.), что любители музыки удостоят ее своего присутствия, ибо никогда не видывали еще на театре женщины ее величины». Пристрастие к чисто балаганным эффектам уживалось с искренней любовью к искусству даже у просвещенных зрителей того времени. Менее же образованная и утонченная публика, оставляя меломанам наслаждаться музыкой Баха в исполнении «великанки девицы Гаук», валом валила на представления вроде нижеследующего: «…де Дилли, сильно раненный американский офицер, будет иметь честь сего 13 генваря (1786 г.) представить на малом театре разные, отчасти еще невиданные танцы на одной ноге, со столь многими каприолами, сколько танцмейстер на одной ноге произвести может…4 танца будет он делать без костыля». И вот офицер, возможно потерявший ногу в Войне за независимость Соединенных Штатов, скачет на одной ноге, изображая веселый танец, а зрители с интересом следят за этим зрелищем, загадывая, упадет он или нет. Таковы были нравы! По случаю открытия в 1793 году при доме Л.А. Нарышкина первого в Петербурге увеселительного сада (современный адрес – наб. р. Мойки, 108) «фехтмейстер Мире», один из лучших тогдашних режиссеров, устроил в садовом театре «большое пантоминное зрелище… названное: Путешествие Капитана Кука в неизвестные острова и празднество тамошних Индианцов». Было обещано, что «отменные декорации, походы, оружейные упражнения, битвы… странные одежды и пляски диких жителей купно с огромною музыкою, пленяя зрение и слух, соделают удовольствие посетителей совершенным». И еще об одном зрелище, пользующемся успехом и в наше время, – кабинетах восковых фигур. Впервые такой кабинет открылся в конце 1792 года в доме генерала Бороздина на Невском проспекте (дом № 52). В нем было представлено «более 50 фигур, сделанные из воску гг. Морелем и Гереном, недавно приехавшими французскими художниками. Оные фигуры представляют разных знатных особ в натуральной величине и приличной одежде». Зрелище имело успех и демонстрировалось в различных залах в течение нескольких лет. Лишь в начале 1796-го появилось объявление о том, что «Кабинет восковых фигур, изображающих великих Монархов и славнейших Ироев, показывается в последний раз нынешнюю неделю». В завершение следовала лукавая фраза, столь характерная для того времени, гласившая, что «за вход знатные господа платят по соизволению, а прочие по 25 копеек». Очевидно, знатные господа не желали, чтобы их смешивали с «прочими», из чего заинтересованные лица извлекали немалую выгоду, теша барскую спесь. Маскарад на русский лад Среди бессчетного количества чужеземных слов и понятий, укоренившихся на русской почве в Петровскую эпоху, было и неслыханное доселе слово «маскарад». Правда, первоначально оно писалось и произносилось не на французский, как теперь, а на польский лад – машкарад, поскольку проникло в российские пределы не прямо из Франции, а при посредничестве нашего ближайшего западного соседа. Подобным же образом Польша одарила нас и другими, не менее употребительными словами, также относящимися к области развлечений и увеселений, такими, например, как «бал» или «танец». Обычай скрывать лицо под хитроумно придуманными масками возник еще в глубокой древности, в качестве составного элемента религиозных языческих обрядов. Позднее маски использовались в античном театре, а в XV–XVI веках маскарады, как неотъемлемая часть карнавальных празднеств, получили широкое распространение во всей Западной Европе, особенно в Италии. Кстати сказать, в Венеции люди в масках могли без всякого опасения ходить по городу даже глубокой ночью, что для прохожих с открытыми лицами было в ту пору далеко не безопасно. По словам одного русского путешественника, посетившего этот знаменитый город в 1780-х годах, «сие оттого происходит, что все маски под трибуналом инквизиторским состоят (то есть под его защитой. – А. И.), пред именем котораго всякий дрожит. Маска без всякой опасности оружие носит, когда другие за оное строго наказываются. Кой час маску надел, то имя уничтожилось и кто бы ты ни был, то ты: Signor Maschera» (Синьор Маска). Столь соблазнительные привилегии людей в масках стали, по-видимому, одной из главных причин популярности венецианских маскарадов. Но как бы там ни обстояло дело за границей, в России заимствованный в чужих краях обычай на первых же порах стал наполняться отечественным, весьма своеобразным содержанием. 10 сентября 1721 года Петр I повелел устроить в Петербурге большой маскарад, который должен был продолжаться целую неделю. Поводом для празднества послужила свадьба князя-папы, боярина П.И. Бутурлина, президента шутовской коллегии «кардиналов», со вдовой его предшественника Никиты Зотова, умершего за три года перед тем от беспробудного пьянства. Бедная женщина долго не соглашалась выходить замуж за столь же горького пьяницу, как ее покойный супруг, но в конце концов пришлось покориться воле царя. По сигнальному выстрелу из пушки все маски должны были собраться за рекой, на Троицкой площади, целиком устланной досками, положенными на бревна, потому что место это было в те времена очень болотистым и немощеным. В 8 часов утра, по условленному сигналу, над крепостью взвился большой праздничный стяг из желтой материи с изображением черного двуглавого орла и началась беспрерывная пушечная пальба. Между тем участники маскарада, одетые в плащи, съехались на сборное место. Сам государь и знатнейшие из вельмож находились в этот момент в Троицкой церкви, где совершалось бракосочетание князя-папы, которого венчали прямо в маскарадном облачении. По окончании брачной цермонии вышедший из храма царь самолично ударил в барабан, после чего все маски разом сбросили плащи, и площадь запестрела разнообразнейшими костюмами. Всего собралось около тысячи масок, разделенных на большие группы и стоявших в назначенных для них местах. По данному сигналу участники начали медленно ходить на большой площади процессией, по порядку номеров, и гуляли таким образом часа два, чтобы лучше рассмотреть друг друга. По словам камер-юнкера Ф. Берхгольца, наблюдавшего за происходившим собственными глазами, наиболее странное зрелище представляли собой князь-папа и коллегия его «кардиналов» в их полном наряде. «Все они величайшие и развратнейшие пьяницы, но между ними есть некоторые из хороших фамилий. Коллегия эта и глава ее… имеют свой особый устав и должны всякий день напиваться допьяна пивом, водкой и вином. Как скоро один из ее членов умирает, на место его тотчас, со многими церемониями, избирается другой отчаянный пьяница». Из дальнейшего, весьма пространного описания того же очевидца приведу лишь чрезвычайно красноречивую деталь. Одного из главных маскарадных персонажей, бога виноделия Бахуса, очень натурально представлял «человек приземистый, необыкновенно толстый и с распухшим лицом», облаченный в тигровую шкуру и увешанный виноградными лозами. Причина столь поразительного наружного сходства с античным божеством заключалась в том, что накануне маскарада беднягу целых три дня постоянно поили водкой, не давая ни на минуту заснуть! Во время праздничного застолья всех пирующих принуждали к беспрестанному опорожнению бокалов, результатом чего стало немалое количество опившихся насмерть людей. По-настоящему весело в этой толпе людей, ряженных против воли, чувствовал себя один царь. Шутовская свадьба закончилась тем, что доведенных до скотского состояния «молодых» отвели в стоявшую перед Сенатом деревянную пирамиду, где заставили еще раз выпить водки из сосудов, сделанных в виде женского и мужского детородных органов, после чего оставили одних. Однако, по замечанию Берхгольца, «в пирамиде были дыры, в которые можно было видеть, что делали молодые в своем опьянении». Такой вот довольно отталкивающий вид приняла «маскарадная потеха» в стране, где человеческое достоинство намеренно грубо попиралось. Возможно, таким образом Петр стремился обратить в ничтожество все прежние титулы и звания, поставив во главу угла лишь подлинные заслуги, но делал это, по своему обыкновению, удручающе варварским способом. С течением времени нравы смягчились, и к середине XVIII века маскарады перестали сопровождаться развлечениями вроде вышеописанных, равно как и принудительным пьянством. Императрица Елизавета Петровна обожала веселые комедии, балы и маскарады, которые устраивались во всех царских резиденциях, не исключая даже полуразрушенного пожаром деревянного Смольного дворца, принадлежавшего ей, когда она еще была цесаревной. На одном из таких маскарадов, состоявшемся зимой 1745 года, гостям в легких бальных туфлях пришлось переходить из танцевальной залы, расположенной в одном из уцелевших флигелей, в другой, где был накрыт ужин, а затем обратно, по жгучему январскому холоду. В результате наследник престола, Петр Федорович, подхватил жестокую горячку и чуть не умер. На придворных маскарадных балах обычно присутствовало не более 150–200 человек; на тех же, которые именовались публичными, бывало до 800 масок. В один прекрасный день императрица потребовала, чтобы все мужчины являлись на придворных маскарадах в женском платье, а женщины – в мужском, причем без масок на лице. Повинуясь высочайшей воле, кавалеры обрядились в широкие юбки на китовом усе и женские платья, сделав себе такие прически, какие дамы обыкновенно носили на куртагах, а дамы, соответственно, облачились в расшитые камзолы и прочие принадлежности мужского туалета. Екатерина II позднее вспоминала в своих «Записках», что ни те ни другие не испытывали при этом ни малейшего удовольствия, чувствуя себя очень глупо в несвойственной их полу одежде: молодые женщины выглядели маленькими и невзрачными мальчишками, о старых же и говорить не приходится, в особенности тех, кого природа наделила чрезмерно толстыми и короткими ногами. Мужчины не менее остро ощущали свою неловкость и безобразие. Веселой и довольной казалась одна императрица, которой очень шел мужской костюм; остальное заботило Елизавету столь же мало, как ее родителя – самочувствие тех гостей, кого он на потеху себе заставлял выпивать необъятный кубок «Большого орла». В XIX веке маскарадные забавы приобрели еще большую популярность и остались по-прежнему любимы русскими государями, в особенности Николаем Павловичем, охотно посещавшим их в поисках мимолетных любовных похождений. Однако в отечественной литературной традиции, очевидно в первую очередь благодаря влиянию лермонтовской драмы, маскарады, несмотря на их мишурный блеск и кажущееся веселье, несут на себе оттенок чего-то недоброго, даже зловещего. Наверное, не случайно и то, что старинные слова «лицедей» и «лицемер», то есть делающий или меняющий лицо, в современном русском языке приобрели явно выраженное отрицательное значение. В числе пришедших из Западной Европы еще в петровские времена новшеств можно также назвать и лотереи, оказавшиеся в качестве одной из разновидностей азартных игр явлением весьма живучим и благополучно дожившим до наших дней. Что наша жизнь? Игра… Азартные игры – едва ли не ровесники человечества. Они существовали всегда, только назывались у разных народов по-разному. Общее же у них было одно: выигрыш здесь зависел не от искусства игрока, а от случая, что, собственно, и означает слово «азарт». Прежде чем попасть в Россию, оно проделало длинный путь от арабского az-zahr через испанский, французский и немецкий языки, из которого перекочевало к нам в Петровскую эпоху вместе с массой других заимствований. Азартные игры, нередко приводившие проигравшихся игроков к полному разорению, всегда преследовались властями, но с одним исключением: если в качестве устроителя таковых не выступали сами власти, как это происходило (и происходит) с государственными лотереями. Лотереи в Европе появились давным-давно, еще в конце XV столетия, вначале в Голландии, а немного позднее в Италии и Франции. В переводе с итальянского «лотерея» означает вытягивание жребия, «лота», и есть не что иное, как та же азартная игра, выманивающая у людей их кровные денежки и возвращающая в виде выигрышей лишь незначительную часть прибыли. В 1687 году Людовик XIV специальным ордонансом запретил частные лотереи, но уже в 1700-м учредил государственную, которая спустя несколько десятилетий приобрела постоянную организацию. В дальнейшем их попеременно то запрещали, то вновь разрешали. Единственное оправдание существования государственных лотерей в том, что часть получаемых таким образом казной средств идет, по крайней мере теоретически, на общеполезные цели. Российские государи не сразу прозрели всю выгоду лотерейных розыгрышей, дозволив поначалу пользоваться ею частным устроителям. Первым из таких предприимчивых дельцов оказался некий часовых дел мастер Я.А. Гасениус, обратившийся в ноябре 1699 года к москвичам с предложением принять участие в доселе неслыханной на Руси игре: «Произволением нашего великого государя царя. Сим всему миру являет Яков Андреев сын Гасениюс… что на дворе окольничего Ивана Ивановича Головина, возле [двора] Андрея Артемоновича [Матвеева], у Николы в Столпах, будет вскоре установлено счастливое воспытание (то есть испытание счастья. – А. И.), по иноземчески называется лотери, в 80 рублев лот, с числами, где всем охотникам или охотницам вольно свою часть испытать, како добыта тысячу рублев за гривну». Далее следует подробнейшее описание порядка проведения розыгрыша, причем удивляет то, что за триста с лишним лет порядок сей не претерпел существенных изменений: те же «счастливые ерлыки» с выигрышами в 1000, 100, 50 рублей и далее по нисходящей до десятиалтынных, то есть 30-копеечных «ерлыков», те же наблюдатели за правильностью розыгрыша в виде «шести верных господ» и, наконец, «два младенца, которые не видевши те лоты или ерлыки пред теми свидетелями и народом, кто желает быть, перед всеми [будут] вынимать». В заключение устроитель лотереи заверял, что «в сем деле будет равная оправа (условия. – А. И.), како большому господину, тако ж и рабу, и младенцу, безо всякого обмана». Судя по всему, первый лотерейный блин не вышел комом, – напротив, повлек за собой целый ряд подобных же мероприятий, в чем можно убедиться, например, из записи в дневнике П.Д. Апостола, сына малороссийского полковника, пребывавшего в Петербурге во времена Екатерины I. 9 января 1726 года он, в частности, отметил: «Был в лоттерее, где проиграл 2 р.». Из других записей о расходах, содержащихся в том же дневнике, следует, что для богатого парубка этот проигрыш выглядел почти пустячным, но многим его современникам он показался бы если не огромным, то, по крайней мере, весьма внушительным. Денежные ручейки со всех сторон, сливаясь воедино, превращались в реки, плавно перетекавшие в карманы устроителей частных лотерей. Позднее, однако, настала пора запретов и гонений со стороны властей, публиковавших в их адрес строгие предупреждения. Одно из них появилось в «Санкт-Петербургских ведомостях» на исходе елизаветинского царствования, в январе 1761 года: «Сим объявляется, чтоб имеющие хождение по домам с посудою и другими товарами для играния лотереи, впредь по домам не ходили, под опасением конфискования как посуды, так и всех товаров». Как оказалось, таким образом правительство просто-напросто стремилось устранить конкурентов, предполагая в скором времени взять доходный лотерейный бизнес под свою опеку: «Сим объявляется, что в будущем Феврале месяце сего 1761 году разыгрывана будет малая одиннадцатикопеешная лотерия, которая учреждена не для чего иного, как токмо чтоб публика могла иметь понятие о большой Государственной Лотерии по 11 рублев билет, а помянутые билеты по 11 копеек раздаются в канцелярии Государственной Лотерии». Итак, Елизавета Петровна решила обратиться к опыту Франции, где, как уже было сказано, начиная с XVIII века устраивались государственные лотереи, успешно пополнявшие быстро таявшую от непомерных трат казну. Российская императрица, которая в это время вела разорительную войну с Пруссией, нуждалась в дополнительных доходах никак не меньше французского короля. Курьез в том, что первыми, кто испытал на себе плоды благодетельной затеи правительства, оказались как раз русские войска, занимавшие в ту пору столицу Восточной Пруссии – город Кенигсберг. Рассказывая о событиях осени 1760 года, известный мемуарист А.Т. Болотов упоминает и об этом: «У генерала нашего были то и дело балы… а сверх того, имели мы около сего времени и другую забаву: прислана была к нам в Кенигсберг – для выпорожнения и у нас, и у многих кенигсбергских жителей карманов и обобрания у всех излишних денег – казенная лотерея. До сего времени не имели мы об ней никакого понятия, а тогда узнали ее довольно-предовольно и за любопытство свое заплатили дорого. У многих из нашей братьи, а особливо охотничков, любопытных и желавших вдруг разбогатеть, не осталось ни рубля в кармане, а нельзя сказать, чтоб и я не сделался вкладчиком в оную». Когда российский престол заняла Екатерина II, то на первых порах она оставила в неприкосновенности Государственную лотерею, проявив в то же время весьма своеобразную заботу о неимущих. Свое мнение на сей счет она высказала в разговоре со знаменитым Джакомо Казановой, посетившим Петербург как раз в это время и принятым ею. В ходе аудиенции императрица «коснулась… венецианских обычаев и заговорила между прочим об азартных играх и лотерее. И мне предлагали, – сказала она, – устроить в моей империи лотерею; я согласилась, но с условием, что ставка будет не меньше одного рубля, с тем, чтобы оградить кошелек бедного, который, не зная тонкостей игры и обманчивого соблазна, представляемого ею, мог бы думать, что… легко выиграть». В екатерининское время Государственная лотерея размещалась в бывшем доме адмирала Н.Ф. Головина на Дворцовой набережной, купленном в казну и сломанном при постройке Малого Эрмитажа в 1765 году. Однако по каким-то причинам она просуществовала недолго – по-видимому, не дольше здания, где находилась. По крайней мере, начиная с середины 1760-х о ней больше нет упоминаний в газетных объявлениях. Возможно, Екатерина II, весьма внимательно прислушивавшаяся в ту пору к мнению французских просветителей, сочла дальнейшее существование подобного источника доходов не совсем удобным. Примечательно, что, по свидетельству того же Казановы, прусский король Фридрих II вполне резонно считал государственные лотереи «надувательством» или, по меньшей мере, чем-то вроде дополнительного налога, что, впрочем, ничуть не мешало ему пополнять таким способом казну. Как бы там ни было, любителей «добыта тысячу рублев за гривну» всегда хватало с избытком, а посему лотереи продолжали свое победное шествие по просторам Российской империи. Одно из объявлений, опубликованных «Санкт-Петербургскими ведомостями» в декабре 1815 года, гласило: «С дозволения правительства разыгрываться будет большая лотерея, изо 100 выигрышей состоящая и во 100 тысяч рублей оцененная. Выигрыши можно видеть ежедневно, кроме табельных дней, с 9 часов утра до 6 часов вечера, а равно и билеты по 5 рублей получать на фабрике Придворного Механика Гейнриха Гамбса, в Садовой улице, под 33. Сии выигрыши состоят из собрания прекраснейших вещей и великолепнейших мебелей. Главный выигрыш – Архитектоническо-Механическое музыкальное бюро с позолоченною бронзою». Прибегнув к лотерее, знаменитый мастер нашел верное средство распродавать изделия своей фирмы, не находившие сбыта из-за их чрезмерной дороговизны. Расчет его оказался верен: соблазн возможного приобретения за 5 рублей предмета, стоившего в десятки и сотни раз дороже, заставлял покупать билеты, обеспечивая успех замысла. Правда, в данном случае никто не мог ни разориться, ни чрезмерно обогатиться… Неискоренимая надежда на быстрое поправление дел благодаря лотерейному счастью подогревалась ходившими в публике легендами о чудесных, самой судьбой дарованных выигрышах. В 1820-х годах летучая молва разнесла историю о вдове бедного, но честного священнослужителя, готовой поделиться последним. Однажды она приютила у себя направлявшегося в действующую армию офицера, который тщетно пытался найти в трактире чашку чая или кофе. Гостеприимная хозяйка отказалась взять с него деньги за угощение, и тогда офицер оставил ей на память лотерейный билет на разыгрывавшиеся за 80 тысяч рублей часы. Женщина не придала этому подарку никакого значения, отдав его в качестве игрушки детям, которые едва не разорвали билет. А между тем именно на него пал главный выигрыш. Об этом было трижды напечатано в газетах, но за часами никто не явился. Живший по соседству с вдовой местный станционный смотритель, зайдя к ней как-то, случайно обнаружил счастливый билет, небрежно засунутый за стенное зеркало. В результате добрая женщина получила часы, тут же приобретенные у нее для Эрмитажа за 20 тысяч, а вдобавок ей была назначена пожизненная пенсия в 1000 рублей. Однако далеко не всегда лотерейный выигрыш приносил людям счастье. В «Моих воспоминаниях» А.Н. Бенуа рассказывает о родителях своего гимназического товарища, чей отец служил некогда швейцаром в доме на углу 10-й линии и Большого проспекта. Неожиданно для всех этот самый Емельян (так звали отца) выигрывает в лотерею 100 тысяч и из грязи чудесным образом попадает в князи. Обитатель затхлой каморки приобретает в собственность тот самый дом, где прежде швейцарствовал, и начинает новую жизнь. К сожалению, продлилась она всего три-четыре года, после чего оба супруга скончались от жесточайшего пьянства, которому предались на радостях. Наше время изобилует драматическими повествованиями об ограбленных и убитых «счастливцах», попавших в поле зрения преступников. Шальные деньги мало кому идут на пользу… Уроды, карлики и прочие диковины Изучая характер зрелищ XVIII – начала XIX века, обращаешь внимание на особый интерес тогдашней публики ко всевозможным физическим уродствам. Вспомним, что тем же отличался и наш первый «просвещенный монарх» Петр Великий, обожавший различных монстров и не пожалевший огромных денег на приобретение для своей Кунсткамеры знаменитой анатомической коллекции доктора Рюйша. Им даже был издан специальный указ «О принесении родившихся уродов…». Надо признать, что усилия царя привить россиянам любовь к подобным курьезам увенчались успехом. Невольно задаешь себе вопрос: что это, пробуждающийся интерес к науке, загадкам природы, желание увидеть и познать неизведанное или просто суетное и праздное любопытство? Очевидно, и то и другое, в зависимости от свойств самих зрителей. А о том, что в них недостатка не было, свидетельствует уже сам факт довольно частого предложения подобных зрелищ, а также сравнительно высокие цены на них. Какие именно диковины предлагались вниманию петербургских обывателей, можно судить по следующим образцам газетного красноречия: «В сухопутном шляхетском Кадетском корпусе у садовника живет венгерец Герей, который ростом не более двух футов и двух дюймов, без ног и имеет у себя на одной руке только два пальца; и хотя ему около 70 лет от роду, однако представляет он разные, отчасти веселые, а отчасти любопытные штуки; чего ради ежели кто желает его видеть, тот может сыскать ево у помянутого садовника…» (Санкт-Петербургские ведомости. 1759. № 99). А вот другое объявление: «В новой Исаакиевской, в доме княгини Мещерской против Адмиралтейства можно видеть каждый день… приехавшую сюда из Немецкой земли карлицу, которой от роду 14 лет, ростом в один аршин и в крестьянской ирнбергской одежде, носит тяжести 26 фунтов, танцует танец французских мужиков с особливым искусством и проворностию; желающие ее видеть являться могут в помянутом доме…» (Там же. 1773. № 19). Возможно, для тогдашних зрителей такого рода представления были тем же, чем для нас теперь спортивные; но вот объявление о новом «чуде», совсем уже в духе петровского времени: «В Большой Морской под № 134 продается петух чудной, который имеет у себя три ноги и две жопы, одну куриную, а другую петуховую…» (Там же. 1782. № 91). Ну чем не экспонат для петровской Кунсткамеры? Но пожалуй, самое подробное и характерное объявление напечатано в № 44 за 1806 год. Оно настолько интересно и занятно, что стоит привести его почти полностью: «Итальянец Иосиф Солларо уведомляет почтеннейшую публику, что привезены им: I. Американец, родившийся с большим, на груди висящим зобом и одаренный в груди такою силою, что может одолевать самых сильных зверей. II. Жена его, которой от роду 20 лет, ростом в три фута, также имеет зоб, прибавляющийся вместе с летами, грудь же имеет однокостную. Дитя, рожденное от нее на дороге из Амстердама до Утрехта, умерло; но она теперь вторично беременна. Оба сии американца питаются одною только сырою говядиною и сырыми травами и кореньями… а одеты в платье обычаю их земли свойственное. III. Молодой мущина, родом из Брабанта, восемнадцати лет, имеющий три руки и одну ногу. Он большой искусник и делает разные штуки, как-то: 1. Играет на скрипке третьего рукою, а правою попеременно держит то пистолет, то саблю. 2. Ест и пьет третьего рукою столько же искусно, как и проворно. 3. Держа табакерку, насыпает табаком трубку и раскуривает ее тою же третьего рукою. 4. Тою же третьего рукою берет пистолет, заряжает и стреляет. 5. Всеми тремя играет на двух инструментах, под музыку которых оба американца вместе пляшут. 6. Троерукий аккомпанирует четырьмя тарелками марш, играемый музыкантами. Представление будет всякий день с трех часов пополудни до девяти часов вечера. Знатные особы платят по соизволению, впрочем, каждая особа платит по одному рублю, а дети и служители по 50 коп.». Комментарии здесь вряд ли нужны. Остается лишь добавить, что выступления «американцев» происходили на Невском проспекте, на том самом месте, где позднее был выстроен дом Энгельгардта со знаменитым маскарадным залом и где ныне любители прекрасного тешат свой слух, посещая филармонические концерты. К числу излюбленных зрелищ наших предков относились также зверинцы, бывшие поначалу лишь царской потехой, но со временем ставшие общедоступным развлечением столичных жителей. Для охоты и ради «курьезности Первые зверинцы появились еще в петровские времена. Разумеется, они не предназначались для общего обозрения и служили только для увеселения вельможных владельцев и их гостей. Хорошо известна любовь Петра I ко всему редкому и диковинному, поэтому ничего удивительного, что в Летнем саду он пожелал уделить место представителям животного мира. По свидетельству современника, там находился «большой птичник, где многие птицы частию свободно расхаживают, частию заперты в размещенных вокруг небольших клетках. Там есть орлы, черные аисты, журавли и многие другие редкие птицы. Тут же содержатся, впрочем, и некоторые четвероногие животные, как, например, очень большой еж, имеющий множество черных и белых игл до 11 дюймов длиною…». Очевидно, речь в данном случае идет о дикобразе. Но все же особое предпочтение царь отдавал птицам. Это доказывает тот факт, что еще в 1706 году в «Питербурх» были доставлены из Олонца лебеди, а через двенадцать лет появился именной указ, данный астраханскому губернатору, «о ловлении в Астрахани… птиц и об отправлении оных в Санкт-Питербурх». С этой целью туда отправили гвардейского солдата с подробной инструкцией о ловле птиц и обращении с ними в пути. Неподалеку от Летнего сада, на Большом лугу, как называлось в ту пору Марсово поле, поселили в 1714 году слона, подаренного персидским шахом. В течение нескольких лет слон во время прогулок служил дармовым зрелищем для простолюдинов столицы. Тот же современник описывает и зверинец в Екатерингофе – усадьбе Екатерины I: «Есть там… небольшой, но очень хорошенький зверинец, наполненный многими зверьми, которые необыкновенно ручны: двенадцатирогие олени подходили к нам на зов и позволяли себя гладить. Кроме большого числа обыкновенных оленей мы насчитали там дюжину ланей, потом смотрели на особом дворе двух старых и двух молодых лосей, довольно больших и ручных». Из подобных описаний можно вывести идиллическую картину: ручные животные подходят на зов, позволяют себя гладить. Но этих же животных использовали и для варварских развлечений во вкусе той эпохи. Вот еще одно свидетельство современника: «Все отправились в новый дом великого адмирала Апраксина (находился на месте Зимнего дворца. – А. И.)… где с галерей смотрели на травлю льва с огромным медведем, которые оба были крепко связаны и притянуты друг к другу веревками. Все думали, что медведю придется плохо, но вышло иначе: лев оказался трусливым и почти вовсе не защищался, так что, если бы медведя вовремя не оттащили, он непременно одолел бы его и задушил». Особенным вниманием пользовались придворные зверинцы в царствование Анны Иоанновны. Объяснялось это тем, что царица имела совсем не женскую страсть к охоте и, по утверждению очевидца, «толикое искусство приобрела… что не токмо метко попадала в цель, но наравне с лучшими стрелками убивала птиц на лету». За неимением лучшей дичи она любила постреливать ворон прямо из окон дворца… Хотя казна в ту пору испытывала постоянный недостаток средств, для приобретения зверей деньги всегда находились и выдавались без промедления. Пополнялись царские зверинцы и за счет подарков иностранных государей. Одни из привезенных животных предназначались для охоты, другие содержались ради «курьезности». Среди последних – львы, леопарды, белые медведи, дикобразы, слоны, дикие быки, обезьяны, росомахи, барсуки, рыси. Животных содержали в специальных помещениях, на «дворах». Их было несколько: зверовый, птичий, слоновый, для диких быков («ауроксов»), а также малый и екатерингофский зверинцы. «Звериный двор и псовая охота» находились в районе нынешней площади Искусств, для малых зверей и птиц – у Симеоновской церкви, в Хамовой (Моховой) улице. Слоновый двор устроили в 1736 году на участке теперешней Манежной площади. Поначалу там обретался только один слон; позднее, в 1741-м, персидский шах подарил еще четырнадцать. Для них выстроили несколько «анбаров» и помост, спускавшийся к Фонтанке, чтобы они могли купаться. В 1744-м слоновый двор перевели к Литовскому каналу. В малом зверинце, расположенном против Летнего дворца, содержались американские олени – в документах их называли «малою американскою дичиною», а также «две малые иностранные дикие козы». Там же держали зайцев, белых сурков и куниц. Екатерингофский зверинец к 1741 году пришел в упадок. В описи того времени говорится, что он «огорожен кольем, городьба которого развалилась и погнила, в нем один анбар да изба с сеньми, ветхая». Содержавшихся там оленей перевели в петергофский зверинец. Неподалеку от него находился и «двор» для восьми диких быков, присланных в подарок прусским королем. Оригинален был способ содержания пяти бурых медведей. В 1737 году их отдали на прокорм в петербургские мясные ряды. При этом повелевалось «содержать их и кормить надлежащим кормом, без отговорок, и чтоб те медведи заморены не были; буде же от недовольного корму заморены будут, то альтерману и старшине учинено будет наказание, ибо оные медведи приводятся для травли ко двору». Но когда один медведь сбежал, то последовало повеление прочих вывести оттуда и содержать за Невою, «дабы впредь людям никакого повреждения не было». Однако продовольствовать медведей от мясных рядов купцов обязывали по-прежнему. Все просьбы торговцев оплачивать им прокорм животных или освободить от этой тягостной повинности успеха не имели; было объявлено от имени императрицы, что «никакого удовольствия им учинить невозможно». Заметьте, что медведей требовалось немало, ибо, как почтительно сообщали «Санкт-Петербургские ведомости», «Ее Императорское Величество наша всемилостивейшая государыня до сего времени едва не ежедневно по часу перед полуднем смотрением в зимнем доме бывающей медвежьей и волчьей травли забавляться изволила». Это бывало зимой. Летом же травли устраивались в другом месте: «Вчерашнего дня гуляла Ее Императорское Величество в Летнем саду и при том на бывшую во оном медвежью травлю смотрела». Последующие царственные особы уже не обнаруживали такого страстного увлечения охотой и зверинцами, как Анна Иоанновна. На смену царским, недоступным для столичных обывателей зверинцам пришли частные, передвижные, которые за умеренную плату мог посетить любой горожанин. «Пойдите в зверинец Турньера…» До открытия в Петербурге зоологического сада жители столицы удовлетворяли свою любознательность, посещая заезжие зверинцы. Поначалу они делали это не без опаски, поэтому хозяин заморских животных, Антонио Белли, навестивший Петербург в 1786 году, счел нужным успокоить публику, печатно сообщив, что «все… звери… и птицы хранятся в железных ящиках, так что зрителям нечего бояться». Это был второй по времени появления в столице зверинец, открытый для всех; в состав его входили: леопард, несколько обезьян, дикобраз, птицы разных пород и даже «львиная чучела». Демонстрировался он в одном из самых людных мест – на Сенной, в доме генерала Рогачева (Садовая ул., 35/14). Первый же частный зверинец, который за деньги мог посетить любой горожанин, появился в Петербурге еще в 1769-м; показывался он в уже известном читателю доме Ягужинского на Ново-Исаакиевской улице и был небогат: африканский верблюд, три обезьяны да два ежа, а посему вряд ли мог привлечь особое внимание петербуржцев. Но, как говорится, лиха беда начало. Спустя три десятка лет, в январе 1798 года, «Санкт-Петербургские ведомости» оповестили своих читателей: «Сим объявляется, что привезенные недавно иностранные живые звери… показываются ежедневно от 9 часов утра до 7 часов вечера в Шулеповом доме, что у самого Аничкова моста. Они суть: большой Африканский Лев чрезвычайной красоты, Леопард, Барс, Африканская Гиена, большой солнечный Орел, Пеликан знатной величины, Мандрия, Ара Бразильская, Какаду и проч. За вход платят в первом месте по 1 рублю, во втором по 50 коп., в третьем по 25 коп., а господа по произволению. Желающие смотреть их, когда едят, соблаговолят приходить в шестом часу вечера. При сем содержатель сих зверей извещает, что он не только продает их, но и сам покупает подобных, ежели у кого есть продажные». Прежде всего поясним, что «Шулепов дом» у Аничкова моста находился на месте нынешнего дома № 40 по набережной реки Фонтанки. Участок, огороженный дощатым забором, был очень просторен, и, стало быть, места для зверинца более чем достаточно. А он на сей раз оказался не маленьким! И интерес к нему был столь же велик; об этом можно судить хотя бы по тому, что, несмотря на довольно высокие цены, зверинец исправно посещался, и это позволило владельцу пробыть в городе с января до мая. В 1820-х годах большой популярностью пользовался зверинец Лемана. Для владельца данное занятие не было основным. Этот, по выражению газетного обозревателя, «артист в роде паяцов» подвизался в роли антрепренера французских арлекинов. Балаганы Лемана увеселяли столичную публику на протяжении нескольких десятилетий, без них невозможно было представить себе масленичных и пасхальных представлений «под качелями». Состав его зверинца в значительной части оставался традиционным, с явным преобладанием хищников. Видимо, желая внести разнообразие, в 1826-м Леман меняет его, о чем газета «Северная пчела» незамедлительно сообщила своим читателям: «Известный Леман, содержатель редких зверей, которые прежде показывались на Вознесенском проспекте… возвратился в Петербург с новым собранием зверей, между коими нет ни одного плотоядного или злого…В оном есть невиданная здесь Зебра из Африки, Кенгуру из Новой Голландии, множество разнородных, прекрасных саег и обезьян… Видеть их можно ежедневно с 10 часов утра до 6 часов вечера, у Каменного моста, в доме аптекаря Штрауха № 56» (Гороховая ул., 27/49). Надо сказать, что для передвижного зверинца «собрание редких зверей» Лемана действительно отличалось интересным подбором экспонатов. В 1830 году к прежним животным прибавился морж, «одно из алчных, огромнейших чудовищ», как охарактеризовал его тот же неутомимый хроникер «Северной пчелы», по-видимому отнеся безобидного толстяка к отряду «злых и плотоядных». На этот раз зверинец демонстрировался в манеже при доме купца Козулина (наб. р. Мойки, 65). Манеж этот, находившийся во дворе, использовал для представлений другой известный балаганный артист того времени – Жак Турниер, блестящий цирковой наездник. В 1827-м он исхлопотал себе право выстроить первый стационарный цирк в нашем городе; в течение пятнадцати лет деревянное здание стояло на месте нынешнего каменного цирка, после чего было разобрано по ветхости. Наряду с основным своим занятием Турниер иногда демонстрировал различных дрессированных животных, например слона, умевшего не только ловко откупоривать бутылки со спиртным, но и поглощать их содержимое в невиданных количествах. В 1838 году Турниер выставил на обозрение уже целый зверинец, который удостоился снисходительного отзыва знакомого нам корреспондента «Северной пчелы»: «Если вы испугались смешного объявления о зверинце Турньера и до сих пор еще не были в нем – напрасно! Правда, что зверинец не завидный: вам покажут несколько общипанных птиц, какую-то хохлатую собаку, называя ее Китайскою, змей и обезьян, которых, кажется, мы видели уже много раз в Петербурге и Москве. Правда и то, что чичероне зверинца лжет, рассказывая чудеса о своих обезьянах и попугаях, но все-таки пойдите в зверинец Турньера – там есть любопытное животное – носорог! Его стоит посмотреть…Смотря на него, вы не пожалеете, что заплатили два двугривенника». Зверинец Турниера помещался в деревянном здании на углу набережной реки Мойки и Кирпичного переулка (участок дома № 61/8), построенном в 1832-м неким Клейншпеком для своего механического театра. Там же показывался в 1849-м и другой зверинец, принадлежавший голландцу Заму и впервые появившийся в столице несколькими годами ранее. Для привлечения публики Зам использовал весь арсенал средств, принятых в то время в передвижных зверинцах. Самое обычное из них – кормление удава живыми кроликами и курами в присутствии зрителей. Когда же этот испытанный аттракцион приедался, в ход пускались более острые зрелища, как видно из следующего газетного объявления: «В воскресенье, 1 мая, после кормления диких зверей в 1 час пополудни зрители увидят невиданную до сего времени редкость: спустят Бенгальского льва и медведя в одну клетку». Насчет «невиданной редкости» Зам, как мы знаем, заблуждался, а вот что касается вкусов части публики – тут он рассчитал правильно: народ валом валил поглазеть на драку медведя со львом. Выступал Зам и в качестве укротителя с классическим номером: входил в клетку льва и гладил его по голове. И это тоже нравилось зрителям, так что содержатель зверинца не мог пожаловаться на отсутствие посетителей. С открытием 1 августа 1865 года первого в нашем городе зоологического сада окончилось время бродячих зверинцев и был сделан первый, пусть небольшой, шаг к новому осмыслению их роли как научно-просветительных учреждений. Возле Императорской библиотеки Своеобразным и совершенно новым зрелищем стали круговые живописные «панорамы», быстро вошедшие в моду и пользовавшиеся успехом в течение многих лет, дожив до наших дней. До сих пор считалось, что первым подобного рода экспонатом явилась «панорама госпожи Латур», выставленная в 1820-м в деревянной ротонде, установленной на углу Большой Морской и Кирпичного переулка. Вниманию зрителей предлагалось полотно, написанное венским художником, академиком Штейнигером, которое изображало панораму Парижа 1814 года, во время пребывания там союзных войск. Картина писалась с натуры, с высоты одного из флигелей дворца Тюильри. Париж был представлен на ней в дни крушения наполеоновской империи, в чем зритель мог убедиться собственными глазами, то любуясь «мужественными пруссаками в синих колетах» и казаками, «несущимися как вихрь», то разглядывая «безобразного башкирца» в окружении толпы зевак. Все это изображалось на фоне парижских дворцов, церковных куполов и прочих достопримечательностей. Но оказывается, петербуржцы уже видели подобную панораму полутора десятком лет ранее! Правда, исторические аксессуары были в то время совсем иными: звезда Наполеона еще только восходила. Зато все остальное отличалось большим сходством, о чем судить самому читателю. В № 69, от 26 августа 1804 года, «Санкт-Петербургские ведомости» напечатали следующее объявление: «Учреждение „Панорама в Париже" прислало нынешним летом в Санкт-Петербург одну из превосходнейших своих картин, представляющих город Париж с его окрестностями. Снят оной из флигеля Тюллерийского, ближайшего к реке, и все изображено на сей картине с удивительною точностью, что только из сего места обозреть было можно. Сверх сего представлено на оной в совершенстве все пространство, от самого неба до земли. Видеть могут возле Императорской библиотеки, ежедневно от 8 утра до вечера; за вход платится по 1 руб. 25 коп.». Новинка, как и следовало ожидать, имела большой успех. Несмотря на весьма солидную плату, в посетителях недостатка не было. Тем не менее устроители сочли нужным поместить в очередном номере газеты дополнительное и довольно пространное рекламное объявление, фрагменты которого и приводим: «Директор Панорамы видел с удовольствием, но без удивления, что почтенная публика отдавала справедливость картине, о коей пропечатано в прошлых Ведомостях и которой в прошедшем годе удивлялись все парижские художники… Люди, гуляющие в прекрасном Тюллерийском саду и находящиеся на улицах, подают справедливое понятие о Париже. Чтобы возвысить изящество оной, представлен смотр войск, каковой имел Бонапарте в Европе: Бонапарте представлен тут впереди своих штаб-офицеров в консульской одежде…» Совершенно очевидно, что изображенный на картине смотр войск, производимый Наполеоном, имел целью не только «возвысить изящество оной», но и дать понять царю Александру I, с кем ему, в случае чего, придется иметь дело. Кстати говоря, к моменту прибытия панорамы в Петербург Бонапарт уже успел принять титул «императора французов», поэтому пропагандистское значение сего полотна несомненно. Панорама демонстрировалась в специально построенном для нее деревянном здании, стоявшем на Садовой улице, близ ее пересечения с Невским проспектом, рядом со старейшим, угловым корпусом Публичной библиотеки (в 1808–1810 годах на этом месте возведен дом № 18 по Садовой). Это была первая панорама, появившаяся в Петербурге, и уже поэтому она вызывала большой интерес, хотя изображала чужой город и события, в ту пору еще далекие сердцу русского человека. Насколько ближе должна была показаться вторая показанная в столице панорама, о которой известили горожан те же «Санкт-Петербургские ведомости» 31 марта 1805 года: «Почтенная публика чрез сие извещается, что большую панораму, представляющую переход Российской армии под предводительством фельдмаршала князя Суворова чрез гору Сан Готард и занятие Дьявольского моста, можно видеть ежедневно от 10 часов до полудня до 5 часов вечера в доме, бывшем Воронцова, а ныне принадлежащем Капитулу ордена ев. Иоанна Иерусалимского, что против Гостиного двора, идучи от Невской перспективы к Сенной. Картина длиною 96 аглинских футов, а вышиною 24 фута. Лица на оной представлены в человеческий рост и в возможнейшем сходстве». Российская национальная библиотека. Современное фото Выходит, что у знаменитой суриковской картины на тот же сюжет существовала далекая предшественница! К сожалению, в объявлении не указано имя ее создателя, и остается лишь догадываться о нем. Скорее всего, это был если и не русский художник, то, по крайней мере, долго живший в России, как, к примеру, Джон Аткинсон, написавший для императора Павла несколько полотен из русской истории, а также портреты самого царя и Суворова. Он же является автором широко известной панорамы Петербурга и многих батальных картин. Интересное совпадение: произведение, посвященное подвигу суворовских чудо-богатырей, большинство из которых в ту пору еще здравствовало, демонстрировалось в здании, где полтора века спустя разместят Суворовское училище. Деревянное сооружение, стоявшее рядом с Публичной библиотекой, просуществовало всего три года. После панорамы Парижа в нем выставлялись уже изображения российских городов, как видно из объявления, опубликованного в № 35, от 30 апреля 1807 года: «На Невском проспекте, подле Императорской библиотеки, в деревянном строении показываются панорамы: столичного города Москвы и губернского города Риги. Видеть оные можно всякий день от 10 часов утра до вечера. Вид города Москвы снят от дома тамошнего Главнокомандующего, а Риги от таможенного дому, подле мосту на реке Двине. Оба города представляют с лучшими округами приятнейшие виды и с натуральным местоположением сходны. За вход платят по 1 рублю 50 коп. за оба вида». Спустя несколько месяцев, осенью того же года, в газете появилось коротенькое объявление: «Подле Императорской библиотеки, против Гостиного двора зеркальной линии, продается дом, где прежде была панорама…» Вскоре кто-то купил его на слом, и здание прекратило свое существование. А незадолго до появления первой панорамы многие петербуржцы стали свидетелями необычайного события. Полеты на воздушном шаре В октябре 1802 года жителям Северной столицы предлагалось невиданное дотоле зрелище: полет на воздушном шаре. Прибывший из Богемии некий профессор Черни через «Санкт-Петербургские ведомости» уведомлял почтенную публику, что он «воздушное свое путешествие с аэростатическою машиною назначил 16 числа сего октября месяца» и что «поднятие воздушного шара на воздух последует в саду 1-го Шляхетного корпуса». Очевидно, профессор допустил какие-то проволочки, чем вывел из себя тогдашнего военного губернатора графа М.Ф. Каменского, известного своим крутым и деспотическим нравом; 15 октября тот отдал полицейскому надзирателю Васильевской части короткий и категорический приказ: «Скажи профессору Черни, что на завтрашний день шар его может наедаться на месте, но послезавтра в 11 часов поутру хоть тресни, хоть он сам профессор роди, а шар его лети». Однако грозный начальственный окрик не помог, и шар не полетел. Собравшиеся зрители были разочарованы, а маэстро Черни пришлось с конфузом убираться восвояси. Весной следующего года, к празднованию столетнего юбилея столицы, в Петербург прибыл знаменитый французский воздухоплаватель А.-Ж. Гарнерен, чтобы показать местным жителям свое искусство. Еще до его приезда один из студентов Медицинской академии сделал небольшой шар и в присутствии императора Александра I запустил его в воздух. Опыт прошел не совсем удачно – поднявшись на большую высоту, шар лопнул, потому что не имел отдушников. Тем не менее изобретательный студент заслужил всеобщую похвалу и одобрение самого государя, превзойдя по всем статьям незадачливого богемца. Полет на воздушном шаре для наблюдения солнечного затмения Первоначально Гарнерен продемонстрировал свое искусство в Павловске для супруги и матери царя, использовав при этом маленький шар, к которому была привязана кошка с зонтиком, выполнявшим роль парашюта. Когда шар поднялся в воздух, специально прикрепленный к нему зажженный фитиль, догорев, пережег путы, привязывавшие кошку к шару, и путешественница благополучно опустилась на землю, удостоившись высочайшего внимания: ее, дрожавшую от страха и пережитых волнений, представили обеим императрицам, изволившим погладить и приласкать пронзительно мяукавшую аэронавтку. О том, как происходил полет самого Гарнерена, можно узнать из письма известного ученого и столь же известного мемуариста А.Т. Болотова от 2 июля 1803 года; Андрею Тимофеевичу как раз в ту пору довелось побывать в столице по делам. Приведу наиболее красочные выдержки из его описания: «Пускание шара представило всему здешнему городу действительно весьма пышное, величественное и приятное зрелище. Все жители от мала до велика насмотрелися оного и не могли оным довольно налюбоваться. Пункт времени назначен был к тому б часов после полудни, а место избрано и приготовлено было на Васильевском острове посреди кадетского сада. Тут вокруг того места, где назначено было пускать шар… поставлено было 100 кресел, и за каждое из них назначена цена по 25 рублей. За ними поделано из досок на козлах несколько лавок, и все желающие сидеть на них должны были платить по 5 рублей, а за сими прочие зрители должны были стоять на земле и за сие должны были платить по 2 рубля серебром… Все приготовления сделаны были уже с утра. Шар был по обыкновению тафтяной, покрытый лаком кофейного цвета, полосатый, величиною 11 аршин в диаметре, но не совсем круглый, а яйцеобразный и покрытый сеткою. Лодочка, или паче корзин, а для аеронавтов небольшая, сделанная из морского камыша и одетая кожею, чтоб в нужном случае могла и на воде продержать их дня два… В 3 часа отворен был сад для имеющих билеты, но вознесение не раньше воспоследовало, как уже в начале 9-го часа ввечеру. Позамешкались за неприбытием императрицы из Павловского, но Государь приехал уже прежде и с любопытством осматривал все приуготовление… Для царской фамилии поставлен был шатер и кресла, укрытые бархатом. Но Государь почти не сидел на них, а тотчас подошел ближе, и с ним многие и другие. Начало учинено было тем, что Гарнерен поднес к нему наполненный небольшой зеленый тафтяной шар на шнурочке… и Государь пустил его из своих рук. И оный показал всем путь, по которому пойдет большой шар… После сей предварительной забавы… сел Гарнерен в лодочку и с женою, и по поднятии на сажень от земли ухватили несколько человек лодочку за края… И тогда, раскланявшись, г. Гарнерен всем закричал: „Пошел“, – и как люди покинули вдруг, то и пошел он вверх, и прямо можно сказать – величественно и прекрасно, так что все с удовольствием смотрели… Погода была самая лучшая, небо ясное и ветерок самый маленький, и сей самый предписал ему путь от Кадетского корпуса чрез Неву на Зимний дворец, чрез Аничковский и на Невский монастырь. Он поднялся версты на две вверх, но все был очень виден… И какой это везде шум, какое судаченье, какое беганье и глазопяленье у всех было. У простого народа только и было на языке, что это не просто, а дьявольским наваждением. А народа-то, карет-то на всех площадях и набережных и кровлях-то ближних было несметное множество, но сим все и кончилось. Отлетел же он не далее как версты 3 от города и опустился за Невским на Выборгской за Охтою, и если б не подоспели люди, то г. Гарнерен сломил бы себе голову, ибо нанесло его на лес, но спасибо успели люди ухватить за выброшенный им якорь и силою перетащить его чрез лес на болото, а тут прискакали уже кареты и повезли их, дрожащих от стужи и от испуга, ужинать к военному губернатору…» Так закончился этот полет, имевший столь большой успех у публики. Но выступления Гарнерена не завершились: из Петербурга он отправился в Москву и там произвел не меньший фурор. У француза нашлись и отечественные последователи. Чтобы привлечь еще большее внимание публики, аэронавты стали приглашать желающих принять участие в полете, но таковых оказывалось чрезвычайно мало, и на них смотрели как на бесшабашных сорвиголов. С годами полеты на воздушном шаре утратили былую сенсационность и стали использоваться в научных целях, к примеру для астрономических наблюдений. Наполнение шаров газом происходило на дворе газового завода на Обводном канале; оттуда и начинали воздухоплаватели свой путь в петербургском небе, проложенный в начале XIX века отважным Гарнереном. Глава 3 Быт и нравы Что русскому здорово, то немцу смерть! Русская баня всегда привлекала внимание иноземцев, дивившихся обычаям непостижимых «московитов». Немецкий путешественник Адам Олеарий, несколько раз посетивший Россию в первой половине XVII века, так описывал увиденное: «Они в состоянии переносить сильный жар, лежат на полке и вениками нагоняют жар на свое тело или трутся ими (это для меня было невыносимо). Когда они совершенно покраснеют и ослабнут от жары до того, что не могут более вынести в бане, то и женщины, и мужчины голые выбегают, окачиваются холодною водой, а зимою валяются в снегу и трут им, точно мылом, свою кожу, а потом опять бегут в горячую баню. Так как бани обыкновенно устраиваются у воды и у рек, то они из горячей бани устремляются в холодную». Царившая в общественных банях патриархальная простота нравов также изумляла испорченных цивилизацией заезжих гостей. Хотя мыльные помещения для мужчин и женщин были разгорожены бревнами, входили и выходили они через одну и ту же дверь, и лишь некоторые из них прикрывали причинные места вениками… Прошло полтораста лет, но банные порядки не претерпели за это время ни малейших изменений, несмотря на суровые указы, предписывавшие содержателям публичных бань строить их для обоих полов раздельно и в женские пускать только тех мужчин, которые необходимы для обслуживания, да еще художников и врачей, «приходящих туда для изучения своего искусства». Бани. Фото середины XIX в. Но, как свидетельствует француз Ш. Массон в «Секретных записках о России», относящихся к концу XVIII века, «чтобы проникнуть туда, охотники попросту присваивают себе одно из этих званий». Он же повествует далее, что, хотя бани и купальни в Петербурге разделены для обоих полов перегородкою, «многие старые женщины всегда предпочитают вмешиваться в толпу мужчин; да, кроме того, вымывшись в бане, и мужчины и женщины выбегают голышом и вместе бегут окунуться в протекающей сзади бани реке. Тут самые целомудренные женщины прикрываются березовыми вениками, которыми они парились в бане. Когда мужчина хочет вымыться отдельно, его часто моет и парит женщина; она тщательно и с полным равнодушием исполняет эти обязанности. В деревне устройство бань старинное, то есть там все полы и возрасты моются вместе, и семья, состоящая из сорокалетнего отца, тридцатипятилетней матери, двадцатилетнего сына и пятнадцатилетней дочери, ходит в баню, и члены ее взаимно моют и парят друг друга в состоянии невинности первых человеков». Но если в этом отношении нравы простых россиян сохраняли идиллическую невинность, то в другом они таковыми не были, изрядно упав. Проще говоря, в банях частенько поворовывали, так что, явившись туда одетым и обутым, посетитель рисковал покинуть это заведение голым и босым. По неизвестным причинам банщики не желали брать на себя ответственность за сохранность оставленной одежды и, помещая объявление об открытии торговых бань и наличии при них теплых изб, не забывали сделать в конце многозначительную оговорку: «А кто в оных раздеваться пожелает, те б платье стерегли сами, и что из оного каким-либо образом пропадет или все унесут, за то они ответствовать не обязуются». Тем самым обыватель ставился перед выбором: либо мыться, не снимая одежды, либо, разоблачившись прямо в мыльне, внимательно приглядывать за своим узелком, чтобы не уйти оттуда в чем мать родила. Если же говорить серьезно, баня всегда играла в жизни простого русского человека огромную роль, являясь наиболее доступным и подручным средством от многих болезней, вызванных тяжелым физическим трудом и непосильными нагрузками. К парной бане детей приучали с малолетства, и она же была мощным закаливающим фактором; именно благодаря ей русские славились силой и выносливостью, легко переносили холод и жару. Впрочем, некоторые иностранцы никак не могли взять в толк причину столь большой привязанности черного люда к бане и даже склонны были усматривать в ней источник многих опасностей для здоровья. Некий благожелательно настроенный к русским иноземный врач, действуя из лучших побуждений, поместил по этому поводу в «Санкт-Петербургских ведомостях» такое предостерегающее объявление: «Грек Иван Михаилици Ксантопуль примечает, что нижеписанные между простым народом злоупотребления весьма вредны: 1) младенцев парят в обыкновенных банях, 2) женщины почти в самый день родов в баню ходят, 3) парющиеся после чрезвычайного разгорячения окачиваются в ту же минуту холодною водою и 4) в бане и после оной пьют все холодное. Сии обстоятельства, утверждает он по всем опытам, являются пагубными для всех употребляющих…» (Санкт-Петербургские ведомости. 1773. № 39). Возразить против такого заключения можно лишь старым присловьем: что русскому здорово, то немцу смерть! Врачи знали толк в рекламе Если в баню наши пращуры ходили часто и охотно, то о визитах к зубным врачам этого не скажешь. Впрочем, и появились таковые – в нашем понимании этого слова – значительно позже, хотя уже у египетских мумий находили искусственные и запломбированные золотом зубы, а римляне ввели в обиход употребление зубного порошка. На Руси зубоврачебное искусство долгое время отождествлялось с зубодерным; известно, к примеру, как любил им заниматься Петр I, немедленно пускавший в ход подручные щипцы, стоило ему услышать от кого-нибудь из придворных жалобы на зубную боль. Якоб Штелин приводит по этому поводу любопытный анекдот. Некий камердинер государя, по фамилии Полубояров, желая отомстить своей супруге, которую он не без оснований подозревал в неверности, как-то шепнул Петру, что его камердинерша якобы страждет зубами, но боится неприятной операции по их удалению, а посему терпит боль, признаваясь в том лишь мужу. Отзывчивый к таким заявлениям царь недолго думая велел призвать мнимую страдалицу, пообещав немедленно ей помочь. Тщетно уверяла перепуганная женщина, что зубы у нее ничуть не болят; коварный муж стоял на своем, утверждая обратное. «Вот так каждый раз! – восклицал он. – А стоит лекарю уйти, как она тут же начинает стонать и жаловаться». Тогда государь, не слушая больше уверений своей пациентки, приказал камердинеру держать ее покрепче, после чего заставил несчастную открыть рот и вырвал тот зуб, который показался ему больным. К чести царя, остается добавить, что, когда правда вышла наружу, он повелел примерно наказать Полубоярова за его ложь. Известно, впрочем, что даже люди богатые, имевшие полную возможность обратиться к заезжим иностранным лекарям и возместить утрату собственных зубов искусственными, не спешили этого делать, предпочитая пугать окружающих голыми деснами. Семен Порошин в своих «Записках», относящихся к 1765 году, отмечает, что однажды за столом у великого князя Павла Петровича, когда речь зашла о «зубной болезни», граф Иван Григорьевич Чернышев, которому к тому времени не исполнилось и сорока лет, продемонстрировал собравшимся свои зубы, присовокупив при этом, что одиннадцати из них уже нет. А ведь зубные врачи в Петербурге в ту пору были, и лечение не выглядело так, как это описывает Штелин. Первый зубной лекарь, немец Фридрих Гофман, появился в столице еще при Анне Иоанновне, в 1736-м; правда, рекламировал он свое искусство несколько странно – о зубах в его объявлении не было и помину, а говорилось лишь о том, что «у него в доме можно в ванне мыться и употреблять пары из лекарственных трав сделанные». Трудно сказать, какое влияние оказывали эти таинственные пары на зубную боль, но известно, что спустя год чужеземный целитель, вероятно из-за недостатка пациентов, вынужден был тихо отбыть восвояси. С.А. Порошин Его коллега, явившись в город двадцать лет спустя, выглядел уже искушенным профессионалом, во всеоружии своего ремесла, мало в чем уступающим современным дантистам. «Санкт-Петербургские ведомости» за 1757 год в № 10 оповещали своих читателей: «Сим объявляется, что приехал сюда искусный и при многих дворах апробованный зубной лекарь, который весьма искусно вынимает зубы и опять вставливает, коими можно действовать так, как родными; он также и очищает их от всякой нечистоты, имеет надежное средство зубную болезнь утолять в момент и зубы хранить; чего ради желающие его к себе призывать, могут найти его в Миллионной улице в доме купца Меэра». Впервые обывателям предлагалось не только «вынимать» зубы, но и «вставливать» их, вдобавок с заманчивой перспективой «действовать» ими, «как родными»; последнее утверждение вызывает сомнение и сделано явно в рекламных целях. В дальнейшем подобные объявления встречаются все чаще; зубные врачи перестают быть диковиной на манер странствующих фокусников и штукарей, их начинают приглашать на постоянную работу в учебные заведения, и они обязуются принимать по определенным дням бесплатных больных. Например, господин дю Брель, «врач сухопутного шляхетного кадетского корпуса и общества благородных девиц», извещал, что «по вторникам и пятницам по полудни с 2 до 5 часов пользовать будет в зубных болезнях неимущих без всякой за то платы» (Санкт-Петербургские ведомости. 1777. № 54). Попутно начинают продаваться чудодейственные зубные порошки, от которых, как гласит одно из объявлений, «зубы белизною делаются снегу подобными». Да, зубные врачи всегда знали толк в рекламе! В не меньшей степени этим искусством владели и заезжие учителя. Не всегда действительность оправдывала их радужные обещания, и порой случались забавные и не очень забавные казусы… В чужой монастырь со своим уставом Начиная с середины XVIII века в Петербург все чаще стали наезжать иностранцы, предлагавшие свои услуги в воспитании дворянских детей, обучении французскому языку, заморским танцам, «политесу», а заодно и разным прочим наукам. Столичные «Ведомости» запестрели объявлениями вроде нижеследующего: «Чрез сие объявляется, что ежели кто желает отдать обучать детей женска полу швальному искусству, французскому языку, танцовать, рисовать и на музыке, также и политичному обхождению, те могут явиться в доме Армянского купца Ивана Алексеева Измайлова, близ церкви Вознесения в Дворянской улице» (Санкт-Петербургские ведомости. 1752. № 581). Желающих было предостаточно: обойтись без иностранных учителей казалось немыслимым, и, если позволяли средства, таковые нанимались для каждого предмета в отдельности, а если нет – довольствовались и одним, учившим всему сразу, «шитью, арифметике, экономии, танцованию, истории и географии, а притом и читанию ведомостей», как значилось в одном из объявлений 1750-х годов. Разумеется, при таком комплексном методе, говоря современным языком, страдало качество, но тут уж делать было нечего: по одежке протягивали ножки. Бывало, впрочем, что и богатые баре экономили на обучении своих чад, не видя особой нужды в науках. Известный московский хлебосол и патриарх князь Ю.В. Долгорукий (1740–1830), доживший до девяностолетнего возраста, любил повторять знакомым молодым людям: «Учитесь, друзья, учитесь! Счастливы вы, что у вас так много учителей. В наше время было не то: брата да меня итальянец Замбони учил всему за сто рублей в год!» Учителя, надо сказать, попадались в ту пору разные. Однажды некий педагог, скорее всего из дешевых, выучил свою питомицу вместо французского «чухонскому» языку, что заставило папенек и маменек впредь быть осторожнее в выборе наставников и спрашивать с них письменное подтверждение их знаний. Встречались среди заезжих учителей и строптивцы, которых приходилось унимать и вразумлять, подводя к той простой истине, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Курьезная история, о которой хочется рассказать, разыгралась в доме знатного вельможи – Петра Борисовича Шереметева (1713–1788). Героем ее стал француз, «танцовальный мастер Гранже», приглашенный обучать своему искусству детей графа, девиц Анну и Варвару, а также сына Николая, товарища детских игр великого князя Павла Петровича. Действие происходит в так называемом «Миллионном доме» Петра Борисовича, доставшемся ему от тестя, государственного канцлера князя А.М. Черкасского, и находившемся на месте дворца великого князя Михаила Николаевича (Миллионная ул., 19). Граф в то время находился в Москве, на коронационных торжествах по случаю восшествия на престол императрицы Екатерины II. О том, что случилось в его отсутствие, узнаем из письма старого управляющего Андрея Зиновьева. Чтобы сохранить аромат эпохи, привожу его с небольшими сокращениями в том виде, как оно было написано: «Сиятельнейший Граф, Милостивый Государь Петр Борисович! …Танцовальный мастер Гранже великие интриги поделал в покоях, где он жил; убрался ко отъезду в Москву на другой двор, а в те покои вместо себя пустил незнаемо каких три женщины, правда, хотя оные и весьма хорошенькие мамошки или кокетки, хотя о них я и сожалел, однако выгнал, как нечестивых, и покои выкурил и их нечистый дух. И первое было мне сказал он, Гранжей, что будто его жена остается тут жить, а я ему чрез переводчика на то ответствовал, что у него жены нет, он холост у нас жил; то после уже сказал: я де волен кого хочу, того пущу в те покои, и я ему велел сказать: он такой власти в доме вашего сиятельства не имеет, кого хочет без себя пустить. И оной Гранжей пришед разругал меня, но я, по его чужестранству, ему то уступил и не бранился с ним, и он мне сказал, якобы ему князь Андрей Николаевич (Щербатов, друг и родственник Шереметева. – А. И.) приказал, что хотя он в Москву поедет, токмо в те покои кого хочет он от себя пустит безденежно, но я, на то не взирая, согнал их, и он пришедши, в тех покоях видя то, что по его желанию не сделалось, мамошки его выгнаны, так бессовестно сделал, что все подмазку в покоях тех обил и во многих местах карнизы подмазанные штуком отломал, выдирая свои пристройки на смех, и стекол в окончинах (то есть рамах. – А. И.) много перебил, каналья. Послал я подьячего домового ему сказать, что для чего он такие обиды дому делает, он на посланного замахивался обухом, хотел его бить и хотел замки от дверей отнять, однако я не дал; и ему злобно показалось, для чего его мамзелек или кокеток не допустил тут жить. И я, не зная, какие оне пущены у него были, во все ночи скачка да пляска и крик у них был, и он обещался вашему сиятельству за оное на меня жаловаться. Подлинно русская пословица: хозяин, вынеси образа, пусти черта жить, так-то он жил, насильно его выгнал. Другим жильцам подле него покою не было от его тут житья. Вашего высокографского сиятельства милостивого государя всепокорнейший слуга Андрей Зиновьев сентября 12 дня 1762 г. Санкт-Петербург». Несмотря на столь драматичное изгнание «Гранжея» с его нечестивыми «мамзельками», сей бузотер, по-видимому, не лишился расположения своего патрона и доброй репутации; по крайней мере, через три года он уже обучает танцам не кого-нибудь, а самого наследника престола Павла Петровича, и его имя неоднократно встречаем на страницах «Записок» Семена Порошина, воспитателя великого князя. Очевидно, преподанный танцовщику урок пошел впрок и он больше не пытался ходить со своим уставом в чужой монастырь! С тем же семейством графа П.Б. Шереметева связана и одна печальная история, закончившаяся смертью главной ее героини. Случилось это при довольно загадочных обстоятельствах. «И вместо брачного чертога… В Лазаревской усыпальнице Александро-Невской лавры покоится мраморный саркофаг со стихотворной эпитафией А.П. Сумарокова: А ты, о Боже, глас родителя внемли! Да будет дочь его, отъятая судьбою, Толико в небеси прехвальна пред Тобою, Колико пребыла прехвальна на земли. Надгробная надпись гласит, что здесь погребена графиня Анна Петровна Шереметева, дочь Петра Борисовича и невеста графа Никиты Ивановича Панина, скончавшаяся в 1768 году, двадцати трех лет от роду, «и вместо брачного чертога тело ее предано недрам земли». История эта такова. У богатого и знатного вельможи П.Б. Шереметева, женатого на еще более богатой наследнице канцлера князя А.М. Черкасского, умерла во цвете лет дочь, так и не успевшая выйти замуж за своего суженого – графа Никиту Ивановича Панина, известного дипломата, с 1760 по 1773 год занимавшего должность воспитателя наследника, великого князя Павла Петровича. По свидетельству современников, Анна Петровна была очаровательной девушкой, хотя и не считалась красавицей. С самых юных лет она постоянно бывала при дворе, пожалованная во фрейлины еще покойной императрицей Елизаветой, а ее брат Николай воспитывался вместе с цесаревичем. Шереметева частенько выступала в придворных любительских спектаклях; рассказывают, что во время разыгрывания комедии под названием «Зенеида», состоявшегося 21 февраля 1766 года, на ней было надето бриллиантов на 2 миллиона рублей. В июле того же года Анна Петровна отличилась в карусели (конная игра) и получила в награду сразу три золотые медали с ее именем. А незадолго до этого во дворце разразился скандал: прошел слух, будто бы помощник воспитателя великого князя, Семен Андреевич Порошин (оставивший очень интересный дневник, опубликованный в 1881 году), имевший несчастье влюбиться в графиню Анну Петровну Шереметеву, вступил с ней в объяснение, во время которого будто бы оскорбил ее. Это послужило формальным поводом для его отставки. Впрочем, как полагают некоторые, подлинной причиной было то обстоятельство, что Порошин вел скрупулезную хронику всех дворцовых событий, что не особенно нравилось императрице. Теперь уже невозможно установить, действительно ли Порошин сказал или совершил что-либо оскорбительное для юной графини, но, читая его дневник, трудно поверить в это. Скорее всего, оскорбительным был сочтен сам факт признания в любви скромного, сравнительно небогатого дворянина дочери одного из состоятельнейших людей России. Между тем Анне Петровне был уготован совсем иной жених; поначалу Екатерина II прочила на эту роль одного из братьев Орловых, но, узнав, что за девушку посватался граф Никита Иванович Панин и та отвечает ему взаимностью, заставила Ивана Григорьевича Орлова написать от имени брата отказ от ее руки. В начале 1768 года состоялась помолвка Панина с Шереметевой, а спустя несколько месяцев, 17 мая, невеста скончалась от оспы, всего за несколько дней до свадьбы. Поговаривали, что она заразилась от оспенной материи, подложенной неизвестной соперницей в табакерку, полученную графиней в подарок от жениха, но так это или нет – навсегда останется тайной. Известно лишь, что Никита Иванович так и остался холостым, до конца дней сохранив верность своей возлюбленной. Печальна и судьба другого участника этой драмы, С.А. Порошина: он умер спустя год после Анны Петровны, не дожив и до двадцати девяти лет. Неразделенная любовь может убить, зато любовь счастливая способна творить чудеса, освобождая душу от зла, преображая ее, побеждая надменность, жестокость и бессердечие. Должен предуведомить читателя, что события, о которых рассказывается в следующем очерке, отчасти разворачивались в Москве. Три сестры Это произошло в семье князя В.П. Долгорукого (умер в 1761 году), типичного «самоуправца» и самодура, которых во все времена было немало на Руси, но в данном случае эти качества являлись как бы родовым признаком, передававшимся из поколения в поколение. Крутостью отличался прадед князя, боярин и воевода Юрий Алексеевич, усмиритель Разинского бунта, жестоко умерщвленный восставшими стрельцами в 1682 году; лют и властен был и сын его Михаил, поднятый на копья теми же стрельцами за свою тяжелую руку. Схожим нравом обладал и сам Владимир Петрович, человек умный, но чрезмерно гордый, властолюбивый и всегда беспощадный. Крепостные трепетали от одного его взгляда; подобный же испуг испытывала и жена князя, Елена Васильевна, кроткая и любящая женщина, старавшаяся ни во что не вмешиваться и во всем покорная мужу. Несмотря на видное положение и значительное состояние, В.П. Долгорукий не считал нужным много тратить на образование детей, которых было шестеро – двое сыновей (один из них уже упоминавшийся князь Ю.В. Долгорукий) и четыре дочери; о последних и поведем рассказ. Старшая, Екатерина, родившаяся в 1733-м, вышла замуж за будущего адмирала И.Я. Барша – вот, пожалуй, и все, что известно. Гораздо больше знаем о трех ее младших сестрах-погодках – Прасковье, Александре и Наталье. Начнем со средней. Вместе с мужем, князем Я.А. Козловским, она поселилась в Москве и завела в своем доме такие порядки, что потребовалось вмешательство полиции, чтобы укрыть ее от озлобления народа, возмущенного чудовищной жестокостью княгини по отношению к дворовым. Не стоит приводить примеры ее маниакальной свирепости и озверения – они свидетельствуют о полном разложении личности, лишенной всяких нравственных основ и вдобавок наделенной властью удовлетворять самые дикие свои фантазии. В последнем она походила на Дарью Салтыкову, пресловутую Салтычиху, погубившую десятки людей и в конце концов посаженную императрицей Екатериной II в монастырскую темницу. Александре Козловской, к сожалению, удалось избежать наказания; отправленная из Москвы в Петербург, под крылышко своего влиятельного зятя графа Н.И. Салтыкова – воспитателя великих князей Александра и Константина, – женатого на ее сестре Наталье, она продолжала и здесь вести тот же образ жизни, истязая и мучая приставленных к ней слуг. Уже цитировавшийся Ш. Массон, служивший в 1790-х годах секретарем при Н.И. Салтыкове, так пишет о А.В. Козловской: «Я дал этому чудовищу принадлежавший ей титул княгини, не смея назвать ее женщиной, из боязни осквернить это имя. Оно… громадных размеров по росту и тучности и похоже на одного из сфинксов, находимых среди гигантских памятников Египта». Н.В. Салтыкова Слухи о садистских наклонностях княгини Козловской постепенно начали распространяться по столице, бросая тень и на ее родственников, поэтому сам Н.И. Салтыков вынужден был наконец запретить свояченице держать прислугу из крепостных, и к ней стали присылать солдат, наряжаемых по очереди, как на барщину. Немногим уступала А.В. Козловской в жестокости и ее сестра Наталья Салтыкова, но, будучи гораздо умнее и хитрее, она умела избегать огласки, за исключением, пожалуй, одного-единственного случая, который сделался известен всему городу. Дело в том, что графиня Салтыкова к старости облысела и носила парик; почему-то ей очень хотелось скрыть этот в общем-то маловажный факт от современников. Посвященным в тайну, естественно, оказался ее крепостной парикмахер, которого графиня, не надеявшаяся на его умение хранить секреты, три года (!) продержала в клетке у себя в спальне, выпуская лишь для причесывания. Так бы бедняга и просидел всю жизнь, свою или графинину, взаперти, если бы в один прекрасный день ему не посчастливилось бежать. Наталья Владимировна имела неосторожность разыскивать беглого цирюльника через полицию и даже обратилась по сему поводу к Александру I. Во время полицейского дознания вся история всплыла наружу и тайное стало явным. Узнав обстоятельства дела, царь повелел прекратить поиски, а Салтыковой объявить, что ее слуга утонул в Неве. Поговорив о двух младших сестрах, перейдем теперь к Прасковье. В юности ее повадки мало чем отличались от принятых в семье: бывало, если платье выглажено не совсем хорошо, барышня не вспылит, не разругает, а просто-напросто велит пройтись у нерадивой девки по спине горячим утюгом; заметит в своих покоях где-нибудь в углу паутину, тут же призовет горничную и прикажет слизнуть все собственным языком и т. д. Обычная практика крепостного мучительства, причем настолько въевшаяся в плоть и кровь, что не всегда даже осознаваемая самим мучителем – ведь все так делают. Так поступала и Прасковья, пока не появился в ее жизни И.И. Мелиссино, человек, заставивший княжну по-новому взглянуть на себя и на других. Ивану Ивановичу Мелиссино (1718–1795) суждено было до конца дней своих пребывать в тени младшего брата, генерала от артиллерии Петра Ивановича; но если он и не прославился на полях сражений, то зато имя его было хорошо известно в кругу тогдашних литераторов – А.П. Сумарокова, М.М. Хераскова, И.П. Елагина. Иван Иванович принадлежал к числу образованнейших и культурнейших людей своего времени, и российское просвещение многим ему обязано. Долгие годы он занимал пост куратора Московского университета. Восемнадцатилетняя Прасковья знакомится в доме отца своего с тридцатипятилетним Мелиссино и влюбляется в образованного и любезного гостя. С замиранием сердца слушает она такие непривычные для нее речи о бессмысленности жестокого обращения с крепостными, людьми темными и невежественными, и о необходимости просвещать их, будить в них спящую душу. Под влиянием этих слов собственная «спящая душа» девушки пробуждается, а некрасивый человек, старше ее чуть не двадцатью годами, кажется ей воплощенным совершенством. Иван Иванович отвечает на ее чувство, и они дают друг другу слово. Но когда незнатный, небогатый и еще не чиновный в ту пору Мелиссино отважился посвататься, старый князь приказал вытолкать его в шею, а дочери пригрозил лишением наследства и проклятием. Видя страдания матери, Прасковья спустя некоторое время сама уговаривает возлюбленного жениться на другой, чтобы положить между ними непреодолимую преграду. По ее же настоянию Иван Иванович вступает в брак с девушкой, которую княжна для него выбрала из числа своих подруг. Через шесть лет, в 1759-м, жена Мелиссино умирает в родах, а еще через год Прасковья, испросив материнского благословения, бежала из дому и обвенчалась со своим суженым. Отец сдержал слово: лишил дочь наследства и проклял. К потере состояния Прасковья Владимировна отнеслась равнодушно, но отцовское проклятие мучило ее всю жизнь. С мужем она была совершенно счастлива, хотя Бог и не наградил их детьми. Ее любящее сердце нашло утешение в сыне подруги, Н.А. Пушкиной, муж которой, Михаил Алексеевич (дальний родственник поэта), был осужден к ссылке в Сибирь за подделку ассигнаций. Жена последовала за ним, без особого сожаления оставив новорожденного Алешу на руках Прасковьи Владимировны. Та горячо полюбила «сироту», окружила его заботой и дала прекрасное воспитание, а он так привязался к своей приемной родительнице, что называл ее «матушкой» и продолжал проживать с ней, уже будучи отцом многочисленного семейства. Скончалась П.В. Мелиссино в глубокой старости, намного пережив своего супруга, так резко изменившего всю ее жизнь. Повесть о том, как поссорились… К немногим сохранившимся усадебным постройкам на Петергофской дороге относится бывшая дача княгини Е.Р. Дашковой Кирьяново (пр. Стачек, 45). Считается, что она была сооружена в 1783-м предположительно архитектором Д. Кваренги, одновременно с возведенным по его же проекту зданием Академии наук, которую княгиня в ту пору только что возглавила. На месте нынешнего каменного дома стоял другой, деревянный, упоминаемый Е.Р. Дашковой в первых строках второй части ее «Записок»: «В 1782 году я приехала в С.-Петербург и, не имея дома в городе, поселилась на своей даче в Кирианове, в четырех верстах от столицы». Напомню, что княгиня возвратилась в столицу после восьмилетнего пребывания за границей и была весьма милостиво встречена императрицей, доверившей ей высокий пост директора Академии наук и пожаловавшей солидную сумму денег на покупку жилища. Но, приобретя городское владение на Английской набережной (дом № 16), не забывала Екатерина Романовна и о загородном, на Петергофской дороге, всячески благоустраивая и украшая его. Дача княгини Е.Р. Дашковой в Кирьянове (пр. Стачек, 45). Гравюра начала XIX в. В свое время Дашкова немало потрудилась, чтобы привести полученный ею еще в 1762 году участок в порядок, осушив на первых порах лишь наиболее возвышенную его часть. По ее уверениям, поначалу она вовсе не хотела брать пожалованную ей Петром III землю, от которой уже отказался некий голштинский дворянин, убоявшийся непомерных расходов по осушению болотистой почвы. Но, поддавшись уговорам отца, пообещавшего выстроить на участке небольшой деревянный дом, княгиня со свойственной ей энергией принялась за дело. При этом она, по своей всегдашней расчетливости, твердо решила избегать каких-либо затрат. Проблема была решена очень просто. Вот что пишет на сей счет в своих «Записках» сама Екатерина Романовна: «В это время в Петербурге находилась добрая сотня крестьян моего мужа, которые вообще ежегодно приходили в столицу на заработки и получали большие деньги. В благодарность за свое благосостояние и из чувства преданности они предложили поработать у меня четыре дня и выкопать канавы, а затем поочередно продолжать работу в праздничные дни. Они трудились с таким усердием, что вскоре наиболее высокий участок был осушен и стал готов под застройку дома, служб и двора». Название дачи дано было владелицей позднее, после переворота, возведшего на престол Екатерину II, в котором Дашкова принимала активное участие; совершилось это в день поминовения святых Кира и Иоанна, отсюда наименование – Кирьяново. Е.Р. Дашкова В результате всех усилий по благоустройству участка (причем Екатерина Романовна, неуклонно следуя все тому же режиму строжайшей экономии, отказалась от услуг архитектора и садовника, лично наблюдая за работами) он приобрел весьма привлекательный вид, не уступавший соседним дачам по обеим сторонам Петергофской дороги. Ближайшая из них принадлежала сенатору и андреевскому кавалеру, обер-шенку1 двора ее императорского величества Александру Александровичу Нарышкину, брату 1 Обер-шенк – придворный чин 2-го класса. известного шутника и острослова Л.А. Нарышкина, чья усадьба располагалась дальше по той же дороге. Надо сказать, что Е.Р. Дашкова, чьи заслуги перед русской наукой велики и неоспоримы, обладала крайне тяжелым характером, из-за чего сумела перессориться со всеми, с кем ей приходилось вступать в продолжительные отношения, даже с собственными детьми. А.А. Нарышкин тоже был далеко не сахар; по крайней мере, Екатерина II, знавшая его добрых пятьдесят лет и дружившая с его женой Анной Никитичной, после смерти Нарышкина отозвалась о нем как о человеке неприятном, невыносимом для окружающих. Одним словом, не в добрый час свела судьба этих соседей: коса неизбежно должна была найти на камень, что и не замедлило произойти. Первая ссора возникла из-за межи, а поскольку обе стороны не отличались уступчивостью и склонностью к компромиссам, пустяковый спор о 5 саженях земли перерос в непримиримую вражду, так что, встречаясь где-либо в обществе, противники немедленно отворачивались друг от друга, составляя, по насмешливому замечанию императрицы, фигуру двуглавого орла. Их взаимоотношения даже послужили Екатерине сюжетом для литературного произведения – несохранившейся пьесы под названием «За мухой с обухом», где в комическом виде изображалась тяжба Постреловой и Дурындина. Далее события разворачивались почти как в гоголевской повести. В один из октябрьских дней 1788 года две свиньи, принадлежавшие А.А. Нарышкину, предприняли неудачную попытку поживиться цветами, возросшими на участке Е.Р. Дашковой. Чем закончился для них этот злополучный набег и что за сим последовало, мы узнаем из «Сообщения Софийского нижнего земского суда в Управу Благочиния столичного и губернского города Святого Петра от 17 ноября 1788 года». Этот документ достоин того, чтобы воспроизвести его почти полностью: «Сего ноября с 3-го числа в оном суде производилось следственное дело о зарублении минувшего октября 28 числа на даче ее сиятельства, Двора Ее Императорского Величества штатс-дамы, Академии наук директора, Императорской Российской Академии президента и кавалера, княгини Екатерины Романовны Дашковой, принадлежавших его высокопревосходительству… Александру Нарышкину, голландских борова и свиньи, о чем судом на месте и освидетельствовано и… определено, как из оного дела явствует: ее сиятельство княгиня Дашкова зашедших на дачу ее принадлежавших… А.А. Нарышкину двух свиней, усмотренных якобы на потраве, приказала людям своим, загнав в конюшню, убить, которые и убиты были топорами, то… за те убитые свиньи взыскать с ее сиятельства княгини Е.Р. Дашковой, против учиненной оценки, 80 рублей… а что принадлежит до показаний садовников, якобы означенными свиньями на даче ее сиятельства потравлены посаженные в шести горшках разные цветы, стоющие 6 рублей, то сия потрава не только в то время чрез посторонних людей не засвидетельствована, но и когда был для следствия на месте г. земский исправник Панаев, и по свидетельству его в саду и ранжереях никакой потравы не оказалось… По отзыву же ее сиятельства, учиненному г. исправнику, в бою свиней незнанием закона, и что впредь зашедших коров и свиней також убить прикажет и отошлет в гошпиталь, то в предупреждение и отвращение такового… законам противного намерения, выписав приличные узаконения… объявить ее сиятельству, дабы впредь в подобных случаях от управления собою (то есть от самоуправства. – Л. И.) изволила воздержаться и незнанием закона не отзывалась, в чем ее сиятельство обязать подпискою». Представляете себе президента двух академий, багровую от ярости, с перекошенным лицом и растрепанными волосами, приказывающую слугам рубить топорами душераздирающе визжащих свиней? Зрелище не для слабонервных! Ссора, а затем смертельная вражда двух близких к государыне лиц, естественно, привлекала ее внимание, о чем говорят записи в «Дневнике» секретаря Екатерины II А.В. Храповицкого. 30 октября 1788 года он заносит туда следующие строки: «Дашкова побила Нарышкиных свиней; смеясь сему происшествию, приказано скорее кончить дело в суде, чтоб не дошло до смертоубийства». К судебному процессу о меже добавилось «дело о зарублении», закончившееся, кажется, лишь со смертью в 1795-м А. А. Нарышкина, который, показывая приятелям на красное лицо своей супостатки, любил говаривать: «Она еще в крови после смерти моих свиней…» Роковой треугольник Эта история в свое время наделала немало шума, и еще спустя полтора десятилетия после ее трагического окончания находим отголоски случившегося на страницах дневника А.С. Пушкина. Вот запись, сделанная им 8 марта 1834 года: «Княжна Туркестанова, фрейлина, была в тайной связи с покойным Государем и с кн. Владимиром Голицыным, который ее обрюхатил. Княжна призналась Государю. Приняты были нужные меры – и она родила во дворце, так что никто и не подозревал. Императрица Мария Федоровна приходила к ней и читала ей Евангелие, в то время как она без памяти лежала в постели. Ее перевезли в другие комнаты – и она умерла. Государыня сердилась, узнав обо всем. Вл. Голицын разболтал все по городу». Такова общая фабула этого происшествия в той трактовке, которую оно получило у современников. Но так ли все обстояло на самом деле? Княжна Варвара Ильинична Туркестанова (1775–1819), принадлежавшая по отцу к знатному грузинскому роду, была фрейлиной вдовствующей императрицы Марии Федоровны (супруги Павла I). Большая часть жизни княжны Варвары прошла при дворе, и все светское общество александровского времени, как в зеркале, отражено в ее обширной переписке с Фердинандом Кристином, русским политическим агентом в наполеоновской Франции. Письма Туркестановой рисуют ее женщиной незаурядной, обладавшей большим умом и образованностью, к тому же наделенной неотразимым обаянием, что позволяло ей, при не очень эффектной внешности, пленять сердца мужчин. В.С. Голицын Иногда поражаешься смелости выражений княжны и разборчивости в отношении возможных претендентов на ее благосклонность. Вот выдержка из одного письма, где речь идет о князе Федоре Голицыне, брате того самого Владимира, о котором упоминает Пушкин: «Он так толст, что, будь я его женою, я ни минуты не имела бы покоя, зная, что он может умереть тогда, когда ожидаешь этого всего меньше. Мне кажется, что с человеком таких размеров никогда нельзя рассчитывать на долгую жизнь, но что я, наверное, могу сказать, это то, что ни мой муж, ни любовник не будут на него походить». И это пишет тридцатидевятилетняя особа не слишком привлекательной наружности, которая, казалось бы, должна уже давно смириться с ролью старой девы! Но будущее покажет, что у княжны были основания почитать себя достойной лучшей участи. Весной 1818 года происходит ее окончательное сближение с Александром I; ранее их связывали вполне невинные отношения легкой увлеченности со стороны императора и восторженного преклонения со стороны фрейлины. И в это же самое время Варвара Ильинична без памяти влюбляется и вступает в связь с флигель-адъютантом Владимиром Голицыным, чуть не двадцатью годами моложе ее. Князь уже имел устойчивую репутацию ветреника, кутилы, искавшего в жизни одних удовольствий; красивый, сильный, веселый и остроумный, внешне совсем не похожий на своего толстого брата, он был схож с ним лишь в одном – в безудержной жажде плотских утех. По словам современника, «вся жизнь его была сцеплением проказ, иногда жестоких, иногда преступных, редко безвинных». Пушкин хорошо знал князя В.С. Голицына как неплохого музыканта, но вряд ли высоко оценивал его нравственные качества, а потому легко поверил услышанному. Казалось бы, именно такому человеку суждено было сыграть в жизни немолодой княжны роковую роль. Но случилось иначе: легкомысленный повеса неожиданно подпадает под власть чар умной и обаятельной женщины, искренне увлекается ею и даже, несмотря на громадную разницу в возрасте, собирается на ней жениться! В.И. Туркестанова Но вся беда была в том, что княжна не находила в себе сил отказаться от одного из возлюбленных, питая к обоим одинаково сильное чувство. Ложная и двусмысленная ситуация, в которую она себя тем самым поставила, в скором времени разрешилась весьма печальным образом: в одну из августовских ночей Голицын застал царственного соперника в спальне у своей избранницы… Все было кончено; он не смог ей этого простить, а может быть, просто предпочел удалиться, не желая мериться силами на любовном поле брани с самим царем. Так или иначе, Владимир прервал близкие отношения с Туркестановой и спустя некоторое время посватался (правда, неудачно) к княжне Лопухиной. Несчастная фрейлина вынуждена была претерпевать все муки ревности, причем к обоим любовникам сразу: Голицына она ревновала к Лопухиной, а императора – к его бывшей фаворитке М.А. Нарышкиной, только что вернувшейся из-за границы. Но ее связь с Александром продолжалась. 24 апреля 1819 года В.И. Туркестанова тайно произвела на свет дочь Марию, после чего приняла медленно действующий яд и несколько недель спустя скончалась в ужасных мучениях. Кто же был отцом ребенка? Дабы оградить «священную особу Государя», молва взвалила всю вину на князя, которому даже приписали гнусный поступок – подкуп горничной, через которую он якобы прибегнул к наркотическому средству, чтобы опоить свою жертву, овладеть ею и выиграть пари, заключенное с приятелями, – мотив, использованный позднее В. Крестовским в его «Петербургских трущобах». Но это была неправда, о чем свидетельствует хотя бы то, что еще в апреле 1819 года, за месяц до смерти, сама княжна в письмах тепло и сердечно отзывается о Владимире Голицыне. Время, как всегда, сорвало все покровы и обнажило тайну. Остается добавить, что несправедливо очерненный общественным мнением князь взял родившуюся малышку на воспитание, вырастил ее и выдал замуж за И.А. Нелидова. Искаженную версию случившегося Пушкин услышал в доме А.О. Смирновой среди прочих «анекдотов». Записывая эту историю, поэт, очевидно, не исключал возможности воспользоваться ею в литературных целях. Известно, что писательская фантазия питается вполне реальными фактами, что подтвердил другой российский классик, Максим Горький, почерпнувший один из эпизодов своего известного романа из длинной летописи сомнительных похождений опереточных примадонн… Скандальные знаменитости Наверное, ни на кого русское дворянство так не разорялось, как на иностранных актрис. Мода эта пошла еще с екатерининских времен, когда чересчур ретивые меценаты вроде графа А.А. Безбородко бросали к ногам обожаемых ими театральных див сотни тысяч. Чтобы иметь представление о щедрости этого вельможи, достаточно сказать, что, по свидетельству секретаря Екатерины II А.М. Грибовского, «итальянской певице Давии давал он ежемесячно на прожиток по 8000 рублей золотом, а при отпуске ее в Италию подарил ей деньгами и бриллиантами на 500 000 рублей». Правда, разориться графу было трудно, – он владел поистине несметным состоянием. И все же недовольная его чрезмерной расточительностью императрица в конце концов повелела выслать певицу из России в двадцать четыре часа! Если обратиться к более поздним временам, то увидим, что гастроли заезжих, уже не оперных, а опереточных знаменитостей также нередко заканчивались скандалами, за которыми следовало их удаление из страны или, в лучшем случае, судебные разбирательства и денежные штрафы. Огюстина Деверия В начале 1859 года французская труппа впервые представила на русской сцене оперетту, или, как тогда называли, оперетку, Жака Оффенбаха «Орфей в аду». В ней с успехом выступила молодая актриса Огюстина Деверия, пленившая знатоков женских прелестей своими телесными соблазнами. Ее похождения чрезвычайно напоминают те, что описал Э. Золя в романе «Нана», и кое в чем не потеряли актуальности и поныне. Темная шатенка, превосходно сложенная, с выразительной внешностью и плутовскими глазками, она не боялась ни глубоких декольте, ни «античных» облачений с разрезами. Публика первых рядов млела, в особенности богатые старички и золотая молодежь, считавшая своим долгом волочиться за всеми хорошенькими актрисами. На другой день в светских гостиных только и разговору было, что о новой обольстительнице, причем – и это самое удивительное – дамы не уступали мужчинам в восхвалении ее достоинств! Позднее выяснилось, что из Парижа Деверия прибыла в сопровождении родителя, будто бы наблюдавшего за ее нравственностью. Однако, по мнению многих, на самом деле роль папаши Деверии была сродни той, что взял на себя герой одноименного некрасовского стихотворения, торговавший своей дочерью. Он неизменно присутствовал на всех обедах и ужинах, устраиваемых в честь Огюстины, сопровождал ее на прогулках и не сходил со сцены во время репетиций, ревниво наблюдая за своей «ненаглядной крошкой». Неожиданное скандальное происшествие положило конец неусыпному родительскому присмотру. Как-то режиссер Бертон, по чьей рекомендации Деверию и пригласили в Петербург, сделал ей во время репетиции довольно резкое замечание. Задетый за живое отец вступился за дочь, после чего страсти разгорелись не на шутку. Оскорбленный родитель вдруг вспомнил, что именно Бертон, воспользовавшись преимуществами своего положения, некогда соблазнил его малютку, и в порыве запоздалого негодования бросился на похитителя девственности с палкой. Дело получило огласку, и бедняга Бертон опять-таки в двадцать четыре часа был выслан из Петербурга. А вскоре за ним последовал и папаша Деверии: ей наскучила мелочная опека. Оказавшись на свободе, она погрузилась в мир наслаждений, и сценические успехи занимали в нем отнюдь не первое место. Слава ее росла; бесчисленные поклонники осыпали новоявленную Данаю неоскудевающим золотым дождем, а те, кто был не в состоянии это делать, немедленно изгонялись и заменялись новыми. Встречались среди них даже особы королевской крови. 8 ноября 1866 года министр внутренних дел П.А. Валуев записал в своем дневнике: «Принц Балийский, говорят, весьма доволен петербургским пребыванием. Он ужинал у Дюссо с прекрасной Еленой, мадемуазель Деверия, и, как гласит молва, вернулся домой только на другой день утром». «Прекрасная Елена» – название модной оперетки Жака Оффенбаха, где Огюстина особенно отличалась в демонстрировании своих прелестей. В скором времени жизнь Деверии превратилась в сплошную вакханалию: актрису буквально носили на руках, швыряя деньги на ее бесчисленные прихоти, в чем она не знала ни удержу, ни меры. Однажды до нее дошел слух, что фаворитка Наполеона III Варасси-Кастильоне предстала на придворном маскараде, не имея на своем обнаженном теле никаких других украшений, кроме червонного туза. Деверия решила прославиться в том же роде, а может быть, даже превзойти императорскую наложницу в бесстыдстве. И вот на ужине, устроенном известным петербургским адвокатом в его особняке на Литейном, она в костюме Евы была подана к столу на огромном блюде, внесенном шестью лакеями. Впоследствии Максим Горький использует этот эпизод в своем романе «Дело Артамоновых», заменив блюдо крышкой рояля. Эта скандальная трапеза переполнила чашу терпения властей, одолеваемых вдобавок бесконечными жалобами на неисправных должников, тративших на Огюстину не только свои, но и казенные деньги. Деверии отказали в продлении контракта, и, сыграв 10 ноября 1868 года свою последнюю роль, она навсегда исчезла с петербургского горизонта. Ей на смену в столицу пожаловала другая французская певица опереточного жанра – Бланш Гандон, столь же соблазнительной внешности, как Деверия, и также в сопровождении родителя. «Она так молода, – писал один из тогдашних хроникеров, – что, как несовершеннолетняя, не пользуется даже правами, и все ее ангажементы подписывает ее отец». Несмотря на юный возраст, девица Гандон не испытывала на сцене ни малейшего стеснения и вела себя как опытная опереточная примадонна, допускающая некоторые шалости с публикой. Во время исполнения одной песенки она, то ли от излишнего усердия, то ли по какой-то иной причине, так высоко задрала ножку, что неожиданно для всех опрокинулась на спину, задом к публике, и, продолжая оставаться в таком положении, проделывала странные телодвижения. По сему поводу был составлен полицейский протокол: против мадемуазель Бланш выдвигалось обвинение в бесстыдных действиях на сцене. Тщетно адвокат певицы, носивший по иронии судьбы знаменитую фамилию Тургенев, доказывал, что его клиентка просто-напросто потеряла равновесие, а потом не могла подняться, запутавшись в юбках. Не помог и такой веский довод, что в момент выступления на обвиняемой были надеты панталоны, которые защитник в качестве вещественного доказательства требовал приобщить к делу, – мировой судья признал актрису виновной и приговорил к штрафу в 150 рублей… Нужно ли говорить, что этот процесс не только не повредил популярности мадемуазель Бланш, но, напротив, поднял ее до небывалых высот! Публика (прежде всего, разумеется, мужская) валом валила взглянуть на невинно пострадавшую, ожидая с ее стороны подобных же приятных сюрпризов. И певица не разочаровала своих обожателей. Очередной скандал разразился весной 1871 года во время представления в театре «Буфф». По ходу действия очаровательная Бланш, изображавшая Зиму, появилась на сцене в легкой, коротенькой шубейке, накинутой на тело, облаченное в плотно обтянутое трико телесного цвета. В этом соблазнительном наряде певица исполнила огневой канкан, вызвав неистовый восторг своих поклонников и столь же бурное негодование строгих ревнителей нравственности. Среди последних оказался и сравнительно молодой в ту пору журналист А.С. Суворин, откликнувшийся на столь возмутительное событие грозным фельетоном в «Санкт-Петербургских ведомостях» (тогда у него еще не было собственной газеты), в котором заклеймил непристойное зрелище. Предложив изгнать из храма искусства всех оскверняющих его, он заключил свои выводы следующими словами: «Любители острых ощущений ничего от этого не потеряют, потому что всегда имеют возможность доставить себе оные на частных квартирах и в домах терпимости; общество же несомненно выиграет, изгнав со сцены такие элементы, которые отнюдь к сценическому искусству не относятся». Мадемуазель Бланш подвергли очередному штрафу, но театральные нравы чище от этого не стали. Опереточная публика отличалась редкостным консерватизмом, продолжая требовать от парижских шансонеток не «святого искусства», а свободного доступа за кулисы, за что и соглашалась платить любые деньги. Сожительство с актрисами считалось хорошим тоном, и многие представители высшего общества, начиная с великих князей, неуклонно следовали этому правилу. В своих мемуарах граф С.Д. Шереметев объясняет причину падения сценических нравов следующим образом: «Вся гниль Второй империи со всемогущей опереткой ворвалась в Россию. С тех пор вкусы стали портиться; уже не требовались по-прежнему тонкий комизм, остроумие и веселость, а сюжет строился на непристойности, и чем грубее, чем пошлее и грязнее, тем было лучше…» Даже если дело обстояло именно так, то в этой порче вкусов виновата вовсе не французская оперетка, сердиться на которую столь же бессмысленно, как на пресловутое зеркало, лишь отражающее чье-то не очень красивое лицо! Расставшись с легкомысленными опереточными дивами, обратимся теперь к более мрачным страницам нашей истории, без которых картина происходившего была бы неполной. Сверх моды на вершок В допетровской Руси проблем с чрезмерно усердным следованием западноевропейской моде среди придворной знати не существовало: далее заимствованных в Польше кунтушей вместо традиционных охабней (род кафтана с четырехугольным отложным воротником и длинными, часто откидными рукавами. – А. И.) и небольших усов вместо лопатообразных бород дело, как правило, не заходило. Отношение к этим модникам со стороны «тишайшего государя» Алексея Михайловича было довольно терпимым; строго следуя заветам старины, царь-батюшка не отворачивался и от «иноземщины». Сын его, Петр I, пошел несравненно дальше отца и уже насильно заставлял служилые сословия переодеваться в европейское платье и перенимать чужеземные обычаи. В дальнейшем процесс усвоения иностранных мод пошел как по маслу и переимчивых россиян уже не приходилось к нему поощрять, – напротив, скорее останавливать тех, кто хотел быть, согласно позднейшей поговорке, «сверх моды на вершок». Разумеется, в стране с самодержавным правлением методы борьбы с чересчур зарвавшимися «петиметрами», то есть, говоря по-русски, щеголями (и щеголихами), имели подчас ярко выраженный авторитарный уклон. Петр I Как-то Петр жестоко проучил одного самозваного медика, повесу и модника, женившегося на богатой вдове искусного врача и сорившего жениными деньгами. Призвав к себе и проэкзаменовав разряженного в пух и прах выскочку, царь остался им недоволен и повелел, чтобы тот, не снимая щегольского платья, остриг и побрил множество бородатых дворовых мужиков, что и было исполнено злополучным лекарем с величайшим отвращением. Справедливости ради отметим, что у Петра физическая расправа не носила личного характера и преследовала, так сказать, воспитательные цели: государь не любил, когда наружное великолепие не соответствовало знаниям и достоинствам человека. После его смерти Россией (с незначительными перерывами) почти до самого конца XVIII столетия правили женщины, не похожие друг на друга ни по уму, ни по воспитанию, ни по привычкам, действовавшие в силу этого также по-разному. К примеру, Елизавета Петровна, сама завзятая модница и щеголиха, почитала себя первейшей красавицей и, обладая неисчерпаемым запасом туалетов, не дозволяла своим придворным дамам затмевать ее в нарядах. При этом поступки государыни, женщины не злой, но вспыльчивой и взбалмошной, порой мало чем отличались от методов ее покойного родителя, хотя мотивы их поведения были совершенно различны. Одна из дам елизаветинского двора, М.П. Нарышкина, супруга обер-егермейстера, отличалась красотой, прекрасной фигурой и величественной осанкой, а вдобавок исключительным изяществом и изысканностью в нарядах, что сделало ее предметом ненависти ревнивой к чужим прелестям Елизаветы. Мария Павловна имела чудные волосы – и получила приказание обрезать их. Она была сложена как изваяние, а придворное платье еще больше оттеняло совершенство ее бюста, – ей было приказано носить это платье без фижм (юбки с каркасом в виде обруча на китовом усе. – Л. И.). Тогда Нарышкиной пришла в голову мысль заказать в Англии фижмы с пружинами. Она приезжала ко двору, затмевая всех своей умопомрачительной талией, туалетами и внешностью. В то самое мгновение, когда появлялась императрица, пружины сжимались, а платье и талия теряли свою прелесть, но как только она удалялась, пружины снова приводились в действие. Однажды раздосадованная государыня до такой степени вышла из себя, что в присутствии оторопелых царедворцев собственноручно срезала ножницами с головы Нарышкиной затейливое украшение из лент. Елизавета могла не утруждать себя объяснением мотивов своих поступков, однако, срезая убор (хорошо еще, что не вместе с головой!), она, возможно, сопровождала свои действия устными увещеваниями, что стремится, дескать, лишь исправлять дурные вкусы подданных! Екатерина II не была столь прямолинейна и если желала заставить кого-либо отказаться от неподобающих, с ее точки зрения, нарядов, делала это несравненно изобретательнее. В 1794 году, во время Польского восстания под предводительством Тадеуша Костюшко, в обеих российских столицах появилась мода на предмет верхней мужской одежды, называемый капотом или шинелью. К слову сказать, сослуживцы гоголевского Акакия Акакиевича Башмачкина недаром окрестили его старую, нескладную шинель, лишившуюся воротника, употребленного на починку многочисленных ветхостей, капотом. Ко времени написания Гоголем его знаменитой повести указанный предмет одежды из мужского превратился в дамский, почему указанное прозвище и воспринималось как насмешка. Оба слова – французского происхождения, но пришли в Россию из Польши и первоначально означали род длинного плаща, под которым повстанцам было весьма сподручно незаметно проносить оружие для готовившегося мятежа. Ничего удивительного в том, что одежда подобного рода пришлась императрице весьма не по душе. Похоже, именно она придумала, как, не прибегая к карательным мерам, отвадить модников от сомнительных новинок. Вот что писал об этом в мае того же 1794 года своему приятелю князю А.Б. Куракину известный некогда археограф Н.Н. Бантыш-Каменский, в скором будущем – управляющий московским архивом Коллегии иностранных дел: «Не знаю, носят ли у вас капоты, так называемые шинели, в кои здесь все облеклись, не смотря что жарко в них ходить. Но в Петербурге следующая сыграна премудрая шутка: наряжены были полицейские фурманщики (возницы. – А. И.) в капоты с 7 воротниками из самого толстого сукна, с красным подбоем, и впущены были в летний дворцовый сад. Расхаживали они друг против друга, и кто только им встречался в капоте, они присланивались к каждому и приветствовали поклоном. Господа капотисты с негодованием спросили сих фурманщиков, что значит такая дерзость? – „Какая, сударь, дерзость? Ведь и на нас платьице то же“, – был их ответ. Принуждены были все выйти из саду и сбросить капоты». Никаких официальных указов на сей счет, разумеется, не существовало, но инициатива исходила явно не от полиции. На это указывает сам Бантыш-Каменский, подметивший, что «выдумка сия не есть ума г. Глазова» (тогдашний петербургский обер-полицмейстер. – А. И.), так как в ношении «капотов» замечены были также великие князья Александр и Константин, управу на которых могла иметь только императрица. Так или иначе, сей хитроумный способ возымел действие, по крайней мере на время, что побудило власти вторично к нему прибегнуть, но уже в отношении дамской моды. На сей раз объектом преследования стали невинные шали, занесенные к нам из революционной Франции, где они только-только начали входить в употребление. Стоит добавить, что пионерами в данном случае выступили не сами французы, а англичане, позаимствовавшие этот восточный предмет одежды в колониальной Индии. Очевидно, шали, как и все, что приходило к нам из якобинской республики, встретили враждебное недоверие со стороны государыни, прибегнувшей к испытанным мерам воздействия. О них не замедлил сообщить тот же Н.Н. Бантыш-Каменский в своем очередном письме Куракину: «Живущие в смирительном доме нимфы выпущены были разряжены и одеты в шали на улицу, с метлами, чистить по обыкновению мостовую. На другой день после сего ни одной в дворцовом саду не видно было дамы в шалях. Сие в Петербурге происходило». В ноябре 1796 года Екатерины II не стало, и на престол вступил ее сын Павел, имевший весьма своеобразные понятия о своих властных полномочиях, в том числе и в области мод, где он проявлял безудержный, доходивший до комического абсурда произвол. Один из первых изданных им указов гласил: «Его Императорским Величеством замечено, что те, кои одеты в немецкое платье, ходят в круглых шляпах и разнообразных шапках, а потому предписывает управе благочиния немедленно объявить в городе всем наистрожайше, чтоб кроме треугольных шляп и обыкновенных круглых шапок никаких других никто не носил и потому смотреть наиприлежнейше за исполнением сего, и если кто в противном сему явится, тех тотчас брать под стражу». Как и его мать (редчайший случай единомыслия между ними), император не терпел «якобинства» и склонен был усматривать проявления оного в любой мелочи, регламентируя форму и длину воротников, цвет обшлагов, отделку башмаков и способ повязывания шейных платков, то бишь галстуков (от нем. Halstuch – шейный платок). Не обошел он вниманием и женские моды, воспретив «ношение синих женских сертуков с кроеными воротниками и белою юпкою», очевидно приметив в них ненавистные для него цвета французского республиканского флага. Изобретательность Павла при вмешательстве в частную жизнь не только подданных, но и приезжавших в Россию иностранцев не знала границ, причем провинившимся грозили самые строгие кары. Когда в ночь с 11 на 12 марта 1801 года, по выражению поэта Г.Р. Державина, «умолк рев Норда сиповатый», в России, где политика испокон веку сродни циклическим явлениям природы, наступила очередная недолгая «оттепель» александровского царствования, коснувшаяся, разумеется, и мод. Обывателям вновь позволено было одеваться по своему вкусу. До следующих заморозков. Троицкая площадь – лобное место В петровские времена Троицкая площадь играла важную роль в жизни Петербурга: к началу 1720-х здесь находились главные правительственные органы – коллегии и Сенат, крупные торговые ряды, а кроме того – любимый храм царя, соборная церковь Святой Троицы. Появлялись они постепенно; в 1710-м была отстроена церковь, а тремя годами позже, по свидетельству А.И. Богданова, вдоль северной границы площади возвели «Гостиной двор, мазанковой… немалой величины в два апартамента. В нижнем были торговые лавки, а вверху кладовые анбары…» Восточную границу обозначили построенные почти одновременно с Гостиным двором мазанковые коллегии, где помещались вышеназванные органы власти. С окончанием этих зданий Троицкая площадь, на которой, как пишет Богданов, «Государь… отправлял всякие торжества и виктории», приобрела устойчивые очертания. Вещественными знаками одержанных побед служили установленные в 1714-м перед крепостью Триумфальные ворота и сооруженная спустя шесть лет близ коллегий пирамида. Все это (за исключением ворот) можно видеть на публикуемой гравюре А.Ф. Зубова 1720 года, запечатлевшей торжественный ввод взятых в плен шведских фрегатов. А 22 октября следующего года здесь с небывалым размахом началось празднование долгожданного мира со Швецией, положившего конец двадцатилетней Северной войне. Но Троицкая площадь была не только местом отправления «викторий», но и публичных казней. Первая из них состоялась в августе 1710-го; тогда повесили двоих солдат и крестьянина, осужденных за воровство на пожаре торговых лавок. А 8 декабря 1718 года на специально возведенном неподалеку от крепости эшафоте за приверженность царевичу Алексею были обезглавлены девять человек, замешанных в этом деле; их головы долгое время торчали на позорных столбах, а тела оставлены догнивать на колесах… 14 марта 1719 года та же участь постигла фрейлину царицы Екатерины Алексеевны – М.Д. Гамильтон, лишившую жизни трех своих внебрачных младенцев. В отличие от ранее казненных ее голова несколько десятков лет хранилась в банке со спиртом в одном из помещений Академии наук. 16 марта 1721 года на другом конце площади, перед окнами Юстиц-коллегии, за неумеренное казнокрадство был повешен сибирский губернатор князь М.П. Гагарин. Виселица с его останками, выставленными на всеобщее обозрение, переносилась с места на место. Троицкая площадь в петровские времена Наконец, в 1724-м, незадолго до смерти Петра, на Троицкой площади, перед коллегиями, состоялись две громкие экзекуции; об одной из них, над обер-фискалом Нестеровым, мы подробнее говорим в другом месте. Последняя при жизни государя казнь произошла на том же месте, что и предыдущая; о ней жителей Петербурга оповещали объявления, расклеенные на стенах домов: «1724 года, ноября в 15-й день, по указу его величества императора и самодержца объявляется во всенародное ведение: завтра, то есть 16-го числа сего ноября, в 10 часу пред полуднем, будет на Троицкой площади экзекуция бывшему камергеру Виллиму Монсу, да сестре его Балкше, подъячему Егору Столетову, камер-лакею Ивану Балакиреву – за их плутовство…» Известно, что подлинной и основной причиной гибели злополучного придворного стали чересчур близкие его отношения с царицей, но об этом, само собой разумеется, в приговоре не говорилось ни слова. Преступников ожидали разные кары: если Матрена Балк и секретарь Монса Егор Столетов были наказаны кнутом, а Иван Балакирев (знаменитый шут) получил шестьдесят палочных ударов, то сам Моне лишился головы, которая вместе с головой фрейлины Гамильтон стала экспонатом Академии наук. Похоже, что эта казнь стала последней из произведенных на Троицкой площади; в дальнейшем кровавые спектакли такого рода происходили на Сытном рынке. Именно там позднее окончил свои дни один из обвиняемых по делу Монса, Егор Столетов, не избежавший той же роковой участи, что и его хозяин, но за другие вины. К концу 1730-х, после перевода коллегий и Гостиного двора в другие части столицы, Троицкая площадь лишилась былого административного и торгового значения, одновременно перестав быть и лобным местом. Она как будто погрузилась в долгую спячку, из которой в начале XX века ее вывели прокладка трамвайных путей и начавшееся лихорадочное строительство. Трудно поверить, что на месте нынешнего мирного сквера некогда стояли виселицы и эшафоты и лилась кровь из-под секиры палача. Но все это было… Известно, что царь с крайней жестокостью карал за хищения, пытаясь крутыми мерами отбить у чиновников охоту набивать карманы за счет государственной казны. Особенно суров он был к тем, кто обманул его доверие. Сложил голову на плахе 24 января 1724 года на Троицкой площади перед зданием мазанковых коллегий с утра толпился народ. Ему предстояло увидеть жестокое зрелище: смертную казнь четырех преступников. Еще девяти назначено было по пятьдесят ударов кнутом с последующим вырыванием ноздрей и ссылкой на галеры, а пятерых писцов и мелких канцелярских служащих ожидали не столь суровые наказания. Особенность этой показательной экзекуции состояла в том, что большинство осужденных были людьми немолодыми, заслуженными, занимавшими заметные посты и, главное, далеко не бедными, что не мешало им воровать и брать взятки. Главной фигурой среди них, несомненно, являлся бывший обер-фискал Алексей Яковлевич Нестеров – дородный, седовласый мужчина почтенной наружности, в прошлом пользовавшийся большим доверием Петра I. Должность обер-фискала, введенная царем в 1711 году вслед за учреждением Сената, предполагала наблюдение за правильным исполнением судебных дел и соблюдение казенного интереса. Обер-фискалу подчинялись провинциал-фискалы на местах, не подотчетные никому, кроме своего прямого начальника. Почти полная бесконтрольность этих должностных лиц породила массу злоупотреблений, что в полной мере подтвердилось на примере самого Нестерова: вместо того чтобы удерживать подчиненных от незаконных поборов, он обложил их данью в свою пользу, деньгами и натурой. Общий ущерб, нанесенный им, превышал громадную по тем временам сумму 300 тысяч рублей. Вина проворовавшегося обер-фискала усугублялась тем, что при назначении на этот пост царь, во избежание соблазна запустить руку в государеву казну, щедро наградил его богатыми поместьями, но, как видно, это не помогло. Тремя годами ранее на том же самом месте он велел повесить сибирского губернатора князя М.П. Гагарина, некогда одного из своих ближайших соратников. В немалой степени падению князя способствовали донесения обер-фискала А.Я. Нестерова, и вот теперь настал черед ему самому поплатиться головой за те же вины. Под высокой виселицей был сооружен эшафот, а позади него зловеще темнели четыре шеста и столько же колес с обитыми железом спицами. Современного человека не может не изумлять присутствие духа у этих полностью изобличенных казнокрадов. Вот как описывает процедуру казни свидетель-иностранец: «Первый, кому отрубили голову, был один фискал, клеврет обер-фискала Нестерова, служивший последнему орудием для многих обманов. Когда ему прочли приговор, он обратился лицом к церкви в Петропавловской крепости и несколько раз перекрестился; потом повернулся к окнам Ревизион-коллегии, откуда император со многими вельможами смотрел на казнь, и несколько раз поклонился; наконец в сопровождении двух прислужников взошел на эшафот, снял с себя верхнюю одежду, поцеловал палача, поклонился стоявшему вокруг народу, стал на колени и бодро положил на плаху голову, которая была отсечена топором». Не правда ли, впечатляющая картина? Не менее поразительно то, что во время следствия Нестеров стоически выдержал жесточайшие пытки, так и не признав своей вины, несмотря на уличающие показания свидетелей и его собственные письма! Нераскаявшегося преступника колесовали, раздробив ему попеременно руки и ноги, после чего священник и посланный императором майор Мамонов стали уговаривать его сознаться, обещая в этом случае немедленную смерть. Однако он твердым голосом заявил, что все сказал и сознаваться ему не в чем. Тогда, еще живого, его подтащили к окровавленной плахе и обезглавили. Тела четверых казненных были привязаны к колесам, а их головы воткнуты на шесты. При этой чудовищной сцене, помимо царя с сановниками и столпившихся простолюдинов, присутствовали специально приглашенные канцелярские и приказные служители: увиденное должно было отбить у них охоту к взяткам. Однако не отбило. С того памятного январского дня бесчисленные поколения чиновников-мздоимцев, сменяя друг друга, отошли в небытие. И если нынешние «казенные люди» уступают своим далеким предшественникам в крепости духа, то уж в изобретательности они явно превзошли их: арсенал взяточников пополнился множеством новых, ранее неведомых приемов. Не помогают ни высокие оклады, ни всевозможные льготы и привилегии. Как же справиться с извечным злом, если даже топор и плаха оказались бессильными перед ним? Очевидно, когда-нибудь оно отомрет само собой, но до того времени много воды утечет в Неве… Порой на преступление может подтолкнуть пример чужой безнаказанности и очевидная несправедливость. Неверие в официальное правосудие делает из законопослушных людей преступников, подтачивая самые основы государственной власти. Ошибка ювелира То, что уровень преступности зависит не столько от суровости наказания, сколько от его неотвратимости, можно считать неоспоримой истиной. В петровские времена к осужденным применялись жесточайшие кары: им отрубали головы, дробили колесом руки и ноги, заливали в глотки расплавленное олово, подвешивали за ребра, вырывали ноздри, нещадно секли кнутом, однако это не отпугивало тех, кто приходил им на смену. С наступлением темноты жители городов опасались выходить на улицу, лесные дороги кишели разбойниками и запоздалым путникам далеко не всегда удавалось добраться до места назначения целыми и невредимыми. Примером того, насколько губительной, не только для тел, но и для душ, бывает неспособность государства защитить своих граждан, может служить история одного ювелира, случившаяся в Петербурге в 1724 году. Накануне коронации супруги Петра I, Екатерины, немец-«бриллиантщик» Рокентин, считавшийся лучшим мастером в столице, получил от светлейшего князя А.Д. Меншикова заказ на изготовление драгоценной застежки для коронационной мантии императрицы. Стоимость употребленных для отделки этого аграфа камней оценивалась в 100 тысяч рублей, и предназначался он князем в дар ее величеству. 16 января Рокентин дал знать императору, находившемуся на крестинах у купца Мейера, что его ограбили при весьма странных обстоятельствах. Получив это известие, государь не замедлил лично явиться к потерпевшему и выслушал его рассказ. Якобы в 9 часов утра того же дня к нему явился один из людей Меншикова с приказанием тотчас же доставить уже готовую вещь к его сиятельству. Захватив с собой драгоценный аграф, мастер, в сопровождении посланного слуги, отправился пешком к дворцу светлейшего на Васильевском острове. Около Адмиралтейства они повстречали двух человек, ехавших в санях, которые будто бы были посланы за ювелиром нетерпеливо поджидавшим князем. Рокентин с сопровождавшим его человеком сели в сани, а те двое встали на запятки, после чего сани быстро покатили, но не через скованную льдом Неву, к дому Меншикова, а совсем в ином направлении. Невзирая на протесты ювелира, его завезли в какой-то лес, где их поджидали еще три грабителя, отняли бриллиантовое украшение, после чего раздели чуть не донага и пригрозили удавить, если он вздумает звать на помощь. Затем его избили, связали и велели не сходить с места до самого вечера. При этом один из грабителей остался его сторожить, но, когда стемнело, тоже удалился, сказав: «Бог с тобой!» Прождав еще несколько часов, ювелир кое-как освободился от пут и с трудом добрался до дома с той самой веревкой на шее, которой его грозились удавить. Петр тотчас же распорядился удвоить ночные караулы и задерживать всех без изъятия – и тех, кто ходит с фонарем, и тех, кто без фонаря. Однако уже на другой день возникли серьезные сомнения в правдивости показаний Рокентина; прежде всего, на теле его не обнаружилось ни малейших знаков от побоев, а на указанном им месте преступления – никаких следов человеческих ног. Полиция арестовала подозреваемого, и царь, обещая полное прощение, попытался склонить его сказать правду. Для вящей убедительности на глазах ювелира был наказан кнутом другой преступник. Но это не помогло. Даже 25 ударов кнута не вырвали у Рокентина признания. У Почтового дома, стоявшего на месте Мраморного дворца, было вывешено объявление с сообщенными ювелиром приметами разбойников, а на Троицкой площади у столба положена охраняемая часовым денежная награда в 1000 рублей, назначенная тому, кто отыщет или поможет отыскать похищенную драгоценность. Тем временем предпринимались все меры к тому, чтобы заставить Рокентина заговорить. Вторичного наказания кнутом он, как опасались, мог просто-напросто не выдержать, унеся тайну исчезновения бриллиантов с собой в могилу. Местный лютеранский пастор Нациус вызвался пронять подозреваемого душеспасительным словом, а допущенная к нему жена должна была повлиять на упорствующего супруга слезами и стенаниями. Однако и это не возымело успеха: несмотря на физическую слабость, ювелир казался несокрушимым как скала. К нему продолжали водить для опознания всех собиравшихся уезжать и получавших паспорта. 21 января он получил еще 25 ударов кнутом, но продолжал стоять на своем. Перелом в поведении узника наступил довольно неожиданно: вызванный императором рижский окружной пастор, по-видимому обладавший каким-то особым даром убеждения, сумел найти нужные слова, чтобы сломить твердокаменное упорство этого человека. Он во всем признался и указал место на своем дворе, где зарыл похищенное. При раскапывании мерзлой земли ящичек с драгоценным убором едва не повредили; одного бриллианта не хватало – Рокентин успел заложить его врачу И.Л. Блументросту, у которого он и был изъят. В мае 1724 года коронационная мантия императрицы предстала перед восхищенной толпой в полном блеске… Что же толкнуло доселе честного мастера на преступление? В разговоре с пастором Рокентин объяснил причину своего поступка. Оказывается, за несколько лет перед тем его ограбили на дороге между Нарвой и Петербургом; он опознал грабителей, спокойно проживавших в столице, и заявил о них в полицию, но это не возымело никакого действия. Скорее всего, преступники попросту делились награбленным с представителями власти, если сами не принадлежали к их числу. Широко известна история знаменитого Ваньки Каина, который попеременно выступал то сыщиком, то грабителем! Люди, разуверившиеся в правосудии, нередко сами становятся преступниками. Именно это произошло с героем нашего рассказа, кончившим жизнь в сибирской ссылке. Впрочем, в тогдашней России не только судьбы безвестных ремесленников, но и первейших вельмож, и заслуженных генералов часто зависели от воли случая. Закон – не дышло! Трудно найти европейскую страну, где на протяжении веков законы уважались бы так мало и нарушались столь же часто, как в России. За примерами далеко ходить не надо. В объемистом томе «Пословицы русского народа», трудолюбиво собранном и опубликованном В.И. Далем, среди десятков тысяч образчиков народной мудрости можно отыскать и те, что касаются законов и их исполнения. Большинство пословиц на эту тему призывает опасаться не столько самих установлений, сколько тех, кто применяет их на практике: законы святы, да законники супостаты; не бойся закона, бойся судьи; что мне законы, коли судьи знакомы. Ну и, разумеется, общеизвестная, хотя и в несколько ином варианте: закон – дышло: куда захочешь, туда и воротишь. Нашло отражение и неравенство людей перед законом: закон что паутина: шмель проскочит, а муха увязнет. Истоки такого мировоззрения, разумеется, нужно искать в историческом опыте нашего народа. «Крепостной режим развратил русское общество, и крестьянина, и помещика, научив их преклоняться лишь перед грубой силой, презирать право и законность. Режим этот держался на страхе и грубом насилии. Оплеухи и затрещины были обыденным явлением и на улицах, и в домах…» Так писал один из представителей дворянского сословия, хорошо знакомый с условиями жизни в крепостной России. Пробивая окно в Европу и перенимая вместе с иностранным платьем новые порядки и обычаи (среди них немало вздорных), Петр I и его преемники на троне не смогли или не захотели перенять самые главные достижения европейской цивилизации: уважение к законам и к человеческой личности. Пруссия была тем государством, откуда российские монархи заимствовали особенно много и охотно, в первую очередь то, что касалось военного обмундирования, палочной дисциплины и солдатской муштры. Однако присущее пруссакам строгое исполнение законов осталось вне поля зрения отечественных самодержцев. То, о чем я собираюсь рассказать, произошло в царствование государыни Екатерины II, когда прусский престол занимал король Фридрих II, вошедший в историю под прозвищем Великий. Конечно, заслужил он его в первую очередь военными победами, но, пожалуй, в не меньшей степени и тем, что привил своим подданным, притом всем без изъятия, уважение к закону. В этом убеждаешься, читая «Записки» профессора Б. Тьебо, много лет прослужившего при Берлинской военно-гражданской школе и часто бывавшего при дворе благоволившего к нему Фридриха. Главным действующим лицом в приведенной Тьебо истории является не кто иной, как прославленный в будущем русский полководец А.В. Суворов. На исходе 1770-х годов, в разгар вооруженного конфликта между Пруссией и Австрией из-за баварского наследства, в котором Россия приняла активное участие, ему, в ту пору лишь генерал-поручику и подчиненному князя Н.В. Репнина, довелось отправиться в Берлин со срочным поручением Екатерины II. «Перед выездом из Петербурга, – вспоминал позднее Суворов, – я получил от императрицы депеши для доставления королю, о которых знал, что они весьма важны и безотлагательны. Мне было приказано проехать этот путь как можно скорее, да и самый предмет моей командировки достаточно побуждал меня не мешкать ни одной минуты. Легко понять, сколько мне пришлось вытерпеть от медлительности почтарей в прусских владениях. Я им щедро давал деньги и постоянно твердил, как необходимо мне ехать скорее, – и что же? Я не мог ровно ничего добиться, точно толковал автоматам. Эта беда дошла до последней крайности, когда я проезжал Померанию, и именно в то время, когда все терпение мое истощилось. В таком-то был я положении, как попался мне почтарь, еще мешкотнее прочих; напрасно я его уговаривал, сулил ему дать побольше на водку, наконец, сердился и грозил: он еще пуще делал проволочки, закуривая свою трубочку и поминутно давая отдыхать лошадям, да вдобавок стал и грубить. Тут, вышед из себя окончательно, я влепил ему тростью с полдюжины плотных ударов, с обещанием наддачи, если он не поедет шибче. Это средство помогло, и возница мой прибавил шагу, но, приехав на следующую станцию, он подал жалобу местным судьям… которые пришли ко мне, с объявлением, что, на основании законов, они обязаны меня задержать до окончания производства дела, начатаго по иску этого просителя; законы же государства безусловно воспрещают проезжающим, под страхом тяжких взысканий, бить почтарей, на которых дано только право жаловаться местному суду. Я заметил господам судьям, что если они меня остановят, то будут ответственны в гибельных последствиях моей задержки. Я показал им вверенный мне депеши, под императорскою печатью, на имя их государя; кроме того, они увидали на мне орден: все это на них подействовало и они пустили меня ехать далее. Нетрудно было предвидеть, что они непременно донесут королю обо всем деле, а так как мне приходилось опередить посылку их донесения, то я решился воспользоваться этим преимуществом, чтобы поскорей самому рассказать о моем приключении Фридриху, при первом же с ним свидании. Тотчас по приезде в Бреславль, я был позван к нему и принят как нельзя лучше. Самая благосклонная и приветливая физиономия, величайшая вежливость, выражения лестнаго внимания и удовольствия видеть меня, – вот что встретило и ободрило меня сначала. При вопросе: „Благополучно ли вы ехали?“ (Avez-vous fait un heureux voyage?), я рассказал ему вкратце, каким образом почтари, – особенно в Померании, – выводили меня из всякаго терпения, и как грубость одного из них довела меня до крайности ударить его, – чем, однакож, сделана ему больше острастка, нежели нанесена боль; далее рассказал я, как местные судьи на следующей станции, удостоверившись в моей необходимости спешно ехать, чтобы своевременно явиться для принятия и исполнения повелений его величества короля, решились не препятствовать продолжению моего пути… С первых же слов моего разсказа, я увидел перед собой совершенно иного человека; никогда в театре сигнальный свисток не производит такой быстрой и противоположной перемены декорации. Этот человек преобразился мгновенно в серьезно-внимательнаго, холоднаго и строгаго слушателя; он неподвижно и безмолвно выслушал меня до конца, и, когда я кончил, он ледяным тоном произнес только эти немногие слова: „Господин генерал, вы весьма счастливо отделались" (Monsieur le general, vous avez ete fort heureux). И затем он поспешил заговорить о другом, причем мало-помалу вновь принял на себя прежний вид приятнаго собеседника. Скажу вам, господа, что никогда не понял я так хорошо, как в этом случае, что значит и чем должен быть государь, достойный управлять народами, всегда проникнутый сознанием своих обязанностей и неуклонный в поддержке общественнаго порядка и законов. Пусть почты в его стране устроены в самом деле неудобно для путешественников, – а все-таки, в ожидании, пока не последует правильнаго изменения их к лучшему законодательным путем, – дотоле он обязан не оставлять установленным покровительством своих почтарей, так как отнюдь не в них лично кроется причина зла. Преобразовывайте, улучшайте ваши учреждения, если это нужно и возможно для вас; но до тех пор умейте заставить чтить действующие законы». К такому заключению пришел тогда А.В. Суворов. Прошло почти двести лет, и его рассуждения почти слово в слово повторил один из героев кинофильма «Белорусский вокзал», роль которого исполнил актер А. Папанов. Это говорит о том, что за истекшие два столетия отношение к законам осталось прежним, о чем свидетельствует и современное, весьма лукавое присловье: строгость законов в России смягчается необязательностью их исполнения. В народном сознании прочно укоренилась мысль, что чаще всего законы нарушаются как раз теми, кто призван следить за их неуклонным соблюдением. «Всуе законы писать, когда их не исполнять», – гласит старинная пословица, в справедливости коей сомневаться не приходится. До тех пор, пока так будет, закон в нашем Отечестве останется пресловутым дышлом, которое можно повернуть, как кому-то заблагорассудится, и взнузданные лошадки покорно побегут с нужной скоростью в заданном направлении. Но ведь существует и такая пословица: «Недолго той земле стоять, где учнут уставы ломать». «Продаются люди доброго поведения» Летом 1771 года в Петербурге произошло примечательное событие, вряд ли, впрочем, обратившее на себя чье-либо особое внимание. В один прекрасный день «Санкт-Петербургские ведомости» в ряду прочих поместили такое объявление: «Отставной подпоручик Алексей Полибии продает карлика, который ростом в 1 аршин 4 вершка, от роду 25 лет, во всех членах имеет порядочное расположение, проворен и забавен; желающим купить, явиться в л. – гв. Семеновском полку в 12 роте, в доме сержанта Александра Полибина». Это было первое публичное объявление о продаже человека, приравненного к дрессированной обезьяне. Правда, за тринадцать лет до этого, еще в елизаветинское царствование, некая «мадама Губерта», отъезжавшая восвояси и распродававшая ненужный ей домашний скарб, среди зеркал, стеклянной посуды и разной рухляди упомянула также «молодого арапа 13 лет и прочие вещи». Но тогда это выглядело исключением, объяснявшимся тем, что и в более поздние времена, говоря о неграх или «арапах», даже образованные россияне именовали их «человекоподобными жителями Африки» и относились к ним соответственно. Достаточно вспомнить грибоедовскую старуху Хлёстову с ее девкой-арапкой, купленной на ярмарке и поднесенной в подарок услужливым Загорецким! Разумеется, помещики и прежде торговали своими крепостными оптом и в розницу, но делали это без лишней огласки, не прибегая к газетным оповещениям, как будто стеснялись подобных сделок. По крайней мере, второе объявление, сообщавшее о том, что «близ Харламова мосту в Шестаковом доме продаются две семьи крестьян и четыре лошади», появилось лишь спустя пять лет после первого… Но постепенно продавать крепостных открыто, с привлечением как можно большего числа покупателей, становилось общепринятым обыкновением. В тишине специально отведенных укромных дворов происходил варварский торг людьми по всем правилам конных рынков: покупатели, как заправские барышники, смотрели продаваемым в зубы, щупали мускулы, интересовались поведением – то бишь норовом живого товара. И это в православной стране, среди народа, слывшего добродушным и мягкосердечным! В 1780—1790-х годах «Санкт-Петербургские ведомости» изобиловали объявлениями о таких продажах: «Против Владимирской церкви, в доме г. Купреяновой, на особом маленьком дворике, продаются две девки 16 и 19 лет, кои умеют шить, мыть, гладить белье и готовить кушанье…» (1791. № 99); «Во 2 Адмиралтейской части, у Поцелуева мосту, напротив театру, в доме надворного советника Федора Вахтина, на маленьком дворике продаются доброго поведения люди…» (1791. № 82). Со времен Петра I русский крестьянин шаг за шагом терял остатки свободы, опутываемый паутиной неясных и противоречивых законов, стиравших грань между крепостными людьми и кабальными холопами, добровольно продавшимися в рабство. При Анне Иоанновне они лишились права покупать имения, поступать по своей воле на военную службу, освобождаясь таким образом от крепостной зависимости, заводить фабрики, вступать в откупа и подряды. И наконец, при вступлении на трон императрицы Елизаветы крепостные освобождаются от присяги на верноподданство: отныне они лишь рабы своего господина, который отвечает за них перед верховной властью, лишенные собственности, инициативы, права выбора. Однако пока господин сам обязан был государству сначала бессрочной, а затем двадцатипятилетней службой, в положении дворян и крестьян соблюдалось относительное равновесие в распределении тягот. Но вот 18 февраля 1762 года Петр III издал Манифест о вольности дворянства, избавлявший это сословие от обязательной службы. «Не могу изобразить, – рассказывает современник, – какое неописанное удовольствие произвела сия бумажка в сердцах всех дворян нашего любезного отечества; все почти вспрыгались от радости и, благодаря государю, благословляли ту минуту, в которую ему угодно было подписать сей указ». Совсем иные чувства должны были испытывать крепостные, коим еще целый век предстояло томиться в тяжкой неволе, под неусыпным барским оком. Екатерине II, много сделавшей для укрепления государственного престижа России, принадлежит, к сожалению, и печальная слава поработительницы трех четвертей собственного населения; имея полную возможность упорядочить взаимоотношения помещиков и крестьян строгими рамками закона, она предпочла просто-напросто закрепить господство имущего класса в том виде, как оно сложилось к середине XVIII века, и даже расширить его. В результате крестьянство было низведено до положения рабочего скота, и это в правление государыни, провозгласившей в своем «Наказе» 1767 года положения о свободе и равенстве! Император Павел, полагавший крепостное состояние наилучшим для крестьян, раздаривал их десятками тысяч; при мягком и гуманном Александре I, несмотря на указ 1803 года о вольных хлебопашцах, позволявший помещикам отпускать крестьян целыми селениями на свободу, положение их ничем не улучшилось. Правда, император запретил публиковать объявления о продаже людей, но сообразительные продавцы тотчас же нашли способ обходить этот запрет: отныне крепостные якобы «отпускались в услужение», хотя всем было ясно, что имеется в виду. Преемник Александра, Николай Павлович, также не облегчил участь крепостных. Исправить или, по крайней мере, сгладить историческую несправедливость по отношению к русскому крестьянству суждено было его сыну, Александру II. 19 февраля 1861 года он подписал Манифест об отмене крепостного права – величайший, хотя и сильно запоздавший законодательный акт, ставший поворотным моментом в дальнейшей истории России. Народ, пробудившийся от долгой спячки, принялся лихорадочно наверстывать упущенное время; оживились промышленность и торговля, из вчерашних бессловесных невольников народился целый класс предпринимателей. Однако с отменой крепостного права не исчезла привычка к покорному, не рассуждающему повиновению воле «начальников», безграничное, унизительное терпение, глубокая убежденность в том, что «всякая инициатива наказуема», неуважение к человеческой личности. Прав был историк В.О. Ключевский, утверждавший, что «пройдет, быть может, еще целое столетие, пока наша жизнь и мысль освободится от следов этого гнета». Он ошибся лишь в сроках: мы и сегодня продолжаем по капле выдавливать из себя рабов, и сколько еще этих ядовитых капель осталось в нашей крови! Крепостная действительность уродовала даже такие благородные и похвальные сами по себе склонности, как, например, любовь к театру… Карабас Барабас родом из Орла Тяга к театральным представлениям свойственна человеку изначально: с незапамятных времен лицедейство неудержимо влекло к себе и могущественных властелинов, и смиренных рабов. В преддверии близившейся кончины жестокосердый римский император Нерон, предпочитавший актерское ремесло своему основному занятию, обливаясь непритворными слезами, будто бы воскликнул: «Какой великий актер погибает!» Можно лишь пожалеть, что свои чудовищные злодейства он совершал не на театральных подмостках, а в реальной жизни. Но еще большую привлекательность, чем личное появление на сцене, в глазах некоторых поклонников Мельпомены имело обладание собственным театром, возможность по своему произволу распоряжаться толпой доморощенных актеров, находившихся волею судеб в их полной власти. В условиях русской крепостной действительности это оказывалось вполне осуществимым. Биография генерала от инфантерии графа Сергея Михайловича Каменского (1771–1835) интересна не столько боевыми подвигами, хотя их тоже было немало, сколько странными причудами, в основном связанными с принадлежавшим ему театром. Не отличавшийся мягкостью и справедливостью отец его, пожалованный императором Павлом в фельдмаршалы, явно и открыто предпочитал своему первенцу Сергею младшего сына, Николая, что с малых лет укореняло в обделенном родительским вниманием мальчике дикий, озлобленный нрав. Впрочем, оба брата получили образование в одном и том же учебном заведении – Сухопутном кадетском корпусе, руководимом в те годы добрым и заботливым графом Ангальтом. Примечательно, что, отдавая своих отпрысков под крыло этого попечительного наставника, М.Ф. Каменский сказал ему следующие слова: «Вы пролагаете юношам вашим путь к славе и трудам; вы и в стенах кадетского корпуса продолжаете те подвиги, которыми увековечили имя ваше в борьбе вашего короля с саксонцами; шпагой своей вы пожинали лавры, а человеколюбием привлекли сердца. Примите и моих сыновей под свое руководство, – а затем, обратясь к сыновьям, прибавил: – Поцелуйте руку, которая всегда миловала побежденных неприятелей». Из этого можно сделать вывод, что главной добродетелью вспыльчивый, безжалостный к людям граф почитал милосердие и человеколюбие! С.М. Каменский На протяжении всей своей дальнейшей жизни Сергей Михайлович не отличался ни тем ни другим, зато воевал, надо отдать ему должное, успешно и мужественно. В 1810 году в результате штурма под его командованием пала турецкая крепость Базарджик. В честь знаменательного события офицерам были пожалованы специально изготовленные золотые кресты, а солдатам – серебряные медали. В том же году, после победы под Шумлой, ранее произведенный в генералы от инфантерии граф удостоился редкой и высокой награды – ордена Святого Георгия 2-й степени. Однако, несмотря на всю доблесть и отвагу, он не пользовался любовью солдат и уважением товарищей, а неумение твердо следовать воинской дисциплине и разные непозволительные чудачества навлекли на него неудовольствие начальства. Лишь старания младшего, не любимого им брата Николая Михайловича, у которого, к своему великому неудовольствию, граф оказался в прямом подчинении, спасли его от серьезных служебных неприятностей. В Отечественную войну 1812 года С.М. Каменский оказался в тени и вынужден был «по болезни» сдать командование корпусом другому генералу. В 1822 году Сергей Михайлович, унаследовавший большую часть родового состояния после отца и безвременно скончавшегося брата, вышел в отставку и поселился в своем родном Орле, изумляя горожан необычным образом жизни. Владелец 7 тысяч крестьянских душ, он мог позволить себе роскошь держать 400 человек дворовых и, разумеется, собственный театр, которому посвящал весь свой неограниченный досуг. Постепенно это увлечение превратилось у него в манию, и он стал своеобразной достопримечательностью не только для местных обывателей, но также для всех приезжих. Благодаря свидетельствам современников многие впечатляющие факты из жизни этого диковинного театрала-самодура дошли до нас. Вот что рассказывает один из них: «Любопытнее всего были в Орле дом и публичный театр графа Сергея Михайловича Каменскаго (сына фельдмаршала), состоявший из его крепостных людей, с платою за вход, с печатными афишками, и с полным оркестром также из крепостных. Таковыми же были живописцы, декорации и машинисты. В театре давались комедии, водевили, слезливый драмы, даже оперы и балеты доморощенными, бесталанными и безголосными графскими артистами; они не отваживались только на трагедии. Театр с домом, где жил граф, и все службы занимали огромный четырехугольник, чуть ли не целый квартал на Соборной площади. Строения были все одноэтажный и деревянный с колоннами, с отвалившейся на них штукатуркой, и уже при мне здания все начинали гнить. Внутренняя отделка театра была еще изрядная, с бенуарами, двумя… ярусами лож и с райком; кресла под номерами, передние ряды дороже остальных…Были при театре капельдинеры, (как следует) в ливрейных фраках с разными воротниками. При однообразии жизни в губернском городе, театр этот был немалым развлечением для нас военных». Хозяин всегда усаживался в первом ряду кресел, а семейство его – в средней ложе, устроенной наподобие царской. Продажей билетов занимался особый кассир, но очевидцы утверждали, что в былые времена граф, не снимая Георгиевского креста, сам усаживался у кассы и собственноручно торговал билетами. Однажды известный своими шалостями юнкер, граф Мантейфель, в уплату за ложу бельэтажа привез в кассу огромный мешок с медными деньгами; чтобы пересчитать их, потребовалось много времени, – пришлось даже временно прекратить продажу, отказать же шутнику было жалко, поскольку цена ложи составляла довольно значительную сумму. Многолюдная прислуга при графском доме и капельдинеры расхаживали в ливрейных фраках с белыми, красными и голубыми воротниками, обозначавшими разряд и степень их должности. По мере заслуг они переводились из одного цвета в другой, о чем возвещалось в ежедневном вечернем приказе по дому, как это было принято в полках. В том же приказе упоминалось о беспорядках, усмотренных графом в течение дня. На первый взгляд пристрастие графа к французским операм и слащавым мелодрамам может показаться несколько странным: как-то не очень убедительно выглядит сей страстный любитель муштры в качестве мецената. Однако при ближайшем рассмотрении его поступков оказывается, что в словосочетании «крепостной театр» главным для Каменского было именно первое слово. Что же касается непосредственно театра, то в нем Сергей Михайлович отвел для себя роль сказочного Карабаса Барабаса, безжалостной рукой управлявшего подчиненными ему безропотными марионетками. Да и могло ли быть иначе? Жестокость, пронизывавшая отношения его отца, М.Ф. Каменского, к своим дворовым, в конце концов привела старого графа к гибели не на поле брани, а от топора собственного слуги, который ненавидел неумолимого господина, часто и беспощадно наказывавшего его по любому поводу. Подобным же образом относился покойный фельдмаршал и к собственным сыновьям; ходили слухи, что телесные внушения к ним он применял даже в ту пору, когда оба уже находились в штаб-офицерских чинах. Доподлинно известно, что за незначительное опоздание к месту назначения Михаил Федотович собственноручно дал провинившемуся Сергею двадцать ударов арапником. Трудно ожидать милосердия от человека, прошедшего подобную школу воспитания. Не все крепостные актеры оказывались людьми бесталанными, но все подвергались одинаково унизительному обращению и жестоким телесным наказаниям. Актрисы содержались взаперти в четырех стенах, словно в гареме, для обучения же танцоров и танцовщиц владелец театра держал при себе старого немца балетмейстера. Главное, на что обращал внимание владелец театра, была не актерская игра, а твердое знание текста. Садясь в ложу, Сергей Михайлович клал перед собой книгу, куда собственноручно вписывал все замеченные им ошибки и упущения, а сзади него, на стене, висело несколько плеток. После каждого акта он брал одну из них, выходил за кулисы и делал соответствующие внушения виновным, чьи вопли нередко достигали ушей зрителей. Впрочем, избежавшие подобной участи вряд ли чувствовали себя намного лучше. К примеру, любовница графа, некая Курилова, обязана была неизменно носить на груди огромный медальон с его изображением, а во время опалы ей, порой на долгие месяцы, вешали на спину другой медальон, с изображением уже не лица, а спины ее повелителя. Вдобавок через каждые пятнадцать минут к ней, что бы она ни делала, являлся урядник с дворовыми людьми и говорил: «Грешно, Акулина Васильевна! Рассердили вы батюшку графа. Молитесь!» И бедная женщина обязана была бить поклоны. Театр Каменского отличало чрезвычайное разнообразие репертуара и быстрая смена пьес, требовавших неимоверных затрат на постановку, ибо владелец не жалел на это средств, так же как и на приобретение (!) новых исполнителей. В конце концов дорогостоящие барские затеи и огромные расходы на содержание театра разорили графа, так что после смерти неугомонного театрала его буквально не на что было похоронить. Помимо крепостничества, было в российской действительности еще одно зло, от которого равным образом страдали богатые и бедные, сильные и слабые, все те, кто имел несчастье попасть в когти тайной полиции. Памятка для императрицы Эпоха правления Анны Иоанновны обернулась тяжким испытанием для России. Одной из самых мрачных ее страниц стало учреждение в 1731 году печально знаменитой Тайной розыскных дел канцелярии – высшего органа политического сыска. Тысячи замученных жестокими пытками, часто ни в чем не повинных людей – таковы были результаты ее деятельности. Елизавета Петровна вошла в историю как милостивая императрица. Еще до восшествия на престол она дала обет никого не казнить, а 17 мая 1744 года издала официальный указ, фактически отменявший смертную казнь в России. Позднее она отвергла ходатайство Священного синода о необходимости отказаться от данного обета и не утвердила уже одобренную Сенатом уголовную часть Уложения с изощренными способами умерщвления осужденных преступников. Тем не менее и в ее царствование Тайная канцелярия действовала в полную силу. По-прежнему применялись чудовищные пытки с целью вырвать у подозреваемых в политических преступлениях признание в несуществующих порой винах. Самое поразительное с точки зрения современных понятий состоит в том, что всем этим действиям придавалась видимость законности и оговаривались мельчайшие процедурные детали. Сохранился документ, впервые опубликованный издателем исторического журнала «Русская старина» М.И. Семевским, под красноречивым названием: «Обряд како обвиненный пытается». Это своеобразная справка о методах ведения допросов, составленная по требованию императрицы Екатерины II на основании дел Тайной канцелярии за 1735–1758 годы. Начинается она с описания того, как должен выглядеть правильно устроенный застенок. В этом отношении требования предъявлялись самые скромные: ему надлежало быть огороженным палисадником и иметь сверху крышу, «для того, что при пытках бывают судьи и секретарь, а для записи пыточных речей подьячий». Что касается обстановки, то единственным необходимым предметом служила дыба, «состоящая в трех столбах, из которых два вкопаны в землю, а третий сверху, поперек». Далее следовали подробности самого «обряда», которому подвергался предполагаемый преступник; при этом действия палача были четко обозначены. Он «долгую веревку перекинет чрез поперечной в дыбе столб и, взяв подлежащего к пытке, руки назад заворотит и, положа их в хомут, чрез приставленных для того людей встягивается, дабы пытанной на земле не стоял; у которого руки и выворотит совсем назад, и он на них висит; потом свяжет показанным выше ремнем ноги и привязывает к сделанному нарочно впереди дыбы столбу; и растянувши сим образом бьет кнутом, где и спрашивается о злодействах, и все записывается, что таковой сказывать станет». Понятно, что лишь самые выносливые люди, то есть, если судить по меркам того времени, закоренелые преступники, могли выдержать подобную систему допросов и не оговорить себя и других в самых невероятных преступлениях. Для тех, кто проявлял упорство и не хотел сознаваться, были предусмотрены более крутые меры воздействия, а именно: зажимание пальцев рук и ног в железные тиски, которые «свинчиваются от палача до тех пор, пока или повинится, или не можно будет больше жать перстов и винт не будет действовать». Если и это не давало желаемого результата, то истязуемого подвергали еще более жестоким и варварским мучениям: «Наложа на голову веревку и просунув кляп, вертят так, что оной изумленным бывает; потом простригают на голове волосы до тела, и на то место льют холодную воду, только почти по капле, от чего также в изумление приходит». Вдобавок ко всему человека снимали с дыбы, вправляли вывихнутые члены, а затем вновь на нее поднимали, потому что, как предусмотрительно разъясняет составитель справки, «чрез то боли бывает больше». По существовавшему закону пытать можно было три раза, но если «приходившая в изумление» жертва меняла свои показания, то ее мучения возобновлялись и длились до тех пор, «пока с трех пыток одинаковое скажет». Чтобы окончательно убедиться в правдивости слов обвиняемого (или подозреваемого, что по тем временам было одно и то же), его подвергали конечному испытанию огнем. Делалось это следующим образом: «Палач, отвязав привязанные ноги от столба, висячего на дыбе растянет и зажегши веник с огнем водит по спине, на что употребляется веников три или больше, смотря по обстоятельству пытанного». Окончание следствия не означало конца мучениям. Если осужденный преступник ссылался в каторжные работы, то перед отправкой к месту назначения палач вырывал у него ноздри. «И сверх того особливыми присланными стемпелями на лбу и на щеках кладутся знаки (: ВОР:); в тех же стемпелях набиты железные острые спицы словами, и ими палач бьет в лоб и щеки, и натирает порохом, и от того слова видны бывают». Вспомним, каким истязаниям во времена жалостливой Елизаветы подвергли ни в чем не повинную Н.Ф. Лопухину (ее били кнутом, а затем вырвали язык) и тех, кто проходил по ее делу. И это позорное «дело» оказалось далеко не последним в череде тех, что расследовались с применением жесточайших пыток. Петр III упразднил Тайную канцелярию, но она вновь возродилась при Екатерине под именем Тайной экспедиции. Заправлял ею богомольный «кнутобоец» Степан Иванович Шешковский, собственноручно выбивавший из тех, кто попадал в его руки, нужные показания. Сын А.Н. Радищева, по всей вероятности со слов отца, имевшего несчастье близко узнать этого изверга, рассказывал о его повадках: «Он начинал тем, что допрашиваемое лицо хватит палкой под самый подбородок, так что зубы затрещат, а иногда и повыскакивают…Кнутом он сек с необыкновенной ловкостью». Как известно, император Павел старался повсеместно искоренить порядки, заведенные его матерью, но только не в том, что касалось охранительных мер: Тайная экспедиция продолжала существовать на всем протяжении его царствования, и приемы физического воздействия на подследственных, надо полагать, также не изменились. Честь уничтожения органа политического надзора и сыска вместе с практикуемыми там методами допросов принадлежит Александру I. По воле государя 2 апреля 1801 года прекратила свое существование Тайная экспедиция, а указом от 27 сентября повсеместно запрещалось применение пыток, «дабы самое название пытки, стыд и укоризну человечеству наносящее, изглажено было навсегда из памяти народной». К сожалению, последующие события российской истории не дали сбыться этому благому начинанию. Если же говорить не о политических, а об обычных уголовных преступлениях, то бороться с ними, прибегая лишь к методам устрашения, как мы уже видели ранее, невозможно, тем более что порой возникают роковые стечения обстоятельств, когда человек оказывается несвободным в своих поступках. Судьба играет человеком Бывает так: чтобы скрыть одно, невольное преступление, человек совершает еще несколько, подчас более тяжких и уже вполне осознанно. Роковая колея событий, углубляемая собственным страхом и малодушием, неумолимо ведет его к трагической развязке, лишая свободы выбора и заставляя поступать как будто вопреки собственной воле. И все же выбор всегда есть, вот только сделать его становится час от часу все труднее. События, о которых я собираюсь вам рассказать, произошли во второй половине XVIII столетия, на исходе царствования императрицы Екатерины II, в семье одного почтенного сановника – князя, генерал-аншефа и всех российских орденов кавалера, занимавшего важный пост в провинции. У него было двое сыновей и одна-единственная, горячо любимая дочь, чьим капризам и детским шалостям старик неизменно потакал. Шли годы; девочка превратилась во взрослую девушку и, как это и положено девушкам, влюбилась. Ее избранник обладал многими отменными достоинствами, но, к сожалению, не мог похвалиться ни знатностью рода, ни даже богатством. Само собой разумеется, о согласии старого князя на брак нечего было и думать. При деятельной помощи горничной влюбленные находили укромные места для тайных свиданий, и чувство их, как говорится, росло день ото дня. Наконец молодой человек решил отправиться на службу в столицу, где (в этом он был твердо уверен) ему непременно удастся сделать блестящую карьеру, разбогатеть и, вернувшись домой победителем, в виде заветного приза получить предмет своей страсти в жены. Наступил день отъезда. Воспользовавшись кратковременной отлучкой барина, горничная княжны украдкой провела опечаленного предстоящим расставанием юношу в спальню своей госпожи. Вдоволь нацеловавшись и принеся перед святой иконой нерушимую клятву хранить друг другу верность на все время разлуки, молодые люди внезапно услышали на лестнице тяжелые шаги; насмерть перепуганная горничная, вбежав, сообщила, что батюшка вернулся из гостей раньше срока и направляется сюда. Уйти невозможно, спрятаться негде. Устройство старинного спального ложа не позволяло забраться под него, прибегнув таким образом к сему классическому средству спасения любовников, застигнутых врасплох. Оставался единственный выход. Совместными усилиями поспешно приподняли с одного боку лежавший на постели огромный, тяжелый пуховик, и молодой человек, отличавшийся довольно хрупким телосложением, как мог, распластался под ним. Вошел отец. Пребывая в самом благодушном настроении и легком подпитии, он не торопился покидать комнату своей любимицы, усевшись, как уверяли позднейшие рассказчики, прямо на мягкой постели! Когда, наговорившись досыта, старый князь наконец удалился на покой, несчастного пленника извлекли из-под пуховика уже мертвым: он задохнулся… В немом отчаянии смотрели обе девушки на труп невинного страдальца, но вызывалось это отчаяние совершенно разными чувствами: у одной преобладали любовь и жалость, у другой – страх перед расплатой. Не зная, что делать, горничная обратилась за помощью к крепостному лакею, тот недолго думая погрузил безжизненное тело в мучной куль и куда-то унес. У княжны не хватило мужества рассказать о случившемся отцу. Это стало началом последующих, еще более страшных событий. Лакей, неожиданно для себя приобретший тайную власть как над служанкой, так и над госпожой, не отличался душевной добротой и великодушием, решив в полной мере воспользоваться преимуществами своего положения. Для него не составило никакого труда сделать горничную послушной игрушкой, но этого ему показалось мало: невзирая на бессильные угрозы, слезные мольбы и уговоры несчастной девушки, он добился ее содействия в осуществлении нового преступного намерения: силой овладеть барышней. Вынужденная в конце концов подчиниться, служанка ближайшей ночью отворила дверь спальни своей госпожи и впустила насильника. О том, что за этим последовало, догадаться нетрудно: борьба оказалась слишком неравной, вдобавок жертву сковывал страх перед громким скандалом и неминуемым разоблачением. В результате она уступила. Следующим звеном в зловещей цепи событий стало появление на свет незаконного младенца, которого преступный родитель хладнокровно утопил в реке. Княжна и тут смолчала, хотя знала о судьбе ребенка, сделавшись тем самым соучастницей злодеяния. Окончательно уверовавший в свое всесилие и безнаказанность лакей стал требовать у княжны денег на водку, и та, преодолевая стыд и отвращение, принуждена была похищать их тайком у отца. Деньги тут же пропивались в кабаке. Однажды, сильно захмелев и потеряв всякую осторожность, негодяй начал хвастаться перед собутыльниками своей «полюбовницей»-барышней. Те не поверили и подняли его на смех. Тогда совершенно озверевший мужик отправил к девушке посыльного с приказанием явиться в кабак и самолично подтвердить его слова. Та явилась, ни жива ни мертва, выслушала глумливые, пьяные речи и с ужасом поняла, что оказалась на дне помойной ямы: погружаться дальше было уже некуда. Не помня себя от стыда и унижения, княжна выбежала из кабака. Чаша ее терпения переполнилась. Воспользовавшись темнотой, она незаметно обложила избу со всех сторон соломой, подперла входную дверь шестом и подожгла. Подхваченное сильным ветром пламя в короткое время уничтожило ветхое строение со всеми находившимися в нем людьми: спастись не удалось никому. Насытившись местью, она вернулась домой, разбудила спавшего отца и во всем ему призналась: в невольном убийстве возлюбленного и сокрытии его смерти, позорном подчинении крепостному лакею, рождении ребенка и тайном его умерщвлении, в воровстве и, наконец, в поджоге… Старый князь не нашел возможным скрыть услышанные им чудовищные признания дочери от властей. Дело дошло до государыни. Внимательно ознакомившись со всеми сопутствовавшими обстоятельствами, Екатерина повелела ограничиться в отношении княжны монастырским покаянием. Некоторым столь мягкое наказание показалось странным и несоразмерным вине, но императрица по собственному опыту знала, как трудно иногда противиться судьбе и что не всегда дурные поступки бывают продиктованы злой волей. Недаром в одной старой песне говорится: Судьба играет человеком, Она изменчива всегда, То вознесет его высоко, То бросит в бездну без стыда. Невольники чести Первоначально дуэль как прямое продолжение существовавших в Средние века «Божьих судов» имела в себе нечто неотвратимое и роковое: победа одного из противников служила несомненным доказательством его правоты, ибо считалось, что руку победившего направлял сам Бог. А в этом случае самый слабый способен был одолеть самого сильного. Со временем вера в сверхъестественную силу правоты поубавилась, и в благоприятном исходе поединка стали видеть не столько Божью волю, сколько умение лучше стрелять или фехтовать. Но помимо этого дуэль наглядно выявляла свойства характера, раскрывая сущность человека. И порой Давид вновь одерживал победу над Голиафом… Н.Г. Щербатов Эта история началась в последние годы царствования Екатерины II, когда в Петербург в числе прочих эмигрантов из революционной Франции прибыл некий шевалье де Сакс, побочный сын принца Ксавье, дядюшки саксонского короля. Он был принят весьма милостиво, удостоился ежегодной пенсии в 2 тысячи рублей и чести быть допущенным в число приближенных государыни; императрица любила оказывать благоволение знатным чужеземцам, даже если не видела в них особого проку – как-никак они добавляли блеска ее двору! Однажды на гулянье в Екатерингофе семнадцатилетний гвардейский унтер-офицер князь Николай Щербатов вздумал обратиться к надменному французу с невинным вопросом о его самочувствии, на что получил крайне невежливый ответ. Оскорбленный князь вызвал де Сакса на дуэль, но тот в еще более грубой форме отказался, сославшись на разницу в их служебном положении (шевалье имел полковничий чин). Самолюбивого и горячего юношу такое объяснение не устроило, и вечером того же дня, остановив де Сакса при выходе из театра, он вновь потребовал от него удовлетворения. Взбешенный верзила француз закатил тщедушному потомку удельных князей увесистую оплеуху, но тот, не растерявшись, что было мочи ударил обидчика тростью по голове. Поднялся шум, противников разняли, и шевалье, имевший по причине своей заносчивости множество недоброжелателей, угодил под арест. П.А. Зубов Полагая, что все это подстроено тогдашним фаворитом князем П.А. Зубовым, выпущенный на свободу де Сакс потребовал расследования, но был без всяких разбирательств выдворен из России. Не успокоившись на этом, разгневанный шевалье прислал из-за границы письменные вызовы на дуэль как Зубову, так и Щербатову. Первый оставил полученное им послание без внимания, а второй не имел физической возможности бросить место службы и выехать в чужие края. Не получив ответа, мстительный француз напечатал оскорбительный для фаворита вызов в иностранных газетах, после чего в этой истории наступил продолжительный антракт. Прошло несколько лет. На престол вступил Александр I, и положение Зубова, активного участника убийства императора Павла, вскоре пошатнулось: новый царь не мог окружать себя людьми, причастными к смерти своего отца. Летом 1802 года бывший фаворит выехал в Вену. По пути, следуя через Варшаву, он подвергся оскорблениям поляков, видевших в нем одного из главных виновников раздела Польши: несмотря на вооруженную охрану, уличная толпа забросала его коляску камнями. Это было лишь началом обрушившихся на него неприятностей: вслед за тем некто Гелгуд, выражая чувства своих соотечественников, послал ему вызов на дуэль. Зубов предпочел оправдываться, отводя возводимые на него обвинения, а от поединка отказался, мотивируя это тем, что ему прежде необходимо уладить другое дело чести в Вене, после чего он готов принять вызов. На другой же день после прибытия князя Платона в австрийскую столицу к нему явился по-прежнему непримиримый шевалье де Сакс, требуя удовлетворения. Никакие объяснения не помогли, и Зубову пришлось согласиться на поединок. Тем временем возмужавший за истекшие годы князь Н.Г. Щербатов, теперь уже подполковник свиты его императорского величества, прослышав о готовившейся дуэли, поспешил в Вену, чтобы ее предотвратить. Однако он опоздал: поединок состоялся и, по словам очевидца, Зубов повел себя «как слабая женщина, приговоренная к мучительной операции». Прежде чем взяться за шпагу, он упал на колени и долго молился, потом, наступая на шевалье, наткнулся рукой на его клинок и, получив незначительную царапину, объявил, что далее не может драться. Разгоряченный шевалье, нанеся ему удар шпагой плашмя, воскликнул: «Вы мне надоели!» Тем дело и кончилось, по крайней мере для Зубова. Что же касается де Сакса, то для него комедия очень скоро обернулась трагедией: вызванный на дуэль князем Щербатовым, он был убит наповал, не успев даже сделать ответного выстрела. Напуганный случившимся, Платон Александрович решил во что бы то ни стало избегнуть еще одной дуэли с преследовавшим его Гелгудом. Он обратился к Александру с униженной просьбой о разрешении вернуться на родину, не доводя дело до поединка. В ответном письме государь указал на постыдность такого поступка: «Ваше возвращение в Россию неминуемо даст повод думать, что вы уклоняетесь от окончательного решения дела с Гелгудом, тем более что слово ваше дано… в письме к нему, которое всем сделалось известно. Я уверен, что вы сами почувствуете это в полной мере». Но князь Платон уже ничего не способен был чувствовать, кроме страха; невзирая на вполне определенный ответ императора, он под охраной полицейского чиновника позорно бежал из Австрии, переменяя экипажи, путая и скрывая свои следы. В октябре 1802 года, целый и невредимый, он прибыл домой… Что же касается другого участника этой истории, полковника Н.Г. Щербатова, то он, командуя в 1813 году сформированным им Украинским казачьим полком, проявил примерную храбрость и удостоился генерал-майорского чина. Его портрет среди прочих героев Отечественной войны находится в Военной галерее Зимнего дворца. Сколько стоят «табуретки»? На Фонтанке, почти напротив цирка, стоит дом № 24, резко нарушающий гармонию классических фасадов этого отрезка набережной, на целый этаж возвышаясь над ними. Эклектический стиль и монотонная окраска дома также входят в противоречие с соседними зданиями; он удивительно подходил к фамилии своего долговременного владельца – сенатора А.М. Безобразова, который в 1840 году довольно уродливо надстроил и расширил его, хотя нынешнюю физиономию дом приобрел уже позднее, в начале 1880-х. Возведен же он был ста годами ранее подрядчиком-плутом Иваном Долговым, умудрившимся при постройке каменной набережной Фонтанки так соблюсти свой интерес, что соорудил на ней рядышком двое собственных палат, одни из которых тут же продал графу А.К. Разумовскому. В 1815-м участок дома № 24, выходивший другим концом на Моховую, перешел к купцу Кузьме Голашевскому, а позднее – к его дочери Наталье. Среди обитателей дома была супружеская чета Пукаловых, с которой нам предстоит познакомиться поближе. Отставной обер-секретарь Синода Иван Антонович Пукалов был олицетворенным типом продувного подьячего из старых романов, не останавливавшимся ни перед подлогом, ни перед кражей документов, если это сулило ему ощутимую выгоду. Женитьба заматерелого приказного на девушке, тридцатью годами моложе его, имела отнюдь не романтическую подкладку. Один богатый помещик по фамилии Мордвинов, владелец 2 тысяч крепостных душ, имел довольно легкомысленную любовницу, с которой, хорошо зная ее душевные свойства, давно расстался, но продолжал жить в одном городе и даже время от времени показывался с ней на людях. Это дало ей повод после смерти Мордвинова объявить наследницей свою тринадцатилетнюю дочь Варвару, появившуюся на свет без малейшего участия покойного. Однако тут же сыскался еще один претендент на наследство, корнет Мякинин, справедливо доказывавший, что брачная запись, предъявленная мнимой вдовой, подложна и, таким образом, дочь ее является незаконнорожденной. Пукалов, в чьем ведении оказалось это дело, взялся его уладить в пользу заявительницы, но взамен потребовал руки Варвары. Поколебавшись некоторое время, мать согласилась на этот, мягко говоря, странный брак. Будущий зять признал сомнительную запись подлинной, после чего женился на Варваре Петровне, сделавшись обладателем богатого приданого. Однако этого ему показалось мало. Пару лет спустя он ввязался в дело о наследстве заводчиков-миллионеров Баташевых, где ему предстояло решить задачу прямо противоположную: признать законного наследника незаконным. Но даже немыслимое крючкотворство Ивана Антоновича оказалось бессильным перед ясными как день фактами. Пришлось прибегнуть к иным средствам. Когда по случаю коронации императора Александра I Синод перенес свои заседания в Москву, за ним последовал воз с наиболее важными и безотлагательными документами, среди которых находилось и баташевское дело. Таинственным образом все бумаги, доверенные попечению обер-секретаря, по пути сгорели. Синод не имел возможности убедиться в их подлинности, и вопрос о наследстве решился нужным для Ивана Антоновича образом. Правда, на сей раз ему пришлось пострадать: за нерадение и ротозейство он был отставлен от службы, и ему оставалось лишь утешаться далеко не пустячным гонораром, полученным от выигравшей стороны за его труды и хлопоты. Временные невзгоды отставного секретаря окончились со вступлением в должность военного министра А.А. Аракчеева, который не только принял его на службу, но и выхлопотал ему в скором времени чин действительного статского советника, то есть штатского генерала! Причина столь неожиданной благосклонности грубоватого временщика, не особенно жаловавшего взяточников, была проста: «большой аматёр со стороны женской полноты», Алексей Андреевич не смог устоять перед пышными прелестями мадам Пукаловой, которые ее неревнивый супруг предоставил в полное распоряжение своего благодетеля. Сам он тем временем тоже не зевал; по свидетельству Ф.Ф. Вигеля, «сей нечестивец, сей плут всех уверил, что через жену делает из Аракчеева что хочет…Он прослыл источником всех благ и просящим, разумеется не даром, раздавал места». Его супруга деятельно помогала ему в этом, не только принимая, но и выпрашивая подарки, даже требуя их. По словам того же Вигеля, «она стала показываться на всех балах и изумлять своею наглостию; все высокомощные стали ухаживать за нею и за мужем ее». Чтобы служба не мешала более прибыльным занятиям, Иван Антонович по собственному прошению вышел в отставку, поселился с женой в доме на Фонтанке и открыл настоящую частную контору по торговле орденами и медалями. Существовала твердая такса: «табуретки», то есть орденские звезды, которые он брался выхлопотать всем желающим, оценивались в 10 тысяч рублей, а медали, именуемые остроумным подьячим «миндалями», – в 5 тысяч. Торговля шла бойко, от посетителей отбою не было: ежедневно перед жилищем супругов Пукаловых выстраивалась длинная вереница карет. По городу ходил следующий анекдот. Как-то раз, славившийся желчной язвительностью граф Ф.В. Ростопчин встретился за обедом у императора с Аракчеевым. Когда временщик завел разговор о том, что нынче, мол, перевелись вельможи, что в залах у знати не толпятся, как прежде, люди, граф иронически посмотрел на него и как бы вскользь заметил: «Да, в залах не толкутся, но есть дома, мимо которых проезда нет. Третьего дня ехал я по Фонтанке мимо Симеоновского моста; вдруг карета моя остановилась. Спрашиваю кучера, что случилось, а он мне в ответ: „Каретами вся улица заставлена, своротить некуда". „У кого же такой большой съезд?" – говорю. Тут стоявшие рядом кучера объяснили: „У Пукалочихи, барин!" Признаюсь, никогда не доводилось мне слыхивать о знатной боярыне Пукалочихе», – насмешливо закончил граф. При этих словах Аракчеев позеленел от злости. Как видно из газетных сообщений, уставшие от трудов праведных супруги ежегодно уезжали восстанавливать надорванные силы на заграничных курортах, и тогда движение по набережной вновь входило в нормальную колею. «Голубые князья» После крушения советского строя в нашем обществе началась идеализация дворянства, в особенности титулованного. Если в старых, идеологически выдержанных кинофильмах и книгах лучшие человеческие качества, как правило, воплощал в себе простой рабочий человек, а «буржуи» и дворяне являлись носителями злого начала, то в современных все обстоит наоборот: пролетарии или вообще в них отсутствуют, или представлены в самом невыгодном свете, в то время как их классовые враги призваны вызывать горячую симпатию. Знак минус поменялся на знак плюс. Многие бросились отыскивать в своих родословных, не простирающихся далее второго колена, следы «благородного происхождения», и кое-кто весьма в этом преуспел. А между тем принадлежность к тому или иному сословию вовсе не означает наличие каких-то особых черт характера и уж тем более – нравственных качеств. Вряд ли кто-то из читателей слышал, к примеру, о князьях Шелешпанских. Даже такой признанный знаток дворянской генеалогии, как составитель «Российского родословного сборника» П.В. Долгоруков, полагал, что род этот, восходящий к XVI Рюрикову колену, вымер еще в XVIII веке. На самом же деле он продолжал существовать вплоть до 1870-х годов, владея поместьями, причем не где-нибудь на окраинах Российской империи, а, можно сказать, в самом центре ее – в Костромской губернии. В пореформенные времена, когда прежние барские владения стали одно за другим переходить к купцам-промышленникам и мужикам-кабатчи-кам, князья Шелешпанские довольно быстро перешли в разряд «оскудевших», разделив судьбу многих своих собратий. Но вот что самое поразительное: за пятьсот лет существования этот род не дал ни одного мало-мальски известного государственного деятеля, военачальника или даже придворного, не говоря уже о писателях, художниках и вообще людях искусства! Перерыв целые горы мемуарной литературы, крайне трудно отыскать даже простое упоминание о князьях Шелешпанских. Забившись в свой медвежий угол, они жили неведомой за пределами ближайшего околотка жизнью, где главное место уделялось псовым охотам, многодневным попойкам, иллюминациям, фейерверкам и прочим, столь же полезным занятиям. О нравах, царивших в среде окрестных помещиков, дает представление дневник Карла Майера, служившего в 1830-х годах управляющим в имении князя Л.В. Шелешпанского. Вот одна из красноречивых выдержек из него: «На двор Лагунова забежала борзая собака соседа и бросилась на домашнюю. Чужую убили. Через три дня Лагунов пил чай на террасе; на двор въехал соседский доезжачий (старший псарь. – А. И.) и, не снимая шапки, говорит, что барин приказал сказать, что ты убил у него собаку, за это он сегодня сжег у тебя мельницу и в ней мельника с семьей, так что: ты миру просишь или продолжать станешь? Просили миру. Съехались с охотами и псарями в поле, на ничьей земле праздновали мир три дня…» Там же, немного ниже, следующая запись: «…давали за Злодея и Вихру (собачьи клички. – А. И.) пятьсот рублей ассигнациями да две дворовые семьи на выбор. Злодей муругопегий, татарский, больно хорош. Не продали». Оно и неудивительно: в российском феодальном захолустье хороший пес ценился не в пример выше дворовых людей, о чем писал еще Грибоедов, рассказывая, устами Чацкого, о Несторе «негодяев знатных», окруженном толпою слуг: Усердствуя, они в часы вина и драки И честь и жизнь его не раз спасали; вдруг На них он выменял борзые три собаки!!! В усадьбе Шелешпанских имелось собачье кладбище с настоящими памятниками и мраморными плитами. На некоторых, особенно дорогих для хозяев могилах красовались вырезанные на камне эпитафиии вроде нижеследующей: «Я, Карай, сын благородных родителей Вьюги и Поражая, покоюсь на сем месте. Моя жизнь была недолгой, но счастливой; слава же моя есть и будет вне сравнений. Не было мне равных в искусстве доставать зверя. Все возносили мне хвалы за способность брать матерого волка с первой угонки и сразу по месту. Смерть моя жестоко опечалила Солигаличский уезд и всю губернию». Кстати сказать, в свое время князь приказал своему крепостному живописцу Филофею Сорокину написать портрет упомянутой Вьюги, родительницы достославного Карая. Не лишенный таланта и человечности художник изобразил на первом плане борзятника (псаря, ведавшего борзыми) Ивана Рябова, а в левой нижней части картины – собаку, вытянувшую к нему голову в ожидании ласки. Князю это не понравилось: «Я ему, дураку, суку велел срисовать, а не Ваньку. У Вьюги щипец (морда. – Л. И.) ангельский, а у Ваньки – харя! На нее любоваться?» Однако его ничуть не смущало то, что мифологические персонажи, изображенные тем же Филофеем Сорокиным на стенах так называемой Античной гостиной барского дома, имели вполне узнаваемые лица из числа княжеской челяди. Там можно было встретить и кентавра со стриженной в скобку головой и нательным крестом, и скуластого фавна с нелепо торчавшими из головы коровьими рогами, и курносую вакханку с лицом одной из дворовых девок, и самого князя, повелевшего изобразить себя в виде бога виноделия Диониса, с виноградной гроздью, свисающей возле правого уха! Это был замкнутый мирок, населенный исключительно туземцами, и он, их господин, царил там безраздельно. Его власть над холопами была почти божественной, и князь мог позволить себе любые причуды. Впрочем, они не заходили дальше оголтелых псовых охот и праздных забав. Никакими особенными злодействами Л.В. Шелешпанский не прослыл и кончил тем, что, разорившись, скрылся от долгов в неизвестном направлении, оставив навсегда пустым приготовленное для него место в семейной усыпальнице. Куда более долгую и страшную память о себе оставила другая представительница того же рода, обитавшая в конце XVIII – начале XIX столетия в соседнем, Чухломском уезде и прозванная за свои злодеяния «чухломской Салтычихой»[2]. Ее муж, отставной капитан князь А.С. Шелешпанский, в 1791 году переселился из Петербурга в унаследованное от отца костромское имение Тимошино, заняв должность уездного судьи. К тому времени он уже лет десять как был женат на Анне Степановне Верховской, также происходившей из костромских дворян, и успел прижить с ней восьмерых детей. От деревенской ли скуки или уступая порочной наследственной склонности, княгиня пристрастилась к горячительным напиткам, и, по словам ее современника и соседа, «начинается вскрытие женской натуры самой свирепой, отвратительной и позорной». Зрелище чужих истязаний и мук доставляли ей садистское наслаждение: в течение шестнадцати лет она до смерти засекла восемнадцать человек, не говоря уже о каждодневных жестоких побоях дворовой прислуги. Не раз доведенные до отчаяния люди пытались жаловаться на свою госпожу, но выборные должности судьи, исправника и уездного предводителя дворянства занимали ее ближайшие родственники, включая мужа, поэтому все оставалось шито-крыто. В конце концов нескольким крепостным удалось бежать из усадьбы и добраться до Петербурга, где они смогли подать жалобу самому императору Александру I, который распорядился произвести строжайшее расследование. В результате злодейку-княгиню заключили в монастырь, а через два года, по словам того же современника, «ни с того ни с сего у ней лопнул живот, вышли потрохи, и фурия умерла в страшных мучениях». Конец почти сказочный, но, по-видимому, достоверный. Остается приписать эту смерть, как это делает рассказчик, Божественному правосудию, оказавшемуся, как всегда, куда более справедливым, чем человеческое. Вот и все, чем древний княжеский род Шелешпанских запечатлел в истории свое имя. В наше время невесть откуда появившиеся новоявленные графы и князья претендуют на принадлежность к весьма сомнительной «элите». Живи эти люди в начале 1920-х годов, в эпоху диктатуры пролетариата, когда ценились исключительно рабоче-крестьянские корни, они, вероятно, с легкостью обнаружили бы у себя таковые, но сегодня в почете «голубая кровь», и, если других поводов для гордости нет, желательно иметь хотя бы этот. Однако в действительности громкий титул столь же мало свидетельствует о подлинном благородстве, как потомственная принадлежность к профессиям слесаря или молотобойца. Так стоит ли заново творить мифы, которые, право же, ничем не лучше прежних? Никто не даст нам избавленья Два века назад в России свершилась очередная бюрократическая революция: петровские коллегии пали, уступив место александровским министерствам. Преобразовывая в 1715 году прежние органы власти, приказы, на шведский лад – в коллегии, центральные правительственные учреждения, устроенные, в отличие от министерств, по совещательному принципу, Петр I пребывал в уверенности, что «правление соборное в государстве монархическом есть наилучшее». Эта на первый взгляд парадоксальная мысль, как будто бы противоречившая самодержавному принципу единоначалия, на самом деле вполне логична, потому что абсолютная власть нуждается в совете, заменяющем ей закон. А кроме того, одному лицу легче скрыть злоупотребления, чем многим: всегда кто-нибудь да выдаст. Правда, еще при Екатерине II коллегии стали утрачивать первоначальный характер, все больше подпадая под власть возглавлявших их президентов и сохраняя лишь название, но последний, смертельный удар по ним нанесла сентябрьская реформа 1802 года. И Александр I, и его ближайшие сподвижники полагали, что сложившиеся к тому времени органы управления никуда не годятся, все нужно делать заново, по выражению царя, «резать по живому и кроить из цельного куска», без учета накопленного опыта и условий жизни. Естественным образом взоры реформаторов обратились к готовым западным образцам, преимущественно французским, хотя тогдашние первые советники императора были сплошь англоманами. Однако они понимали, что британская система государственной власти слишком органично связана с местной почвой: можно было любоваться ею, мечтать о ней, но пытаться пересаживать на русскую – безнадежное дело. Гораздо более приемлемым казался пример революционной Франции, превращенной Бонапартом в консульскую республику с жесткой бюрократической централизацией. Французский образец казался особенно привлекательным еще и потому, что позволял не считаться с историческим опытом прошлого. Среди российских реформаторов укоренилась незыблемая вера в то, что хорошие (с их точки зрения) учреждения способны перевоспитывать плохих людей, поэтому нужно лишь переделать внешние формы, а вслед за ними изменится и внутреннее содержание. Примерно так же, если вы помните, рассуждали и герои крыловской басни «Квартет»… О том, как восприняли в тогдашнем обществе преобразование коллегий в министерства, можно узнать, к примеру, из «Записок» Ф.Ф. Вигеля: «Кажется, простой рассудок в самодержавных государствах указывает на необходимость коллегиального правления. Там, где верховная, неограниченная власть находится в одних руках и глас народа… не может до нее доходить, власть главных правительственных лиц должна быть умеряема совещательными сословиями… Может же когда-нибудь случиться, что рассеянный государь вверится небрежным министрам, которые вверяются ленивым директорам, которые вверяются неразумным и неопытным начальникам отделений, а они вверяются умным и деятельным, но не весьма благонамеренным и добросовестным столоначальникам. Тогда сии последние… будут одни управлять делами государства». Именно это и произошло: министерства далеко не в полной мере оправдали возлагавшиеся на них надежды. Тем не менее, несколько видоизмененные М.М. Сперанским, они продолжали действовать вплоть до краха Российской империи, после чего восстали из пепла и благополучно существуют и поныне. В десятилетия, последовавшие за их введением, бюрократизация в стране приняла прямо-таки чудовищный характер. По словам историка В.О. Ключевского, «руководство делами уходило от центра вниз; каждый министр, посмотрев на гигантскую машину государственного порядка, мог лишь махнуть рукой и предоставить все воле случая. Настоящими двигателями этого порядка стали низшие чиновники». Это подтвердил сам Николай I, сказавший как-то, что Россией правит не император, а столоначальники. Примечательно, что во все времена в нашем государстве любая попытка избавиться от чрезмерных бюрократических пут и проволочек (а реформа 1802 года имела в виду и эту цель) приводила к совершенно обратному эффекту: чиновное сословие лишь умножалось, а скорость делопроизводства соответственно замедлялась. Что же касается влияния министров на жизнь народа (тогда его еще не называли населением!), то можно указать на ходившие по городу в конце XIX века ядовитые, разумеется, анонимные стишки, в которых затрагивались министры внутренних дел начиная с 1860-х годов. Непосредственным поводом к их появлению стало назначение на этот пост в 1895-м И.Л. Горемыкина, чья выразительная фамилия и обыгрывалась неизвестным автором: Друг, не верь пустой надежде, Говорю тебе: не верь! Горе мыкали мы прежде, Горе мыкаем теперь. После перечисления государственных мужей, возглавлявших министерство и бесславно уходивших в отставку, следовали такие строки: И во всех министрах этих — Хороша ль, не хороша — Пребывала непременно Горемычная душа. Надо сказать, что внутренние дела, а значит, и министры, ими управлявшие, занимали тогдашних россиян значительно больше, чем все остальные. Именно этим можно объяснить появление тогда же еще одного стихотворного опуса на ту же тему и, судя по знакомому приему, того же автора. В отличие от первого здесь фигурируют не только сами министры, но также их товарищи (то есть заместители) и даже один директор департамента, обладавший особо соблазнительной фамилией – Заика: Наше внутреннее дело То толстело, то дурнело, (Д.А. Толстой и И.Н. Дурново) Заикалось и плевалось, (В.Л. Заика и В.К. Плеве) А теперь в долги ввязалось. (Н.П. Долгово-Сабуров) И не дай бог, если вскоре Будем мыкать только горе. (И.Л. Горемыкин) В наши дни сатирических виршей о министрах уже не слагают, – вероятно, по той простой причине, что больше ничего от них не ждут: люди начали понимать, что ни цари, ни столоначальники их проблем не решат, избавленья никто не даст и добиться желанной цели можно лишь своею собственной рукой! Глава 4 Утратившие и сохранившие Не верь глазам своим! Представим на суд читателям еще одну, довольно курьезную историю, подтверждающую неоспоримую истину: видимость не всегда определяет сущность. Бывают постройки, чье первоначальное назначение в настоящее время трудно угадать. Они будоражат воображение, заставляя фантазировать, хотя чаще всего эти догадки и фантазии оказываются очень далекими от действительности. К примеру, тем, кто увидел бы лет пятнадцать – двадцать назад бывший храм в честь 300-летия дома Романовых на Миргородской улице, нелегко было бы представить себе, что перед ними церковное сооружение. Лишенное куполов, оно скорее напоминало замок какого-нибудь средневекового феодала, – такими неприступными казались мрачные, массивные стены с узкими прорезями окошек-бойниц. Сходство с крепостью усиливала зубчатая краснокирпичная ограда, протянувшаяся в конце Полтавской улицы с правой стороны. Правда, романтические фантазии быстро терпели крушение при столкновении с прозаической реальностью, выступавшей в виде таблички с надписью «Молокозавод» на входных воротах. Не менее интригующим может показаться присутствие миниатюрных триумфальных ворот, установленных между домами № 12 и 16 по улице Восстания, бывшей Знаменской. Кто и по какому поводу воздвиг это карликовое подобие античных образцов? Того, кто возьмет на себя труд докопаться до истины, ожидает сильное разочарование, а может быть, наоборот, позабавит затейливая изобретательность прежних хозяев столь необычной достопримечательности – инженера путей сообщения А.И. Дунина-Слепца и его сестер. В 1909 году они пожелали соорудить в глубине своего пустопорожнего участка, как написано в архивном деле, «бетонное отхожее место на 5 очков, три в мужском и два в женском отделении». Тогда же им пришла в голову оригинальная мысль, воплощенная в жизнь архитектором И.Л. Балбашевским: украсить вход на сей новоявленный форум триумфальной аркой с двумя торговыми павильонами. Все это было выполнено из бетонных пустотелых камней – новинки, незадолго до того вошедшей в моду. До наших дней уцелела лишь парадная часть этого своеобразного архитектурного ансамбля. Подобные курьезы случаются и в наши дни. Старожилы Литейной части наверняка помнят довольно неприглядный общественный туалет на углу Кирочной улицы и Радищева (бывшего Церковного) переулка, в том самом, частично снесенном здании, из-за которого было сломано немало копий. Теперь в этом помещении обосновался сверкающий сплошными стеклами и зеркалами элитный салон одежды. Вот уже воистину: из грязи да в князи! Из Литейной отправляемся в Адмиралтейскую часть и для начала пройдемся по оживленному Спасскому переулку; после революции ему навязали новое название – в честь большевика Петра Алексеева. Ветераны Адмиралтейской части Вглядимся в фасады двух старинных купеческих особняков; наиболее интересен первый из них – № 4, построенный в 1750-х в стиле елизаветинского барокко, с чудесными, тонкой работы наличниками окон второго этажа (позднее здание было надстроено тремя этажами). Сохранилась даже архитектурная отделка лицевого флигеля со стороны двора, что можно считать чрезвычайной редкостью. Первоначально здание имело мезонин и тринадцать окон по фасаду, но в конце XVIII века его «укоротили» на пять осей с правой стороны. Дом на углу Мучного переулка и Садовой улицы. Современное фото Дом № 10, возведенный примерно в то же время и также впоследствии надстроенный, обладает схожими барочными наличниками, но он перенес капитальный ремонт, а потому лишился части прежних деталей наружного декора. Купцы строили свои жилища прочно, на века, и не торопились с ними расставаться – их дома гораздо реже меняли хозяев, чем дворянские. Часто бывало так, что именитые купеческие роды, такие как Яковлевы, Таировы, Глазуновы, Кокушкины, Варварины, Зимины, владели участками по пятьдесят и более лет. Да и куда им было переезжать? Жили купцы торговой, оседлой жизнью, вблизи своих лавок, кабаков, трактиров, от которых нередко получали названия улицы, где они селились. Неподалеку от Спасского переулка, на углу Мучного и Садовой (№ 9/27), глубоко врос в землю двухэтажный дом с длинным, лишенным каких бы то ни было украшений фасадом. Это местный старожил: о его почтенном возрасте говорят почти сровнявшиеся с тротуаром окна первого этажа. Построил его в 1780-х на месте деревянных одноэтажных лавок купец Белянкин и открыл здесь «Новгородский трактир». Место было бойкое, посетителей хоть отбавляй; неисчислимые толпы людей всех возрастов и званий спускались и поднимались по его ступеням. Менялись вывески, но никогда дом не менял своего торгового назначения, определенного для него изначально. В его простых, голых стенах и в их неизменности есть своя красота, нечто незыблемое — здесь всегда витал дух торговли. Садовая улица, дом № 25. Современное фото Здание на противоположном углу того же переулка (Садовая ул., 25), хотя и утратило первоначальный фасад, все же сохранило характерные для торговых рядов архитектурные членения: разделенные лопатками сдвоенные окна над широкими аркадами. Поначалу дом был двухэтажным, а о том, кто его построил, можно узнать из «Дополнения к… описанию Санкт-Петербурга 1751–1762 гг.» того же А. Богданова: «В 1760 году на Морском рынке, по Большой преспективой, на конец мучных лавок заложены строиться каменные лавки купца Саввы Яковлева». Они хорошо видны на аксонометрическом плане Сент-Илера – Соколова начала 1770-х; на месте упоминаемого Богдановым Морского рынка Джакомо Кваренги в скором времени возведет здание Ассигнационного банка, яковлевские же торговые ряды уцелели и принадлежали его потомкам еще долгие годы. Это сооружение с ясно выраженной торговой спецификой также не лишено своеобразной красоты, воплощенной в строгой архитектурной логике; кроме того, оно доставляет радость узнавания: сквозь наружные наслоения в нем проступают первозданные черты. Заслуживает внимания и дом № 25 по каналу Грибоедова (бывший – Екатерининский) на углу Зимина переулка. Набережная канала Грибоедова, дом № 25. Современное фото Его дважды переделывали и расширяли, к тому же добавили четвертый этаж, но все же он сохранил прежний ритм оконных проемов, разделенных сдвоенными лопатками, и массивные сводчатые погреба, поддерживающие верхние этажи, – то есть отличительные признаки каменных палат 1740—1750-х годов. В ту пору участок на углу тогда еще безымянного переулка у речки Кривуши (ныне канал Грибоедова) принадлежал купцу Степану Зимину, владения которого простирались до Большой Мещанской, ныне Казанской. Вдобавок к двум своим деревянным домам, выходившим на улицу и в переулок, Зимин возвел каменный; первое упоминание о нем относится к 1771 году. В одном из газетных объявлений заинтересованным лицам предлагалось справиться насчет цены «в большой Мещанской, в рыношном переулке, в каменном доме купца Зимина». Рыночным переулок стал называться из-за того, что на противоположном берегу канала, куда желающие могли переправиться в лодке, находился Морской рынок, а также и потому, что в самом переулке, как раз напротив дома Зимина, долгое время размещались мясной и рыбный ряды. После того как к концу XVIII века и Морской рынок, и ряды перестали существовать, самой заметной достопримечательностью переулка сделался каменный дом Зиминых, от которого и повелось его позднейшее наименование. Первые на Большой Луговой Когда-то Малая Морская звалась Большой Луговой, потому что выходила на Адмиралтейский луг и имела лишь одну, нынешнюю четную сторону; другая появилась позднее – уже в 1760-х. Памятниками той эпохи остаются два дома – № 5 и 17. Первый из них примыкает к бывшему банку Вавельберга, где теперь кассы Аэрофлота. Он был надстроен, но три нижних этажа во многом сохранили тот вид, какой имели двести с лишним лет назад. Интересна история застройки этого квартала. В декабре 1762 года по именному указу Екатерины II учреждается Комиссия о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы. Одной из главных ее целей было «привести город… в такой порядок и состояние и придать оному такое великолепие, какое столичному городу пространственного государства прилично». Комиссия под руководством архитектора Алексея Квасова разработала проект планировки города, который, в частности, предусматривал застройку «погорелых мест» в двух кварталах перед Адмиралтейством. 27 апреля 1766 года были утверждены два «примерных фасада» для рядовой застройки Адмиралтейской части, «в два этажа сверх погребов». Автором этих проектов считается тот же Алексей Квасов. Иное мнение относительно их авторства высказывает очевидец тех событий, известный историк искусства Якоб Штелин. В своих «Воспоминаниях об архитектуре в России» он пишет: «В 1766 году… были заложены первые дома на до сих пор пустовавшем Адмиралтейском лугу и осенью уже частично подведены под крышу. Как желающим были указаны места для постройки, так же им были предписаны фасады домов. Тогда сплошь да рядом говорили, что господин президент канцелярии придворного строительства генерал-лейтенант Бецкой заказал в Париже рисунок этого фасада, как будто никто кроме его парижского архитектора не мог выдумать эту глупость бессмысленно высоких въездных арок и разорванных из-за этого лучших этажей и анфилад комнат». Малая Морская улица, дом № 17. Современное фото Действительно, на уже упоминавшемся аксонометрическом плане Сент-Илера – Соколова можно разглядеть высокие арки ворот, прорезающие фасады домов до середины второго, а иногда и до третьего этажа. Кто был тот мифический французский зодчий и сыграл ли он ту роль в разработке образцовых фасадов, какую приписывает ему Штелин, – остается загадкой. Впрочем, в докладе комиссии указывалось, что представляемые образцы не являются обязательными, а лишь определяют основные размеры и архитектурные членения зданий. Застройщикам предоставлялась относительная свобода в планировке дома и всего участка, а также в выборе элементов декоративной отделки. Однако они предупреждались: «Дабы иногда какое нерегулярство из того последовать не могло, всякий строитель дома должен до начатия на апробацию фасад представить генерал-полицмейстеру». На плане хорошо виден и нынешний дом № 5 по Малой Морской, возведенный, как уже знаем, в 1766 году. Справа от него долгое время был пустырь, застроенный лишь в начале XIX века. Фасад здания между вторым и третьим этажами украшали небольшие скульптурные панно, характерные для архитектуры раннего классицизма, и ажурный металлический балкон, а чуть ниже находилась арка въездных ворот. Позднее верхняя ее часть была заложена – в этом месте прорублено центральное окно второго этажа, а весь дом перестроен в ампирном стиле. Еще лучше сохранился стоящий неподалеку дом № 17, знакомый многим горожанам. Мещанские не только для мещан! Не знаю, как вам, уважаемые читатели, а мне жаль, что в Петербурге не осталось ни одной Мещанской улицы (некогда их было целых три) и ничто больше не напоминает о разнородном и весьма многочисленном сословии мелких торговцев, ремесленников и мастеровых, чей труд играл в повседневной жизни горожан столь важную роль. Разве могли они обойтись без пекарей, сапожников, портных, часовщиков и им подобных, к чьим услугам обращался каждый? С началом XX века слову «мещанин» стал придаваться уничижительный оттенок, и оно обратилось чуть ли не в ругательное. В результате в октябре 1918 года последнюю из сохранившихся до той поры Мещанских переименовали в Гражданскую – название, лишенное всякого смысла, потому что не является отличительным признаком данной улицы… Обживать места вокруг нынешней Гражданской улицы начали давно, еще при Петре I: сюда по указу от 1710 года стали переводить «на вечное житье» мастеровых из других городов для работы на адмиралтейской верфи. Селили их поблизости от нее, в построенных от казны маленьких деревянных домиках; так возникла Переведенская слобода, состоявшая из шести одноименных улиц, от которых к началу 1750-х осталось четыре, а еще через десять лет – лишь три. Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла на Невском проспекте. Фото 1914 г. Поменялись и их названия: с августа 1739-го они стали официально именоваться Большой, Средней и Малой Мещанскими. Самая длинная из них – Большая Мещанская – протянулась от Невской перспективы за Вознесенскую, до нынешнего Фонарного переулка. То обстоятельство, что выходила она прямехонько к лютеранской церкви Святых Петра и Павла, имело большое значение для формирования национального состава обитателей, как ее, так и других окрестных улиц: изрядную их часть составляли немецкие ремесленники – ревностные прихожане означенного храма. Сюда же после пожаров 1736–1737 годов перебирались те жители Большой и Малой Морских и Немецкой (ныне Миллионная) улиц, у которых не было возможностей для постройки на месте сгоревших деревянных жилищ каменных палат, как того требовал царский указ. На плане Сент-Илера – Соколова как на ладони видна большая часть Мещанских улиц, изображенных словно с высоты птичьего полета. В их застройке преобладали каменные и деревянные одноэтажные домики на высоких погребах; только на углу Большой Мещанской и Демидова переулка (в ту пору он звался Конным) стояли внушительные палаты богатого заводчика А.Г. Демидова, да по обоим углам четной стороны Гороховой и той же Большой Мещанской – двухэтажные каменные дома купца Валящева и «карточной фабрикантши Депонши». Рядом с владениями мадам Депон, ближе к Невскому, на месте нынешнего дома № 18 с колонным портиком находилась съезжая (полицейская часть. – А. И.) с невысокой деревянной каланчой, увенчанной шпилем. Бок о бок с ней располагался казенный питейный дом под названием «Рыбный» (неподалеку, в Зимином переулке, как читатели, вероятно, помнят, находились рыбные ряды), откуда стражам порядка было очень удобно выуживать, а главное – близко тащить не в меру подгулявших забулдыг в кутузку… С.И. Шешковский Как следует из «Росписи домов Санкт-Петербурга» 1797 года, значительное количество участков на Большой Мещанской, ближе к Вознесенскому проспекту, принадлежало немцам-мастеровым; среди них преобладали кузнецы, каретники и седельники. Здесь же, в низеньком деревянном домике, стоявшем на месте нынешнего дома № 44, проживал со своим семейством «великий инквизитор» – С.И. Шешковский (1720–1794), управлявший при Екатерине II Тайной экспедицией. Сын А.Н. Радищева, возможно со слов отца, имевшего несчастье близко познакомиться со Степаном Ивановичем, так описывал повадки этого изверга: «Он начинал тем, что допрашиваемое лицо хватит палкой под самый подбородок, так что зубы затрещат, а иногда и повыскакивают…Таким образом вынуждал Шешковский признания. Наказание знатных особ он исполнял своеручно…Кнутом он сек с необыкновенной ловкостью». При этом Степан Иванович отличался примерной набожностью и строго соблюдал предписанные церковью обряды. Вскоре после смерти Шешковского его вдова и сын продали дом кузнецу Фрелиху, пополнившему ряды местных немецких ремесленников еще одним собратом… Просыпались в Мещанских рано; булочники чуть свет отворяли свои заведения, и улицы наполнялись аппетитным запахом свежеиспеченного хлеба. Позавтракав, мастера принимались за работу, оглашая окрестности перестуком молотков и тяжелыми ударами молотов по наковальням – обычный шум трудового дня. К обеду он смолкал, после чего возобновлялся с новой силой, утихая лишь к вечеру. По праздникам принарядившиеся отцы и матери семейств со своими чадами неторопливо шествовали к Божьему храму – прочный, давно устоявшийся быт, не терпевший перемен. Ф.П. Вронченко Впрочем, Большая Мещанская была населена не одними добропорядочными обывателями: почему-то именно здесь гнездилось множество девиц легкого поведения, любивших прогуливаться темными вечерами в направлении Невского проспекта и обратно. Путь их пролегал мимо губернских присутственных мест, которые помещались в нескольких ветхих каменных домишках на углу Демидова переулка, где и вершилось правосудие. Наконец в начале 1800-х власти сочли, что храм Фемиды не может далее находиться в столь малопристойном месте, и чиновников перевели на Гороховую, в бывший особняк графа А.Н. Самойлова (ныне дом № 2). Опустевшие домики снесли и возвели большое, позднее перестроенное здание Второй гимназии: очевидно, нравственность гимназистов под сомнение не ставилась… В середине XIX столетия Большая Мещанская продолжала оставаться, по выражению хорошо знавшего ее Гоголя, улицей «табачных и мелочных лавок, немцев-ремеслен-ников и чухонских нимф» (писатель изобразил их в карикатурном виде в повести «Невский проспект»). Погоня за «нимфами» приводила сюда немолодых сатиров, способствовавших дурной репутации здешних мест. Среди них частенько можно было встретить тогдашнего министра финансов Ф.П. Вронченко, прозванного «министром Большой Мещанской», в очках, с крашенными в какой-то малиновый цвет бровями и бакенбардами, «с любострастно расширенным до самых ушей ртом». Нередко случались пьяные скандалы и грубые нарушения правил общественной морали. В «Дневнике» начальника Штаба корпуса жандармов Л.В. Дубельта от 10 мая 1853 года находим такую запись: «Отставной подполковник Антонов шел ночью по Большой Мещанской и остановился помочиться у будки часового. Часовой потребовал, чтобы он этого тут не делал; Антонов ударил часового; часовой арестовал Антонова. Производится следствие». Подобные происшествия были отнюдь не единичны… С годами Мещанские утратили присущее им своеобразие. Две из них лишились и своих названий: в 1873-м Большую Мещанскую перекрестили в Казанскую (с 1923 года – ул. Плеханова), а спустя девять лет Малая Мещанская превратилась в Казначейскую. Дольше других продержалась Средняя, ставшая просто Мещанской, но в конце концов добрались и до нее. Недавно Большой и Малой Морским вернули их исторические имена. Почему бы не поступить подобным же образом и с Мещанскими? Как пели птицы в Мамоновом саду… Сегодняшний Невский проспект представляет собой сплошную магистраль, от Адмиралтейства до Александро-Невской лавры, с разностильными зданиями, по большей части в четыре-пять этажей. Но так было не всегда. Долгое время он распадался на три совершенно не похожих друг на друга отрезка: первый, парадный, заканчивался у Аничкова моста; второй, протянувшийся до Лиговского канала, вначале, как бы по инерции, продолжал череду внушительных каменных строений, но она обрывалась по левой стороне трехэтажным особняком № 96/1 на углу нынешней, тогда еще не существовавшей Надеждинской (ул. Маяковского). Далее, почти до самой Лиговки, раскинулся огромный квадрат сада, который в народе прозвали Мамоновым, хотя с большим основанием он мог бы именоваться Шуваловским. Третий отрезок, теперешний Старо-Невский, являл совершенную глушь, с невзрачными домиками и унылыми пустырями по обочинам… В 1761 году, на исходе елизаветинского царствования, молодой фаворит императрицы И.И. Шувалов вдобавок к прежним милостям и подаркам получил от своей благодетельницы кусок земли размером 100 на 100 саженей «по большой Невской перспективе против Егерского двора». (Напомню, что Егерский двор, находившийся в районе современной Пушкинской улицы, устроили на месте бывшего участка графа Миниха, пожалованного ему в награду за осушение земель в этой части города.) И.И. Шувалов Иван Иванович выстроил на своем загородном дворе небольшие деревянные хоромы и разбил регулярный сад с прудами и оранжереями; здесь, в тиши и уединении, сторонясь друзей, переживал он тяжкие приступы хандры и меланхолии. Грустить было о чем: ухудшающееся здоровье государыни, расстроенные дела в управлении страной, неуверенность в собственном будущем… Вступление на престол Петра III переменило положение вчерашнего любимца, хотя и не стало для него роковым – за ним оставили кураторство над Московским университетом и петербургской Академией художеств; вскоре к ним прибавилась должность главного директора Шляхетского кадетского корпуса. Июньский переворот 1762 года, приведший к власти Екатерину II, поставил крест на былом значении И.И. Шувалова как государственного деятеля. По неясным до сих пор причинам новая императрица резко переменила отношение к бывшему другу и союзнику, которого она в одном из писем к С. Понятовскому называет «самым низким и подлым из людей». И.С. Барятинский В 1763-м ему предлагается на три года уехать за границу. Поскольку это было предложением, от которого не отказываются, Ивану Ивановичу пришлось срочно распродавать свое имущество; он даже просит государыню купить один из его домов и часть картин за 12 тысяч рублей «ввиду крайней его нужды». Императрица отказалась от покупки, и Шувалов, чье пребывание за границей растянулось на целых десять лет, вынужден был давать многократные объявления о продаже через «Санкт-Петербургские ведомости». В конце концов его попытки увенчались успехом: в 1766-м знаменитый шуваловский дворец на Итальянской улице, который, по выражению Екатерины, «походил своими украшениями на манжетки из алансонского кружева», приобрел князь И.С. Барятинский, готовившийся к свадьбе с принцессой Е.П. Гольштейн-Бек. Ему же был продан и загородный двор на Невской перспективе. Иван Сергеевич, бывший флигель-адъютант Петра III, как-то получил от него приказ арестовать императрицу, но у князя хватило благоразумия промедлить с его исполнением, а между тем дядюшка императора, принц Голштинский, сумел отговорить племянника от этого намерения. Дипломатические способности князя пригодились ему в будущем, когда он занимал должность русского посланника во Франции, где прославился необыкновенной красотой; говорят, местные торговцы даже увековечивали его лицо на своих вывесках… A. M. Дмитриев-Мамонов В 1774-м, перед отъездом в Париж, Барятинский продал городской дом генерал-прокурору А.А. Вяземскому, а в следующем году в «Санкт-Петербургских ведомостях» появилось такое объявление: «Генерал-Майора и Кавалера Князь Ивана Сергеевича Барятинского продается дом, состоящий в Литейной части на Невской перспективе на углу против егерского двора, со всем деревянным строением, под которым место квадратно со всех сторон по 100 сажен, где огород, пруды и проспекты, також и труба Аглинская пожарная новая заливная; желающим купить, о цене спросить в объявленном доме». Князь всегда слыл хорошим хозяином и, опасаясь частых в то время пожаров, не пожалел денег на заморскую «заливную трубу» – значит, было чем дорожить… Охотников на участок не находилось, пока на него не обратила внимания сама Екатерина. Императрица купила его в казну, а затем подарила своему очередному фавориту А.М. Дмитриеву-Мамонову, чей «случай» продолжался с 1786 по 1789 год. Он мог бы длиться и дольше, но неожиданно, по словам очевидца, «паренек заскучал» и стал искать утешения на стороне. Оскорбленная государыня великодушно позволила неверному возлюбленному обвенчаться с предметом его увлечения, осыпала молодоженов подарками и отпустила на жительство в Москву. Невский проспект, дом № 96. Современное фото Опустевший Мамонов сад, прозванный так окрестными жителями, оставался в собственности бывшего фаворита до 1799 года, после чего был куплен надворным советником Н. Чоглоковым и распродан по частям разным владельцам, принадлежавшим исключительно к торгово-промышленному сословию. Рядом со старинным дворянским особняком сенатора П.С. Свистунова (ныне № 96/1), вскоре перешедшим к купцам Яковлевым, на месте Мамонова сада один за другим стали вырастать двух- и трехэтажные дома. В начале 1800-х здесь, по обеим сторонам Невского проспекта, возникли новые каретные ряды (старые находились в 1-й Рождественской улице). В них сбывали свои товары колесники, каретники и кузнецы, в изобилии населявшие Литейную часть и владевшие там многими домами. Спустя лет тридцать историк Петербурга И.И. Пушкарев писал об этом важном промысле: «Каретное мастерство… более приносит прибыли других ремесел. Доказательством служат Иохим, Фребелиус, Туляков, Логинов, Бобунов, Норман и другие каретники, которые из небольших модных экипажей соорудили себе и семействам огромные каменные дома в лучших частях столицы». Постепенно Невский на всем протяжении обстраивался и принимал по-настоящему столичный облик. Особенно быстро пошло дело после постройки железной дороги и Николаевского вокзала. Район бывшего Мамонова сада перестал быть далекой окраиной. Каретные ряды перевели в более подходящее для них место – ближе к Зимней и Летней конным, а взамен здесь стали открываться все новые и новые уже не лавки, а магазины. Прежние солидные купеческие дома начала XIX века стали в угоду моде наряжать в разнообразные эклектические одежды, и этот отрезок Невского проспекта приобрел привычный для нас вид. Но где-то на задворках знакомых домов весной до сих пор поют птицы, как пели некогда в Мамоновом саду… Стремянная осталась Стремянной По-настоящему Стремянной следовало бы именоваться Астраханской – по слободе стоявшего здесь еще в петровские времена гренадерского полка, как это случилось, к примеру, с Аничковым мостом. Для осушения сильно заболоченной почвы фельдмаршал Б. Миних проложил в 1733 году параллельно Невской перспективе просеку, которая проходила через бывшую солдатскую слободку. После сильных пожаров 1736–1737 годов ее стали обстраивать и заселять служителями придворной конюшенной конторы, лишившимися прежних жилищ. На плане Петербурга 1738 года она еще обозначена как Астраханская слобода, хотя полк к тому времени давно перебрался в Москву, но уже 20 августа 1739-го новая улица – часть обширной Дворцовой слободы – получила официальное название Стремянной. Надо сказать, заселение ее шло медленно и постепенно, да и само наименование привилось не сразу: у него появился соперник. С 1760-х на углу Стремянной и Владимирской стоял двухэтажный каменный дом (ныне № 1/6), в котором с самого начала обосновался кабак, отпускавший водку ведрами, а посему нареченный Ведерным. И это кабацкое прозвище едва не укрепилось за всей улицей. По крайней мере лет пятнадцать оба названия – официальное и неофициальное – ходили на равных, и в «Санкт-Петербургских ведомостях» за 1770 год в № 90 можно прочитать такое объявление: «В Московской части, в приходе церкви Владимирской Богородицы, в Ведерной, или Стремянной, улице желающим купить деревянной дом… Капитана Андрея Наумова, о цене спросить в том же доме». Дом № 1/6 на углу Стремянной и Владимирской улиц. Современное фото Любопытный факт: территория Дворцовой слободы одно время звалась также Коломной – наряду с той частью города, за которой это наименование закрепилось окончательно и навсегда. В 1780-х в тех же «Ведомостях» объявлялось: «В Московской части, в Коломне, по Басманной улице (ныне Колокольная. – А. И.)продается дом № 135 на жилых каменных погребах…» (Санкт-Петербургские ведомости. 1784. № 20). Впрочем, ничего особенно удивительного здесь нет: в ту пору «коломнами» (от искаженного итальянского «колонна» – межевой столб, а затем, по мере расширения значения, и сама просека) называли застроенные по плану улицы, а в более широком смысле – регулярные слободы, в которых они пролегали. В одной из купчих 1785 года о продаваемом доме сказано, что он «состоит в Московской части, в первой Коломне, что ныне называется Стремянная». К тому времени это название победило уже бесповоротно, и конкурировавшее с ним «Ведерная» почти вышло из употребления. На другой стороне улицы, напротив кабака, до 1793 года находился большой пустырь (участок дома № 2/4), принадлежавший мещанину Баранову. Правда, слово «пустырь» не очень подходит к месту, где в поисках работы постоянно толпился народ, прозванному по этой причине Барановой, или Вшивой, биржей. После того как владелец приступил к сооружению здесь каменного дома, чернорабочие перенесли свои собрания под широкие аркады новопостроенных лавок купца Ивана Паскова (Невский пр., 47/1), которые заодно унаследовали и прежнее неблагозвучное прозвище. К началу 1800-х дом Баранова приобрел поручик Андрей Иванович Баташев, сын владельца многих металлургических заводов в Центральной России И.Р. Баташева (1741–1821). Если в богатстве и известности Баташевы уступали знаменитым уральским промышленникам Демидовым, то уж в жестокости и злодействах, каковыми эти богатства наживались, вполне могли с ними поспорить. Особой «славой» в этом отношении пользовался дядя хозяина дома, А.Р. Баташев (умер в 1799-м), наладивший в подземельях одного из своих заводов чеканку фальшивой монеты. Когда власти прознали об этом и захотели проверить подлинность давно ходивших слухов, Андрей Родионович приказал засыпать все ходы и выходы из подземелья, заживо похоронив работавших там людей… Впрочем, в городском доме Баташевых вряд ли имелись подобные подземелья, а если и были, то использовались лишь для хранения железа, которым торговали хозяева. В 1806 году «Санкт-Петербургские ведомости» оповещали своих читателей: «Более сорока лет продавалось и продается заводов Баташева листовое железо; имеющие надобность в оном могут получать аршинное 5-листовое по 4 руб. 80 коп. за пуд, Московской части в 1 квартале, в доме под № 41, близ Вшивой биржи». Кто знает, проторгуй Андрей Баташев своим товаром подольше, может, Стремянную нарекли бы в народе Железной? Угловые дома частенько давали название улице. Стремянная улица, дом № 19. Современное фото Немного позже, то есть в начале 1810-х, появился повод окрестить ее Казачьей: сюда, в нынешний дом № 19, тогда еще двухэтажный, с садом при нем, перебрался с насиженного гнезда у Семеновского моста казачий войсковой двор. Для казаков это было уже третье место пребывания в столице; первая Казачья слобода находилась в Выборгской части, там, где позднее построили великолепную дачу Безбородко на Полюстровской набережной. В первые годы существования Петербурга казачьи разъезды охраняли его северные рубежи и предупреждали о появлении неприятеля. В дальнейшем надобность в такой сторожевой службе миновала, и казаков перевели к Семеновскому мосту, на бывшую территорию стеклянных заводов. Здесь домовитые донцы развели большой сад с парниками и оранжереями и начали приторговывать плодами земными, преимущественно же красными виноградными винами. Уже с 1790-х Канцелярия войска Донского стала готовиться к новому переезду, понемногу распродавая полковое имущество Казачьего двора, «кроме – как было оговорено в одном из объявлений – имеющихся там образов с крестами». На новом месте казачья канцелярия пробыла больше тридцати лет, вплоть до постройки каменных казарм на Обводном канале… К концу XIX века Стремянную впору было вновь называть Ведерной: вместо одного кабака здесь существовали два питейных дома, четыре трактира, шесть портерных лавок, три ренсковых погреба и две закусочные, а в придачу два извозчичьих двора с непременной и обильной продажей спиртных напитков. «Не слишком ли это много? – вопрошал один тогдашний бытописатель. – Не забудьте, что это центр города. Здесь новоотстроенный Братский храм и дома, густо населенные приличной семейной публикой. За что такое нашествие на этот переулок?» Братским храмом фельетонист называет Троицкую церковь, возведенную в 1891–1893 годах Обществом распространения религиозно-нравственного просвещения на том самом месте, где теперь стоит нелепое на фоне старой застройки здание бани на углу улицы Марата, бывшей Николаевской. Напротив церкви, на другой стороне, немного позднее построили дом № 20 с выложенным керамической плиткой фасадом. На нем до сих пор виднеется золотая мозаичная надпись; там помещались приходская школа, библиотека, книжный склад и магазин. В результате на одном конце улицы прохожего встречали грязный подвальный притон (в доме № 4) и прочие злачные места, а на другом – открывал объятия Божий храм с залом для душеспасительных бесед… Прошли годы, и не стало на Стремянной ни Божьего храма, ни кабаков, улица изменилась, но не изменилось ее название – вопреки всему оно осталось прежним, и в этом постоянстве можно усмотреть доброе предзнаменование. Обыкновение переименовывать улицу в честь какой-нибудь знаменитости широко распространилось в советскую эпоху: это было дешевле, чем ставить памятник. Однако справедливости ради нужно признать, что началось это еще в дореволюционные времена. Итальянская слободка В июле 1902 года на планах столичного города Санкт-Петербурга появилось новое название – улица Жуковского. Прежде она именовалась Малой Итальянской, в отличие от Большой, ныне просто Итальянской. Оба наименования восходят к Итальянскому дворцу на Фонтанке и одноименному саду, некогда украшавшим Литейную часть. В 1712 году Петр I сделал своей супруге свадебный подарок – участок земли, простиравшийся от Фонтанки до нынешнего Лиговского проспекта, в границах между улицей Жуковского и Невским проспектом. На нем был выстроен небольшой деревянный дворец, названный Итальянским, а при нем разбит обширный сад. О происхождении наименования читаем у первого историка Петербурга А.И. Богданова: «Называется Италианский потому, что оной италианским маниром как снаружи, так и изнутри убранством состроен… И сей дом построен только для одного временного приезду Их Императорских Величеств». В 1721–1723 годах по проекту итальянского зодчего Николо Микетти к дворцу с обеих сторон пристроили каменные двухэтажные флигеля, соединенные с центральным корпусом одноэтажными галереями. Теперь дворец и сад могли по праву называться итальянскими! Позднее деревянная часть здания была заменена каменной, а разросшийся сад потребовал для ухода за ним целый штат садовников и садовых подмастерьев. Один шведский путешественник, посетивший российскую столицу в 1735 году, среди прочих достопримечательностей не преминул посмотреть и Итальянский сад, отметив, что «он довольно велик, состоит главным образом из трельяжа и крытых дорожек и имеет хорошо оборудованную галерею». О том, как выглядел сад в конце XVIII века, можно узнать из описания Санкт-Петербурга И.Г. Георги: «Он… с прямыми дорогами между высоких деревьев и весьма обширною оранжереею. Ограда оного простирается до Литейной улицы, откуда всякому войти можно. Второй, вчетверо обширнейший, Италианский сад находится напротив первого, по другой стороне Литейной улицы. В нем растет зелень для придворной кухни во многих оранжереях и парниках». В 1804 году обветшавший Итальянский дворец был разобран и на его месте по проекту другого итальянца, Д. Кваренги, построено здание Екатерининского института для благородных девиц (наб. р. Фонтанки, 36), которому отошла и часть старого дворцового сада. Вторая, большая его часть, расположенная за Литейным проспектом, имеет свою, отдельную историю. Ф. Баганц. Хозяйственный двор дома МЛ. Апраксиной на Итальянской улице, 18. 1860 г. С середины и до конца XVIII века улица Жуковского звалась Садовой Итальянской, а чаще – просто Итальянской слободкой и была застроена по нынешней нечетной стороне, вдоль сада, почти сплошь одноэтажными деревянными домишками. Помимо садовников в них обитало множество всякой чиновной мелкоты, придворной челяди и мастеровых. Противоположная сторона составляла границу слободы Преображенского полка, таким образом улица была как бы поделена между двумя разными «ведомствами» и населена весьма неоднородно. С 1799 года казенные полковые земли вместе со строением стали распродаваться всем желающим (полк переводили на новые квартиры), и бывшая Преображенская слобода довольно скоро утратила свой прежний, регулярный вид. Однотипные казарменные светлицы пошли на слом, и на левой стороне Садовой Итальянской начали один за другим вырастать двухэтажные каменные и деревянные дома, придававшие улице уже более городской вид. А весной 1803 года пришел черед и соседней Итальянской слободки: сад был передан в ведение строившейся Мариинской больницы для бедных, произраставшие в нем оранжерейные и грунтовые растения перенесли в другое место, а то, что не поддавалось переносу, продали с торгов. Надобность в большом числе садовников отпала; в 1804-м их проживало здесь трое, а к 1820-м не осталось ни одного. К тому времени изменился не только внешний вид, но и наименование бывшей слободки: теперь она уже звалась Итальянской улицей и была на добрую треть застроена каменными домами. Однако состав ее населения почти не изменился, – по-прежнему преобладали небогатые купцы, мещане и мелкие чиновники; на всю улицу приходилась лишь одна «генерал-майорша», да и та жила вблизи Литейной, считавшейся несравненно более аристократической, чем Итальянская. К середине XIX столетия картина меняется еще больше: на Итальянской начинают селиться представители крупного и среднего чиновничества и даже титулованной знати – графиня М.А. Апраксина, княгини М.А. Голицына и Е.Г. Гагарина, генерал-лейтенант Ф.И. Рерберг. Теперь здесь не редкость трех- и четырехэтажные здания, не говоря уже о многочисленных двухэтажных каменных домах в классическом стиле. Правда, некоторые кварталы прежней Итальянской слободки имели еще совершенно провинциальный вид, в чем убеждает нас публикуемый рисунок Ф. Баганца (об этом художнике будем говорить в дальнейшем), относящийся к концу 1850-х годов. За стенами вросших в землю крошечных деревянных домиков чудится патриархальный быт и такие же нравы… Один из мемуаристов, описывая то время, рассказывает: «Хорошо помню, как в раннем моем детстве я каждое утро, проснувшись, бежал к окну и смотрел, как по нашей улице шел пастух с огромной саженной трубой. На звуки его трубы отворялись ворота возле маленьких домиков и из них выходили разноцветные коровы». Определить изображенный участок улицы весьма затруднительно – слишком здесь все изменилось, хотя, судя по атласу И.И. Цылова, он мог находиться на нечетной стороне, между Шестилавочной (ныне ул. Маяковского) и Знаменской. Коренной перелом в облике в ту пору уже Малой Итальянской (ее переименовали в 1871-м, чтобы избежать двух одинаковых названий) произошел в 1870-х, когда она начала приобретать свой теперешний вид, застраиваемая многоэтажными доходными домами с эклектическими фасадами. Среди них тонули небольшие ампирные особнячки, доживавшие свой век. Немногие уцелели до наших дней: например, двухэтажный домик близ Знаменской, в направлении Лиговки, и два, правда, полностью реконструированные – на углу бывшей Преображенской (ул. Радищева). Улучшилось и благоустройство Малой Итальянской в целом. Бедой большинства городских улиц были дурные мостовые – проблема, переданная нам предками в полной неприкосновенности, не потерявшая актуальности и поныне. Каждую весну на проезжей части возникали своеобразные зажоры, то есть топкие места, где вязли лошади и экипажи. Уличное покрытие буквально расползалось под ногами, становясь настоящим кошмаром для извозчиков. Чтобы исправить столь ненормальное положение дел, тогдашний столичный обер-полицмейстер Ф.Ф. Трепов, учитывая особенности петербургского грунта, велел мостить улицы в два слоя: внизу, для устойчивости, клался крупный булыжник, а на него укладывали мелкий, удобный для езды и не дававший при оттаивании почвы глубоких выбоин. Осенью 1876 года Малая Итальянская получила новую мостовую и сразу похорошела; а в 1878-м с ее лица исчез последний деревянный дом, в котором издавна гнездился печально знаменитый по всей округе кабак под названием «Петушки» – притон воров и грабителей, сбывавших там свою добычу… В начале XX века улица Жуковского имела вполне благообразный и респектабельный вид, свойственный большинству улиц Литейной части. Здешняя жизнь не напоминала бурный поток, как на соседнем Невском проспекте, а текла размеренно и спокойно, по заведенному обычаю. Тут не было ни одного ресторана (к примеру, на ближайшей Надеждинской их было целых два) или увеселительного заведения, хотя в столице их насчитывалось великое множество. Тишина нарушалась лишь колесами немногочисленных экипажей да редкими звонками трамваев, заворачивавших со Знаменской в сторону Лиговки. Скучновато-благопристойное существование окрестных обывателей резко оборвалось в роковом 1917 году. За последние восемьдесят с лишним лет улица Жуковского изменилась мало: появилось два-три новых дома на месте разрушенных в войну да вместо булыжника – асфальт, вот, пожалуй, и все. Впрочем, это не так. Когда-то, в дни моей юности, перспективу улицы Жуковского, если смотреть от Литейного, замыкал приземистый силуэт греческой церкви с плоским, широким куполом. Она была снесена, чтобы уступить место построенному в 1967 году БКЗ «Октябрьский». Здание, которое могло бы украсить собой район новостроек, здесь выглядело явно чужеродным вкраплением и не радовало глаз. Но постепенно привыкли и к нему, как привыкают ко всему на свете. А все-таки жаль… Художник питерского захолустья Изображений Петербурга 1850-х годов до нас дошло гораздо меньше, чем, скажем, 1820-х или 1830-х, когда искусство городского видописания достигло небывалого расцвета. Тем большую ценность представляют акварели Ф.-Г. Баганца (1834–1873), относящиеся к раннему периоду его творчества. На них запечатлены не парадные ансамбли, а скромные улочки, наполовину застроенные маленькими деревянными домишками, под стать какому-нибудь уездному городку, а не столице Российской империи. В Музее истории Петербурга хранится бесценный альбом акварелей Ф.-Г. Баганца с видами города, выполненными в 1858–1860 годах. Среди них немало изображений Литейной части, причем самых отдаленных ее уголков, которыми, кроме Баганца, кажется, никто никогда не интересовался. В этом уникальность его произведений: они позволяют увидеть Петербург середины XIX века не с парадной, казовой стороны, а с изнанки, с черного хода. Невзрачные домики, пустыри за длинными заборами, покосившиеся деревянные лачуги, и вдруг, неожиданным контрастом, большие, многоэтажные здания, иногда еще в строительных лесах – такова была столица на переломном этапе своего существования. Рисунки Баганца пропитаны, если можно так выразиться, поэзией захолустья, устоявшегося мещанского быта, близкого и знакомого художнику с детских лет. Сын петербургского немца-часовщика, он хорошо знал и любил изображать отдаленные уголки Литейной части, где обитало много таких же, как его отец, ремесленников и мастеровых. Ф. Баганц. Вид Бассейной улицы от угла Басковой в сторону Шестилавочной Не случайно среди его работ и, вероятно, только у него можно найти зарисовки Озерного и Ковенского переулков, Преображенской и Малой Итальянской улиц. Есть среди них и акварель с видом Шестилавочной (ныне ул. Маяковского), именовавшейся также Средним проспектом – по месту расположения в центре бывшей слободы Преображенского полка. Здесь придется сделать небольшое отступление, потому что название Шестилавочная, бытовавшее в 1800— 1850-х годах, заслуживает более подробного объяснения. Еще в екатерининские времена на углу в ту пору безымянных Среднего проспекта и Баскова переулка, в специально построенных в ряд деревянных одноэтажных домиках открылось несколько лавок. В 1785-м их было пять, но вскоре к ним пристроили еще одну, и они стали служить постоянным ориентиром при отыскивании близлежащих жилищ. Поначалу приходилось прибегать к длинным, путаным объяснениям. К примеру, некто, продававший «рыжую лошадь хороших статей», оповещал через «Санкт-Петербургские ведомости», что искать его следует «в лейб-гвардии Преображенском полку, идучи по линии от церкви Преображения на углу, где пойдет к шести лавочкам проспект, в низеньком деревянном доме». В начале XIX века «проспект к шести лавочкам» зовется уже просто Шестилавочной. На сенатском атласе Петербурга 1798 года отчетливо видны эти самые лавочки, похожие на аккуратно нарезанные кусочки пирога. К 1820-м они, оставаясь деревянными, были перестроены, а в 1867-м их снесли и возвели ныне существующий каменный дом № 34/4. Примерно к тому же времени старое название окончательно вышло из употребления, хотя старожилы изредка еще пользовались им. Вообще же тот окраинный, полупровинциальный город безвозвратно ушел в прошлое и узнать его по каким-то чудом уцелевшим фрагментам необычайно сложно, ведь художник не указывал точных адресов своих зарисовок, ограничиваясь лишь не всегда понятными примечаниями. Вот почему ошибки и недоразумения здесь неизбежны. На одну из них следует обратить внимание. Речь идет о наиболее известной, ставшей почти хрестоматийной акварели Баганца с видом, как полагали, дома, где жил Н.А. Некрасов, на Литейном, 36/2. Опровергнуть устоявшееся мнение не составляет труда. Достаточно сказать, что старинное здание на углу Литейного и бывшей Бассейной (ныне ул. Некрасова), построенное в 1781–1783 годах обер-прокурором П.В. Неклюдовым, никогда не было двухэтажным, а изначально имело три этажа. В этом легко убедиться, обратившись к сенатскому атласу Петербурга 1798 года или, что гораздо проще, заглянув в указатель к атласу Н.И. Цылова 1849 года, где ясно обозначена этажность каждого здания. Итак, опровергнуть ошибочное утверждение было нетрудно, а вот определить, что же в действительности представлено на рисунке, оказалось значительно сложнее. Не буду утомлять читателя подробностями поисков, скажу только одно: разрозненная мозаика сложилась в правильную картинку, когда было сделано предположение, что на акварели действительно нарисована Бассейная, но не у пересечения с Литейным, а с близлежащей Басковой улицей (ныне – ул. Короленко), всего в одном квартале от проспекта. Теперь все встало на свои места. Строящееся здание, изображенное на акварели, – это дом № 2а на Бассейной, возведенный А.А. Краевским по проекту архитектора А.В. Петцольда на свободной части участка в 1859-м. Строительные леса заслонили небольшую боковую часть того дома, где жил и умер Некрасов и где теперь находится мемориальный музей поэта. Впереди туманно вырисовываются контуры деревянного домика на противоположной стороне Литейного. Ф. Баганц. Угол Бассейной и Басковой улиц (ныне – ул. Некрасова и Короленко) Что же касается мнимого дома Краевского, то на самом деле это двухэтажный каменный дом действительного статского советника И.В. Лаврентьева. В таком виде он простоял до 1903 года, когда на его месте построили большое, обильно изукрашенное лепниной здание (ул. Некрасова, 4/2). В том же году строился и другой дом на Бассейной – № 8, который хорошо виден на втором рисунке с изображением той же улицы. Перед ним, на переднем плане, деревянный двухэтажный дом А.И. Хрущева, а за ним – каменный, принадлежавший ему же; сейчас здесь возвышается пятиэтажное здание в стиле модерн (№ 6), сооруженное в 1910-м. В правой части акварели изображены длинные заборы и одноэтажные деревянные постройки, заканчивающиеся каменным домом № 7/18 на углу Эртелева переулка (ул. Чехова). Смотришь и думаешь: неужели это Петербург? Да, это Петербург Некрасова и Достоевского, погрузившийся в пучину времен и все же дошедший до нас благодаря талантливым акварелям Баганца. Заканчивая главу, хотелось бы затронуть тему, которая редко обсуждается, а между тем проблема эта весьма немаловажна. Да здравствует многоцветье! Нет необходимости доказывать простую истину, что неудачной наружной окраской можно погубить даже красивое здание и, наоборот, самый невзрачный домишко, радующий глаз своей расцветкой, выигрывает по меньшей мере вдвое. В Петербурге, с его обилием серых, пасмурных дней и чуть ли не полугодовыми зимами, это особенно важно учитывать. Приведу один пример. В начале XX века недавно разбитый сад перед Зимним дворцом со стороны Адмиралтейства обнесли кованой оградой на высоком цоколе из красного полированного гранита. Цвет камня послужил поводом для изменения цвета дворцовых фасадов: великолепное здание буквально изуродовали, окрасив целиком, без выделения колонн и деталей отделки, в багрово-красный цвет. В результате оно стало восприниматься как темная, бесформенная громада на фоне и без того нередко мрачноватого неба. Только в 1946 году ему вернули первоначальную окраску. В XVIII веке, перенимая западные архитектурные стили – барокко, а затем классицизм, петербургские зодчие, даже если они были иностранного происхождения, не порывали с традиционным русским многоцветьем. Ослепительно-белые колоннады и витиеватые оконные наличники растреллиевских дворцов на красном, зеленом или лазоревом фоне стен до сих пор поражают и восхищают яркой праздничностью, оптимизмом – именно благодаря контрастным сочетаниям красок. Архитекторы классицизма, пришедшие на смену мастерам барокко, в сильнейшей степени определили не только парадный центр Петербурга, но, что гораздо важнее, задали общий тон всему городу, до самых отдаленных окраин. Целые кварталы застраивались однотипными или весьма близкими по стилю зданиями с треугольными фронтонами, пилястровыми или колонными портиками и окнами с непременными сандриками над ними. При этом традиция двухцветной окраски сохранялась неизменной, менялись лишь модные сочетания цветов. Историк Павел Свиньин писал по этому поводу в издаваемом им журнале «Отечественные записки» за 1822 год: «Немалым украшением и отличительностью нашей столицы служит частое поновление наружной краски домов, причем почти ежегодно переменяется цвет. Таким образом прошлого года общепринятый цвет домов был палевый, более или менее густой, с белыми обводками карнизов и колонн. Ныне большая часть лучших зданий красится светло-зеленою краскою или небесною, оставляя все прочее по-прежнему белым; и нам кажется, что цвет сей гораздо выгоднее для архитектуры и не столь ослепителен для зрения при освещении здания солнцем». Городские власти неусыпно следили за тем, чтобы цветовая гамма строящихся домов соответствовала установленным нормам. Каждый владелец, приступавший к возведению нового жилья, обязывался подпиской не только строить по утвержденному плану, но и красить свой дом в строго определенный цвет. Для казенных же зданий раз и навсегда был выбран белый с желтым. Такое стилевое единообразие при ограниченной палитре красок придавало городским улицам и площадям некоторую монотонность, не лишенную, однако, прелести. Ее можно почувствовать и сегодня, глядя на чудом сохранившиеся классические ансамбли набережной реки Фонтанки напротив цирка или у Семеновского моста. К 1840-м годам взгляды на архитектуру совершенно изменились. Началось увлечение эклектикой, и то, что еще вчера считалось вечным и прекрасным, сегодня уже казалось устаревшим и нелепым. Одновременно с эпохой «колоннолюбия», как выразился один тогдашний обозреватель, постепенно стало уходить в прошлое и традиционное многоцветье, о сохранялось лишь на первых порах в некоторых необарочных и, в меньшей степени, неоренессансных постройках. Начиная с 1860-х наступило время сплошной монохромности. Зодчие утратили вкус к ярким, веселым цветам, предпочитая окрашивать свои творения в неопределенные, большей частью темные тона. Г.К. Лукомский в известной книге «Старый Петербург», выпущенной в свет накануне Октябрьской революции, возможно впервые обратил внимание на эту проблему: «Перекраска также губит многие чудесные фасады, – возмущался он. – Что удивляться неправильному окрашиванию частных домов, если даже дворцы Зимний, Строгановский, министра путей сообщения (бывший Юсуповский на наб. р. Фонтанки, 115. – А. И.) и многие другие продолжают варварски закрашивать в густые, мрачные, безвкусные тона (коричневый, красно-кирпичный)…» Самое удивительное, что при кажущемся разнообразии и многостильности эклектических фасадов со временем они сливаются в единую массу, более монотонную, чем выстроенные в ряд классические здания. Причиной тому – неудачная, одноцветная окраска; под влиянием влажного петербургского климата дома скоро утрачивают свои индивидуальные цвета, приобретая общий грязновато-серый колорит. Бесспорно, и кирпичный стиль с его неоштукатуренными фасадами, и северный модерн с облицовкой стен серым гранитом так же органично вписываются в архитектурную панораму Петербурга, как и многоцветные барокко и классицизм, но лишь потому, что они изначально рассчитаны на монохромный эффект. К тому же это не более чем островки в море оштукатуренных зданий, обладающих, наряду с недостатками, одним громадным преимуществом: способностью к полному обновлению. При своевременной и умелой окраске они могут оставаться вечно молодыми, веселя и радуя сердца горожан сочными деталями отделки, выделенными своим особым цветом. Пройдите по Невскому, от Литейного в сторону Московского вокзала, и оцените работу мастеров, ремонтировавших фасады. Ручаюсь, что вам захочется воскликнуть: «Да здравствует многоцветье!» Монотонность вредна не только при окраске зданий, а потому спешу перейти к следующей главе, рассказывающей о забавных и совсем не забавных событиях и происшествиях из жизни старого Петербурга. Глава 5 От смешного до грустного «Ружья убрать для безопасности…» Из истории известно, что императрица Анна Иоанновна была страстной охотницей и делам государственным предпочитала медвежьи травли. Порой, окончательно соскучившись докладами своих министров, царица ненадолго покидала их и, высунувшись из окна, подстреливала на лету пару-другую ворон. После этого, освежившаяся, она возвращалась к прерванным занятиям. Понятно, что при таких привычках царские ружья всегда должны были в полной готовности находиться под рукой, содержимые в величайшем порядке. Для присмотра за ними имелся специальный человек – оружейный мастер Иоганн Илинг, заботливо ухаживавший за ружьями и винтовками, как садовник за цветами. Как-то весной 1737 года он взял в починку ружье, из которого государыня особенно любила стрелять по зайцам и оленям в своем петергофском зверинце, и неожиданно отдал богу душу. Возник небольшой переполох; не по поводу смерти мастера Илинга, а из-за возможной утраты драгоценного царицына ружья, коего она могла хватиться в любую минуту. По сему случаю обер-егермейстер Артемий Волынский предусмотрительно адресовал в Кабинет ее императорского величества нижеследующее курьезное послание. Попутно оно содержит кое-какие интересные сведения по истории Петербурга, поэтому привожу его (с небольшими сокращениями) в первозданном виде. «Обретался здесь при дворе… оружейной мастер Яган Илинг, у которого было в смотрении Ее Императорского Величества ружье, а в прошедшем апреле месяце оной оружейной мастер умер, а по смерти его бывшее у него в смотрении… ружье посланным от меня капитаном Иваном Родионовым при обер-егере Беме да при караульном капрале Евдокиме Щербинине описано, и тое опись… при сем прилагаю, а оное ружье хранится ныне за печатью того капитана Родионова в доме блаженный памяти благоверного государя царевича Алексея Петровича в мазанках, а около оных по обе стороны жилое строение и опасно, чтоб от незапного пожарного времени не учинилось оному ружью траты, понеже неоднократно уже загоралось, також и мазанки, в которых лежит ружье, весьма ветхи и во многих местах подставлены в них уже подпоры, и тако не безопасно, чтоб оные мазанки не обломились. Того ради, чтоб повелено было оное ружье убрать для безопасности в каменные палаты в Итальянской дом». Поясню, что мазанковые хоромы казненного сына Петра I, царевича Алексея, находились на участке дома № 31–33 по Шпалерной улице. В первой четверти XVIII века этот квартал, называвшийся Русской слободой, населяли преимущественно знатные персоны: царицы Прасковья Федоровна и Марфа Матвеевна, царевна Наталья Алексеевна, генерал-фельдцейхмейстер Я.В. Брюс и т. д. Однако в описываемое время большая часть здешних, состроенных на скорую руку жилищ пришла в почти негодное состояние и ежеминутно грозила обвалом. Придворная аристократия давно покинула эти отдаленные места, предпочитая селиться поближе к царскому дворцу. Бывший дом царевича Алексея стал использоваться как «запасный двор», а часть соседнего участка царицы Марфы Матвеевны перешла в собственность архитектора М.Г. Земцова. Рядом находились казенные здания Канцелярии от строений (бывший дворец царевны Натальи Алексеевны) и Шпалерной мануфактуры. Императрица сочла доводы Волынского убедительными, и спустя два месяца, 10 июля того же 1737 года, состоялась торжественная процедура перенесения царского ружья в Итальянский дворец на Фонтанке (позднее на этом месте Д. Кваренги построил Екатерининский институт). Его положили «в верхнем апартаменте в двух палатах» и приставили караул в составе капрала Щербинина и трех солдат-гвардейцев. Дальнейшая судьба ружья Анны Иоанновны нам неизвестна, но можно с уверенностью сказать, что при последующих его владелицах – Елизавете и Екатерине – окрестные вороны и галки могли летать спокойно, не опасаясь выстрелов из окон Зимнего дворца. Вообще же лучше было не мозолить глаза царицам: иногда это могло иметь самые неожиданные последствия. Давайте плескаться, купаться… Ныне в Петербурге купальщиков в центре города можно увидеть разве что на Неве, у стен Петропавловской крепости. Купание в прочих реках и каналах давно уже стало привилегией пьяниц и умалишенных – степень загрязнения наших вод не вызывает особого желания в них окунуться. Две с половиной сотни лет назад картина выглядела совсем иначе: невская вода была чиста и прозрачна, как хрусталь, имела дивный вкус, а уж о купании и говорить нечего. В Мойке, Фонтанке и речке Кривуше по причине илистого дна вода была похуже, но купальщиков это не смущало, и в жаркие дни находилось немало охотников освежиться, не удаляясь далеко от мест обитания. Нравы в ту пору отличались почти первобытной простотой и невинностью, о купальных трусиках и костюмах, само собой, даже помину не было, а потому плескались в чем мать родила, не испытывая от этого никаких неудобств. Однажды в конце мая 1745 года императрица Елизавета Петровна, проезжая по берегу Фонтанки к своему недавно построенному деревянному Летнему дворцу, посмотрела направо, намереваясь перекреститься на купол Симеоновской церкви, и вдруг обомлела: на противоположном берегу, у самого мостика, расположилась целая ватага мужиков, уже раздетых и собиравшихся совершить омовение в речных водах. Увидев царскую карету, они остановились, разинув рты, и, не делая ни малейших попыток чем-нибудь заслониться, жадно глазели на раззолоченный экипаж, запряженный шестериком. «Экий, право, народ! – недовольным тоном промолвила Елизавета. – Хоть бы прикрылись, что ли…» Прибыв во дворец, она тут же приказала позвать генерал-полицмейстера А.Д. Татищева и объявила ему строжайшее повеление: ни под каким видом не дозволять купаться в Фонтанке у Симеоновского моста. С того дня прошло еще около шестидесяти лет, но ситуация с местами для купания в черте города ничуть не изменилась. Правда, теперь уже редко кто отваживался разоблачаться на каменных набережных, чтобы искупаться в изрядно помутневших водах: полиция строго следила за порядком, в том числе и за купанием в неположенных местах. Но где положено было это делать? Ответ прост – нигде. Так продолжалось до лета 1803 года, когда некий француз Вольсе, воспользовавшись некоторой либерализацией общественной жизни в начале александровского царствования, добился разрешения устроить на Неве, между Летним садом и Литейным домом, публичные купальни, а заодно и школу для плавания. Войдя в компанию с генералом Воеводским и графом Морелли, он оборудовал семнадцать купален для дам и столько же для мужчин. Сооружения эти имели вид красивых деревянных домиков, каждый из которых внутри был оснащен облицованной свинцом ванной с кранами для горячей и холодной воды, а кроме того – всеми необходимыми для купания предметами. Посещение такой «купальни» (в нашем представлении это больше смахивало на баню!) стоило недешево – полтора рубля, а функционировали они летом и зимой. Очевидно, устроители чаяли для себя крупных барышей, согласившись выложить за разрешение сроком на двенадцать лет 40 тысяч рублей. Неизвестно, оправдались ли их радужные ожидания, но можно с уверенностью сказать, что широкого распространения эти ванны-купальни не имели и проблемы не решили. Большая часть высшего сословия летом жила в своих имениях и нужды в купальнях не испытывала, простой же народ, как и встарь, ходил в баню за пятачок, а купался и вовсе даром там, где ему нравилось, но, разумеется, подальше от начальственного ока. Для этого, например, вполне подходила речка Карповка, где чуть ли не до начала XX столетия царили патриархальные нравы и обыватели обоего пола бок о бок мирно купались нагишом, не помышляя ни о чем дурном. В 1834 году мещанин Широков и крестьянин Емельянов предприняли попытку возрождения купален, подобных тем, что некогда завели француз Вольсе с компаньонами. На сей раз было испрошено позволение соорудить на Большой и Малой Неве в тридцати шести местах ванны для купания сроком на десять лет. Устроители обязывались уплачивать за каждую ванну по 25 рублей ассигнациями в пользу Приказа общественного призрения, а по истечении условленного срока безвозмездно передать их тому же Приказу. Поначалу они предполагали открыть купальни не только на Неве, но и на Фонтанке, но получили отказ, мотивированный возможными затруднениями в проходе речных судов. Цена за пользование купальнями составляла всего лишь от 10 до 20 копеек, а посему круг обслуживаемых лиц становился значительно шире, чем раньше. Отныне купание в черте города введено было в организованное русло, и душа покойной императрицы Елизаветы могла наконец успокоиться… Раз уж заговорили о купании, уместно будет вспомнить и о других физических упражнениях, а также о человеке, который явился пионером развития спорта в нашем городе. В здоровом теле – здоровый дух! Император Николай I обожал военную выправку: она требовалась для парадов, и, чтобы добиться ее, он не жалел усилий. В его царствование в армии были введены должности монитёров (говоря современным языком – тренеров), в чьи обязанности вменялось обучение нижних чинов гимнастике, которая в ту пору вошла в моду во многих европейских странах. В 1833 году в Петербурге появился шведский гимнаст Густав Паули, приглашенный русским правительством для приготовления этих самых монитёров. С 1834 по 1839 год он вдобавок преподавал гимнастику во всех кадетских корпусах, включая Пажеский, а также в императорской гвардии и даже в некоторых женских институтах. Густав Густавович, как стали называть его в России, получил у себя на родине солидную подготовку и обладал дипломом магистра плавательного искусства, выданным ему Шведским обществом распространения плавания; кроме того, он имел звание учителя анатомии и математики, и обе эти, казалось бы, не связанные друг с другом дисциплины пригодились Паули для его занятий в Петербурге. В нем была несомненная предпринимательская жилка, заставившая его немедленно после прибытия добиваться разрешения открыть в столице Училище плавания с бассейнами, раздевалками и буфетом. Ранее, еще проживая в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки), он учредил гимнастическое заведение, продолжавшее действовать и после его отъезда в Россию… В мае 1833 года разрешение было получено, и плавательная школа, устроенная на Неве против Летнего сада, начала свое существование. Там Густав Паули обучал плаванию по собственной системе, взятой на вооружение в двадцати казенных заведениях и заслужившей одобрение Обществ русских и немецких врачей в Петербурге. Школа пользовалась большим успехом и на следующий год побудила уже местных предпринимателей – мещанина Широкова и крестьянина Емельянова – оборудовать на Большой и Малой Неве тридцать шесть купален с платой от 10 до 20 копеек. А неутомимый Густав Густавович, видя успех своего предприятия, основал в 1836-м еще и Гимнастический институт; находился он на углу нынешней Казанской (в то время Большой Мещанской) улицы и Нового переулка, в доме № 33/7, перестроенном в начале прошлого века. О том, чему учили в Гимнастическом институте, весьма подробно пишет В. Бурьянов в своем, к сожалению, никогда не переиздававшемся и почти забытом путеводителе «Прогулки с детьми по Петербургу и его окрестностям», опубликованном в 1838 году. «Дети и взрослые молодые люди могут в нем обучаться разным телесным упражнениям за самую дешевую плату. Класс гимнастики помещается в большой двухъярусной зале, уставленной и обвешанной разными машинами, лестницами, канатами, шестами и т. п…Молодые люди учатся бегать, прыгать, вскакивать на возвышения, взлезать на шесты и спускаться с них, бросаться со значительной высоты и т. п…Кому дорого здоровье и будущее счастье детей своих… тот должен упражнять их в гимнастике. Дети вырастут здоровыми мужчинами, а не слабонервными полуженщинами, которые от всякой неожиданной опасности приходят в недоумение…» Чего можно добиться постоянными тренировками и упражнениями, Паули наглядно демонстрировал на собственном примере: ловкости и силе Густава Густавовича дивились все, знавшие его; они утверждали, что этот атлет способен был поднимать груз в 14 пудов весом! Могучие мышцы отнюдь не вредили умственным способностям ученого гимнаста: он издал несколько книг собственного сочинения, где пропагандировались не только гимнастика и плавание, но также зимние виды спорта, в частности Паули первым познакомил русских читателей с основами фигурного катания на коньках. Несмотря на кратковременность своего пребывания в Петербурге – не более семи-восьми лет, Густав Паули оставил после себя заметный след, много сделав для претворения в жизнь мудрого изречения: «В здоровом теле – здоровый дух!» Помимо описанных развлечений в Петербурге существовало много других, о которых и пойдет речь в следующем рассказе. А олени лучше! Старинной, поистине русской зимней потехой было катание с ледяных гор. В январе 1792 года «Санкт-Петербургские ведомости» приглашали любителей острых ощущений совершить головокружительный спуск на санках или без оных с вершины высокого деревянного помоста: «На большой Охте на берегу Невы зделаны для увеселения горы, о чем почтенной публике знать дается». Навстречу пожелавшим съехать с такой горы неслись по другой дорожке съезжавшие с противоположного помоста… С 1810-х ледяные горы стали делать прямо против окон Зимнего дворца. Если в иные годы толщина ледяного покрова не позволяла сооружать их на Неве, то они устраивались на Адмиралтейской площади. Сперва катальные павильоны представляли собой незамысловатые дощатые сооружения без всякой претензии на архитектурные достоинства, однако после переноса их ко дворцу стали заботиться и о наружном виде, оформляя в модном тогда ложноготическом стиле. Это видно на раскрашенной гравюре Н. Серракаприола, относящейся к 1817 году, и о том же писал в «Отечественных записках» в 1821-м их издатель П.П. Свиньин: «Горы и принадлежащие к ним лубочные театры улучшаются ежегодно на счет красы своей и порядка. Первые представляли ныне готические зубчатые башни вышиною около 8 саженей (примерно 18,5 метра. – А. И.), а спуски их были более 40 саженей в длину… Недалеко от гор в то же время представлялось на реке другого роду народное увеселение – конский бег. Охота сия теперь не в такой моде, как бывало то при графах Орловых». Адмиралтейская площадь во время Масленицы. Литография Ж. Жакотте и Обрэна. 1850-е гг. Последнее замечание Свиньина не вызывает удивления: ледяные бега, забава богачей, постепенно отмирали, уступая место более дешевым и доступным развлечениям, к каковым можно отнести катание на коньках. Впрочем, на первых порах коньки, завезенные в Россию из Западной Европы в XVIII веке, воспринимались не более как диковинная игрушка заезжих иностранцев да немногих чудаков-аристократов. Обозреватель «Северной пчелы» в заметке от 22 декабря 1827 года недоумевал по этому поводу: «Охотники кататься на коньках имеют теперь обширное поприще. Мы видели некоторых весьма искусных в сем гимнастическом упражнении, большей частью англичан и французов. Странно, что наши русские вовсе забросили эту забаву. Англичане в 7 градусов мороза носятся вихрем по Неве в одних фраках, а русские, закутавшись в шубы, только смотрят с берега». Катание на коньках на Неве. Гравюра И. Кокере по рисунку Е.М. Корнеева. Первая четверть XIX в. Сравнительно широкое распространение конькобежного спорта в нашем городе началось лишь при Александре II, а первый общественный каток стараниями Санкт-Петербургского речного яхт-клуба открылся 20 ноября 1866 года в Юсуповом саду. До этого конькобежцы использовали все тот же невский лед. Лыжи как вид зимних развлечений вошли в жизнь горожан позднее – уже в XX веке, хотя именно они были известны на Руси с глубокой древности. Еще в 1499 году так называемая Лыжная рать, составленная из воинов, умевших ходить на лыжах, завоевала Югорскую землю (территория Северного Урала и часть побережья Северного Ледовитого океана. – А. И.), а в 1534-м ходила в зимний поход на Литву… Одной из любимейших зимних забав, доступных, правда, далеко не всем, было катание на тройках. Конечной целью таких поездок в старину нередко служил «Красный кабачок», стоявший неподалеку от нынешней станции метро «Автово». Особую популярность он приобрел в 1820-х и славился крупной картежной игрой, которую вели гвардейские офицеры, и вкусными вафлями, выпекавшимися немцем-арендатором по традиционным немецким рецептам. Сцены на Неве во время зимы Но если тройки были привилегией богатых петербуржцев, то масленичные катания на «вейках», в санях, запряженных маленькими финскими лошадками, могли позволить себе многие: это входило в непременный репертуар зимних развлечений. С давних пор пригородные «чухны», как называли некогда коренных обитателей здешних мест – финнов и карелов, подрабатывали этим промыслом, веселя в особенности детские сердца. И уж совсем экзотическим для жителей Северной столицы можно считать катание на оленях, запечатленное на гравюре 1860-х годов; на льду Невы, напротив уже не действовавших в ту пору адмиралтейских доков, изображены чум или яранга и упряжка с бегущими оленями на первом плане. В виде комментария к этой любопытной иллюстрации можно привести заметку, опубликованную в «Петербургском листке» за 1865 год: «Как в прошлые годы, так и в нынешнем, на Неве, у Дворцовой набережной, устроился самоедский чум; пара оленей, запряженных в самоедские сани, ожидают желающих прокатиться по расчищенному льду Невы». И. И. Шарлемань. Народное гулянье по льду Невы перед Адмиралтейством Остается лишь удивляться огромным расстояниям, которые вынуждены были преодолевать погонщики оленей, чтобы добраться до Петербурга. Но очевидно, они находили это выгодным для себя, и самоедские чумы продолжали появляться на масленичных гуляньях из года в год, как видно на фотооткрытке конца XIX или начала XX века. Видно, и тогда находились любители, полагавшие, что «быстрый конь – хорошо, а олени – лучше!». К сожалению, жизнь состоит не из одного веселья и радостей: в ней много тревог, огорчений и роковых случайностей… Императрица борется с заразой 27 мая 1768 года в придворных кругах Петербурга только и было разговору, что о внезапной, загадочной кончине юной графини Анны Петровны Шереметевой, умершей от оспы. Случилось это накануне ее свадьбы с воспитателем цесаревича Павла, графом Н.И. Паниным. Тут же пошли слухи, что некая таинственная соперница, влюбленная в жениха, подбросила, неизвестно каким образом, оспенную материю в табакерку, подаренную им невесте. Убитый горем отец просил государыню уволить его от всех дел, а глубоко потрясенный Панин надолго погрузился в угрюмую задумчивость… Озабочена была и сама императрица, опасавшаяся за себя и цесаревича. Выражая Никите Ивановичу непритворное соболезнование, она все же просила его воздержаться на некоторое время от приездов ко двору, боясь возможной заразы, – ведь Панин общался с больной и мог стать переносчиком болезни. По-видимому, тогда же Екатерина твердо решила раз и навсегда обезопасить себя, своего сына и всех, кто пожелает сделать противооспенную прививку. Чтобы отважиться на это, требовалось определенное мужество: оспопрививание в Европе делало лишь первые шаги и на протяжении всего XVIII века имело столько же сторонников, сколько и противников. Наибольших успехов оно достигло в Англии, куда и устремила взор Екатерина, обратившись к первому авторитету в этой области – доктору Томасу Димсдейлу (в России его называли Димсдалем), сделавшему к тому времени уже шесть тысяч прививок. Он получил приглашение приехать, которое, подумав, принял. В августе 1768 года Димсдейл прибыл в Петербург со своим сыном и остановился в приготовленных для него покоях в доме на Миллионной, рядом с дворцом. Хотя императрица и выразила решимость первой подвергнуться прививке, доктор проявил осмотрительность и предпочел для начала испытать свое искусство на ком-нибудь другом. Но сперва требовалось подыскать помещение для больницы, где можно было проделывать необходимые процедуры и содержать пациентов до полного их выздоровления. С этой целью на Петербургской стороне отвели пустующую деревянную дачу, когда-то принадлежавшую покойному барону Якобу Вольфу (позднее там выстроят здание Сиротского дома, обращенного с 1844 года в Александровский лицей – Каменноостровский пр., 21. – А. И.). В прошлом великолепная загородная резиденция богатого купца, запечатленная на гравюре М.И. Махаева, стояла пустая и заколоченная, постепенно приходя в упадок. Она была признана удобной и поместительной, а посему куплена в казну и обращена в госпиталь. Для присмотра за больными Димсдейлу выделили помощника, лифляндца Шулениуса, с успехом привившего оспу многим лицам у себя на родине. Первыми, кому английский врач сделал прививки, стали воспитанники кадетского корпуса – Свитен и Басов. Не все прошло гладко: у Басова на другой день началась лихорадка с тошнотой и рвотой; заболел и Свитен. Однако через неделю оба полностью выздоровели, так что в конечном итоге опыт можно было считать удачным. Затем были сделаны прививки еще пятерым желающим. Усадьба консула барона Вольфа на Петербургском острове. Неизвестный гравер по рисунку М.И. Махаева. 1757 г. Только после этого, 12 октября, Димсдейл проделал ту же операцию во дворце с императрицей. Вначале предполагалось, что одновременно ей подвергнется и цесаревич Павел, но он заболел ветрянкой, поэтому прививку пришлось на два месяца отложить. А 16 ноября того же 1768 года Екатерина писала лифляндскому генерал-губернатору Броуну, дивившемуся ее смелости: «Вчера я получила Ваше письмо, в котором Вы меня поздравляете с благополучным исходом привития оспы. Вы, генерал, уверяете меня, что с моей стороны… необходима была немалая решимость… а между тем я полагала, что подобная смелость встречается в Англии у каждого уличного мальчика. Честный и искусный доктор Димсдаль, ваш земляк, внушает всем в Петербурге доверие и решимость, и нет дома вельможи, в котором не находилось бы несколько пациентов, отданных на его попечение». Справедливости ради следует сказать, что примеру государыни последовали далеко не все ее подданные и за первые десять лет прививку прошли менее семисот человек. Хотя придворные с удовольствием смотрели «аллегорический пантомимный балет» под названием «Торжествующая Минерва, или Побежденное предрассуждение», а поэт М.М. Херасков даже написал по этому случаю оду, многие, в том числе из ближайшего окружения Екатерины, предпочли положиться на волю Божью. Недаром кое-кто из сановников, например граф А.И. Морков, имели лица изрытые оспой, про которые в народе говорили: черт на них горох молотил… Между тем воодушевленная личным опытом и преисполненная благих намерений государыня распорядилась, помимо госпиталя, прививать оспу в трех воспитательных домах, о чем не преминула известить самого господина Вольтера. Доктор Димсдейл, осыпанный щедрыми наградами, отправился с той же миссией в Москву. В 1781-м он вновь появился в Петербурге, чтобы сделать прививки великим князьям Александру и Константину, за что получил баронский титул, чин действительного статского советника и звание лейб-медика с пожизненной пенсией 500 фунтов стерлингов. Кроме того, Димсдейлу были пожалованы миниатюрные портреты Екатерины и Павла в память заслуг, оказанных им Российской империи. Что касается самой императрицы, то она не только заслужила в русской и мировой истории видное место, но и дала повод своим современникам воспевать в стихах и прозе «век золотой Екатерины». Потомки оказались более сдержанными в своих оценках, но в конце концов почтили государыню и ее ближайших сподвижников бронзовым памятником в столице. Случилось это уже при Александре П.- Век бронзовой Екатерины Ранним субботним утром 24 ноября 1873 года в Петербурге царило необычное оживление. Толпы народу стекались к площади перед Александрийским театром, где должно было состояться открытие памятника Екатерине II. Невский проспект, Адмиралтейскую площадь, Дворцовую набережную наводняли войска в парадной форме, однако лишь преображенцы, семеновцы, измайловцы и некоторые другие гвардейские части, существовавшие еще в екатерининские времена, получили право окружить новоразбитый сквер с закрытым холщовым покрывалом монументом. Модель памятника Екатерине II. Скульптор М.О. Микешин. Фото 1870-х гг. Внутри ограды стоял почетный караул из рослых кавалергардов: ожидалось прибытие августейшей фамилии. Как только царский кортеж проследовал по Невскому, из Казанского собора медленно вышла духовная процессия и крестным ходом направилась к памятнику. Наконец покровы спали, и перед собравшимися предстало великолепное бронзовое изваяние Екатерины со скипетром и в порфире. Подножие статуи заполняли девять фигур ближайших сподвижников императрицы – Г.А. Потемкина, А.В. Суворова, П.А. Румянцева, А.А. Безбородко, И.И. Бецкого, Е.Р. Дашковой, Г.Р. Державина, А.Г. Орлова и В.Я. Чичагова. После окончания торжественного молебна со стен Петропавловской крепости и из всех орудий пешей и конной артиллерии по специальному сигналу грянул салют из 360 залпов. Около часу дня войска церемониальным маршем прошли мимо памятника, освещенного бенгальскими огнями, а вечером столица была нарядно иллюминирована и украшена транспарантами. Так, с давно не бывалым размахом прошли торжества, посвященные открытию монумента, к которому глаза многих поколений горожан успели до такой степени приглядеться, что порой даже не замечают его. А между тем памятник примечателен во многих отношениях. Сооружался он одиннадцать лет – столько же, сколько знаменитый Медный всадник. Однако гранитные глыбы для пьедестала, сравнимые по размеру с пресловутым «гром-камнем», транспортировка которого стоила в свое время гигантских усилий, теперь с легкостью перевозились по переносным рельсам; вдобавок доставка их с Невского проспекта к месту строительства даже не потребовала остановки уличного движения. Но если технические проблемы в XIX веке решались гораздо легче, чем в XVIII, то о художественных этого не скажешь. Именно по этой причине путь от первоначального замысла к его окончательному воплощению оказался столь долгим. Все началось с того, что в 1860 году Академия художеств объявила конкурс на создание проекта памятника Екатерине II для царскосельского парка. Среди соискателей нашелся один чужак – художник М.О. Микешин, которому сперва было отказано в праве участвовать на том основании, что он не имел звания скульптора. Тем не менее именно его проект получил наибольшее признание и был утвержден. Модель отлитой из бронзы статуи, представленная на Всемирной лондонской выставке 1862 года, удостоилась почетной медали. Вскоре городская дума подняла вопрос об установке памятника Екатерине по образцу царскосельского на одной из площадей Петербурга. Идея получила высочайшее одобрение, и на того же Микешина возложили ее осуществление. Понимая, что скульптура в стиле рококо, предназначенная для украшения дворцового сада, не отвечает поставленной задаче, Михаил Осипович приступил к изготовлению модели по новому, более строгому рисунку. Впрочем, общий замысел остался тем же, изменились лишь детали. В целом, как отмечали многие, он по-прежнему напоминал памятник «Тысячелетию России», незадолго перед тем воздвигнутый в Великом Новгороде, за который Микешин получил пожизненную пенсию. Новая модель была благополучно окончена и отлита в бронзе в 1/16 настоящего размера. Поначалу ее поставили в гроте на берегу пруда в том же царскосельском парке, но позднее перенесли в Камеронову галерею. Помимо маленькой бронзовой, художник представил на суд Академии, а затем государя гипсовую отливку монумента в натуральную величину. Некоторое время она демонстрировалась на недавно построенной Адмиралтейской набережной, о чем свидетельствует редкая фотография из коллекции Н.П. Шмитт-Фогелевича. Этот снимок позволяет сравнить модель с существующим памятником и заметить некоторые различия. Академические критики поставили в вину художнику чересчур залихватскую, по их мнению, позу князя Потемкина, бесцеремонно закинувшего ногу на ногу и небрежно слушающего, вскинув голову, стоящего рядом с ним Суворова. Не понравились им и кукольное, как у фарфоровой статуэтки, лицо императрицы и слишком малый размер пьедестала. Александр II со своей стороны обратил внимание на неправильное расположение орденов, а кроме того, распорядился четко обозначить фамилии приближенных и их титулы. Увеличение постамента позволило установить в задней части памятника фигуры А.Г. Орлова и В.Я. Чичагова, вместо предполагавшихся ранее медальонов с их изображениями. Потемкину Микешин придал более достойный вид, заставив попирать ногой турецкую чалму, а на лице государыни появилось выражение царственного величия. Все эти многочисленные поправки, изменения и дополнения привели к тому, что сооружение монумента растянулось на целое десятилетие. Непосредственными исполнителями проекта были скульпторы: М.А. Чижов, изваявший статую Екатерины, и А.М. Опекушин, вылепивший остальные девять фигур. Работами руководил архитектор Д.И. Гримм, он же автор пьедестала из серого и красного сердобольского гранита. Вокруг памятника заново был разбит сквер с молодыми дубками и кустами жимолости. За истекшие годы дубки превратились в мощные дубы, и только старое фото позволяет увидеть, какими они были много лет назад. В качестве послесловия можно добавить, что в наши дни памятник не раз становился жертвой вандалов. Особенно прельщала их шпага Суворова, которая неоднократно похищалась. Правда, великому полководцу, а точнее, его памятникам приходилось страдать от них и в прошлом, о чем можно узнать из книги немца Г. Реймерса «Петербург в конце своего первого столетия». Она появилась на свет еще в 1805 году и отличается добросовестной, чисто немецкой дотошностью. По странному стечению обстоятельств труд этот так никогда и не был полностью переведен на русский язык, хотя он насыщен интереснейшими подробностями о жизни столицы, которых не встретишь ни в одной другой книге. Из него, к примеру, узнаешь, что вандализм и варварское отношение к произведениям искусства издавна пустили корни на русской почве и не являются приметами лишь нашего времени. 5 мая 1801 года в торжественной обстановке был открыт знакомый каждому петербуржцу памятник Суворову. Вначале он стоял не на теперешнем месте, куда его перенесли лишь в 1818-м, а в противоположном конце Марсова поля, у самой Мойки. «Кто бы мог подумать, – с горечью восклицает Реймерс, – что уже в августе того же года с постамента будет украден большой кусок декоративного пояса из позолоченной бронзы, который и поныне (октябрь 1804 года) отсутствует». И далее автор резонно заключает: «Низшие сословия, кажется, еще не видят в публичных монументах никакого смысла и не придают им значения». Как видим, охота за цветными металлами, вдобавок позолоченными, началась отнюдь не вчера. Добывали оные, как это делают и современные старатели, где только могли, не останавливаясь даже перед осквернением Медного всадника. Вот что рассказывает по этому поводу Реймерс: «От гранитных башен мостов через Фонтанку, где бронзовыми цифрами указаны годы начала и окончания строительства, некоторые цифры с большими усилиями оторваны. То же самое обнаруживаешь и на скале, служащей подножием памятника Петру Великому». Но если в ту пору многое можно было списать на невежественность и отсталость «низших сословий», то теперь такое объяснение вряд ли подойдет: сословий нет, но воруют по-прежнему! Следующая наша история о том, как человек становится ничего не значащей пешкой в политической игре, цели которой остаются скрытыми от него, и попадает между жерновами чудовищной мельницы, стирающих его в пыль… Заговор послов 25 ноября 1741 года в результате очередного дворцового переворота на российский трон вступила дочь Петра I Елизавета. Император-младенец Иван Антонович со своими присными был отправлен под конвоем в крепость Динамюнде, его приверженцы – в далекую сибирскую ссылку, а освободившийся пост вице-канцлера занял А.П. Бестужев-Рюмин. С первых же шагов он начал проводить независимую внешнюю политику, не отвечавшую интересам Франции и Пруссии, чем вызвал против себя величайший гнев и озлобление послов этих стран – маркиза Шетарди (вскоре его сменил Далион) и барона Мардефельда. Они стремились любой ценой уничтожить или, по крайней мере, сместить самого Бестужева и его старшего брата Михаила, обер-гофмаршала, также игравшего важную роль в иностранных делах. Удобный случай для этого представился летом 1743 года. Бывший австрийский посол при русском дворе маркиз Ботта, назначенный на ту же должность к прусскому королю Фридриху II, вздумал распускать ни на чем не основанные слухи о существовании в России некой партии сторонников свергнутой Брауншвейгской фамилии, готовых действовать в пользу малолетнего Ивана Антоновича в надежде насладиться затем долгими годами регентства. Французский посол в Берлине Валори слушал болтовню маркиза и мотал себе на ус, после чего не преминул сообщить о ней своему коллеге Далиону в Петербург, посоветовав принять россказни Ботты к сведению. Тот, сопоставив их с неосторожными речами, слышанными им в мае, во время свадебного пира по случаю бракосочетания М.П. Бестужева-Рюмина со вдовой П.И. Ягужинского, графиней Анной Гавриловной, решил придать пустым словам характер готовящегося государственного преступления. Н.Ф. Лопухина Но что же предосудительного мог заприметить Далион на свадьбе обер-гофмаршала императрицы? Дело в том, что Анна Гавриловна принадлежала к кружку «бывших», ядро которого составляли Н.Ф. Лопухина, урожденная Балк, ее муж Степан Васильевич и их сын Иван. Обе женщины были примерно одного возраста – обеим перевалило за сорок; лучшие годы их жизни пришлись на период правления Анны Иоанновны, вдобавок обе питали нежные чувства к приговоренному к ссылке графу Левен-вольде. Встречаясь, подруги предавались сладостным воспоминаниям о прошедших временах, о балах, на которых они некогда блистали, хвалили прежние и ругали нынешние порядки; доставалось от них и государыне. Отец и сын Лопухины, оказавшиеся чужими и ненужными при дворе Елизаветы, тоже чувствовали себя оскорбленными и не жалели бранных слов в адрес их общей обидчицы. В ходе свадебного застолья их языки под действием винных паров особенно вольно развязались, так что приметливому дипломату довелось услышать многое такое, чего говорить не следовало. Вот почему младший Бестужев не одобрял этого брака, который едва не погубил обоих братьев и привел к охлаждению между ними. Своими наблюдениями Далион поделился с Лестоком, лейб-медиком императрицы по должности и политическим интриганом по призванию, находившимся на жалованье у французского короля. Они быстро сообразили, как связать речи Ботты с его петербургскими знакомыми Лопухиными и бывшей вдовой Ягужинской, в чьи дома маркиз в бытность свою послом в России часто хаживал. Дело, активно поддержанное примкнувшим к ним прусским посланником Мардефельдом, закипело. Тут же, как по заказу, подоспел донос клиента Лестока, поручика кирасирского полка Бергера, отправляемого в качестве начальника караула, приставленного к Левенвольде, в далекий Соликамск. Желая избежать малоприятного назначения, Бергер, скорее всего подученный самим Лестоком, объявил, что готов открыть важное государственное дело, касающееся персоны самой императрицы. Суть его сообщения состояла в том, что Н.Ф. Лопухина, через своего сына Ивана, попросила Бергера передать Левенвольде поклон, заверив в ее неизменной преданности, и посоветовала ему не отчаиваться и уповать на лучшее будущее. Вот и все. Этого было мало, и Лесток поручил тому же Бергеру с одним из его сослуживцев напоить Лопухина, чтобы добыть от него нужные признания. Осуществить затеянное не составило никакого труда: подвыпивший Иван наболтал с три короба, после чего Лесток, выслушав своих агентов, повез их во дворец. В присутствии Елизаветы они повторили слышанное ими, и разгневанная государыня дала указание начать розыск… 25 июля 1743 года, в пятом часу утра (любимое время суток для политических арестов!), к ограде одноэтажного деревянного особняка Лопухиных на Мойке (участок дома № 50), стоявшего в глубине, по соседству с такими же деревянными хоромами Левенвольде, подкатила карета. Из нее вылезли начальник Тайной канцелярии А.И. Ушаков и генерал-прокурор Н.Ю. Трубецкой в сопровождении капитана гвардии Преображенского полка. Они вошли в ворота, а спустя некоторое время появились вновь, ведя за собой бледного, перепуганного Ивана Лопухина. Мать его осталась дома под караулом. На следующий день настал ее черед. Одновременно была арестована Анна Бестужева. Все трое были посажены в крепость. В Москву полетела эстафета с приказом взять под стражу и доставить в столицу Степана Лопухина, уже больше года жившего отдельно от жены и сына. Наказание кнутом женщин. Гравюра XVIII в. Французский посол Далион торжествовал. 30 июля он доносил своему правительству: «Расследование поручено генерал-аншефу Ушакову, генерал-прокурору князю Трубецкому и г-ну Лестоку. Двое последних суть заклятые враги Бестужевых и они, конечно, отыщут способ замешать их в это дело. Если даже, сверх чаяния, не окажется против них улик, решено воспользоваться случаем и не пощадить их». Сказано вполне откровенно! Ликовал и прусский король, давно мечтавший о том, чтобы «кувыркнуть», по его собственному выражению, ненавистных братьев… Начались допросы, пытки, признания в несуществующих умыслах «против государевой персоны и прочих, касающихся к бунту и измене делах». Вслед за тем были объявлены страшные кары: Степана, Ивана и Наталью Лопухиных, а также Анну Бестужеву высечь кнутом и, урезав языки, отправить в ссылку. Так «милостивая государыня» смягчила назначенное судом колесование. 31 августа площадь перед коллегиями (ныне здание Университета) на Васильевском острове была запружена толпой зевак. В 11 часов началась экзекуция. Первым на специально устроенный эшафот взошел Степан Лопухин, за ним его жена, сын, Анна Бестужева и другие приговоренные. У вздумавшей сопротивляться Лопухиной палач вырезал большую часть языка; Анна Бестужева нашла возможность подкупить его и пострадала меньше. На эту жуткую сцену с любопытством взирали из окон коллегий сенаторы, подписавшие бесчеловечную «сентенцию». Но самого главного, ради чего и было затеяно это дутое «дело», послы Франции и Пруссии так и не добились: когда открылась вся ничтожность вины Лопухиных и полная непричастность к нему Бестужевых, им пришлось замолчать и смириться со своей неудачей. Ну а что касается истерзанных и безвинно пропавших в глухой ссылке людей, то ведь, как известно, лес рубят – щепки летят. Это хорошо усвоенное из нашей новейшей истории. Виновники чужих несчастий редко вспоминают о своих жертвах, терзаясь муками совести. Но иногда так случается, хотя бывает уже слишком поздно… Запоздалое раскаяние генерал-прокурора Если вам случится проходить по набережной реки Мойки у Красного моста, загляните во двор большого серого дома № 58 в неоклассическом стиле, построенного в 1913 году. Его фасад скрыл от глаз стоящий в глубине двухэтажный домик, в котором разместился детсад. Это чудом сохранившаяся задняя пристройка к ресторану «Контан», чье изображение можно увидеть на публикуемом рекламном фотоснимке начала 1900-х годов. Увы, сам он не уцелел до нашего времени, как не уцелели и одноэтажные флигельки, отгораживавшие «почетный двор» старинного усадебного здания, которое после многих переделок превратилось в модный ресторан. О том, как выглядело оно первоначально, ясное представление дает чертеж 1740-х из коллекции Берхгольца, хранящейся по воле случая в Стокгольме, а не в Петербурге, где бы ей надлежало быть. В ту пору дом с полным правом назывался дворцом и владел им генерал-прокурор князь Н.Ю. Трубецкой (1699–1767), только что переехавший в него после основательной перестройки и расширения. Ранее участок этот, простиравшийся по обе стороны моста, принадлежал графу Платону Ивановичу Мусину-Пушкину, сосланному в Соловецкий монастырь за участие в деле Артемия Волынского. Дом князя Н.Ю. Трубецкого 21 июля 1740 года рукою императрицы Анны Иоанновны была наложена утвердительная резолюция на прошение генерал-прокурора действительного тайного советника князя Никиты Трубецкого «о пожаловании ему каменного дома, бывшего графа Платона Мусин-Пушкина на берегу реки Мьи в вечное и потомственное владение». Две недели спустя князь выпросил себе вдобавок прилегавшее к дому обширное место, купленное в казну у корабельного мастера Филиппа Пальчикова, сделавшись таким образом владельцем огромного участка, не стоившего ему ни копейки. Впрочем, нет: царские милости, как и милости царских фаворитов, всегда стоили дорого, очень дорого, и Трубецкой знал об этом лучше кого бы то ни было. Сколько боли и унижений пришлось вынести ему от любимца покойного императора Петра II, распутного наглеца Ивана Долгорукого! Мало того, что тот открыто жил с его супругой Анастасией, но еще, напиваясь, в присутствии приятелей глумился над ним, законным мужем, по словам историка М.М. Щербатова, «с терпением стыд свой от прелюбодеяния жены своей сносящим». И это в чине генерал-майора и подпоручика Кавалергардского полка! Сносил это князь отнюдь не из христианского смирения, а из страха перед фаворитом, копя злобу на своего обидчика и надеясь когда-нибудь с ним поквитаться. И почти всегда такого рода надежды его оправдывались, и он упивался мстительной радостью, наблюдая за страданиями своих поверженных недругов. Род Долгоруких подвергся при Анне Иоанновне жестоким гонениям, а князь Иван кончил жизнь в страшных мучениях на плахе; тайно ненавидимый Трубецким граф Миних, с которым Никита Юрьевич из карьерных соображений добровольно делил супружеское ложе, уступая ему вторую свою жену (первая умерла в 1735-м), отбыл в долгую сибирскую ссылку. Другому врагу, фельдмаршалу С.Ф. Апраксину, генерал-прокурор лично помог отправиться на тот свет и был свидетелем падения его близкого приятеля, канцлера А.П. Бестужева-Рюмина, с которого собственноручно сорвал Андреевскую ленту. Н.Ю. Трубецкой Князь Трубецкой, о котором едва ли не единственный его друг и доброжелатель А.Д. Кантемир утверждал, что «он с нравом честным, тихим, соединял совесть чистую», не обременял себя даже чувством простой благодарности. Так, например, И.И. Неплюева, спасшего его некогда от подозрения в соучастии по делу Волынского, Никита Юрьевич, желая выслужиться, не постеснялся оклеветать и не захотел даже пальцем пошевелить, чтобы облегчить участь ни в чем не повинного С.В. Лопухина, который однажды помешал пьяному Ивану Долгорукому выбросить его в окно… Изо всех сил Н.Ю. Трубецкой стремился выказать преданность монархам, не щадя ради этого ни друзей, ни врагов. Такова была плата за неизменную царскую благосклонность, и она не казалась князю чересчур высокой. Никиту Юрьевича ценила императрица Анна, сделавшая его генерал-прокурором, и жаловала Елизавета, посетившая дом Трубецкого 14 октября 1750 года по случаю женитьбы Г.И. Головкина, племянника его покойной жены, на дочери начальника Тайной канцелярии графа А.И. Шувалова. Сам князь, предоставивший свои палаты на набережной реки Мойки для свадебного пира, был шафером со стороны жениха. Празднество удалось на славу. В саду горела иллюминация, а дом снаружи освещали многочисленные плошки. После ужина, затянувшегося до 2 часов ночи, начался бал, во время которого, по словам очевидца, «на хорах играли Итальянцы на музыке, и кастрат пел, при том Итальянец буфон пел разные… смешные песни. И оной бал продолжался до шестого часа по полуночи». В это же самое время в далеком сибирском остроге томился другой член семейства Головкиных, бывший вице-канцлер Михаил Гаврилович, родной дядя жениха, в осуждении которого главная роль принадлежала генерал-прокурору Н.Ю. Трубецкому. После восшествия на престол Елизаветы М.Г. Головкина, неудачного советчика свергнутой правительницы Анны Леопольдовны, два месяца продержали в крепости, а затем, истерзанного подагрой, внесли на эшафот, чтобы объявить о помиловании и ссылке… И вот тут-то оказалось, что кроме низости и предательства на свете существуют благородство и самопожертвование: жена графа, Екатерина Ивановна, единственная дочь покойного князя-кесаря И.Ф. Ромодановского, последовала за своим супругом в ссылку. Графиня отказалась от богатства и милостей императрицы, обещавшей ей свое покровительство и свободный доступ ко двору, если она отречется от мужа. Ее подлинными словами были: «Любила его в счастии, еще больше люблю в несчастий; всеподданейше прошу у ее величества одной величайшей милости: чтобы позволено мне было навсегда оставаться при нем неотлучно». Четырнадцать лет прожила она с больным мужем на краю света, в тесной бревенчатой избушке, а после его смерти в начале 1756 года испросила позволения похоронить графа на родине, проделав обратное путешествие, растянувшееся чуть ли не на год. Ей вернули часть утраченного состояния, и она поселилась в Москве, окруженная всеобщей любовью и уважением. В 1763 году Н.Ю. Трубецкой выхлопотал отставку, продал дом в Петербурге и тоже переселился в Москву, где через несколько лет скончался в ужасных мучениях, терзаемый физическими страданиями и угрызениями не совсем еще окаменелой совести. Говорят, что перед смертью он просил Екатерину Ивановну прийти к нему и, когда та явилась, бросился к ней в ноги, умоляя простить его за причиненное ей зло… А бывшая усадьба раскаявшегося грешника, переходя из рук в руки и постепенно меняясь, приняла наконец тот облик, который запечатлен на старой фотографии, чтобы затем навсегда исчезнуть под натиском неумолимого времени. Известно, что ласки и почести при дворе преходящи и переменчивы, а фавориты вроде упомянутого нами князя Ивана Долгорукого нередко кончали очень плохо. Однако это не обескураживало прочих соискателей, и освободившееся место тотчас же занималось другими. Сегодня – ты, а завтра – я Со смертью Петра I в России началась эпоха дворцовых переворотов с ее превратностями и потрясениями, когда власть всякий раз приходилось вырывать силой или хитростью, и закончилась лишь с восшествием на престол Екатерины II. И каждое новое царствование означало благоденствие для одних и гонения, а то и гибель для других. Как изголодавшиеся крысы, сбегались царедворцы на обманчивую и опасную приманку монаршего благоволения, хотя при очередной смене власти оно грозило им неисчислимыми бедами. Тут же набегала новая стая, жадно припадавшая к сладкому пирогу, и оторвать ее от этого приятного занятия мог только новый переворот. Вчерашние любимцы, лишенные своих необременительных должностей, отправлялись в холодную, малообжитую Сибирь, уступая насиженные места нетерпеливым собратьям… Два с половиной столетия назад на месте дворца графа К.Г. Разумовского на набережной реки Мойки, 48 стоял другой, деревянный, построенный Ф.Б. Растрелли для обер-гофмаршала графа Рейнгольда-Густава Левенвольде (1693–1758). Еще при жизни Петра I он был камер-юнкером его супруги и пользовался ее особым расположением, а когда та взошла на трон, получил вместе со старшим братом Карлом графский титул. С кончиной Екатерины I Рейнгольд удалился в свои лифляндские поместья, предоставив защиту семейных интересов брату. Тот вполне оправдал его надежды, зорко следя за событиями при дворе. В январе 1730 года, после смерти Петра II, Карл Левенвольде проведал о замыслах членов Верховного тайного совета ограничить самодержавие намеченной в императрицы курляндской герцогини Анны Иоанновны и незамедлительно известил об этом брата Рейнгольда. Дворец графа Г. Левенвольде на Мойке Тот поспешил в Митаву, прибыв туда сутками раньше, чем депутаты «верховников». Ему нетрудно было убедить Анну принять предлагаемые условия, чтобы затем при первом же удобном случае отказаться от них. Так оно впоследствии и случилось: разорванные напополам «кондиции» нашли приют в пыльном архиве, а доказавшие свою преданность братья Левенвольде заняли теплые местечки в кругу избранных. Если говорить о Рейнгольде, то он удостоился Андреевской ленты и придворного чина обер-гофмаршала, а в качестве более вещественного знака царской милости ему достался такой лакомый кусок, как управление соляными доходами. В результате его собственные доходы резко возросли, что позволило красавцу Левенвольде вести роскошный образ жизни, устраивая обильные пиршества и предаваясь любимому развлечению – крупной карточной игре. В 1734-м он купил усадьбу на набережной реки Мойки, по соседству с домом своей давней любовницы Н.Ф. Лопухиной; об их связи прекрасно знал ее муж, относившийся к этому с полнейшим спокойствием. Когда супруга английского посланника, леди Рондо, поздравила С.В. Лопухина с рождением младшего сына и осведомилась о здоровье его жены, тот улыбнулся: «Почему вы спрашиваете меня? Обратитесь к графу Левенвольде, ему лучше знать». Заметив на лице собеседницы изумление, он пояснил, что брак был заключен по воле Петра I, вопреки их желанию, и оба супруга помирились на том, что предоставили друг другу полную свободу… Хотя непомерное пристрастие к картам изрядно расстроило состояние графа, неоскудевавшие милости государыни позволили ему в 1739 году заказать Растрелли перестройку своего дома, которому был придан декоративный блеск, присущий этому мастеру. За домом простирался великолепный регулярный сад со всеми барочными изысками, включая фонтаны и скульптурные бюсты. Не многие в тогдашнем Петербурге могли похвастать такими садами! Р.Г. Левенвольде Что касается владельца дивной усадьбы, то испанский посол герцог Лирийский отзывается о нем весьма нелестно: «Граф Левенвольде… обер-гофмаршал, был такого дурного характера, каких я встречал мало. Счастием своим он был обязан женщинам. Ничто не останавливало его в достижении его намерения, и он не пощадил бы лучшего своего друга и благодетеля, если бы видел для себя какую-либо из того пользу. Честолюбие его и тщеславие простирались до высочайшей степени. Религии в нем совсем не было, и едва ли он верил в Бога; одна только корысть управляла им…Но вместе с тем он был ловок в обращении, хорошо служил и умел давать блестящие при дворе праздники; наконец в нем был ум и красивая наружность». С воцарением Елизаветы для графа Левенвольде, а затем и для Н.Ф. Лопухиной настали черные дни. Сразу же после восшествия «дщери Петровой» на престол он был заключен в крепость, предан суду и приговорен к смертной казни за то, что подговаривал правительницу Анну Леопольдовну объявить себя императрицей. Казнь заменили ссылкой в Соликамск с лишением чинов, орденов, дворянства и всех имений. За ним в скором времени последовала и Лопухина, вся вина которой состояла в том, что она передала узнику привет и посоветовала надеяться на будущее. Ее признали опасной заговорщицей, наказали кнутом, урезали язык и тоже отправили в Сибирь. Оттуда она вернулась только при Екатерине II, уже полоумной старухой, потеряв мужа и сына. Ее бывшему возлюбленному не суждено было дожить до освобождения… В апреле 1743 года Елизавета подарила опустевшее жилище Левенвольде другому ссыльному, только что обретшему свободу, тому, кто некогда научил ее искусству любви, поплатившись за эту близость годами заточения. Алексей Яковлевич Шубин (так звали нового хозяина дома) познакомился с цесаревной Елизаветой в 1726-м, когда ей не исполнилось и семнадцати, а он был простым солдатом лейб-гвардии Семеновского полка. А.Г. Разумовский Свою карьеру на первоначальном этапе Шубин закончил всего-навсего прапорщиком. Узнав некоторые подробности их романа, императрица Анна Иоанновна решила насолить ненавистной кузине и сослала ее возлюбленного в такое место, куда, по образному русскому выражению, ворон костей не заносил, женив вдобавок на какой-то камчадалке. Там он и пребывал до тех пор, пока его с превеликим трудом не отыскали и не доставили в столицу. Сердобольная царица поплакала над своим бывшим, увы, не похорошевшим за годы лишений дружком, произвела его «за невинное претерпение» из прапорщиков сразу в генерал-майоры, наградила богатыми поместьями, в том числе домом на Мойке, но тем и ограничилась. Что было, то прошло; новый фаворит (по преданию, с 1742-го – муж), Алексей Разумовский, не обремененный сентиментальными воспоминаниями, косо поглядывал на своего тезку, не желая терпеть соперника. Да и сам Шубин, изрядно одичавший в «степях Забайкалья», вовсе не стремился вернуть утраченное, вполне удовлетворившись произошедшей в его жизни благотворной переменой. В 1744-м он вышел в отставку с чином генерал-поручика и отбыл в свои новопожалованные владения, оставив подаренный ему дом государыне. Через пять лет Елизавета Петровна подарила «отписной (то есть конфискованный. – Л. И.) у обер-маршала Левенвольда двор на Мойке» в вечное и потомственное владение камергеру графу Кириллу Разумовскому. К.Г. Разумовский Брат тайного супруга императрицы, оторванный от пастушеских занятий, Кирилл Григорьевич в следующем году был избран гетманом Малороссии и в дальнейшем, подолгу проживая в Петербурге, довольствовался пожалованными ему деревянными хоромами. Но вот в 1760-м в «Санкт-Петербургских ведомостях» появилось объявление: «…Графа К.Г. Разумовского деревянный дом на каменном фундаменте желающим разобрать, перевезти и поставить на Крестовском острову… явиться могут в домовой канцелярии». Вскоре бывший дворец Левенвольде переехал на принадлежавший тому же Разумовскому Крестовский остров, а через несколько лет, окончательно обветшавший, был разобран. К тому времени на набережной реки Мойки выросло прекрасное каменное здание другого любимца Фортуны, от которого своенравная богиня слепого счастья никогда не отворачивала своего лица. Зато к другим она бывала куда как жестока… «Мы друг друга едим и тем сыты бываем…» В собрании архитектурных чертежей и рисунков Берхгольца есть лист, снабженный таким примечанием владельца: «Дом несчастного кабинет-министра Волынского, стоит на порядочном расстоянии от улицы и имеет большой дворовый плац…» На чертеже 1740-х годов изображены одноэтажные деревянные хоромы с колонным портиком при входе, к которому ведут несколько широких ступеней. Наружное убранство дома сравнительно скромное, хотя он, несомненно, принадлежал к достопримечательностям молодой столицы, почему и удостоился чести попасть в упомянутую коллекцию. Память об усадьбе мученически погибшего на плахе Артемия Волынского сохранилась в названии переулка, а место ее расположения отмечено громадным зданием ДЛТ – бывшего магазина Гвардейского экономического общества. Когда его строили в 1908 году, наткнулись на богатый клад серебряных и медных монет, которых нашли в разных местах более двух тысяч штук! Монеты оказались старинные, XVIII века. Возможно, они принадлежали первому владельцу участка, человеку далеко не бедному, вдобавок неусыпно заботившемуся о пополнении своих богатств любымисредствами. Впрочем, многие его современники грешили тем же и даже не ставили это себе в вину… Начав службу при Петре I, Волынский благополучно продолжал ее при его преемниках, успев побывать астраханским, а затем казанским губернатором. На обоих постах он проявил себя дельным, толковым администратором, но одновременно беззастенчивым взяточником и вымогателем, не знавшим удержу и меры. Такая двойственность характерна для большинства выдающихся деятелей той эпохи. Многие их поступки с нашей точки зрения выглядят просто чудовищными, так что Артемий Петрович отнюдь не являлся исключением. Ненавидя в душе хозяйничавших при дворе Анны Иоанновны немцев, он ради личной выгоды с готовностью им угождал: сначала льстил и подлаживался к фельдмаршалу Миниху, затем сблизился с обер-шталмейстером Карлом Левенвольде и поступил на службу в возглавляемое им ведомство. Его целью было добиться расположения фаворита императрицы, обер-камергера Бирона, страстного лошадника, чье будущее значение он вовремя угадал и на чем строил далекоидущие планы собственного возвышения. Дом кабинет-министр а А.П. Волынского В конце 1734 года Волынский производится в генерал-поручики и генерал-адъютанты царицы, получив в подарок место для построения дома на Мойке, вблизи царских конюшен. К тому времени он уже входил в круг любимцев Бирона, а значит, и самой государыни, которая назначает его обер-егермейстером, то есть заведующим придворной охотой. Учитывая охотничьи склонности Анны Иоанновны – пост значительный. К тому же в его руках осталось управление конюшенной канцелярией и всеми конными заводами с приписанными к ним волостями. Но Артемию Петровичу этого мало – он рвется к государственной власти, мечтая о должности кабинет-министра. Чтобы ее добиться, необходимо было доказать личную преданность Бирону, избранному в 1737 году герцогом Курляндским. Такая возможность вскоре предоставляется: он возглавляет суд над бывшим предводителем «верховников» князем Д.М. Голицыным и более других способствует его гибели. Жертвуя истиной в угоду герцогу и императрице, Волынский намеренно раздувает малейшие проступки обвиняемого в политические преступления и требует для больного старика смертного приговора, замененного заточением в Шлиссельбургскую крепость, где тот через несколько месяцев умирает. За этот «подвиг» следует награда: 3 апреля 1738 года «за особливые его превосходительства заслуги» Волынского назначают кабинет-министром. «Нам, русским, не надо хлеба, – любил говаривать Артемий Петрович. – Мы друг друга едим и тем сыты бываем…» А.П. Волынский Достигнув заветной цели и перелетев – по его словам – «через великий порог», он расширил круг общения, собирая у себя в доме людей, которых почитал единомышленниками или хотел видеть таковыми. Помимо ближайших друзей – Ф.И. Соймонова, П.М. Еропкина, А.Ф. Хрущова – среди его посетителей были президент Коммерц-коллегии граф П.И. Мусин-Пушкин, сенатор В.Я. Новосильцев, историк В.Н. Татищев, несколько гвардейских офицеров и даже два архиерея. Собравшиеся судили и рядили о судьбах России, читали политические и исторические сочинения, находя в них невыгодные аналогии с современностью, хулили императрицу и ее приближенных, в первую очередь, конечно, Бирона. Куда более привлекательными казались Артемию Петровичу государственные порядки в тогдашней Польше. «Вот как польские сенаторы живут, – не раз повторял он приятелям, – ни на что не смотрят, все им нипочем! Польскому шляхтичу сам король не смеет ничего сделать, а у нас всего бойся». При помощи своих «конфидентов» Волынский составляет проект переустройства России в ограниченную монархию, с сильным Сенатом и широким участием в управлении дворянского сословия, улучшением быта крестьян и развитием образования. И главное – правительство на Руси должно состоять из русских, потому что «от иноземцев государство всегда находится в худом состоянии». Наиболее влиятельным, а значит, и вредным из иностранцев, таким как Бирон, Остерман, Миних, обер-гофмар-шал Левенвольде, Артемий Петрович уготовил в будущем печальную участь быть повешенными. Пожалуй, это составляло наиболее сбыточную часть «генерального проекта», тогда как все остальное – лишь плод честолюбивых фантазий и необоснованных упований… Между тем реальная жизнь жестоко и неумолимо брала за горло самих заговорщиков. По городу поползли слухи о ночных сборищах у Волынского, о мятежных замыслах кабинет-министра и о том, что ему недолго осталось пребывать в своей должности. Императрица была им недовольна, и не скрывала этого. Растерянный и смущенный Артемий Петрович не знал, что делать. И тут судьба, казалось, сжалилась над ним, дав последний шанс. «Потешная» свадьба придворного шута князя М.А. Голицына с калмычкой Бужениновой, состоявшаяся 6 февраля 1740 года в Ледяном доме, позволила Волынскому в очередной раз проявить свою неистощимую изобретательность. Назначенный председателем «машкерадной комиссии», он постарался угодить государыне и ее любимцу выдумыванием самых диковинных подробностей свадебной церемонии. Правда, Артемий Петрович и здесь не сумел сдержать свой бешеный нрав, жестоко избив прямо в герцогских покоях бедного «пиита» Василия Тредиаковского, которому поручено было написать к свадьбе стихи, припомнив сочиненные когда-то в свой адрес пасквильные вирши. Враги Волынского – А.И. Остерман и князь А.Б. Куракин, настроившие против него Бирона, – не дремали. За получением щедрой и последней в его жизни награды в 20 тысяч рублей по случаю заключения мира с Турцией последовали внезапная опала, затем арест, пытки, униженное покаяние и публичная казнь на Сытном рынке перед глазами любопытствующей черни. Вместе с ним были обезглавлены его ближайшие сподвижники – Хрущов и Еропкин, другие же наказаны кнутом и плетьми. Какая странная и жестокая судьба! Страшная кара постигла этих людей не за содеянное ими, а за то, чего они не сделали и вряд ли могли сделать. Не исключено, что, предчувствуя скорый арест, Артемий Петрович укрыл часть денег в потайных местах, однако ни ему, ни его наследникам не суждено было воспользоваться ими. После гибели А.П. Волынского его конфискованный дом на набережной реки Мойки с богатой обстановкой выпросил один из ненавистных покойному министру немцев – барон Карл Менгден, назначенный вдобавок президентом Коммерц-коллегии вместо сосланного графа П.И. Мусина-Пушкина. Правда, ему не пришлось долго распоряжаться чужим добром: полтора года спустя императрица Елизавета отобрала у него дом, а самого барона отправила в Сибирь, где он и умер после восемнадцатилетней ссылки. Спрятанный прежним хозяином клад остался нетронутым… В 1860-х при устройстве нового Сытного рынка в земле на площади обнаружили другой, жуткий «клад» – множество человеческих костей и черепов, вероятно принадлежавших казненным здесь преступникам. Но среди них не было останков Артемия Волынского и его товарищей, чей прах покоится в ограде Сампсониевской церкви на Выборгской стороне. В том, что произошло с героями некоторых из рассказанных историй, можно усмотреть дьявольские козни. Но не всегда нечистый являл себя людям в таком неприглядном виде: порой он склонен был проявить великодушие… Крещенский матч… с чертом! В Симеоновском переулке (ныне ул. Белинского), рядом с одноименной церковью, стоит трехэтажный дом № 6 в стиле безордерного классицизма, принадлежавший некогда тому же храму. Он довольно почтенного возраста – ему за сто шестьдесят лет; но этот старец мог бы сойти за юнца в сравнении с тем, который прежде занимал его место: то был один из самых старых каменных жилых домов Литейной части, построенный еще в середине XVIII века. В начале 1800-х тогдашний хозяин участка, коллежский советник Кострецов, продал его действительному статскому советнику И.А. Соколову, нанимавшему квартиру в том же доме. Иван Алексеевич, редкий образец бескорыстия и неподкупности в чиновном мире, считался одним из лучших законоведов и одновременно слыл едва ли не первым шахматистом – по крайней мере, в Петербурге. Был, правда, один немец по фамилии Лауфер, который оспаривал у него эти лавры, но с ним в 1785 году от чрезмерного умственного напряжения приключился апоплексический удар. После этого Соколов долго оставался непревзойденным мастером шахматной игры. Улица Белинского, дом № 6. Современное фото Упражнялся он в ней ежедневно, с 4 до 10 часов пополудни, имея постоянных партнеров, посещавших его в урочные часы. Страсть Соколова к шахматам не поддается описанию. По словам его внука, старика можно было разбудить среди ночи и предложить: «А что, Иван Алексеевич, не сыграть ли нам партийку?» И он, несмотря на свои семьдесят лет, тотчас же вставал с постели со словами: «Да не поздно ли, любезный?» А между тем уже приказывал лакею принести шахматный столик. Жил он уединенно и замкнуто со старушкой-женой и двумя слугами – дворецким Федькой и камердинером Оськой. Помимо основных своих обязанностей, тот имел еще одну, крайне для него тягостную: играть с хозяином в шахматы. Если кто-нибудь из партнеров Ивана Алексеевича не являлся, Оська должен был его замещать, получая, правда, солидную фору. В случае победы, что бывало крайне редко, он награждался четвертаком (25 копеек. – Л. И.)’, при поражении же призывался Федька-дворецкий, и барин приказывал драть побежденного за хохол (Оська был из малороссиян), а сам в это время читал ему наставления в шахматной игре по системе боготворимого им Филидора. Весьма недовольный такими лекциями, Оська нашел наконец средство от них избавляться: к 4 часам он напивался до такой степени, что не мог отличить коня от слона. Тогда барин оставлял его в покое и играл сам с собой… Черт. Фрагмент рисунка А.Н. Толстого «Автопортрет с чертом». 1911 г. Об обстановке Соколовского дома и образе жизни владельца незадолго до его смерти можно узнать из письма одного современника. Оно относится к 1827 году, когда Иван Алексеевич уже овдовел и жилище его постепенно пришло в полный упадок. «Соколов величайший оригинал и чудак… Дом его, небольшой, каменный, возле церкви Симеона, есть настоящая древность в новом нашем городе. По обрушившейся деревянной лестнице должно взбираться к нему в комнаты, не мытые и не крашенные 35 лет, убранные деревянными стульями с переплетенным камышом. Краска давно исчезла на сих стульях и на сиденье большие прорехи! Занавесы, неизвестно какого цвета, и деревянные искрашенные столы составляют все украшения дома. Он ездит к должности в старой карете на паре тощих лошадей. Всем домом правит, и им самим тоже, лакей Осип, любимец барина и грубиян, с которым часто бывают забавные и оригинальные сцены». Как шахматистов Иван Алексеевич уважал лишь двух человек: некоего Кологривова, который мог заранее предсказать, в каком месте доски он поставит сопернику мат, да еще купца Манушкина, необычайно дорожившего пешками и умело проводившего оные в ферзи. После их смерти, не встречая достойных противников, старик затосковал и в то же время возгордился, возомнив себя непобедимым. Но один случай, приключившийся с ним как-то в крещенский сочельник (ночь с 5 на б января. – А. И.) заставил его навсегда умерить свою гордыню и, что самое удивительное, – на целых три года отказаться от шахмат! В ту памятную для него ночь, вернувшись из гостей в изрядном подпитии, Иван Алексеевич не лег спать, как поступил бы на его месте всякий другой, а уселся за разбор сложной шахматной партии. На колокольне Симеоновской церкви пробило полночь. Внезапно он услышал, что кто-то подъехал к воротам. Через минуту дверь в комнату распахнулась, и в нее вошел… черт, самый настоящий, с рогами и хвостом. Не теряя времени даром и давая хозяину опомниться, посланец ада предложил ему сделку: они играют три партии в шахматы; если Иван Алексеевич победит хотя бы в одной, то получит драгоценный магический перстень редкой красоты, если же проиграет все три, то обязуется три года не брать в руки шахмат. Как вы понимаете, Соколов согласился, и игра началась. Первую и вторую партии он быстро и позорно проиграл, но вот в третьей черту пришлось с ним помучиться. В конце концов, с помощью бесовских сил, нечистый все же одержал верх. В награду за проявленное упорство он все же на прощание подарил хозяину перстень; правда, не драгоценный, а всего лишь чугунный, но тоже, по уверению владельца, обладавший кое-какими волшебными свойствами. Какими именно, Иван Алексеевич не уточнял, но перстень всегда красовался у него на пальце, подтверждая достоверность этой невероятной истории. Похоже, что в следующем рассказе тоже не обошлось без лукавого, иначе трудно объяснить, как пришла в голову его герою столь хитроумная проделка… «Вот проповедница-лисичка…» Светлое пасхальное воскресенье 1832 года в доме члена Государственного совета И.В. Тутолмина ознаменовалось чрезвычайным происшествием: ему подкинули ребенка. Крошечного младенца мужского пола обнаружили под утро прямо на пороге недавно купленного Иваном Васильевичем у Е.Ф. Муравьевой особняка на набережной реки Фонтанки, 25. Прислоненный к небольшой шкатулке, малыш испускал пронзительные крики, явно недовольный своим положением. Когда суматоха, вызванная появлением невесть откуда взявшегося дитяти, немного улеглась, старик Тутолмин и его супруга Софья Петровна, урожденная графиня Панина, заглянули в шкатулку. Там они обнаружили дворянскую медаль 1812 года, серебряную шпору, красивую гипсовую руку и записку от матери вместе с посланием к сыну. Набережная реки Фонтанки, дом № 25. Современное фото В записке неизвестная сообщала, что обстоятельства вынудили ее пойти на столь отчаянный шаг. Отец маленького Алексея, дворянин из обрусевшего польского рода, без вести пропал после одной из стычек с мятежниками во время кампании 1831 года; оставшись одна, без всяких средств к существованию, убитая горем, она решилась прибегнуть к помощи людей, известных своим милосердием и благодетельными поступками, поручив судьбу несчастного младенца их заботам. Сердца бездетных старичков умилились. Утреннему событию предшествовала другая неожиданная радость: накануне праздника Иван Васильевич удостоился высшей царской награды – ордена Святого Андрея Первозванного. Нашлись догадливые люди, поставившие два этих события в прямую связь, во что, кажется, поверили и сами Тутолмины, охотно принявшие ребенка в лоно семьи и занявшиеся его воспитанием. Он получил отчество Андреевич – в честь ордена и фамилию Пасхин – в память дня своего появления в доме. Вскоре, в 1834 году, Софья Петровна отошла в мир иной, оставив любимому приемышу солидное состояние. Осиротевший вдовец еще сильнее привязался к мальчику и даже выхлопотал ему у государя баронский титул. Спустя пять лет И.В. Тутолмин последовал за супругой, поручив заботы об Алеше своему шурину и душеприказчику В.Д. Камынину. И.В. Тутолмин С.Д. Комовский Так, переходя с рук на руки, и рос новоявленный барон Пасхин. В 1850-м его приняли вольноопределяющимся в гусарский полк, затем перевели в гвардию. До самой смерти в 1863 году он служил офицером в аристократическом лейб-гвардии Гусарском полку. Такова необычайная судьба этого безродного баловня счастья, в котором многие подозревали высокое происхождение и которому суждено было прожить свой недолгий век в роскоши и изобилии. А между тем ничего особо загадочного в описанной истории нет, и всем своим благополучием Алексей Пасхин был полностью обязан пронырливой изобретательности своего подлинного отца – С.Д. Комовского, ровесника и соученика Пушкина. Еще лицеистом Сергей прослыл «благонравным, скромным, чувствительным», но в то же время «крайне ревнительным к пользе своей». Он обладал миловидной внешностью, чрезвычайной любовью к гимнастическим упражнениям (за его ловкость ему даже дали кличку Мартышка) и еще довольно странной в столь юном возрасте склонностью разыгрывать роль наставника. Если товарищи отмахивались от его назойливых поучений и душеспасительных бесед, Сережа не прочь был и слегка понаушничать, прибегая к помощи благоволившего к нему гувернера Чирикова, за что получил дополнительные прозвища Лисичка и Фискала. Смотрите – вот и наша птичка, Вот проповедница-лисичка, — распевали соученики о своем «добром пастыре». По окончании лицея Комовский не изменил наставническому призванию, определившись в Департамент народного просвещения. Впрочем, занятый им пост правителя канцелярии в Смольном институте благородных девиц вряд ли давал много возможностей для развития природных дарований маленького Тартюфа. Тем не менее скоро он почувствовал себя на своем месте, сделавшись, по словам очевидца, «истинной отрадой всех старых дев, служивших при институте». Это же подтверждал и бывший директор лицея Е.А. Энгельгардт, сообщавший в письме к лицеисту Ф.Ф. Матюшкину от 25 февраля 1829 года, что «Комовский-Мартышка живет как сыр в масле между дамами Смольного монастыря». В то же самое время любитель благочестивых проповедей заводит роман с одной из институтских горничных, плодом которого и было появление на свет в Великом посту будущего барона Пасхина. Заботливый родитель, проявив присущие ему хитроумие и находчивость, выбрал для своего «кукушонка» наиболее подходящее гнездышко: дом члена институтского правления И.В. Тутолмина, которого он хорошо знал. Не без труда уговорив свою сожительницу расстаться с младенцем, Комовский сочинил трогательное материнское послание. К нему он присоединил романтические атрибуты дворянского происхождения – медаль и шпору, а также слепок с женской руки; эти предметы призваны были напоминать маленькому сироте о том, что – говоря словами послания – отец его любил больше всего на свете. Спустя некоторое время у Алексея появился брат. На сей раз родители не стали его подкидывать, а просто отдали кому-то на воспитание. В 1841-м Сергей Дмитриевич уволился из Смольного института, покончил с запретными радостями и благополучно женился на графине С.Е. Комаровской, прижив с ней еще шесть отпрысков. Наставлений он больше уже не читал: роль Тартюфа была сыграна. А вот главному персонажу (язык не поворачивается назвать его героем) следующей нашей истории судьба не захотела в очередной раз помочь, и неприглядная правда о нем выплыла наружу… Драма на охоте Это случилось в канун Нового 1871 года и на несколько дней сильно растревожило общественное мнение столицы. 29 декабря, во время представления в петербургском Большом театре оперы «Аида», среди публики вдруг разнесся слух, что на императорской охоте убит егермейстер В.Я. Скарятин. На другое утро печальное известие подтвердилось; выяснились и кое-какие подробности происшедшего. В 25 верстах от Малой Вишеры Александр II с сыном Владимиром и несколькими ближайшими придворными охотились на медведя. Когда зверь выбежал на открытое место, царь и великий князь Владимир сделали по одному выстрелу, но промахнулись. После небольшой паузы раздался третий выстрел, а вслед за ним послышался стон и приглушенный возглас. Подбежавшие охотники обнаружили на окровавленном снегу смертельно раненного Скарятина. Присутстствовавший при этом обер-егермейстер граф П.К. Ферзей, ссылаясь на своего егеря Василия, заявил, будто бы несчастный сам себя ранил, случайно нажав на спусковой крючок ружья, которое тащил за ремень. В тот же день Скарятин, не приходя в сознание, умер. Между тем обстоятельства его гибели вызывали серьезные подозрения в правдивости слов графа и его егеря. Приведенный к присяге на повторном допросе, Василий признался, что Ферзей подбил его дать ложные показания, посулив ему за это тысячу рублей. На самом же деле пуля, убившая Скарятина, была послана графом. Отягчающим обстоятельством служил всем известный факт неприязненного отношения обер-егермейстера к своему подчиненному: как полагали, он завидовал ему, замечая усиливавшееся расположение к Скарятину со стороны государя. П.К. Ферзей Так что же это было, трагическая случайность или умышленное убийство? Прежде чем ответить, давайте ближе познакомимся с главным действующим лицом этой драматической истории. Граф П.К. Ферзей (1800–1884) был внуком заслуженного боевого генерала, разбившего в 1794-м войска Тадеуша Костюшко и взявшего самого «диктатора» в плен. Павел Карлович, последний крестник и тезка императора, не унаследовал полководческих талантов своего деда и, хотя больше десяти лет прослужил в гвардейской кавалерии, дальше ротмистра не пошел и чин полковника получил только при отставке. К тому времени он успел жениться и сделал это не совсем обычным образом. Его избранницей стала младшая дочь графини С.В. Строгановой, Ольга, которую он на романтический лад похитил из дому. Правда, поговаривали, что сделал это граф вовсе не из романтических соображений, а потому, что промотался в пух и хотел женитьбой поправить свое материальное положение. Очевидно, не рассчитывая на добровольное согласие матери, предприимчивый потомок тевтонских рыцарей решил не испытывать судьбу, а помочь ей склонить чашу весов в свою пользу. Расчет оказался верен: скандала в благородном семействе никто не желал… Подробности этого похищения, послужившего будто бы Пушкину сюжетом для его «Метели», содержатся в письме К.Я. Булгакова к брату от 2 июля 1829 года: «Вчера было происшествие в Строгановской семье. Графиню Ольгу увезли в ночи… Догадывались, что увез ее кавалергардский граф Ферзей, и не ошиблись. Когда графиня Софья Владимировна встала и о сем узнала, несмотря на горе, удивление и скорбь свою, поступила как умная женщина и добрая мать. Написала к дочери: прощаю, благословляю и ожидаю. Тем дело и кончилось. Они уже были обвенчаны». Николай I счел все же нужным наказать самоуправца, но сделал это мягко и, можно сказать, по-отечески: перевел из гвардии в Киевский гусарский полк. А уже через два года Ферзей вновь надевает кавалергардский мундир. Финансовые дела его тоже поправляются, чему способствует, помимо богатого приданого жены, весьма успешная и – главное – крупная картежная игра. Он умудрился обыграть на 300 тысяч самого фельдмаршала Паскевича, чем возбудил оживленные толки в обществе… Помогал ли Павел Карлович и в этом случае судьбе распорядиться благоприятным для него образом – утверждать не берусь, хотя в 1833-м он как-то неожиданно и поспешно, якобы по болезни, уходит из полка, а три года спустя определяется на гражданскую службу. С тех пор, до самой своей вынужденной отставки после рокового выстрела, граф занимал различные придворные должности. Отзывы людей, хорошо его знавших, далеко не похвальны. Вот один из них: «С самого начала своего служебного поприща он никогда не пользовался общим уважением, и молва о нем шла всегда недобрая. Он не гнушался никакими средствами, чтобы достигнуть видов своего честолюбия и корысти. Замечательно, что поразивший его удар разом лишил этого честолюбца всего, за что он держался так крепко в продолжении целой жизни: милости монаршей, возможности щеголять своими обедами, привычки собирать по вечерам людей, ищущих большую игру, и, наконец, той среды, в которой он прожил до семьдесят одного года. Следствие обнаружило истину действий неблаговидных Ферзена после смерти Скарятина и развязало языки его современников, из уст которых слышались печальные эпизоды этой жизни». Весьма осторожные выводы следственной комиссии клонились к тому, что Ферзей не имел намерения убивать своего коллегу, и это не более чем нелепая случайность, злая насмешка судьбы… Но похоже, Павел Карлович всю жизнь стремился по мере сил помогать судьбе и делал это довольно успешно. А может быть, таинственное Провидение захотело таким образом покарать сына одного из убийц Павла I, избрав своим орудием крестника покойного государя? Кто знает… По настоянию Александра II дело замяли, и П.К. Ферзен избежал уголовного наказания: боязнь скандала выручила его и на сей раз. Уволенный в отставку, он продал свой особняк на Английской набережной и уехал на родину предков, в Германию, где и умер в глубокой старости, пережив большинство участников описанных событий. Думаю, что в случае с графом Ферзеном дело обошлось без мистики, которой нам волей-неволей придется коснуться далее… «Новый иерусалим» в Озерном переулке Наступили времена увлечения мистикой, сектантством, лжепророками и лжеучениями; смута в головах, неуверенность в завтрашнем дне, крушение всего того, что еще недавно казалось прочным и незыблемым, – самая благоприятная почва для их буйного произрастания. Не удивлюсь, если наряду с новыми ересями вспомнят и о старых – например, о скопчестве, зародившемся еще в XI веке, но оформившемся в устойчивую религиозную секту лишь в XVIII. Ее идейным вдохновителем и организатором был простой мужик Кондратий Селиванов, провозглашенный хлыстами (религиозная секта. – А. И.), к которым он поначалу принадлежал, «богом над богами, царем над царями, пророком над пророками». Однако, начав проповедовать физическое оскопление как единственное средство уберечься от «блудного греха» и разврата, допускаемых хлыстовским учением, Селиванов не поладил с прежними единоверцами и основал собственный «корабль», то есть религиозную общину. В 1775-м Кондратий был подвергнут властями телесному наказанию и сослан в Сибирь, откуда бежал и в 1790-х появился в Москве, где объявил себя ни много ни мало чудесно спасшимся императором Петром III. Тем временем скончалась Екатерина II, и ее законный сын и наследник Павел Петрович пожелал взглянуть на своего мнимого родителя. Басков переулок, дом № 5. Современное фото Царское слово – закон, и в январе 1797 года самозванец предстал перед грозным владыкой. «Отец ли ты мне?» – отрывисто спросил Павел. И услышал дерзкий ответ: «Когда примешь мое дело, тогда признаю тебя за сына!» Царь решил, что говорит с безумцем, и велел посадить Селиванова в дом умалишенных, где тот и пробыл до самого восшествия на престол Александра I. В 1802-м, при посещении сего заведения, молодой император побеседовал со странным пациентом, нашел его речи вполне разумными (Кондратий больше не выдавал себя за царя) и распорядился перевести его в богадельню при Смольном монастыре. Через три года, по ходатайству богатых скопцов, многие из которых имели меняльные лавки, Селиванов был отдан на поруки члену секты и ее ученому идеологу А.М. Еланскому, поселившись у купца Сидора Ненастьева в Басковом переулке. В ту пору здесь стоял небольшой деревянный дом с мезонином и садом (участок дома № 5), каких было множество на тихих улочках и в переулках тогдашней почти окраинной Литейной части. Между тем слава «Искупителя», которому вдобавок приписывали чудесный дар пророчества, все росла. Доселе пустынный Басков переулок наполнился многочисленными каретами. Братья Сидор и Иван Ненастьевы, стоявшие во главе петербургского скопческого корабля, будучи людьми умными и осмотрительными, не требовали от новых членов секты немедленного оскопления, чем привлекали в свои ряды представителей всех слоев общества, в том числе и высшего. Молва о провидческом даре «старца» дошла наконец до царских ушей. В сентябре 1805 года, за несколько дней до отъезда к войскам антинаполеоновской коалиции, Александр I посетил дом Ненастьева, желая услышать предсказание пророка и даже будто бы заручиться его благословением. О том, что ответил Селиванов, можно узнать из популярной в свое время среди скопцов песни: Не даю благословенья Тебе, явному царю; Не ходи ты на войну: Без тебя врага уйму. Не исполнилася чаша Бонапартовых грехов; Придет время, недалеко, Покорю его тебе, Силу вражью сокрушу, Его царство разрушу. Не получив ожидаемого благословения, император все же отправился на войну, которую действительно проиграл, что, возможно, заставило мистически настроенного «явного царя» окончательно уверовать в скопческого пророка… Из пребывания новоявленного мессии в жилище Ненастьевых хозяева постарались извлечь максимальную выгоду, как для своего учения, так и для своего кармана. В 1811-м рядом с прежним деревянным домом возвели каменный, трехэтажный (ныне № 3), а там и еще один, на углу переулка. Но когда на участке начались строительные работы, Селиванов пожелал покинуть свой первоначальный кров. Сначала он переселился в дом другого единоверца, откуда в 1817 году перебрался в только что отстроенные хоромы бывшего приказчика Ненастьевых, М.Н. Солодовникова, на углу Знаменской и Озерного переулка. Басков переулок, дом № 3. Современное фото Скопцы, прозвавшие это место «Новым Иерусалимом», стекались сюда со всех концов России. Специально оборудованный молитвенный зал, где под пышным балдахином, на возвышении, восседал сам «небесный царь», вмещал до 600 человек. Полиция, разумеется, знала об этих сборищах и об изуверских операциях, производимых над людьми обоего пола, вовлекаемыми в члены секты, но до поры до времени помалкивала: скопцы, как и вообще всякого рода религиозные сектанты, пользовались покровительством властей и самого монарха. Спохватились лишь тогда, когда стало известно о многочисленных случаях оскопления среди солдат Петербургского гарнизона и о появлении в доме Солодовникова некой девицы редкой красоты, объявившей себя Богородицей и одновременно супругой великого князя Константина Павловича. 13 июля 1820 года Селиванов был взят под стражу и сослан на жительство в один из монастырей, где и умер двенадцать лет спустя. Но сама скопческая ересь отнюдь не была искоренена… Ф. Баганц. Озерный переулок. Начало 1860-х гг. Известный юрист А.Ф. Кони (кстати говоря, выступавший обвинителем по делу о скопцах) в своих «Воспоминаниях старожила», изданных в 1922 году, так описывает бывшее жилище Кондратия Селиванова: «В Озерном переулке существует до сих пор уединенный, с садом, обнесенным прочным забором, деревянный дом с мезонином…В этом доме до конца семидесятых годов (XIX века. – А. И.), а может быть и позже, был так называемый „скопческий корабль“, происходили радения и, вероятно, производились безумные членовредительства, основанные на ложном понимании слов Христа». На акварели Ф. Баганца начала 1860-х, изображающей Озерный переулок со стороны Знаменской улицы, справа, на первом плане, видна часть ограды и флигель солодовниковского дома. Главное здание стояло в глубине участка, занимаемого ныне детским садом. Хочется верить, что играющие в тени старых деревьев дети никогда не замутят свои души проповедями лжепророков, как те, кто некогда здесь обитал. Император остановился в бане В XVIII веке значение России как мировой державы постоянно и неуклонно возрастало. Начало военным и политическим успехам было положено еще Петром I, но высшей точки они достигли в годы правления Екатерины II. Все крупнейшие европейские державы наперебой стремились заручиться помощью и поддержкой русской императрицы. Именно при ней Петербург несколько раз посетили высочайшие особы, чего прежде никогда не бывало, если не считать редких приездов мелкопоместных немецких герцогов. Император Иосиф II К 1780 году доселе традиционно сильное прусское влияние при российском дворе начало заметно ослабевать; Екатерина стала склоняться к союзу с Австрией, которая способна была оказать ей содействие при столкновениях с Турцией. А они оказывались неизбежными: в ближайшие планы государыни входило присоединение Крыма к России, что, разумеется, не могло понравиться южному соседу, в более же отдаленной перспективе ей рисовалось взятие Константинополя и довольно фантастический проект восстановления Византийской империи под скипетром ее внука Константина. Тогдашний австрийский император и соправитель своей матери Марии-Терезии Иосиф II мечтал о свободе торговли на Черном море, чему активно препятствовала та же Турция. Таким образом, интересы России и Австрии в этом вопросе совпадали, а значит, имелись все резоны для возможного сближения. Иосифу пришла в голову мысль о встрече с русской императрицей, которая живо откликнулась на эту идею и пообещала никому о ней не сообщать, в том числе и старшему советнику Иностранной коллегии графу И.И. Панину, ярому стороннику союза с Пруссией. В апреле 1780 года император прибыл в Россию под именем графа Фалькенштейна. Свое путешествие он начал с города Могилева, где состоялось его первое свидание с Екатериной. Я намеренно употребил слово, имеющее двойной смысл: очень скоро их отношения приобрели характер взаимного расположения, почти влюбленности. Недаром императрица в одном из посланий (больше напоминающих дневник, чем письма) к своему постоянному корреспонденту и наперснику барону Гримму шутливо писала: «Белорусские политики, видя нас постоянно вместе, слушающих друг друга, решили, что мы женимся». Первое свидание прошло без свидетелей. Когда Екатерина вошла, Иосиф хотел поцеловать у нее руку, но императрица обняла его. Свои впечатления о встрече она высказала в восторженном письме к тому же Гримму: «Я бы никогда не кончила, если б начала хвалить его; это самая солидная, глубокая, ученая голова, которую я знаю». Иосиф в письмах к матери также говорит о возникшей между ними симпатии и дружеской откровенности, а также замечает, что ни одно из его прежних путешествий не имело такого значения, как поездка в Россию. Императрице без труда удалось уговорить его, помимо Могилева, посетить Москву и Петербург. О важности, какую придавала этому визиту Екатерина, говорит тот факт, что в его честь была выбита памятная медаль, украшенная характерным профилем высокого гостя и надписью: «Графъ Фалкенъ Стейнъ». 20 июня Иосиф прибыл в Царское Село. Он строго сохранял свое инкогнито, пожелав остановиться в импровизированной гостинице, устроенной для него при дворце, поскольку в своих путешествиях нигде, кроме как в трактирах, никогда не жил. Обожавшая подобные причуды Екатерина распорядилась, чтобы комнаты для гостя были оборудованы в новой бане, в мыльне их высочеств, где предварительно настлали пол. Банное здание украсилось вывеской «Постоялый двор», всю прислугу вырядили так, как это было принято в подобных заведениях, а роль трактирщика исполнил садовник Буш. Почивал австрийский император на привезенном с собой парусиновом мешке, набитом соломой. Приезд Иосифа совпал по времени с освящением Чесменской церкви, построенной по проекту Ю.М. Фельтена в редком для Петербурга псевдоготическом стиле. «Санкт-Петербургские ведомости» не преминули откликнуться на это событие: «В минувший вторник, т. е. 23 числа сего Месяца (июня), Ее Императорское Величество и Их Императорские Высочества изволили прибыть из Сарского села в сей Город, а на другой день изволили быть на освящении новой церкви в прежде называемом Кикерексине, которое того дня Е. И. В. изволила переименовать Чесмою, в память славной и безпримерной победы в 1770 году под Чесмою Российским флотом, одержанной под предводительством… графа А.Г. Орлова Чесменского, 27 Июня, в день Рождества святого Иоанна Крестителя, почему и церковь сия посвящена сему Святому. Церковное чинослужение отправлял Преосвященной Гавриил Новогородский и Санкт-Петербургский; при сем присутствовал и г. Граф Фалькенштейн». Придворный летописец императора, составивший описание его путешествия, говоря о Петербурге, отметил, что, когда осмотришь великолепные дворцы и другие постройки Северной столицы, нельзя не причислить ее к первейшим городам Европы. Пробыв здесь три недели, Иосиф отбыл в Финляндию. Расставаясь, австрийский император и русская императрица дали друг другу слово вести оживленную переписку и свое обещание сдержали. Состоявшаяся встреча стала исходной точкой истинной дружбы между ними, длившейся до самой кончины Иосифа II, последовавшей десять лет спустя… В начале июня того же 1780 года император писал из Смоленска матери: «Принц прусский приедет сюда в сентябре с целью испортить все то полезное, что удалось мне сделать». Одновременно английский дипломат Гаррис сообщил своему правительству, что императрице совсем не понравилось предложение прусского короля Фридриха II отправить в Петербург своего племянника, наследного принца Фридриха-Вильгельма. Тем не менее этот визит состоялся. Однако оказанный принцу прием совсем не походил на тот, которого удостоился Иосиф. На вечерах в Эрмитаже Екатерина почти не обращала на него внимания, относясь в то же время с подчеркнутой благосклонностью к ловкому и остроумному принцу де Линю, состоявшему на австрийской службе. В присутствии Фридриха-Вильгельма государыня заявила, что ежедневно вспоминает о графе Фалькен-штейне, и выразила сожаление о его отъезде. Разумеется, со стороны императрицы это была намеренная политика, призванная продемонстрировать, что союз с Пруссией больше не имеет для нее того значения, какое некогда имел. Принц, несомненно, чувствовал себя оскорбленным и униженным жалкой ролью, которую ему пришлось играть при русском дворе, и сознавал полный провал своей миссии. Кое-какое утешение он находил лишь в общении с цесаревичем Павлом Петровичем и его супругой, относившихся к нему очень тепло. Впрочем, великий князь, видимо подражая родителю, никогда не скрывал своих прусских симпатий; сказывалось и воспитание графа Н.И. Панина. В момент отъезда Фридриха-Вильгельма наследники русского и прусского престолов обменялись торжественными обещаниями вечной дружбы. Никаких политических последствий их дружба не имела: Павлу пришлось дожидаться короны еще долгих шестнадцать лет; Фридрих-Вильгельм II, оказавшийся, кстати сказать, плохим королем, умер через несколько месяцев после его вступления на престол. Как тебя отыскать, дорогая пропажа Чего только не теряют люди! Если взять на себя труд составить список наиболее удивительных и неожиданных потерь, то странное на первый взгляд выражение «потерять голову» почти утрачивает переносный смысл. Теряют всё: начиная от всевозможных предметов повседневного обихода – зонтов, бумажников с деньгами и без оных, кошельков, перстней, брошек и кончая женами, мужьями, детьми, собаками и кошками. Иногда теряют вещи, которые, казалось бы, уж никак нельзя потерять, – к примеру, тщательно сберегаемые бумаги и документы большой важности. Широко известен эпизод с потерей Н.А. Некрасовым, в то время редактором-издателем журнала «Современник», заполученной им с огромным трудом рукописи романа Чернышевского «Что делать?». Счастливый поэт, сумевший провести сей труд через все цензурные рогатки, никому не доверяя, лично повез его на дрожках в типографию – и умудрился по дороге обронить! Три дня подряд «Ведомости Санкт-Петербургской городской полиции» печатали объявление Некрасова о потере рукописи. На его счастье (и на беду многих поколений советских школьников, вынужденных заучивать наизусть «второй сон Веры Павловны»!), какой-то бедный чиновник нашел драгоценный сверток и вернул его владельцу. Еще более драматичной выглядит история утраты проектных чертежей каменных строений Новой Голландии, в том числе и знаменитой арки, без которой трудно представить себе этот отрезок Мойки. Случилось это весной 1766 года, после чего в «Санкт-Петербургских ведомостях» появилось нижеследующее объявление: «Находящийся в Адмиралтейской службе инженер Герард, учиненной Архитектором Деламотом, апробованной и подписанной коллегиею фасаду план строящимся в новой Голландии каменным лесным сараям, шед по дороге обронил; того ради ежели кто оной нашел, тот бы объявил государственной Адмиралтейской коллегии в экспедиции Интендантской без всякого опасения». Последние слова особо примечательны: вместо обещания награды тому, кто обнаружит и принесет ценнейший документ, виновный в его потере инженер Герард предлагает явиться «без всякого опасения», даже не заикнувшись о каком-либо вознаграждении! Оказывается, на то имелись свои причины. Дело в том, что после отстранения архитектора С.И. Чевакинского за допущенную им оплошность от работ по возведению Новой Голландии руководство строительством было поручено И. Герарду. Тому страх как не хотелось воплощать в жизнь весьма трудный для исполнения проект фасадов, разработанный Ж.-Б. Валлен-Деламотом, и он предложил взамен собственный, упрощенный вариант без арки, упорно настаивая на его осуществлении. Когда Адмиралтейств-коллегия сурово одернула Герарда, приказав ему не своевольничать и строить по утвержденным планам, тот не придумал ничего лучшего, как просто-напросто «потерять» их, поставив начальство перед необходимостью принять его проект. Но поскольку не заявить печатно о потере он не мог, то постарался лишить того, кто отыщет бумаги, всякой материальной заинтересованности, не без основания уповая на то, что вряд ли нашедший потащится куда-то просто так, с единственной надеждой совершить свой похвальный поступок без огорчительных для себя последствий. В итоге чертежи Деламота (если только они действительно были потеряны, а не уничтожены) так никогда и не отыскались, но, к разочарованию Герарда, в Адмиралтейств-коллегии имелся их дубликат, поэтому виновнику всей этой истории пришлось-таки строить по принятому ранее проекту, благодаря чему город не лишился одной из главных своих достопримечательностей. Другой случай, когда из-за своей рассеянности или забывчивости владелец особняка едва не лишился документов на право владения им, произошел с будущим героем Отечественной войны 1812 года А.П. Тормасовым. В 1808-м, незадолго до назначения главнокомандующим в Грузию, он затеял переезд из наемной квартиры в свой собственный дом, расположенный на углу Дворцовой набережной и Мошкова переулка. Что случилось вслед за этим, мы узнаём из опубликованного им в «Санкт-Петербургских ведомостях» объявления: «Сего года… в Апреле месяце при переезде Генерала от Кавалерии Тормасова из дому Князя Гагарина, что в большой Миллионной, в собственной его дом, на Дворцовой набережной под № 8 находящийся, обронен бумажник с разными бумагами, между коими находилась подлинная крепость на означенной дом, купленной им от придворного Балетмейстера Л епика, совершенная 1802 года Ноября 11 дня… Кто найдя оную крепость доставит к Генералу Тормасову, тому дано будет в награждение 50 рублей». Судя по довольно щедрой награде, ждать возвращения купчей долго не пришлось. А вскоре генерал, призываемый к новой службе в отдаленном краю, воспользовавшись вновь обретенными документами, продал уже не нужный ему дом гофмаршалу С.С. Ланскому, нуждавшемуся в качестве придворного в жилище неподалеку от дворца. Как говорится, все хорошо, что хорошо кончается! Каково житье, такова и смерть В последние минуты жизни человек обращается душой к самому главному; в эти моменты выявляется его подлинная сущность, порой тщательно скрывавшаяся. Одни предсмертные слова и поступки известных личностей входят в историю, а другие – в анекдоты. Взять хотя бы дядю А.С. Пушкина – Василия Львовича. Современники знали его как недурного поэта, писавшего, по выражению Вигеля, «плавными стихами», но еще более – как чрезвычайно забавного, легкомысленного человека. Он умудрился до старости сохранить повадки шаловливого дитяти и в весьма зрелом возрасте держался на равной ноге с безусыми юнцами. Доверчивость Василия Львовича не имела границ, становясь причиной бесчисленных дружеских розыгрышей. Достаточно вспомнить процедуру его приема в члены «Арзамаса», когда простодушного стихотворца, ссылаясь на будто бы обязательные для всех таинства посвящения, заставили облачиться в тяжелый, обшитый раковинами хитон и в таком виде проделать, к несказанному веселью присутствовавших, массу потешных обрядов. Однако «Арзамас» был обществом литературным, и В.Л. Пушкин почитал своим священным долгом к нему принадлежать; вот почему, хотя и морщась, он безропотно исполнил все требуемое, очевидно видя в этом жертву, приносимую на алтарь отечественной словесности. Свою бесконечную любовь и приверженность к ней Василий Львович доказал в свой смертный час, когда, увидев навестившего его племянника, слабеющим языком произнес: «Как скучны статьи Катенина…» Растроганный такой преданностью литературе, Александр Сергеевич на цыпочках направился к выходу, шепнув собравшимся: «Господа, пойдемте, пусть это будут его последние слова». Так оно и случилось. Князь П.А. Вяземский, который приводит слова В.Л. Пушкина на страницах своей записной книжки, и сам был верен литературе до гробовой доски: последняя запись, сделанная им в 1877 году, незадолго до смерти, содержит сравнительную оценку поэтов Державина и Хемницера. Много позже, в 1920-м, известный историк литературы и библиограф С.А. Венгеров, умирая, просил присутствовавших при его кончине Тынянова и Томашевского поговорить при нем о формальном методе… Один из весьма примечательных деятелей александровского и николаевского царствований, Дмитрий Васильевич Дашков (1784–1839), занимавший последние десять лет своей жизни пост министра юстиции, был не просто книголюбом, а книгоманом. «Человек с высоким образованием, литературным и ученым, – писал о нем М.А. Корф, – со светлым и обширным умом… с прямодушием, обратившимся у нас в пословицу, с увлекательным даром слова, ставившим его… в ряд истинных ораторов, наконец, с прекрасным пером, уступавшим разве только перу Сперанского…» Он один имел смелость возвратить Николаю I царское именное повеление, назвав его незаконным! Однако при всех своих многочисленных достоинствах Дашков страдал одним капитальным недостатком, сводившим на нет все остальное, – непреоборимой леностью. Произнеся в Государственном совете зажигательную речь по взволновавшему его поводу, он затем на недели и даже на целые месяцы запирался у себя дома, никого не принимая и предаваясь умственному запою – беспрерывному чтению. Ради этого он пренебрегал мнением общества, никому не отдавал визитов, поставив себя в какое-то исключительное положение. Конец Дмитрия Васильевича Дашкова оказался под стать его жизни. За полчаса до смерти он попросил, чтобы ему дали книги, и посвятил последние минуты своему любимому занятию… Подобную же преданность, но уже театральному искусству, продемонстрировал бывший директор императорских театров князь П.И. Тюфякин. По свидетельству того же П.А. Вяземского, удрученный предсмертными страданиями, ослабевший от болезни, он все же не утерпел, чтобы не поинтересоваться у одного из стоявших перед его ложем, танцует ли сегодня Плонкет (известная балерина того времени. – А. И.)? Можно по-разному относиться к личности князя, но нельзя не признать, что его любовь к театру (или к актрисам) заслуживает название подлинной страсти, которая могла остыть лишь со смертью. Его современник, обер-камергер и бывший командор Мальтийского ордена граф Юлий Помпеевич Литта, также был одержим всепоглощающей страстью – скупостью. Владелец огромных богатств, доставшихся ему после покойной жены Екатерины Васильевны, по первому мужу Скавронской, урожденной Энгельгардт (одной из племянниц князя Потемкина), он не имел прямых наследников и тем не менее находил нужным экономить на всякой мелочи, казавшейся ему разорительной роскошью. За час до смерти, зная от докторов, что надежды на спасение нет, граф пригласил священника, чтобы исповедоваться и причаститься. После окончания требуемых религией обрядов Юлий Помпеевич тут же приказал потушить зажженные по сему поводу свечи, чтобы зря не горели. Это стало его последним распоряжением. Другой вельможа, председатель Государственного совета граф В.В. Левашов, до самой кончины не переставал заботиться о своей внешности, велев похоронить себя в новом парике, не имевшем ни одного седого волоса. «Хочу и в землю лечь молодцом» – таковы были его последние слова. Но не все покидавшие этот свет были заняты столь суетными мыслями. Сенатор С.С. Кушников, которого историк Карамзин называл «героем благородства душевного», считая, что «Россия может гордиться таким сенатором, а человечество – таким человеком», был разбит параличом в день смерти М.М. Сперанского, 11 февраля 1839 года. Невзирая на собственное тяжелое состояние, он нашел в себе силы поинтересоваться у доктора Н.Ф. Арендта здоровьем графа. Услышав, что тот очень плох, Кушников взволнованно проговорил: «Бросьте меня, Николай Федорович, идите спасать его: я человек обыкновенный, таких много у государя, а другого Сперанского нет!» Через несколько дней не стало и самого Кушникова. Его самоотверженное поведение напоминает А.С. Пушкина, который накануне своей смерти, забывая о себе, попросил передать соболезнование Н.И. Гречу, только что потерявшему сына. В заключение хочется напомнить о прекрасной кончине сочинителя духовной музыки Д.С. Бортнянского. Почувствовав, что приближаются его последние минуты, Дмитрий Степанович вызвал к себе на дом певчих, своих учеников. Окружив постель умирающего, они исполнили написанный мастером его любимый концерт «Векую прискорбна еси, душе моя». С последними звуками концерта сердце композитора перестало биться… Власть одержала победу На всем протяжении отечественной истории на Россию периодически обрушиваются то войны, то эпидемии, порой то и другое одновременно. В 1831 году на повестке дня значились: подавление Польского восстания и страшная, впервые посетившая здешние места болезнь, которую медики называли по-латыни: cholera morbus, а обыватели – просто холера. Появилась она нежданно-негаданно на южных окраинах Российской империи, в Астрахани, еще в сентябре 1823 года, занесенная туда из Индии, но благодаря ударившим вскоре сильным холодам не приняла тогда масштабов эпидемии. После этого наступило затишье. Только через шесть лет холера вновь дала о себе знать сначала в Оренбурге, затем снова в Астрахани. В июне 1830-го она быстро распространилась по Дагестану и Грузии, перебросилась в Кизляр, а вслед за ним – на все Поволжье и достигла Москвы. Весной следующего года эпидемия охватила уже всю Россию, включая Петербург. Очевидец тех далеких, но памятных событий вспоминал: «Страх и опасения жителей возросли до крайней степени. Нельзя вообразить себе теперь ужаса, который возбуждали эти известия. Холера никогда не появлялась прежде в Европе, где знали только о неимоверной смертоносности, с которою она свирепствовала в Индии, но где свойства ее и способы лечения были совершенно неизвестны. Находили вообще, что одни только самыя строгие карантинные меры могли остановить бедствие. Известные иностранные врачи и ученые поддерживали это мнение и возлагали на русское правительство все надежды для предохранения Европы». А оно повело себя по отношению к народу так, как поступало всегда в подобных случаях: не опускаясь до каких бы то ни было объяснений и уповая лишь на меры принуждения. Повсюду, где надо и не надо, появились карантиные заставы, нарушившие привычное течение жизни, внесшие повсеместно смуту и расстройство, но мало повлиявшие на быстрое распространение заразы. То здесь, то там на этой почве вспыхивали стихийные волнения. Глубокое, можно сказать, врожденное недоверие простонародья к действиям властей приводило к возникновению самых нелепых слухов, которые немедленно подхватывались и разносились повсюду. Интересные замечания по этому поводу высказывает в своей записной книжке князь П.А. Вяземский: «Любопытно изучать наш народ в таких кризисах. Недоверчивость к правительству, недоверчивость совершенной неволи к воле всемогущей сказывается здесь решительно. Даже и наказания Божия почитает она наказаниями власти. Во всех своих страданиях она так привыкла чувствовать на себе руку владыки, что и тогда, когда тяготеет на народе десница Вышнего, она ищет около себя или поближе под собою виновников напасти. Изо всего, изо всех слухов, доходящих до черни, видно, что и в холере находит она более недуг политический, чем естественный…» Недоверие к властям и в то же время привычка к слепому повиновению «монаршей воле» в полной мере нашли свое выражение в так называемом «холерном бунте» на Сенной площади. Летом 1831 года болезнь пришла в столицу. Население охватила паника: те, кто побогаче, пытался найти укрытие от нее в загородных имениях или, на худой конец, наглухо запершись в городских особняках. Так поступали многие, но немногим это помогло. К примеру, бывшего статс-секретаря и сенатора П.С. Молчанова смерть настигла за стенами его дома на Владимирском проспекте, где он надеялся обрести убежище, никого к себе не допуская. Отставной новороссийский генерал-губернатор граф Ланжерон, не раз проявлявший на полях сражений совершенное хладнокровие и мужество, перед лицом незримого врага также проявил непонятное малодушие: думая, по-видимому, найти спасение в столице, он приехал сюда из Одессы и в скором времени сделался добычей прилипчивой хворобы. Продолжавшиеся в ту пору военные столкновения с восставшей Польшей давали дополнительную пищу для самых фантастических предположений. В народе стали распространяться слухи, что не болезнь, а отрава губит людей, что скрывающиеся в Петербурге польские агенты и другие злоумышленники подсыпают яд в муку и воду, что врачи, состоя в заговоре с полицией, насильно сажают здоровых в больницы и напрасно их мучат. Как видно из полицейского донесения, 22 июня «толпы разного рабочего люда, взбудораженные этими россказнями, побросали свои обычные занятия, предались пьянству и начали шататься по улицам, останавливая, обыскивая и обирая прохожих, подозреваемых в отравлении». В конце концов они ворвались в помещение временной лечебницы на Сенной, учинили там разгром и вышвырнули больных, причем нескольких человек лишили жизни, в том числе одного врача, выброшенного из окна верхнего этажа. После получения сообщений о совершающихся «буйствах», когда даже прибытие военного генерал-губернатора не смогло укротить взволнованную толпу, министр внутренних дел А.А. Закревский настоял на необходимости незамедлительно прибегнуть к вооруженной силе. Вместе с князем И.В. Васильчиковым он отправился в казармы Преображенского полка, откуда они повели батальон с артиллерийским орудием к Садовой улице. Но к тому времени войска, приведенные генерал-адъютантом В.А. Перовским из гораздо ближе расположенных Измайловских казарм, уже успели прибыть на Сенную площадь и без труда рассеяли мятежные сборища. Ночь в столице прошла спокойно. Император Николай I своим присутствием усмиряет холерный бунт в Санкт-Петербурге в 1834 году Однако на следующее утро огромные массы народа снова собрались на прежних местах, и лишь прибытие в то утро Николая I и его появление среди взбудораженной толпы на Сенной площади со словами по-отечески строгого вразумления водворили относительное спокойствие и прекратили беспорядки: авторитет самодержавного владыки еще не был поколеблен, как это случилось в позднейшие времена, и слова его обладали магической силой воздействия. Возможно, кому-то захочется узнать, что же это были за слова, способные унять ярость взбунтовавшейся «черни». Свидетельство очевидца в лице генерал-адъютанта князя А.С. Меншикова, находившегося в тот момент рядом с императором, донесло их до нас. Вот они: «Вчера учинены злодейства, общий порядок был нарушен. Стыдно народу русскому, забыв веру отцов своих, подражать буйству французов и поляков; они вас подучают, ловите их, представляйте подозрительных начальству. Но здесь учинено злодейство, здесь прогневали мы Бога, обратимся к церкви, на колени и просите у Всемогущего прощения!» В наше время за такие речи можно было бы привлечь к уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни, но тогда они произвели совсем иное впечатление. Как следует из дальнейшего рассказа Меншикова, «толпа опустилась на колени и с умилением крестилась. Государь тоже. Слышны были отдельные восклицания: „Согрешили, окаянные!“ В одну секунду все было забыто: и отсутствие должной медицинской помощи, и безобразный произвол полиции, забиравшей в холерные бараки всех подряд, а потом за взятки отпускавшей только тех, кто смог откупиться, словом, все то, что и послужило поводом к беспорядкам!» Впрочем, среди умиленно внимавших царским речам, как водится, нашлось несколько «смутьянов», не пожелавших утихомириться и продолжавших громко выражать возмущение действиями властей. Против них был употреблен всегда безотказно действовавший на толпу прием: демонстрация личной неустрашимости. Не вдаваясь в объяснения по существу, император гневно воскликнул: «До кого вы добираетесь, кого вы хотите, меня, что ли? Я никого не страшусь. Вот я!» – и указал себе на грудь. Народ в восторге и слезах закричал «ура», а удовлетворенный царь поцеловал одного старика и сказал: «Молитесь и не шумите больше», после чего покинул площадь. Правда, на другой день беспорядки продолжились, – ведь не всем удалось пообщаться с императором и на себе испытать обаяние его личности, так что государю пришлось еще раз побывать в городе и вновь увещевать народ. К концу августа, с наступлением холодов, холера прекратилась сама собой, а в скором времени управились и с повстанцами. Власть одержала победу, все осталось по-прежнему. До следующей эпидемии, до очередного восстания. Поминать о холере, да еще с осуждением «начальства», стало делом небезопасным. Тот же князь П.А. Вяземский приводит такой анекдотический, но, по-видимому, вполне правдивый случай. Как-то раз известный поэт и одновременно крупный чиновник И.И. Дмитриев повстречался на почтовой станции с одним господином, которого сопровождал жандармский офицер. Улучив свободную минуту, Дмитриев спросил его, за что ссылается проезжий. «В точности не могу доложить вашему высокопревосходительству, но, кажется, худо отзывался насчет холеры». Восток – дело тонкое 1805 год выдался не самым удачным для русской политики и дипломатии, стремившихся к активным действиям не только на западе, но и на востоке. Антинаполеоновская коалиция, образованная по инициативе молодого государя Александра I, не смогла добиться поставленной цели, потерпев сокрушительное поражение под Аустерлицем, дипломатическая миссия под руководством Н.П. Резанова, хотя и под вежливыми предлогами, но так и не получила желанного доступа на Японскую землю, окончательный же конфуз ожидал русских посланцев в Китае. Надо сказать, что отношения с этой загадочной страной вообще складывались далеко не лучшим образом. Еще в XVII веке слухи о необыкновенном богатстве Амурского края, доходившие до русских ушей, заставляли жадно разгораться глаза предприимчивых искателей наживы. Особой удачливостью и напором среди отечественных конкистадоров, которых в России именовали землепроходцами или «прибытчиками земель сибирских», отличался крестьянин Ерофей Хабаров. С разрешения начальства, но на свой страх и риск, он совершил с 1649 по 1653 год несколько успешных походов в Даурию, иными словами в Забайкалье и Приамурье. В частности, Хабаров отнял у туземцев поселение Албазин, сделав его своим опорным пунктом для дальнейших набегов. Так на левом берегу Амура возникла русская крепость, ставшая на некоторое время камнем преткновения в русско-китайских отношениях. Китайцам очень не понравилось появление у самых границ их империи опасных чужеземцев, и они яростно этому воспротивились. В 1685 году 15-тысячное китайское войско осадило Албазин, вынудив русского воеводу Толбузина сдать город, который был сожжен. Однако, получив подкрепление в Нерчинске, воевода осенью того же года возвратился и восстановил крепость. Китайцы, явившиеся на сей раз в половинном против прежнего количестве, вновь обложили «острожек», но, узнав, что в Китай направляется русское посольство, сняли осаду. После долгих, изнурительных переговоров посол Ф.А. Головин, не допущенный в пределы «срединного царства», заключил в 1689 году в Нерчинске весьма невыгодный для России договор, закреплявший потерю захваченных ею земель в Приамурье и признававший границей между государствами реку Аргунь и Становой хребет. Албазин и окружающее его воеводство пришлось упразднить, – в ту пору русские не имели возможности вступать в войну с Китаем. Тем не менее попытки наладить торговлю с восточным соседом никогда не прекращались: через семь лет был снаряжен первый караван с казенными товарами, а летом 1719 года Петр I, никогда не упускавший из виду выгоды России, отправил в Китай своего посла, капитана гвардии Л.В. Измайлова, для установления регулярных торговых связей. При этом государь без колебаний пожертвовал личными амбициями, согласившись поставить в грамотах имя богдыхана выше своего. Прибыв в мае следующего года в Иркутск и прождав более полугода на русско-китайской границе, 18 ноября русское посольство прибыло наконец в Пекин. Измайлов удостоился многократных милостивых аудиенций императора, добившись права оставить при его дворе своего резидента Ланга. Однако сразу же после прибытия торгового каравана из России возникли разногласия с китайской стороной, и летом 1721 года Ланг оставил китайскую столицу… Через несколько лет, когда Петра I на престоле сменила его супруга Екатерина I, русское правительство предприняло новое дипломатическое наступление на Восток. В 1725-м в Китай был отправлен посол – граф Савва Лукич Рагузинский-Владиславич, по национальности серб, уроженец города Рагуза (Дубровник), дипломатический агент и тайный советник покойного царя. В течение трех лет он исполнял посольские обязанности и, по свидетельству дюка де Лириа, «сумел восстановить торговлю и доброе согласие между Россиею и Китаем, кои несколько лет находились в таком расстройстве, что не знали, как и пособить этому. Но граф Савва, преодолев врожденную недоверчивость и хитрость китайцев, успел заключить с ними весьма выгодный для России трактат, сумев преодолеть врожденную недоверчивость китайцев». В 1727 году Рагузинский подписал так называемый Буринский, а затем и Кяхтинский договоры, которыми устанавливалась русско-китайская граница от перевала Шабин-Дабата в Западном Саяне до реки Аргунь, сохранявшаяся на протяжении последующих ста тридцати лет. Все это время торговые отношения между государствами поддерживались с переменным успехом, то почти полностью прекращаясь, то вновь оживляясь. Ю.А. Головкин Зато в Кяхте процветала частная торговля – не особенно выгодная для казны, зато чрезвычайно прибыльная для русских купцов. Боясь ее лишиться, они не желали никаких перемен, распространяя слухи о несокрушимом могуществе китайцев, а правительство верило им на слово. Все доклады сибирских генерал-губернаторов о необходимости добиться переноса границы с Китаем и проведения ее по левому берегу Амура откладывались, что называется, «под сукно», до лучших времен. И вот, казалось, такой момент наступил. «В феврале месяце 1805 года, – рассказывает в своих «Записках» Ф.Ф. Вигель, – все начали толковать о посольстве, отправляемом в Китай. В аристократическом мире только о том и было разговоров; потому что знатный барин… граф Юрий Александрович Головкин назначен был чрезвычайным и полномочным послом. Столь многочисленного посольства никогда еще никуда отправляемо не было: оно должно было составиться из военных, ученых, духовных лиц и гражданских чиновников разных ведомств. Чего же лучше? – сказал я себе и, много не подумав, начал проситься о причислении меня к свите сего посольства». Желание юного претендента было удовлетворено: под именем дворянина посольства он получил место канцелярского служителя. Благодаря этому счастливому обстоятельству мы имеем возможность на страницах его «Записок» подробно ознакомиться как с участниками этой дипломатической миссии, так и с ее конечными, весьма плачевными результатами. Уже один выбор главы посольства говорит о легкомыслии тогдашней правящей верхушки и полном непонимании ею существа вопроса. Кто-то краем уха слышал, что китайцы – самый церемонный в мире народ, – значит, надо послать к ним обер-церемониймейстера, каковым и являлся на ту пору граф Ю.А. Головкин. «С поверхностными познаниями, кои он имел, – пишет Вигель, – мог он в обществе, где никогда не углубляются в обсуживаемые предметы и скользят по ним, казаться сведущим во всех науках. Только в делах это было все ничтожество русских знатных господ новейших времен. Зато что за выход, что за важность, что за представительность!» Секретарем посольства назначили бывшего гвардейского офицера Л.В. Байкова, совершенно не сведущего в делах, зато обладавшего большой наглостью и самомнением. По мнению Вигеля, выбор начальства мог объясняться лишь следующими соображениями: «Он умел к кому захочет подольститься, ничего не стыдился, не знал совести, лгал без милосердия. Как же ему было не провести или, попросту сказать, не надуть китайцев?» В чаянии подстерегавших путешественников многотрудных испытаний посол самолично составил для них длинную, подробную инструкцию, разумеется на французском языке (русского он не знал), которая с большим успехом могла бы пригодиться при исследовании дебрей Экваториальной Африки. Отправившись в путь летом, лишь на исходе сентября посольство достигло Иркутска, а затем Кяхты. Начались длинные и бесплодные переговоры Головкина с китайцами, не желавшими впускать чересчур многочисленную, на их взгляд, посольскую свиту в пределы своей империи. Наконец, после бесконечных унизительных уступок, русская миссия прибыла в Ургу, где состоялась передача подарков и обмен взаимными учтивостями. О дальнейшем рассказчик поведал весьма красочно и подробно: «Посол более, чем когда-либо, старался показать европейскую ловкость и любезность. Но китайцы (если позволено мне сделать весьма неблагородно и часто употребляемое сравнение) в этом деле столь же плохие судьи, как свиньи в апельсинах. Гораздо полезнее было бы послать к ним какого-нибудь увальня: его истуканству они охотнее стали бы поклоняться. На Головкина и Байкова смотрели мандарины как на фигляров, им на смех присланных, и с каждым днем начали умножать свои требования; терпение бедного посла подвергнуто было жесточайшим испытаниям. В один день, по полученным из Пекина наставлениям, приглашен был он… на какое-то празднество; тут предложена ему была репетиция того церемониала, который должен был он соблюсти при представлении императору. В комнату, в которой поставлено было изображение сего последнего (полно, верить ли тому?), должен был он войти на четвереньках, имея на спине шитую подушку, на которую положится кредитная его грамота. Он отвечал, что согласится на такое унижение тогда только, как получит на то дозволение от своего двора; может быть, надеялся он испугать китайцев твердым намерением долго жить на их счет. На другой день все подарки, им сделанные, в сундуках и ящиках были не выставлены, а брошены перед его посольскою палаткой. После того ему ничего не оставалось более, как ехать в Сибирь дожидаться приказаний двора своего». Ю.А. Головкина постигла опала: ему велено было оставаться в Иркутске до тех пор, пока его не вызовут. Граф смог вернуться в Петербург лишь после того, как все его подчиненные были отправлены на родину. Таким оказался печальный итог многомесячных и совершенно напрасных мытарств. В течение последующих пятидесяти лет русско-китайские отношения не сдвинулись с мертвой точки, пока, наконец, самоотверженными усилиями замечательного исследователя, капитана Г.И. Невельского, на берегах Амура не был поднят русский флаг. С горсткой плохо вооруженных людей, воодушевленных лишь патриотизмом и сознанием долга, он сумел в течение двух лет добиться того, чего Россия не могла добиться в течение предыдущих двух столетий. Но это уже другая история… Глава 6 Личности «Птенец гнезда Петрова» Набережные Васильевского острова изобилуют старинными зданиями, и это неудивительно: именно здесь, по мысли основателя, надлежало быть центру нового столичного града «Санкт-Питербурха». И вот вслед за «полудержавным властелином» А.Д. Меншиковым, кто по охоте, а большинство по неволе, тогдашние «именитые люди» принялись возводить свои жилища на южном берегу Васильевского острова и в новопроложенных линиях. Строились по указанному плану, составленному в 1716–1717 годах французским архитектором Ж. Леблоном, но по причине скорой его кончины в неприветливой Северной столице строительство продолжалось уже под наблюдением Д. Трезини. Разработанные им образцовые проекты домов не отличались особым разнообразием, да этого и не требовалось. Задача состояла в другом – заселить пустынные места, сделать их оживленными, обитаемыми. Чертежи начала 1740-х годов из стокгольмской коллекции Берхгольца донесли до нас первоначальный облик зданий, многие из которых остались узнаваемыми и по сей день, несмотря на все архитектурные перевоплощения. На углу набережной Лейтенанта Шмидта и 7-й линии стоит хорошо известный «дом академиков», а рядом с ним – невысокий особнячок с балконом, поддерживаемым четырьмя колоннами (дом № 3). Построен он немного позднее своих соседей, в 1730-х, но в основе его лишь слегка измененный трезиниевский проект образцового дома «для именитых»: в семь осей, двухэтажный, на высоких погребах, с подчеркнутой центральной частью. Эти изначально присущие ему черты здание сохранило до сих пор, хотя к ним прибавилось кое-что новое. Набережная Лейтенанта Шмидта, дом № 3. Современное фото В 1823 году, при перестройке архитектором В.И. Беретти, крыльцо уступило место колонному портику, и тогда же весь дом приобрел ампирный вид; а еще пятьдесят лет спустя, в эпоху эклектики, Р.А. Гедике, по желанию тогдашнего хозяина участка Л.К. Эстеррейха, придал особняку стилевые черты раннего французского классицизма, мало изменившие его наружность. Примечательна личность первого владельца дома, который его и построил, – Конона Никитича Зотова (1690–1742). Он был сыном учителя и дядьки Петра I Никиты Моисеевича Зотова, исправлявшего под конец жизни в угоду царю малопочтенную должность князь-папы пресловутого «всепьянейшего собора», близкую к роли шута. У старика было трое сыновей от первого брака; из них средний, Коной, особенно выделялся яркой, самобытной индивидуальностью и, не в пример отцу, твердым характером. Дом К.Н. Зотова, чертеж XVIII в. Получив начатки образования в Морском училище, он был по собственной воле послан в 1704 году в Англию для усовершенствования в избранном деле, чем доставил немалое удовольствие Петру, одобрившему вслед за тем его желание послужить в британском флоте. Прочтя письмо юноши, адресованное отцу, в котором Конон просил позволения исполнить свое намерение, обрадованный царь тут же осушил кубок венгерского за здоровье первого охотника и собственноручно написал ему ответ. Проплавав несколько лет на английских судах, Конон Зотов вернулся в 1712-м на родину и продолжил службу в русском флоте. Произведенный в поручики, он поступил под команду адмирала Н. Синявина, чья эскадра крейсировала в Финском заливе. Но уже в январе 1715 года, в чине капитан-лейтенанта, молодой офицер вновь отправляется за границу – на сей раз во Францию – для сбора подробных сведений о состоянии тамошнего флота и приискания специалистов в «шлюзном деле». Однако неугомонный и энергичный посланец не ограничивается этими поручениями и в своих донесениях государю то и дело затрагивает все новые и новые проблемы, не забывая, впрочем, извиняться за непрошеные советы. В одном из посланий Конон Никитич рекомендует Петру I послать во Францию для изучения юриспруденции нескольких русских, «только не из породных, – добавляет он, – для того что всегда породные презирают труды, хотя по пропорции их пород и именья должны также быть и в науке отменны пред прочими». В другом письме он советует царю последовать примеру Людовика XIV, который, «чтобы государство обогатить и матросов расплодить», объявил, что крупная торговля не роняет дворянской чести, сам посылал за море корабли с товарами и «ближним людям указал то же чинить». С 1716 года Зотов по собственной инициативе начинает переговоры о заключении торгового соглашения с Францией, невзирая на противодействие некоего Лефорта, племянника бывшего любимца Петра, хлопотавшего об основании компании, наделенной выгодными для французов, но не для русских привилегиями. В своем усердии о благе России Конон Зотов порой чересчур увлекался, далеко выходя за пределы отпущенных ему полномочий. Так было, когда он на собственный страх и риск затеял с маршалом д’Этре разговор о женитьбе царевича Алексея на одной из французских принцесс. Приводя Петру I свои доводы в пользу такого брака, Конон Никитич подчеркивал, что «сею женитьбою швед был бы вовсе отрезан», а кроме того, по его мнению, придворные французской принцессы «могли бы ввести у нас в обычай учтивое обхождение, а государь чрез нее все науки мог бы привести в Россию». Однако царь иначе взглянул на это дело, и Зотов получил строгий выговор и предписание заниматься лишь тем, что ему поручено. Тогда он обратил внимание на бедственное положение русских гардемаринов, обучавшихся во Франции и не получавших достаточного довольствия. «Легче было бы видеть их смерть, нежели такую срамоту нашему отечеству, и лучше бы было их перебить, что поросят, нежели ими срамиться и их здесь с голоду морить», – с горечью писал Конон Никитич в своем очередном послании. «Я от своей ревности все, что имел при себе, им роздал: парик, кафтан, рубахи, башмаки и деньги, одним словом, себя разорил», – заключал он с немного наивным самохвальством в духе своего времени, за которым все же видна непритворная забота о несчастных соотечественниках. Вернувшись в 1719-м в Россию, Зотов продолжил активную службу на пользу царю и отечеству, протекавшую при его горячем и дерзком нраве не без приключений. Тем не менее он ревностно исполнял свой долг, пользуясь доверием и уважением государя. Как знаток французских адмиралтейских порядков, Конон Никитич помогал Петру I в составлении морских регламентов, по его же мысли царь учредил должность генерал-прокурора. В 1726-м Зотов был произведен в капитаны 1-го ранга, участвовал в законодательных работах и составил «регламент адмиралтейского нижнего судна», а затем до самой смерти служил в Адмиралтействе, достигнув контр-адмиральского чина. Оседлая жизнь потребовала домашнего очага, появилась надобность в доме, который и был построен в ряду с прочими «образцовыми» жилищами на набережной Васильевского острова. Граф Миних – осушитель болот Среди иностранцев, приглашенных Петром I на русскую службу, особое место занимает фельдмаршал граф Б.Х. Миних (1683–1767). Жизнь его, полная превратностей, тесно связана с Петербургом, который многим ему обязан. Впервые Миних увидел Россию в 1721 году, и здесь ему суждено было прожить до самой смерти. Начал он свою службу русскому царю в качестве военного инженера, начертившего план кронштадтских укреплений, получил чин генерал-майора и вскоре завоевал полное доверие императора, потеснив более пожилых и заслуженных царедворцев. Его уделом стало вызывать в людях чувства зависти и восхищения своими громадными способностями, рвением к исполнению обязанностей и в то же время раздражать гигантским честолюбием и необузданным тщеславием. Главным инженерным детищем Миниха бесспорно следует считать Ладожский канал, строительству которого он отдал много сил и который в последний раз осматривал буквально накануне своей кончины. Петр I, довольный его трудами, как-то произнес в Сенате такие слова: «Из всех иностранцев, бывших в моей службе, он лучше всех умеет предпринимать и производить великие дела: содействуйте ему во всем!» Даже главному врагу Миниха – Меншикову не удалось свалить набиравшего силу соперника, поддерживаемого к тому же хитроумным вице-канцлером Остерманом. Вскоре временщик, которому захотелось стать тестем императора Петра II, отправился в ссылку, Миних же, имевший к тому времени чин генерал-аншефа и орден Святого Александра Невского, был пожалован еще и графским титулом. После отъезда юного монарха в Москву в 1728 году он остался фактически правителем покинутой столицы. Фельдмаршал Б.Х. Миних При вступлении на престол Анны Иоанновны новоиспеченный граф благоразумно воздержался от участия в олигархических затеях «верховников», притязавших на ограничение самодержавия в свою пользу. Назначенный президентом Военной коллегии, а немного погодя получив звание генерал-фельдмаршала, он сделался одним из главных деятелей аннинского царствования и в особенности последовавшего за ним кратковременного правления Анны Леопольдовны. Среди полезных свершений Миниха достаточно назвать хотя бы уравнение жалованья природных русских офицеров с иностранными, основание сухопутного Кадетского корпуса, завершение Ладожского канала, открытого для судоходства 1 мая 1731 года, наконец, заведение ранее неизвестной в России тяжелой конницы – кирасир, сыгравшей важную роль в усилении боевой мощи армии. Хотелось бы особо отметить заслуги фельдмаршала собственно перед Петербургом: во-первых, как полагают, именно он убедил Анну Иоанновну переселиться из Москвы обратно в Петербург и тем спас новую столицу от грозившего ей запустения, а во-вторых, если правда то, что наш город стоит на болотах, правда и другое – именно Миних внес весомый вклад в их осушение. В 1733 году он предложил в течение шести лет осушить огромную территорию между Невской перспективой и той местностью, где впоследствии разбили Таврический сад. Брался он за это не бескорыстно: десятая часть осушенных земель должна была перейти в его наследственное владение. Императрица приняла условие, и дело закипело. Граф успешно справился со своей задачей, причем за более короткий срок, чем предполагал: уже в конце того же 1733 года он доносил, что «многие болота… прокопаны и сделана от Литовского канала к Невскому монастырю новая перспективная дорога». Как читатель, вероятно, помнит, она проходила по трассе нынешних Гончарной и Тележной улиц, и в отличие от нее участок дороги к монастырю, проложенный задолго до того монахами, стал именоваться старой Невской перспективой. Устроив систему водоспусков с параллельно проходящими каналами, пересекаемыми по обеим сторонам поперечными перекопами, Миних осушил значительное пространство земли в бывшей Литейной и Московской частях города, за что и получил обещанную награду – участок по правую сторону Невского проспекта в границах нынешней улицы Марата, Кузнечного переулка и Лиговского проспекта, который так и назывался – двор, или дача (то есть пожалованная земельная собственность), Миниха. После того как изменчивая фортуна отвернулась от своего любимца и он отправился в двадцатилетнюю сибирскую ссылку, имения его, в том числе и земельный участок, были конфискованы, и бывшая дача Миниха с имевшимися на ней «обсошными», то есть осушенными, лугами стала сдаваться казной внаем всем желающим. Позднее часть ее отвели под огороды, а часть – под егерский двор. По иронии судьбы дом-дворец опального сановника на Васильевском острове, как в свое время дворец его врага, тоже отдали Кадетскому корпусу, только на этот раз морскому. Со смертью Елизаветы судьба Миниха сделала очередной крутой поворот: сенатский курьер доставил в далекий Пелым указ Петра III, приглашавший вельможу вернуться в Петербург. По возвращении весной 1762 года он получил обратно шпагу, ордена, графский титул и чин фельдмаршала. Вдобавок к этому император распорядился «о покуй-ке в казну у шталмейстера Нарышкина каменного дома за 25 тысяч рублей и об отдаче оного в вечное и потомственное владение генерал-фельдмаршалу графу Миниху вместо отписного (то есть конфискованного. – А. И.) у него в прежнее время дома на Васильевском острову, занимаемого морским Кадетским корпусом». Очевидно, речь идет об особняке Л.А. Нарышкина на Большой Морской, которым тот владел до покупки другого, на Исаакиевской площади, 9/2. Однако Миних предпочел палаты, возведенные в 1753 году протопопом Царского Села, «на Литейной улице, напротив переулка Симеоновского» (ныне ул. Белинского; см.: Богданов А.И. Дополнение к описанию С.-Петербурга 1751–1762 гг. М., 1903). Вселившись в купленное для него жилище, Миних не утерпел, чтобы не напомнить современникам о своих славных, хотя и совершенно бесплодных подвигах в Русско-турецкую войну 1735–1739 годов, украсив фасад здания скульптурными изображениями пленных турок, закованных в цепи, и прочей военной атрибутикой. Об этом можно узнать из «Записок» Семена Порошина. Описывая прогулку в экипажах малолетнего наследника и его наставника Н.И. Панина, предпринятую 17 ноября 1765 года, автор, в частности, отмечает: «По Литейной, мимо дому фельдмаршала Миниха едучи и видя на оном разные арматуры (в цепях турков), знамена и протчее, сказал Его Превосходительство Никита Иванович иронически: „Этот человек ничуть не тщеславен". Государь Великий Князь изволил сказать к оному: я об заклад ударюсь, что он и теперь, сидя за столом, какие-нибудь прожекты выдумывает». Совершенно ясно, что маленький царевич лишь повторяет сложившееся к тому времени в придворных кругах мнение о Минихе как о неисправимом хвастуне и прожектере, к тому же начинавшем впадать в детство. Таким и предстал Б.Х. Миних на суд потомков: с одной стороны, тщеславным себялюбцем и авантюристом, с другой – способным военачальником и талантливым инженером, принесшим несомненную пользу России, в особенности во втором качестве. Современный адрес бывшего дома Миниха, в котором он провел последние годы жизни, – Литейный, 44. Установить это помогла обнаруженная в архиве купчая. Разумеется, дом многократно перестраивался, менял облик – ведь это патриарх здешних мест, одно из самых старых зданий на Литейном проспекте, с богатой исторической судьбой. Пыточных дел мастер Тем, кто читал нашумевший в свое время роман В. Пикуля «Слово и дело», вероятно, трудно будет сопоставить образ шустрого, пакостного старичка, шпиона и доносчика, ведавшего Канцелярией тайных разыскных дел при императрице Анне Иоанновне, с изображенным на портрете величавым старцем с орлиным взором, в роскошной мантии кавалера высшего российского ордена Святого Андрея Первозванного. Не менее трудно представить себе садистски жестокого «пыточных дел мастера», лично производившего самые бесчеловечные истязания подследственных, нежно любящим отцом, заботливо опекающим свое единственное чадо. Человек, столь странно сочетавший в себе все эти черты, – Андрей Иванович Ушаков (1672–1747), сыграл заметную роль в истории политического сыска в России. За три года до смерти он получил титул графа: Елизавета Петровна решила таким образом достойно отблагодарить верного слугу престола, выдвинувшегося еще при ее родителе. Рода же Андрей Иванович был самого незнатного, хотя и дворянского. И пришлось бы ему, скорее всего, до конца дней своих прозябать где-нибудь в захолустье, не начнись Петровские реформы, потребовавшие от недорослей поступления на службу. Для юного Ушакова она началась в гвардейском полку, где он довольно скоро обратил на себя внимание царя своей понятливостью и расторопностью, благодаря чему попал в число денщиков, то есть адъютантов государя. Дальше все пошло гладко, чины следовали один за другим. В 1707 году он поручик, в 1712-м – капитан, а в 1714-м – уже майор. В том же году Петр назначает Ушакова на новоучрежденную должность тайного фискала, в буквальном переводе с латинского – доносчика, который «должен над всеми делами тайно надсматривать и проведывать про неправый суд, також в сборе казны и прочего». В этом качестве Андрей Иванович обрел свое подлинное призвание. Он ревностно принимается за работу, ведая поначалу делами «о похищении казны», но спустя несколько лет круг его обязанностей расширяется, и в 1718-м он принимает участие в следствии по делу царевича Алексея – пока, разумеется, лишь на вторых ролях. Его час еще не настал. Со смертью императора Петра I Ушаков временно отходит в тень, но он уверен: его услуги еще понадобятся новым государям, всегда нуждающимся в лично преданных людях, готовых при случае выполнить самую грязную и черную работу, иными словами – в цепных псах у подножия престола. А.И. Ушаков И он не ошибся. Промелькнуло мимолетное царствование Екатерины I, затем сына царевича Алексея – Петра II, и на трон вступила вдова герцога Курляндского, особа «зело зраком страшна». Но для Андрея Ивановича она была милее родной матери. Сделавшись, вопреки замыслам олигархов-верховников, самодержавной императрицей, Анна Иоанновна тут же жалует поддержавшего ее в трудную минуту Ушакова в сенаторы, а немного погодя назначает начальником вновь учрежденной Канцелярии тайных разыскных дел. Вот здесь-то и развернулся в полную силу талант отставного фискала. Выполняя охранительные функции, его ведомство подвергло казням, пыткам и ссылкам около 20 тысяч человек, по большей части совершенно невиновных. Впрочем, по сравнению с тем, что ожидало матушку Россию в будущем, эта цифра может показаться не слишком впечатляющей. Для Андрея Ивановича наступила пора процветания; неусыпные труды его щедро вознаграждаются, доходы растут. Уже в начале 1730-х он возводит на Дворцовой набережной, неподалеку от царского дворца, великолепные каменные палаты (участок дома № 16), в которых не стыдно принимать саму императрицу, ежегодно удостаивавшую его своими посещениями. Корявые строки тогдашних «Санкт-Петербургских ведомостей» извещали горожан об этих радостных событиях: «В прошедшее воскресенье в полдень изволила Ее Императорское Величество с высокою своей… фамилиею на учиненном от его превосходительства Генерала Ушакова ради его дня рождения преславном банкете… присутствовать. Во время обеда… из поставленных по сторону его, на Неве построенных палат, пушек при питии за здравие многократно палили, а после оного от гренадерской роты к увеселению Ее Императорского Величества гранаты бросаны были, которые, понеже оне в воде разорваться принуждены были, зело изрядное действие чинили» (Санкт-Петербургские ведомости. 1733. 23 августа). Между тем подрастала единственная дочь Екатерина, пожалованная в день коронации Анны Иоанновны во фрейлины, что было по тем временам неслыханным отличием. В 1738-м она вышла замуж за сына бывшего сослуживца ее отца по денщицкой службе, графа Петра Григорьевича Чернышева, прослывшего, несмотря на свое огромное богатство, мелочной скупостью. Впрочем, нежный родитель был вполне доволен зятем и обожал двух маленьких внучек – Дарью и Наталью, знаменитую впоследствии княгиню Голицыну, послужившую Пушкину прототипом старой графини в «Пиковой даме». В краткое правление Анны Леопольдовны Андрей Иванович Ушаков получает орден Святого Андрея Первозванного, что, по-видимому, и дало повод к написанию парадного портрета, запечатлевшего гордый и грозный облик охранителя трона. При вступлении на отеческий престол Елизаветы Петровны хитрый и пронырливый Ушаков сумел сохранить свое положение и даже, как уже было сказано, удостоился от новой государыни графского титула, приняв участие в следствии по делу другого хитреца и проныры, А.И. Остермана, с которым в былые времена разделял милости покойной императрицы, но в отличие от которого не сплоховал и при нынешней. Однако годы брали свое, и здоровье графа пошатнулось. В марте 1747 года пасынок Ушакова, генерал-аншеф С.Ф. Апраксин, писал Чернышеву в Лондон, где тот исполнял обязанности посланника: «Государь мой Петр Григорьевич и сестрица Екатерина Андреевна, здравствуйте на множество лет с дорогими вашими детками. Доношу вам, государю моему, что батюшке весьма худо и без всякой надежды, и к тому ныне четверы сутки, что у него отнялась левая рука и нога и с тех пор лежит без всякого чувствия и не говорит, только глядит, и память в нем есть, и ничего пропустить в глотку не может. И о сем вам, государю моему, объявляю с великою горестью…» Далее следовали уверения в целости и сохранности домашнего скарба, о чем Апраксин, зная скаредность зятя, счел нелишним упомянуть. Спустя несколько дней А.И. Ушаков умер. Так закончил свой жизненный путь человек, о котором известный историк Д.Н. Бантыш-Каменский напишет: «Управляя Тайною канцеляриею, он производил жесточайшие истязания, но в обществе отличался очаровательным обхождением и владел особенным даром выведывать образ мыслей собеседников». Его талант имел многочисленных подражателей. Екатерининский орел Мы плохо чтим своих героев, даже таких, чьи заслуги огромны и неоспоримы. Уверен, что все видели скульптурное изображение адмирала В.Я. Чичагова (1726–1809) у подножия статуи Екатерины II в сквере на Александрийской площади, в числе других ее сподвижников. Но все ли знают, что благодаря доблести Василия Яковлевича и его соратников была предотвращена опасность захвата Петербурга неприятельскими войсками во время Русско-шведской войны 1788–1790 годов? Воспользовавшись тем, что Россия вела тяжелую борьбу с Турцией, шведский король Густав III вероломно, без объявления войны, напал 21 июня 1788 года на русскую пограничную крепость Нейшлот, планируя разбить Балтийский флот, высадить в Ораниенбауме двадцатитысячный десант и, действуя совместно с армией, захватить Санкт-Петербург. Первая победа над морскими силами противника была одержана под командованием адмирала С.К. Грейга у острова Гогланд в июле того же года; она нарушила планы короля Густава с ходу овладеть русской столицей, но отнюдь не заставила его вовсе отказаться от своего намерения. К началу кампании 1789 года Балтийский флот, потерявший своего командующего (С.К. Грейг скончался от тяжелой болезни), возглавил адмирал В.Я. Чичагов. Мореплавательского и военного опыта ему было не занимать: еще в чине капитан-командора он, осуществляя ломоносовский проект, руководил в 1764 и 1766 годах Полярной экспедицией, имевшей целью «учинить поиск морскому проходу Северным океаном в Камчатку», а в 1774 году принимал участие в боевых действиях против турецкого флота. В.Я. Чичагов Летняя кампания 1789 года ознаменовалась еще одной победой русского гребного флота – при Роченсальме, В память которой была даже выбита медаль с надписью: «За храбрость на водах финских августа 13, 1789», но и она не внесла перелома в войну. Сумасбродный король поклялся во что бы то ни стало взять приступом Петербург, сбросить с пьедестала памятник Петру I на Петровской площади и устроить для своих придворных великолепный бал в Петергофе. План военных действий шведов в 1790-м в общих чертах повторял прежний, неудавшийся и предусматривал уничтожение русского флота, высадку десанта и захват столицы. Дело оставалось за малым – привести его в исполнение. Впрочем, Густав был совершенно уверен в успехе, тем более что сумел добиться солидной денежной помощи от Англии и обещания содействия от Пруссии. Однако В.Я. Чичагов и храбрые русские моряки последовательно нанесли врагу два крупных поражения: сперва в мае, на Ревельском рейде (за эту победу Василий Яковлевич получил высший орден Российской империи – Святого Андрея Первозванного), а затем 22 июня, в Выборгском заливе (за что адмирал, первый и единственный среди отечественных флотоводцев, удостоился ордена Святого Георгия 1-й степени). Сам Густав III, командовавший в последнем бою гребным флотом с десантом на борту, лишь чудом спасся с уже взятой русскими в плен шведской галеры, бросив недоеденный завтрак, состоявший «в шести сухарях, копченом гусе и двух штофах водки». Эту забавную подробность приводит в письме к Потемкину сама Екатерина, заказавшая по случаю победы молебен в Никольском морском соборе. Правда, перед этим императрице пришлось серьезно поволноваться и даже всплакнуть – как-никак, враг стоял у порога и отголоски пушечных залпов слышны были в Петербурге, – но в общем она проявила замечательное мужество, выразив готовность, в случае нужды, лично повести войска на шведа. Государыня умела ценить мужество и в других. В письме к своему постоянному корреспонденту барону Гримму, посланном после Ревельской баталии, она писала: «Мне хочется сообщить Вам знаменательное высказывание адмирала Чичагова. Когда ему сказали, что на него движутся шведы с 28 военными кораблями, в то время как у него их было 10 и один фрегат, он ответил: „Ну и что? Они же нас не проглотят"». Ответ так восхитил Екатерину, что она самолично сочинила надпись, которая позднее была начертана на надгробии адмирала в Александро-Невской лавре: С тройною силою шли шведы на него. Узнав, он рек: Бог защитник мой! Не проглотят они нас! Отразил, пленил и победы получил. Спасенный Петербург чествовал победителей. Императрица встретила героя у входа во дворец (редкое отличие!), а затем собственноручно возложила на него знаки орденов Святого Андрея и Святого Георгия. Не были забыты и другие воины: после заключения Верельского мира, по которому обе воевавших стороны остались в прежних границах, все участники сражения получили серебряные медали с надписью: «За службу и храбрость. Мир со Швецией. Закл. 3 авг. 1790 г.». Говорят, что императрице захотелось послушать рассказ самого В.Я. Чичагова о ратных подвигах русских моряков. Смущавшийся поначалу адмирал, отличавшийся к тому же замечательной скромностью, под конец так увлекся повествованием, что, описывая бегство неприятельского флота, поносил на чем свет стоит трусов шведов, приправляя свою речь весьма крепкими выражениями, допустимыми лишь в сугубо мужской компании. Неожиданно спохватившись, Чичагов в ужасе вскочил с кресла и повалился в ноги государыне. «Виноват, матушка, ваше императорское величество…» – забормотал он. «Ничего, Василий Яковлевич, продолжайте, – кротко молвила в ответ Екатерина. – Я этих ваших морских терминов не разумею». Она произнесла это так простодушно, что старик поверил и докончил свой рассказ, принятый с особым благоволением… Набережная Лейтенанта Шмидта, дом № 37. Современное фото Младший сослуживец адмирала, побывавший вместе с ним во многих сражениях, так отзывался о нем: «В.Я. Чичагов был муж, стяжавший от всех почтение и любовь своими заслугами, добродетелями, а наипаче величайшей скромностью и кротостью нрава». Помимо почетных наград Чичагов получил от императрицы изрядное состояние, что позволило ему, вечному бедняку, обзавестись каменным домом в Петербурге, на Васильевском острове, где он и прожил последние годы, выйдя в 1797-м в отставку. Дом этот, хотя и в измененном виде, сохранился; его адрес – набережная Лейтенанта Шмидта, 37. Возведенный еще в петровские времена, по типу образцовых палат «для именитых», он неоднократно перестраивался, в последний раз – в 1897 году, по проекту Л.А. Большакова. Петербуржцы в долгу перед адмиралом Чичаговым; мемориальная доска на доме, где он жил, то немногое, что мы можем сделать, и сделать это нужно обязательно. Не для него – для нас и наших потомков. «Браво, мадам!» Среди многочисленных английских подданных, обитавших во второй половине XVIII – начале XIX века на берегах Невы, несомненный интерес представляет личность лейб-медика Джона Сэмюэля Роджерсона (1741–1823), шотландца по происхождению, перекрещенного на русский лад в Ивана Самойловича. Закончив в 1765 году Эдинбургский университет, где он изучал медицину, молодой врач, вероятно по чьему-то совету, отправляется в 1766-м в Россию, держит в Медицинской коллегии экзамен и 5 сентября того же года получает диплом на право заниматься медицинской практикой. Спустя некоторое время он излечивает от дифтерита сына княгини Е.Р. Дашковой, благодаря чему становится известен Екатерине II, которая назначает его в 1769-м своим лейб-медиком. Надо сказать, что отношение императрицы к докторам было своеобразным: она ругала их и делала вид, будто ни капли в них не верит, но тем не менее любила по малейшему поводу к ним обращаться. Иногда Екатерина, обладавшая в те годы завидным здоровьем, отказывалась принимать прописанные Роджерсоном лекарства, отделываясь от вспыльчивого врача любимой шуткой: «Лекарство помешает моим занятиям; довольно и того, что я посмотрю на тебя». А посмотреть было на что: долговязый, краснолицый, в парике, шотландец являл собой весьма колоритную фигуру, особенно когда сердился и раздражался, что случалось с ним очень часто. Но государыня, ценя его преданность и непритворную заботу о ее здоровье, не гневалась на него и прощала даже бесцеремонные порой выходки. Случалось, что, убедив наконец непокорную пациентку принять рекомендуемое им снадобье, удовлетворенный Роджерсон хлопал ее по плечу, восклицая: «Браво, мадам!» Правда, Екатерина, сообщая Потемкину о смерти фельдмаршала А.М. Голицына, которому ее лейб-медик безуспешно пытался помочь, не преминула заметить: «Мне кажется, кто Роджерсону ни попадется в руки, тот уже мертвый человек»; но эти слова нужно воспринимать просто как шутку, потому что покойный князь страдал неизлечимой болезнью сердца, о чем императрица прекрасно знала. Медицинские заслуги Роджерсона были высоко оценены: уже в 1776 году он, первым из британцев, стал избранным почетным членом Российской академии наук, пользуясь доверием и уважением не только коллег, но и многих выдающихся деятелей того времени. Среди его друзей были такие люди, как С.Р. Воронцов, с которым он состоял в активной переписке, П.В. Завадовский, В.П. Кочубей, Ф.В. Ростопчин. И.С. Роджерсон Близость ко двору открывала перед ним двери всех домов, и он имел пациентов среди самых широких слоев общества. Главной слабостью Роджерсона было пристрастие к политике, а кроме того – к новостям, сплетням и пересудам. Он знал, что творится в любой семье, и сама Екатерина II утверждала, что он ходит в Эрмитаж (имеются в виду эрмитажные собрания наиболее близких к императрице лиц) «собирать вести». Такая чрезмерная любознательность не могла не обратить на себя внимание тех, кто не был особо дружелюбно настроен к всеведущему доктору; к примеру, секретарь французского посольства шевалье де Корберон напрямую называет его в своем дневнике «шпионом Гарриса» (английский посол при русском дворе с 1778 по 1783 год), возможно чуя в нем опасного соперника. Судя по всему, основания для таких подозрений были, и влечение придворного врача к политическим и иным новостям вряд ли можно объяснить простой случайностью. В этой связи интересно отметить еще одну «слабость» доктора-чудака – непреодолимую тягу к карточной игре. Особо любил он вист, и непременно с крупными ставками, хотя играл довольно плохо, что выглядит несколько странным. Чаще всего собирались у графа А.А. Безбородко, перемежая игру застольными беседами, в которых немалая роль отводилась иностранной политике, столь близкой сердцу хозяина дома: по своей должности он находился в курсе ее последних событий и поворотов. Остальные партнеры были ему под стать – наиболее приближенные к государыне сановники, ведавшие то, о чем другим было неведомо. Порой эти беседы становились для Роджерсона так захватывающе интересны, что он забывал обо всем на свете, впадая в немыслимую рассеянность и делая непростительные ошибки в игре, чем приводил в негодование своих партнеров. Однажды Безбородко приказал стрелять из пушек, установленных перед его дачей на Полюстровской набережной, всякий раз, когда зазевавшийся лейб-медик совершал очередной промах, что привело последнего в немалое раздражение, и дело чуть не кончилось ссорой… Тем временем имущественные дела Роджерсона непрерывно улучшались, он сделался петербургским домовладельцем. Вначале довольная своим лейб-медиком императрица именным указом от 1776 года жалует ему дом на Английской набережной (№ 18; спустя девять лет Роджерсон продает его, а взамен приобретает другой, расположенный неподалеку, на углу той же набережной и Замятина переулка, № 22/1). Наконец непоседливый шотландец купил еще один дом (№ 60) поблизости от английской церкви, в котором и прожил до самого отъезда на родину. Вскоре после переезда из одного жилища в другое с Роджерсоном случилась неприятная история, дающая ясное представление о его твердом, неуступчивом, истинно шотландском характере. Средь бела дня опустевший дом на углу Замятина переулка, еще не обретший нового владельца, подвергся дерзкому ограблению. Взбешенный такой наглостью Роджерсон, не надеясь на малорасторопную столичную полицию, немедленно публикует в «Санкт-Петербургских ведомостях» объявление, в котором сулит за помощь в розыске похитителей небывало крупное вознаграждение – 100 рублей. Две недели спустя нетерпеливый доктор печатает повторное объявление, где удваивает сумму вознаграждения и вдобавок обещает тому, кто предоставит нужные для поимки воров сведения, отдать все украденные вещи. Нетрудно понять, что дело пошло на принцип, и тут уж с Роджерсоном шутки были плохи (Санкт-Петербургские ведомости. 1790. № 1, 6). В качестве придворного врача он присутствовал при последних минутах жизни Екатерины II, рядом с которой прожил почти все ее царствование. Когда-то ему приходилось свидетельствовать на предмет пригодности для любовных утех кандидатов в фавориты, и вот теперь довелось слышать предсмертное хрипение царицы и наблюдать за последним из ее любимцев – жалким, растерянным Зубовым, от которого, по словам Ростопчина, все шарахались, как от прокаженного. А спустя несколько лет Роджерсону пришлось осматривать бездыханное, с обезображенным лицом тело задушенного Павла I, скончавшегося, согласно официальной версии, «от апоплексического удара». Эту смерть он предвидел, когда писал своему другу С.Р. Воронцову, русскому посланнику в Англии: «Тучи сгущаются… Окружающие становятся в тупик… и я вижу, что все хотят устроиться при великом князе». После этого он советовал Воронцову подождать с приездом в Россию, где ему было предложено место канцлера. Ждать пришлось недолго. Новый император, Александр I, столь же милостиво отнесся к Роджерсону, как и его предшественники. Однако, пробыв еще пятнадцать лет, а в общей сложности – полвека в должности лейб-медика, Джон Сэмюэль Роджерсон в 1816 году решает вернуться в Шотландию, где и проводит остаток дней своих, предаваясь воспоминаниям о России, ставшей для него второй родиной, так и не заменившей первую. «Всегда жил весело, приятно…» Лев Александрович Нарышкин (1733–1799), пожалуй, как никто другой из екатерининских вельмож, представлял собой воплощенный тип русского придворного второй половины XVIII века, с его поверхностной образованностью, превосходно уживавшейся с варварскими обычаями феодальной старины и полнейшей готовностью угождать и заискивать перед сильными, жертвуя собственным достоинством. Впрочем, о последнем многие люди той поры, включая и аристократию, имели еще весьма слабое понятие: слишком памятны были времена, когда «благородных» наравне с их «холопами» отделывали за провинность батогами и розгами, слишком скудна была почва, на которой предстояло взрасти столь возвышенной добродетели. В записках С.А. Порошина, относящихся к 1764 году, говорится, в частности, об одном генерале, сетовавшем на чрезмерное, по его мнению, самолюбие нынешних дворян, в отличие от прежних: «Какие недотыки ныне люди стали, нельзя выбранить, а бывало-де палочьем дуют, дуют, да и слова сказать не смеешь». Льва Александровича «палочьем» уже не «дули», да и военной службы он никогда не нес. Восемнадцати лет от роду юношу определили камер-юнкером ко двору великого князя Петра Федоровича, будущего императора Петра III, и с этого момента началась его придворная карьера. В своих «Записках» Екатерина II, вспоминая то время, довольно подробно останавливается на характеристике Нарышкина, с которым ей предстояло находиться в тесном контакте всю ее последующую жизнь. «Это была одна из самых странных личностей, каких я когда-либо знала, и никто не заставлял меня так смеяться, как он. Это был врожденный арлекин, и если бы он не был знатного рода… то он мог бы иметь кусок хлеба и много зарабатывать своим… комическим талантом…» К «талантам» Льва Александровича императрица относит и его способность подолгу рассуждать о вещах, в которых он абсолютно ничего не смыслил, напуская на себя при этом вид знатока и употребляя принятые в данной области технические термины. В наше время такими талантами никого не удивишь, но в ту пору это казалось смешным и странным, и все до упаду хохотали над неподражаемым «артистом». При всем при том хорошо разбиравшаяся в людях Екатерина утверждает, что Нарышкин был очень неглуп и обо всем наслышан, просто все укладывалось в его голове оригинальным образом. Примерно так же отзывается о нем и французский посол граф Сегюр; Гаврила Романович Державин, близко знавший Нарышкина, подтверждает, что «он был весьма острый и сметливый человек», и это мнение, очевидно, ближе к истине, чем отзыв желчной княгини Е.Р. Дашковой, аттестующей его «глупым шутом». Как бы то ни было, главный талант Л.А. Нарышкина состоял в умении приспосабливаться и заискивать, и тут уж он никак не мог похвастаться оригинальностью: находясь в свите Петра III, прыгал в пьяном виде на одной ножке, пытаясь повалить пинками под зад других сановных шалунов в орденах и лентах, кувыркался в угоду своему нетрезвому повелителю и старался снискать его минутное благоволение. Позднее Лев Александрович подобным же образом угождал и просвещенной монархине, забавляя которую он, по словам Г.Р. Державина, «нечаянным образом спускал пред ней кубари» на манер грибоедовского Максима Петровича. Зато и он «не то на серебре – на золоте едал», а о его широком гостеприимстве ходили легенды. Дом Л.А. Нарышкина на Исаакиевской площади, № 9/2 Приобретя к 1763 году великолепный дом на Исаакиевской площади (№ 9/2), Л.А. Нарышкин начал задавать в нем свои знаменитые пиры, но одновременно с этим, как писали тогдашние газеты, «взирая на веру, сопряженную с делами спасительными своей благочестивой Монархини и Матери», он, наряду с еще несколькими приближенными императрицы, выразил желание открыть в своем особняке что-то вроде филиала московского Воспитательного дома и принимать приносимых младенцев. Трудно сказать, делалось ли это Нарышкиным и прочими вельможами по велению сердца или все из того же стремления угодить своей повелительнице; впрочем, спустя несколько лет в Петербурге также открылся Воспитательный дом, и необходимость в благотворительном начинании отпала. К числу несомненных достоинств Льва Александровича следует отнести его искреннюю готовность принять и угостить всех и каждого, как богатого, так и бедного. Хлебосольство было у него в крови, и он чрезвычайно любил, когда к нему приезжали обедать незваные гости; другой его страстью было наблюдать в праздничные дни за народными гуляньями, которые нередко устраивались прямо перед его домом. Если же эти гулянья переносились властями на другую площадь, он страшно огорчался и хлопотал о том, чтобы их вернули на прежнее место. Ему нравилось находиться среди толпы, слушать, о чем судачит народ, и он почти ежедневно прогуливался по толкучему рынку, покупая всякую всячину на выделяемый ему супругою специально для этой цели рубль. Истинно же счастлив Нарышкин бывал, устраивая в своем доме празднества и маскарады, часто посещаемые самой императрицей. А спустя несколько дней «Санкт-Петербургские ведомости» помещали описания вроде нижеследующего, относящегося к февралю 1778 года: «В минувшее воскресенье, 11 числа сего месяца… обер-шталмейстер Л.А. Нарышкин дал в доме своем маскерад для всего двора и знатных обоего пола особ, которых число, по собранным при входе билетам, до четырех сот простиралось. Ее Императорское Величество и Их Императорские Высочества благоволили почтить сей маскерад своим присутствием. Ее Величество встречена и введена была в залу при игрании марша на роговых и других духовых инструментах… Бал и игры продолжались до трех часов по полуночи. Между тем в разных покоях верхнего и нижнего етажа все угощены были ужином, с изобилием. Весь дом был иллуминован, и балкон оного украшен Вензловыми Именами Ее Императорского Величества и Их Императорских Высочеств. Пред домом зажжена была иллуминация, представляющая Китайскую деревню, имеющую разные раскрашенные домики, подвижные беседки и суда на гребле, как бы по воде плавающие. Ее Императорское Величество по ужине, оказав свое Высочайшее удовольствие хозяевам, изволила возвратиться во дворец во втором часу по полуночи; и все гости вообще разъехались довольными как праздником, так и хозяевами». Но и в обычные дни в доме Л.А. Нарышкина с утра до вечера не умолкали веселый говор, смех и звуки музыки; туда являлись без приглашения и уходили не прощаясь. По словам уже упомянутого Сегюра, это был приют веселья и место свидания для всех влюбленных. Здесь, среди оживленной и шумной толпы, можно было пошептаться тайком или передать любовную записку. В стихотворении Г.Р. Державина «На рождение царицы Гремиславы», посвященном Л.А. Нарышкину, есть строки, которые можно было бы высечь на его могиле в качестве эпитафии: Всегда жил весело, приятно И не гонялся за мечтой, Жалел о тех, кто жил развратно, Плясал и сам под тон чужой. Хвалю тебя, ты в смысле здравом Пресчастливо провел свой век. К этому трудно что-либо добавить. Герой этих строк ушел из жизни с последним годом XVIII столетия, и, наверное, ушел вовремя. Собиратель французской живописи У графа А.Г. Кушелева-Безбородко было два сына; о старшем, Григории, рассказано в моей книге «Дома и люди», а здесь пойдет речь о его младшем брате Николае Александровиче (1834–1862), прожившем короткую, но не бесполезную жизнь. Получив свою долю отцовского наследства и имея около 200 тысяч годового дохода, юный граф не стал растрачивать его на кутежи, а отдался коллекционерской страсти, собирая картины и предметы декоративного искусства. Кушелевская коллекция живописи, включавшая и небольшую часть огромной картинной галереи его прадеда А.А. Безбородко, в основном состояла из произведений новых французских художников, почти неизвестных в то время в России, в частности Диаза де ла Пенья, Коро, Руссо, Милле, Тройона. Николай Александрович поступил на службу в Кавалергардский полк, но вскоре по состоянию здоровья вынужден был его оставить и отправиться за границу, в теплые края, где принялся активно пополнять свои собрания, не пропуская ни одного крупного антиквара и посещая мастерские художников. После раздела имущества старшему брату достался родительский особняк на Гагаринской, 1/24, а младшему – смежный участок с двухэтажным домом, купленным их отцом в 1846 году для устройства в нем картинной галереи (современный адрес – ул. Фурманова, 3). Желая иметь помещение для своих коллекций и дом лично для себя, Н.А. Кушелев-Безбородко приступает в 1857 году к постройке по проекту Э.Я. Шмидта особняка, а вернее – дворца в неоренессансном стиле. Надо сказать, что поначалу намерения графа были несколько иными: во-первых, он предполагал выстроить здание гораздо больших размеров, но этому помешала неуступчивость его соседа слева, не пожелавшего продать свой участок, врезавшийся с трех сторон в участок Николая Александровича. Во-вторых, архитектор Шмидт, по желанию заказчика, внес в 1859 году изменения в первоначальный проект, отказавшись при отделке фасада от штукатурки в пользу розового рускольского мрамора, что, естественно, сильно удорожило стоимость работ; предусматривалось также устройство перед обоими подъездами внушительных чугунных навесов-зонтиков, ранее отсутствовавших в проекте. Внутренняя отделка дома, лишь частично уцелевшая до нашего времени, поражала роскошью и изысканностью: беломраморные лестницы, высокие голландские камины, резные дубовые потолки, инкрустированные двери и наборные паркетные полы; старинная бронза, гобелены и статуи дополняли убранство. Разумеется, не была забыта и картинная галерея, имелся также свой театр с партером и одним ярусом лож. После окончания в 1862 году этого дворца в миниатюре состоялось его торжественное открытие, на которое любезный хозяин пригласил своих знакомых, известив их, что отныне каждое воскресенье он будет устраивать подобные приемы. Оглашены были и правила, которыми гостям предстояло руководствоваться при посещении дома. В них, в частности, говорилось, что двери его в 3 часа ночи будут запираться и замешкавшиеся гости обязаны заночевать в приготовленных для них комнатах в верхнем этаже. Каждый из парадных апартаментов имел свое особое назначение. В большом зале стояли два рояля, стулья для квартета, пюпитры и струнные инструменты; здесь выступали лучшие в то время артисты. В другой половине зала помещался огромный стол со всевозможными рисовальными принадлежностями, предназначенный для художников; начатые и неоконченные работы оставлялись на том же месте в ожидании возвращения живописца в следующее воскресенье, завершенные же произведения поступали большей частью в коллекцию графа как знак благодарности гостеприимному хозяину. Другой зал предназначался для игры в шахматы: там находилось шесть столиков с расставленными фигурами. Литературные чтения, чередуясь с музыкой, происходили в первом зале, чтобы художники, работавшие за большим столом, могли слушать не прерывая своих занятий. В том же зале великолепный актер-рассказчик И.Ф. Горбунов произносил монологи и сценки из купеческого быта, заставляя слушателей покатываться со смеху. В одном из следующих покоев размещалась замечательная коллекция часов разных времен: там были старинные часы-луковицы, часы с репетицией, с музыкой, лучшие хронометры, часы, полностью изготовленные из дерева, очень тонкой работы, часы, осыпанные бриллиантами и другими драгоценными камнями. В другом зале демонстрировалось собрание тростей и палок, принадлежавших знаменитым людям, а также палок с набалдашниками художественной работы. Отдельная комната была отведена для хранения стереоскопических видов, снятых по заказу графа в тех странах, где он побывал; всего их насчитывалось более двух тысяч. И наконец гость попадал в картинную галерею, украшенную полотнами мастеров, о которых сказано выше. Воскресные собрания в доме Н.А. Кушелева-Безбородко продолжались, однако, в течение всего лишь одного сезона: женившись на Елизавете Ивановне Шупинской, урожденной Базилевской, граф уехал за границу и вскоре умер там от чахотки. В его завещании есть такие строки: «Картины и статуи передаю я, как пожертвование, в Императорскую Академию художеств, для составления публичной галереи, открытой постоянно для художников и публики, допускаемых без стеснения в форме одежды». Из Академии многие картины кушелевской коллекции, пользовавшейся большой популярностью у русских художников, впоследствии перешли в Эрмитаж, где хранятся и поныне, составляя золотой фонд французской живописи середины XIX века. Судьба других кушелевских собраний сложилась далеко не так удачно: большая их часть была пущена по ветру его молодой вдовой, ничего не смыслившей в искусстве. Очевидец рассказывает, что подрядчикам, являвшимся поздравить ее с праздником, она, вместо нескольких рублей, дарила какие-нибудь редкие часы из коллекции покойного мужа и т. и. Можно лишь порадоваться тому, что картинная галерея графа избежала подобной участи, благодаря чему безвременно скончавшийся собиратель оставил свой след в истории отечественной культуры. Политик и интриган В 1910 году на далекой окраине Петербурга, в Пискаревке, в честь 200-летнего юбилея города была заложена больница имени Петра Великого. Около того же времени несколько новых улиц в ее окрестностях получили названия в честь сподвижников царя: Брюсовская, Репнинская, Куракинская, Шафировский и Меншиковский проспекты. А в 1912-м на городских планах появилась Бестужевская, которая должна была напоминать о дипломате и государственном деятеле графе А.П. Бестужеве-Рюмине (1693–1766). Правда, при Петре карьера его только начиналась, а пика своего достигла уже при дочери царя, императрице Елизавете. Жизнь и судьба Алексея Петровича Бестужева-Рюмина, о котором уже приходилось упоминать, необычны даже для той суровой эпохи. Дважды его приговаривали к смертной казни, тем не менее он благополучно миновал такой участи и окончил свои дни графом, фельдмаршалом (никогда не быв на военной службе!) и кавалером русских и иностранных орденов. На дипломатическое поприще Алексей Петрович вступил в 1712-м, когда повелением государя был зачислен «дворянином при посольстве» в Голландии. Случай свел его с ганноверским курфюрстом Георгом-Людвигом, предложившим молодому дипломату поступить к нему на службу. Тот охотно согласился, испросив предварительно позволения Петра I, и, как оказалось, действовал правильно: в 1714-м курфюрст стал английским королем Георгом I. Он взял Бестужева с собой в Лондон и немедленно отправил его в качестве английского посланника в Россию с извещением о своем вступлении на престол. Русский царь, довольный почетной миссией своего подданного, принял Бестужева по этикету, дал ему в награду 1000 рублей – обычный в таких случаях подарок. Вскоре Алексей Петрович отбыл обратно в Англию, где провел в общей сложности около четырех лет, многому там научившись и навсегда сохранив симпатии к этой стране. Неодолимая склонность к политической интриге и честолюбивое стремление выдвинуться толкают Бестужева в 1717 году на опрометчивый шаг: узнав о бегстве царевича Алексея в Вену и видя в нем будущего государя, он поспешил написать ему письмо с изъявлениями преданности, а свой переход на службу к чужеземному монарху объяснил невозможностью быть полезным царевичу. А.П. Бестужев-Рюмин К счастью (для начинающего интригана), Алексей на допросах не выдал его, иначе не сносить бы ему головы – Петр был крут. Последние годы его царствования Бестужев провел послом в Дании. Помимо успешной дипломатической деятельности, он ознаменовал пребывание в Копенгагене изобретением некогда весьма популярных бестужевских капель, чем доказал разносторонность своих дарований. При Екатерине I и Петре II политическая роль честолюбивого дипломата оставалась ничтожной. Он безуспешно интриговал против Меншикова и Остермана, но добился лишь того, что отец его угодил под следствие, а брат был смещен с должности посла в Швеции. Впрочем, сам Алексей Петрович сумел избежать опалы, а в 1729-м даже получил денежную награду в 5 тысяч рублей, которая конечно же не могла его удовлетворить. Он нетерпеливо дожидался своего часа… Этот час наступил с воцарением Анны Иоанновны. Бестужев ухитрился оказать ей несколько важных услуг, и среди них «извлечение», а проще говоря – кража из архива герцогов Голштинских духовного завещания Екатерины I, которым устанавливались права Голштинского дома на русский престол. Завоевав доверие Бирона, он потеснил Остермана, заняв в Кабинете место казненного Волынского. Потом была сложная придворная интрига с утверждением регентства Бирона при малолетнем императоре Иване Антоновиче. Закончилась она тем, что коварный фельдмаршал Миних, активный участник заговора, не сумев настроить гвардию в пользу герцога, переметнулся на сторону Анны Леопольдовны, свалив всю вину на Бестужева. В ночь с 8 на 9 ноября 1740-го Бирон был арестован, а вслед за ним взят под стражу и Бестужев. 17 января следующего года его приговорили к четвертованию, но затем объявили помилование, и дело ограничилось лишением чинов и орденов, а также конфискацией имущества. Его отправили в ссылку, велев сидеть тихо… Однако длилась она недолго. В октябре того же 1741-го Алексей Петрович по ходатайству влиятельных вельмож, приверженцев так называемой «русской партии», вернулся в Петербург, хотя и не был восстановлен в чинах и должности кабинет-министра. В возведении на трон Елизаветы Петровны он участия не принимал, но полностью воспользовался плодами ее победы. Ноябрьский переворот 1741 года имел характер русского национального движения против засилья иноземцев, и опытный дипломат Бестужев с его несомненными способностями мог принести большую пользу. Хотя новая императрица, помня прошлое, питала к нему явное недоверие, он сразу же был осыпан ее милостями: уже 30 ноября государыня жалует ему орден Святого Андрея Первозванного и возвращает прежний чин действительного тайного советника – «за его невинное претерпение». Городской дом А.П. Бестужева-Рюмина (в центре). С гравюры Я.В. Васильева по рисунку М.И. Махаева. 1749 г. Ввиду падения вице-канцлера Остермана ведение иностранных дел поручается Бестужеву. Впоследствии к нему же переходят и его городской дом (где ныне здание сената) и мыза Каменный Нос (Старая и Новая деревни). 25 апреля 1742 года, в коронацию Елизаветы, по прошению Бестужева его отец «с нисходящим потомством», то есть с самим вице-канцлером и его братом Михаилом, удостаиваются графского титула. В 1744-м граф А.П. Бестужев-Рюмин становится государственным канцлером. Его многолетнее пребывание на этом посту отмечено стремлением проводить самостоятельную политику во благо России, а не чужеземных дворов, не пятная себя никакими «осязательными доказательствами» их милостивого расположения. Когда же он пытался лавировать и интриговать в собственных интересах, это приводило к печальным последствиям. Отступление генерал-фельдмаршала С.Ф. Апраксина, командовавшего русскими войсками в Семилетнюю войну, после уже одержанной крупной победы над пруссаками было несправедливо приписано проискам Бестужева. Его обвинили – на сей раз справедливо – в тайной переписке с великой княгиней (будущей Екатериной II), неисполнении высочайших повелений и во вмешательстве в дела, не подлежащие его ведению. Озабоченный болезнью императрицы и не чая от восшествия на престол великого князя Петра Федоровича лично для себя ничего хорошего, канцлер вступил в секретные переговоры с его супругой, надеясь посадить ее на трон и самому управлять страной от имени малолетнего цесаревича Павла. 27 февраля 1758 года неожиданно выздоровевшая Елизавета вторично лишила Бестужева чинов и знаков отличий, а в начале следующего года он был приговорен к отсечению головы. Однако и на сей раз все закончилось ссылкой в его подмосковную деревню Горетово, где ему надлежало жить под караулом, «дабы другие были охранены от уловления мерзкими ухищрениями состарившегося в них злодея». Поначалу граф обитал в дымной избе, он обрядился в мужицкую одежду, отрастил длинную бороду и сносил выпавшие на его долю испытания с терпением и кротостью. Самым горестным лишением стала для него потеря горячо любимой жены Анны-Екатерины, урожденной Биттигер, немки по национальности. В свое время в угоду ей он оказывал особое покровительство лютеранской церкви Святых Петра и Павла в Петербурге и даже будто бы воспрепятствовал попыткам православного духовенства убрать ее с Невской перспективы. Ссылка А.П. Бестужева-Рюмина закончилась с началом царствования Екатерины II. Декорации его жизни вновь переменились: в день своего вступления на трон, 28 июня 1762 года, императрица вспомнила о престарелом канцлере и послала за ним. В 30 верстах от Петербурга его встретил специально отряженный ею Г.Г. Орлов и доставил прямо в Летний дворец. Государыня милостиво приняла его, пожаловав «изрядной дом, стол, погреб и экипаж». Там, в бывших палатах князя Кантемира на Дворцовой набережной, отстраненный от важных дел и лишившийся прежнего влияния, Бестужев и провел последние годы своей бурной жизни. Ее поворотные моменты он предусмотрительно повелел увековечить на золотых и серебряных медалях, которые раздаривал всем знакомым. Память о нем долго сохранялась в наименовании нынешнего Мраморного переулка, звавшегося до 1817 года Бестужевским. А спустя столетие его имя присвоили улице на далекой питерской окраине. Примечательно, что Ментиков и Шафиров, чьими именами названы близлежащие проспекты, тоже переживали в своей жизни взлеты и падения; времена богатства и могущества сменялись нищетой и ничтожеством. К ним ко всем приложимо крылатое латинское выражение: «Так проходит мирская слава…» Те же слова можно отнести и к герою нашего следующего рассказа. Полицмейстера – в Сибирь! О жизни первого петербургского генерал-полицмейстера графа Антона Мануйловича Дивиера (1682–1745) можно было бы написать целый роман: она изобилует превратностями и приключениями. Сын португальского еврея, он рано потерял родителей и, перебравшись в Голландию, пятнадцатилетним мальчиком поступил юнгой на корабль. Судьбе было угодно, чтобы судно это оказалось тем самым, которым командовал русский царь Петр Алексеевич, набиравшийся тогда у голландцев ума-разума. Красивый и ловкий юноша понравился государю, и он предложил юнге пойти к нему в услужение, посулив радужные перспективы в будущем, – разумеется, если останется им доволен. Так началась многолетняя служба безродного пришельца из далекой южной страны, нашедшего в России свою вторую родину. Он быстро здесь освоился, научился языку и благодаря веселому, живому нраву и природной смышлености сделался любимцем царя. Вскоре тот назначил его своим денщиком, а со временем произвел в генерал-адъютанты, что в ту пору (1716 год) равнялось чину полковника. И все было бы прекрасно, если бы Дивиер не чувствовал себя до некоторой степени чужаком, не имевшим в новообретенном отечестве родства и корней. Положение его могло измениться лишь в случае удачной женитьбы на девушке, чье семейство обладало бы нужными связями. Рассчитывать на брак с родовитой дворянкой не приходилось, поэтому молодой человек решил заполучить невесту из среды новой аристократии – ни много ни мало сестру самого князя А.Д. Меншикова. Жгучему, черноглазому брюнету с привлекательной внешностью не составило особого труда обольстить увядающую деву, замужеству которой мешала непомерная спесь ее брата. Для верности Дивиер вступил в права мужа Анны Даниловны несколько раньше срока, желая поставить будущего шурина перед свершившимся фактом, после чего отправился просить ее руки. А.М. Дивиер Узнав о случившемся, Меншиков пришел в неописуемую ярость, набросился на неугодного претендента и жестоко его отделал. Но этого ему показалось мало, и, кликнув слуг, он приказал им бить несчастного смертным боем. Еле удалось бедному португальцу вырваться от своих мучителей; окровавленный, чуть живой, он с трудом добрался до государя и, рухнув перед ним на колени, стал горько жаловаться на обидчика. Царь не усмотрел в поступке потерпевшего особой вины и накрепко повелел светлейшему в течение трех дней обвенчать сестру с Дивиером. Скрепя сердце Меншиков подчинился царской воле, но с тех пор люто возненавидел навязанного ему зятя. Тот испытывал к нему схожие чувства… Женившись, Антон Мануйлович выстроил себе деревянные хоромы на Царицыном лугу (нынешний участок дома № 5 по Марсову полю), неподалеку от дворца своего высочайшего покровителя, чьи поручения, в том числе и дипломатические, он с превеликим рвением и усердием исполнял. Между тем «Питербурх» стремительно рос, беспорядочно застраиваясь хижинами новых поселенцев, что очень заботило и волновало Петра, желавшего придать новой столице благообразие и благочиние европейских городов. Наведение порядка, строгое исполнение царских указов требовали неусыпного контроля. С этой целью была создана полицмейстерская канцелярия. Указом от 27 мая 1718 года вводилась должность генерал-полицмейстера; царь доверил ее Дивиеру, получившему инструкцию из тринадцати пунктов. Полиции вменялось в обязанность следить за «регулярством» городской застройки, укреплением берегов рек и каналов, чистотой и порядком на улицах, ночными караулами, исправностью печей и дымоходов, торговлей съестными припасами и т. д. А.Д. Меншиков Особое внимание уделялось поимке подозрительных лиц и всякого рода беглых, с которыми предлагалось не церемониться, подвергая их жестоким наказаниям. Домовладельцы обязаны были немедленно докладывать в полицию о своих постояльцах. Ослушникам грозило лишение имущества и ссылка на галеры. В числе карательных мер предусматривались битье батогами, ломка домов, взимание штрафов. Хлопот полиции хватало с избытком. Настоящими бичами являлись жуткая антисанитария и частые пожары. Мясники забивали скот и бросали внутренности где попало, «от чего мерзостный дух происходит и нечистота», а проезжать мимо Красного моста через Мойку, где находились мясной и рыбный ряды, не зажимая нос, было просто невозможно. С большим трудом удалось заставить торговцев производить убой в специально отведенном месте за городом. Еще хуже обстояло дело с пожарами, опустошавшими целые кварталы. Первая пожарная команда при Адмиралтействе начала действовать в 1722 году, но она не могла обслуживать весь город. Не хватало заливных труб, и Дивиер добился от Сената отпуска средств на их приобретение. Помимо огненной, давала о себе знать и водная стихия: часто случались наводнения. И здесь была работа для полиции: приходилось заставлять обывателей делать полы выше уровня подъема воды в 2,2 метра, отмеченного 5 ноября 1721 года. Правда, эта мера оказалась практически неосуществимой: не все могли позволить себе такую роскошь, тем более что и она не гарантировала от затопления. Документально подтверждаются заботы Дивиера об устройстве уличного освещения и установке первых 595 фонарей, для чего ему пришлось вступать в переписку со своим врагом Меншиковым. 9 сентября 1721 года генерал-полицмейстер сообщал князю, что «машинного дела мастер Иван Петлинг объявлял абрис фонарю и по его царского величества соизволению сделан один такой образцовый фонарь и был поставлен у зимнего дома его величества, в котором стекла литы и полированы у вашей светлости на заводах Ямбургских». Далее следовала просьба об изготовлении первой партии стекол для ста фонарей; их предполагалось установить той же осенью. При Дивиере штат полиции состоял из 10 офицеров, 20 унтер-офицеров и 160 нижних чинов. Ежедневно он лично объезжал город, наблюдал за порядком и выполнением установленных правил, наводя на жителей такой страх, что, по словам очевидца, они дрожали при одном упоминании его имени. Петр I был им доволен и незадолго до своей смерти пожаловал ему чин генерал-майора. После воцарения Екатерины I положение Дивиера, несмотря на ненависть к нему всемогущего в ту пору Меншикова, выглядело столь же прочным, как и прежде. Императрица привыкла считать бывшего денщика своим домашним человеком, любила слушать его шутки и нескончаемые рассказы. Одним из первых он удостоился получить новоучрежденный орден Святого Александра Невского, а 24 октября 1726 года был возведен в графское достоинство. Оставаясь генерал-полицмейстером, Антон Мануйлович время от времени исполнял и другие важные поручения. Так, в начале 1727 года он отправился в Курляндию, чтобы отстаивать российские интересы при выборе нового герцога, проявив при этом редкое бескорыстие. Вернувшись в Петербург, граф застал царицу уже безнадежно больной, а своего злейшего недруга Меншикова – на вершине могущества, готовившимся стать тестем будущего императора. Дело в том, что светлейший задумал женить двенадцатилетнего царевича Петра на своей старшей дочери и на правах регента управлять страной вплоть до его совершеннолетия. Слабеющая день ото дня Екатерина дала согласие на этот брак. Враги князя – граф П.А. Толстой, И.И. Бутурлин, А.Л. Нарышкин и др., мечтавшие о возведении на престол цесаревны Елизаветы, понимали, что их ожидает в случае регентства Меншикова, и решились всеми силами противодействовать такому развитию событий. В их числе был и Дивиер. В апреле 1727 года состояние государыни резко ухудшилось. Князь находился при ней безотлучно, подносил для подписи указы и не замедлил составить ее духовное завещание. В соответствии с ним трон переходил к царевичу Петру Алексеевичу с обязательством жениться на Марии Меншиковой. Узнав об этом, Дивиер забыл присущую ему осторожность и совершил роковую ошибку, погубившую его самого и многих других… Согласно донесениям саксонского посланника Лефорта, он начал подстрекать царевича отправиться в церковь и провозгласить себя царем, а вместо Меншикова объявить регентом А.Л. Нарышкина, двоюродного брата Петра I. Великий князь готов был уже согласиться и сесть в карету, но по пути им повстречалась его сестра, уговорившая брата не делать этого. Наконец-то появился желанный повод для ареста Дивиера. Тот же Лефорт сообщает слышанные им подробности этого события. Будто бы при аресте граф, делая вид, что собирается отдать шпагу явившемуся за ним караульному, внезапно попытался заколоть ею стоявшего сзади Меншикова, но удар был отведен. Последовало заключение в крепость, пытки и выдача всех сообщников. В вину им ставилось то, что они самочинно дерзнули определять наследника российского престола. 6 мая того же года, за несколько часов до кончины, императрица непослушной рукой начертала свое имя на указе о различных карах для заговорщиков. Бывший генерал-полицмейстер ссылался в Сибирь с лишением чинов, чести и пожалованных поместий. Отдавая указ по принадлежности, мстительный «Данилыч» велел приписать к нему слова о наказании Дивиера кнутом. 25 мая приговор привели в исполнение и, желая угодить князю, сделали это с таким зверством, что вся спина наказуемого представляла собой одно сплошное кровавое месиво… Меншиков не пощадил и собственную сестру, которой велено было с четырьмя малолетними детьми отправляться на жительство в оставленную ей деревню. Двенадцать долгих лет томился бывший генерал-полицмейстер в Сибири на положении простого ссыльного. Только в 1739-м ему приказано было вступить в должность командира Охотского порта на место проштрафившегося Скорнякова-Писарева, и он вновь блеснул присущими ему энергией и распорядительностью. Взойдя на трон, Елизавета Петровна вспомнила о старинном слуге своего батюшки и повелела возвратить его из ссылки. Вернувшись в 1743-м в Петербург, Дивиер получил обратно свой чин, звание генерал-полицмейстера и орден, а еще через год был произведен в генерал-аншефы. Кроме того, государыня пожаловала ему 1600 душ из имения его покойного врага Меншикова. Не могла она ему возвратить лишь одно: здоровье, безнадежно надломленное годами лишений. 24 июня 1745 года граф Антон Дивиер скончался, и могила его затерялась среди надгробий Лазаревского кладбища Александро-Невской лавры. Пока царь срывал «цветы удовольствия»… Петербургские генерал-полицмейстеры (с 1780-го они стали называться обер-полицмейстерами) по большей части были людьми смышлеными и расторопными. Кроме Дивиера, можно смело назвать хотя бы Дмитрия Васильевича Волкова (1718–1785), который вошел в русскую историю если не по разыскным, то уж во всяком случае по сочинительским талантам. Письменными навыками отрок начал овладевать в отчем доме, родившись в семье состоятельного дворянина Московской губернии. Отец дал сыну вполне порядочное по тем временам образование, даже обучил языкам. В 1740-х Волков определился на службу в Коллегию иностранных дел. Ее возглавлял опытный дипломат А.П. Бестужев-Рюмин, вскоре оценивший его незаурядные способности к составлению всякого рода бумаг. Молодой человек успешно продвигался в чинах, обзавелся семьей, сумел стать правой рукой канцлера… И все было бы хорошо, если бы не страсть Волкова к картежной игре и другим предосудительным развлечениям. Он до такой степени запутался в долгах, что, несмотря на свой хитрый, изобретательный ум, не придумал ничего лучшего, как затаиться в одном из темных притонов, бросив жену и детей на произвол судьбы. Д.В. Волков Впрочем, в воспоминаниях современников относительно Волкова наблюдаются некоторые расхождения. Так, Екатерина II, поначалу не особенно благоволившая к любимцу ее мужа, утверждает в своих «Записках», что Дмитрий Васильевич, поссорившись в 1755-м с Бестужевым, сбежал от него, а потом, «побродив по лесам, снова дал себя схватить». В то же время секретарь саксонского посольства Гельбиг, не бывший, правда, очевидцем описываемого происшествия, сообщает, что Волков, когда узнал, что его подозревают в бегстве за границу с намерением «изменнически продать государственные тайны русского двора», сам явился с повинной. На радостях беглеца простили и даже заплатили его долги… Далее Гельбиг тоже упоминает о ссоре Бестужева со своим подчиненным, который в отместку будто бы разоблачил тайный замысел канцлера об устранении великого князя Петра Федоровича от престолонаследия в пользу его супруги, что в итоге привело к падению графа. Здесь есть одна неувязка: Бестужев был смещен в 1758-м, а ссора произошла тремя годами раньше, но сути дела это не меняет – в семейных раздорах великокняжеской четы Дмитрий Васильевич встал на сторону великого князя и выказывал ему глубокую преданность. В том же 1755 году, чтобы не возвращать беглеца под команду обиженного начальника, его назначили секретарем Конференции при высочайшем дворе – министерского совета из наиболее влиятельных сановников. По своей должности он оказался посвященным в военные планы русского правительства в период Семилетней войны с Пруссией. Если верить княгине Е.Р. Дашковой, став императором, Петр Федорович со смехом вспоминал, как они с Волковым, докладывавшим ему обо всех подробностях принимаемых Конференцией решений, вместе сообщали о них его другу и брату, прусскому королю Фридриху II. В результате разработанные русскими планы, разумеется, проваливались. Правда, сам Волков впоследствии начисто отметал такие обвинения, что подтверждает собственноручное письмо Фридриха к его посланнику Сольмсу от 31 декабря 1763 года: «Как вы мне сообщаете, княгиня Дашкова и г. Волков вернулись в Петербург… Признаюсь, появление последнего мне вовсе не приятно. Вы знаете, что в царствование Петра III – государя, очень усердствовавшего ко мне, этот интриган не переставал действовать во вред моим интересам». Как бы там ни было, Дмитрий Васильевич пользовался величайшим расположением великого князя и, когда тот вступил на престол, сделался его ближайшим поверенным. Он был назначен членом и тайным секретарем совета при императоре, причем Петр III распорядился, чтобы рапорты в совет «писать на имя наше, адресуя на конверте тайному секретарю Волкову». Столь полное доверие говорило о многом… Как-то в феврале 1762 года царь вздумал поразвлечься с новой любовницей, а чтобы отвести глаза старой, пресловутой Лизке Воронцовой, напустил на себя важность и в ее присутствии напомнил Волкову о якобы не терпящем отлагательств государственном деле, которым им предстоит заниматься всю ночь напролет. Наступила ночь. Легкомысленный монарх поспешил на свидание, но предварительно повелел своему верному слуге составить к завтрашнему утру какое ни на есть «знатное узаконение», чтобы было чем отчитаться перед ревнивой Лизкой. После этого он запер его в пустой комнате со свирепым датским догом, а сам, весело насвистывая, отправился «срывать цветы удовольствия». Некоторое время Дмитрий Васильевич, как он сам потом рассказывал князю М.М. Щербатову, пребывал в растерянности, не зная, о чем писать. Внезапно его осенило; он сел за стол и, не задумываясь, вывел наименование будущего указа: «О даровании вольности российскому дворянству». К утру 18 февраля документ был готов. Государь подмахнул его почти не глядя… Вот так, одним росчерком пера, было нарушено хрупкое и приблизительное равновесие в распределении тягот и повинностей между помещиками и крестьянами, установленное Петром I: мы государеву службу несем – вы нашу землю пашете. И так до старости, до гробовой доски. Отныне дворянин получил волю: хочу – служу, хочу – нет, а мужик должен был ее дожидаться еще целый век, пребывая в состоянии принудительного невежества и полного бесправия. Историк В.О. Ключевский писал о последствиях этого указа: «Крепостное право имело одной из своих опор обязательную службу дворянства; теперь, когда эта служба была снята с сословия, и крепостное право в прежнем виде потеряло смысл… оно стало средством без цели». Мы еще не вполне осознали, до какой степени затянувшееся на лишнее столетие рабство отозвалось на нас, войдя в плоть и кровь… Нужно ли говорить, с каким восторгом был встречен новый манифест теми, кому он был адресован? Авторитет Д.В. Волкова вырос до небес. Позднее, вспоминая о том времени, Екатерина II напишет: «Про него тогда думали, что главу имеет необыкновенную, но оказалось после, что хотя был быстр и красноречив, но ветрен до крайности, и понеже писал хорошо, то более писывал, а мало действовал, любил пить и веселиться». Это не помешало ей вскоре после вступления на престол назначить Волкова сначала оренбургским губернатором, затем – президентом Мануфактур-коллегии, а через некоторое время – смоленским наместником. Наконец в декабре 1777 года он стал столичным генерал-полицмейстером. На всех этих постах Дмитрий Васильевич показал себя дельным, толковым чиновником. И все же свой звездный час Д.В. Волков пережил в ту памятную ночь, когда из-под его пера вышел печально знаменитый указ, означавший для одних наступление «золотого века», а для других – отягощение и без того тяжкого рабства, надолго задержавшего Россию на пути к обретению свободы и человеческого достоинства. Рассказ о другом полицмейстере екатерининского времени носит преимущественно анекдотический характер, что, впрочем, имеет под собой вполне серьезные основания… Юпитер с Мещанской Екатерина II отличалась в старости большой снисходительностью к своим ближайшим сотрудникам, прощая им многое, даже глупость; она считала ее хотя и досадным, но все же вполне извинительным недостатком. Мало про кого по городу ходило столько анекдотов, как про обер-полицмейстера Н.И. Рылеева. Приведу наиболее характерные из них. Как-то у государыни сдохла комнатная собачка по кличке Томсон, и она через генерал-губернатора Я.А. Брюса приказала содрать с околевшей любимицы шкуру и сделать из нее чучело. Брюс (неизвестно почему) поручил это важное дело обер-полицмейстеру, а тот недолго думая отправился к известному в то время банкиру по фамилии Томсон и объявил, что ему велено снять с него шкуру и изготовить чучело. Услышав о нежелании перепуганного англичанина подчиниться монаршей воле, Никита Иванович, прежде чем приступать к решительным действиям, вздумал разузнать об этом деле подробнее. Тут-то все и выяснилось. Императрица посмеялась… и только. В другой раз ретивый страж порядка поднял повелительницу среди ночи с постели, чтобы доложить ей, что где-то в глухой части столицы сгорело три маленьких домика. Екатерина немножко рассердилась, назвала его глупцом и этим ограничилась. Когда у придворного банкира Сутерланда украли золотые часы, тот обратился в полицию. Однако поиски ни к чему не привели, и один из приятелей банкира посоветовал ему смириться с потерей, высказав шуточное предположение, что часы, вероятно, похищены самим Юпитером, пожелавшим иметь их у себя на Олимпе. Сутерланда эта догадка позабавила, и при встрече с обер-полицмейстером он заявил, что знает имя похитителя и его местопребывание. «Кто же он? – вскричал изумленный Рылеев. – Как его зовут?» – «Юпитер», – хладнокровно отвечал Сутерланд. «Что за человек? Где живет?» – «На Олимпе». – «На Олимпе? Я этакого места здесь никогда не слыхивал. Уж не на Петербургской ли стороне?» – спросил Никита Иванович, обернувшись к сопровождавшим его полицейским офицерам. Один из них, решив блеснуть своей осведомленностью, отрапортовал: «Нет, ваше превосходительство, я знаю немца Юпитера. Это серебряных дел мастер и живет в Мещанской». – «Не он ли?» – обратился Рылеев к пострадавшему. «Нет, тот, кто украл мои часы, грек», – по-прежнему невозмутимо отозвался банкир. Никита Иванович снова повернулся к своим офицерам. «Вы о таком не слышали?» – «Нет». – «Ну, черт его знает, где искать!» – беспомощно развел руками Рылеев. Этот эпизод, рассказанный в письме осведомителем Потемкина Михаилом Гарновским, надо думать, немало повеселил светлейшего. Государыня тоже много смеялась, но Никита Иванович остался при своей должности… О Н.И. Рылееве известно немногое. Службу он начал еще в 1760-м, а в начале 1780-х, уже в ранге полковника, был назначен исполняющим должность полицмейстера. 1 января 1784 года Рылеев занял свой высокий пост, сменив на нем П.В. Лопухина. Замена человека умного и образованного глупым и без всякого образования вряд ли могла произойти в первую половину екатерининского царствования. Однако с тех пор многое изменилось во взглядах императрицы на людей вообще и на полицейских чиновников в частности. Теперь от них требовалось лишь одно: исполнительность и нерассуждающее усердие, а если они иногда с этим пересаливали и попадали впросак – беда, по мнению Екатерины, была невелика. Когда однажды Никита Иванович, переусердствовав, вместо некоего злоумышленника, якобы посланного Французской республикой с целью покушения на жизнь русской императрицы, арестовал ни в чем не повинного повара-француза, прибывшего в Петербург для приискания подходящего места, и нещадно высек его, чтобы заставить разговориться, – государыня лишь рассмеялась и наградила жертву двойным окладом. Еще более поразительную терпимость к явному упущению обер-полицмейстера Екатерина проявила в известной истории с А.Н. Радищевым. Дело в том, что при учреждении в 1783 году вольных типографий на полицию были возложены цензорские обязанности, но она с ними справлялась весьма слабо. Гром грянул в 1790-м, когда императрице попала в руки злополучная книга «Путешествие из Петербурга в Москву», сильно ее разгневавшая и ставшая причиной неисчислимых бед для ее автора. Но не для Н.И. Рылеева, не получившего по сему поводу ни единого замечания. Очевидно, государыня слишком низко оценивала его умственные способности, чтобы пенять за столь вопиющий недосмотр. Да она этого и не скрывала, величая Никиту Ивановича за глаза дураком. Тем не менее через три года после этого происшествия Рылеев производится ею в столичные губернаторы и занимает этот пост до самой ее кончины. Обласканный также Павлом, Никита Иванович в июне 1797-го с почетом удаляется в отставку и уезжает к себе в деревню, где и умирает одиннадцать лет спустя, никогда не изведав в своей жизни «горя от ума»… Судьба следующего нашего героя в чем-то похожа на судьбу графа Дивиера. И для него новая родина стала не матерью, а злой мачехой… Приключения итальянца в России Среди множества неведомых или находившихся в зачаточном состоянии наук и искусств, завезенных к нам по воле Петра Великого, было и «геральдическое художество». К моменту основания Петербурга русская геральдика делала лишь первые шаги. Потребность в специалистах по составлению гербов назревала постепенно. В 1722 году царь недвусмысленно дал понять, что возводить в дворянство и жаловать гербом может он один. Для проверки законности претензий на благородное происхождение и право пользования фамильными гербами, а также для составления новых учреждалась герольдия. В том же 1722-м Петр I, по рекомендации ландграфа Гессен-Гомбургского, приглашает в Петербург пьемонтского дворянина графа Франческо Санти. Молодость его прошла в Париже, где он изучал исторические науки, в том числе и геральдику, после чего поступил на службу к ландграфу – не особенно щедрому, зато и не слишком требовательному к своему подчиненному. Русский царь поманил благородного, но неимущего графа невиданным для того жалованьем – 1600 рублей в год да вдобавок по 2 рубля за каждый герб на краски, – и Санти не устоял. За такие деньги он готов был отправиться хоть к черту на рога. К тому же некоторые из его знакомых успели побывать в загадочной гиперборейской стране – и ничего, остались живы. Если бы синьор Франческо мог предвидеть будущее, он бы в ужасе отказался от заманчивых посулов и, несомненно, предпочел бы видеть Россию с ее страшной Сибирью только на географической карте. Но, увы, рок судил иначе… В первые годы после его прибытия все шло хорошо: он назначается товарищем, то есть помощником герольдмейстера, и, помимо обещанного жалованья, получает также дом для проживания. В Петербурге Санти встречает нескольких соотечественников: отца и сына Растрелли, Микетти, Кьявери. Все они находили радушный прием в доме управляющего Канцелярией иностранных дел П.А. Толстого. Ф.М. Санти Хитроумный и изощренный дипломат, сыгравший роковую роль в судьбе царевича Алексея, он был возведен в 1724-м в графское достоинство. Сам царь относился к нему с восхищением, хотя и с некоторой опаской, зная его интриганские наклонности. Бывало, под веселую руку государь сдергивал с Петра Андреевича богатый парик и, ударяя его по голому черепу, приговаривал: «Голова, голова, кабы не была ты так умна, давно велел бы тебя отрубить!» Проведя некогда два года в Италии, Толстой превосходно изучил итальянский язык и, питая слабость к этой стране, любил окружать себя заезжими итальянцами. Уже семидесятипятилетним вдовцом он имел любовницу – молодую итальянку редкой красоты, ради которой устраивал у себя в доме роскошные балы. Непременным их посетителем был и синьор Франческо, пользовавшийся особым расположением хозяина и получивший благодаря ему придворное звание обер-церемониймейстера. Близость к Толстому имела для него в будущем самые печальные последствия… В августе 1724 года, по указу Сената, Санти приступил к составлению гербов российских городов для помещения на полковых знаменах. Разрабатывая герб Петербурга, он отверг прежнюю эмблему, изображенную на красных полотнищах санкт-петербургских пехотного и драгунского полков: золотое пылающее сердце с парящей над ним короной – слишком уж напоминала она коронованное сердце в гербе губернатора Петербурга князя А.Д. Меншикова. Возможно, Санти счел неуместным использование родового знака одного из подданных в качестве герба имперской столицы. Придет время, и злопамятный вельможа припомнит ему это. А пока что его труд просто-напросто остался невостребованным. Правда, 3 марта 1730 года новый свод городских гербов «для малевания на знаменах» был утвержден, но к тому времени их автор уже обживал просторы Восточной Сибири и вряд ли вспоминал о своих творениях. В 1727-м, в последние дни царствования Екатерины I, П.А. Толстой рассорился с Меншиковым из-за вопроса о престолонаследии: он настаивал на кандидатуре дочери покойного государя Елизаветы, а светлейший желал его внука Петра, которого намеревался женить на своей дочери. Петр Андреевич проиграл этот спор и был заточен в Соловки. Вслед за ним пришла очередь и Санти, который якобы «явился в тайном деле весьма подозрителен». Поначалу его отправили для снятия допроса в Москву, но вдогонку Меншиков послал к нему гонца с письмом, где требовал признаний относительно «преступных умыслов» Толстого. Никакие уверения Санти в своей невиновности, как водится, не помогли, и бедного графа сослали в Якутск, а затем, скованного по рукам и ногам, перевели в Верхоленский острог. Каким-то образом ему удалось расположить к себе иркутского генерал-губернатора Сытина, и тот предоставил узнику возможность бывать в Иркутске и пользоваться полной свободой. Изрядно обрусевший Санти женился на дочери тамошнего подьячего Прасковье Татариновой и начал было осваиваться с суровыми сибирскими морозами и привыкать к своему новому положению. На его беду, правившая тогда императрица Анна Иоанновна прознала о попустительстве губернатора к «врагу престола». 5 июля 1734 года из Тобольской губернской канцелярии было послано строжайшее предписание доставить несчастного Санти в Усть-Вилюйское зимовье за 3500 верст от Иркутска и содержать там «под крепким караулом». Жена не решилась сопровождать мужа к месту заточения… О том, как жилось уроженцу благословенной Италии в забытом богом и людьми зимовье, видно из донесения подпрапорщика Бельского якутскому воеводе: «Живем мы, он, Сантий, я и караульные солдаты в самом пустынном краю, а жилья и строения там никакого нет, кроме одной холодной юрты, да и та ветхая, а находимся с ним, Сантием, во всеконечной нужде, претерпеваем великий голод, и кормим мы Сантия и сами едим болтушку, разводим муку на воде, отчего все солдаты больны и содержать караул некем. А колодник Сантий весьма дряхл и всегда в болезни находится, так что с места не встает и ходить не может». Мучения бедного арестанта продолжались вплоть до восшествия на трон Елизаветы Петровны: она возвратила его из ссылки, вернула звание обер-церемониймейстера и пожаловала орденскую ленту и кусок земли в Лифляндии. Могло ли это искупить многолетние безвинные страдания синьора Франческо – предоставляю судить читателям. Но он уже пустил корни в этой неприветной земле, здесь родились его дети, здесь был его дом. Он еще долго прожил, этот обрусевший итальянский граф, и умер в конце 1750-х, на исходе елизаветинского царствования. Публикуемый портрет Санти написан года за два до его смерти, только что приехавшим в Россию итальянским художником Ротари. Наверное, чтобы обрусеть, надо пострадать… Человек, о котором дальше пойдет речь, не изведал ни Сибири, ни ссылки, но и ему пришлось испытать немало страданий, хотя он принадлежал к тем, кого принято называть «баловнями счастья». «Живу как громом пораженный…» Не сомневаюсь, что большинству читателей граф П.В. Завадовский известен в лучшем случае как один из любовников Екатерины II. Такова сила исторического анекдота, этого суррогата истории. Суррогатные знания всегда основаны на расхожих штампах: словосочетание «всесильный временщик» одинаково крепко приклеилось и к Потемкину, и к Аракчееву, хотя разница между ними огромна. То же самое можно сказать и о пресловутых «екатерининских фаворитах». Не все они были людьми ничтожными, и не все утрачивали свое значение, выйдя из кратковременного «случая». Для некоторых из них подлинная государственная деятельность начиналась уже после прекращения особых отношений с императрицей и продолжалась при ее преемниках. Таким был граф Петр Васильевич Завадовский (1739–1812), которому российское просвещение многим обязано. Он происходил из старинного польского рода, принявшего русское подданство еще в начале XVII века. Отец его, черниговский помещик, не мог наделить сына богатством, зато наделил превосходным здоровьем и красотой, стоившими всех сокровищ мира. Получив неплохую подготовку в доме деда, юноша продолжил обучение в иезуитской школе в городе Орше, откуда вынес знание польского и латинского языков, чем любил щегольнуть впоследствии. П.В. Завадовский Окончив курс в Киевской духовной академии, он поступил на гражданскую службу, а вскоре фортуна привела его в канцелярию фельдмаршала П.А. Румянцева-Задунайского, сменившего гетмана К.Г. Разумовского на посту правителя Малороссии. С того времени началось постепенное возвышение Завадовского, обратившего внимание графа своими способностями и расторопной сообразительностью, которая помогала ему на лету схватывать невнятную речь начальника и отвечать на ставящие в тупик вопросы. Канцелярские занятия не помешали Завадовскому принять участие в боях против турок в 1769–1773 годах; в конце войны он дослужился до чина полковника и приобрел известность составлением важнейших донесений, а также, совместно с графом С.Р. Воронцовым, – условий Кючук-Кайнарджийского мира. В день его празднования, 10 июня 1775 года, Петр Васильевич был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени и имением Ляличи, граничившим с деревней его отца, где он провел свое детство. В том же году граф П.А. Румянцев, по чьему ходатайству Завадовский и удостоился этого пожалования, представил его государыне, которая не осталась равнодушной к мужественной красоте молодого полковника. Он получил в подарок бриллиантовый перстень с надписью «Екатерина» и занял должность ее кабинет-секретаря. Их роман длился около полутора лет, а в июне 1777 года П.В. Завадовский, по-прежнему искренне влюбленный в императрицу, помимо своей воли отправляется в трехмесячный отпуск. После этого он возвращается в Петербург, но, не удовлетворенный оказанным ему приемом, снова отбывает в Ляличи. Лишь через год, когда страсть его поулеглась, он почувствовал себя в силах приступить к делам… Окончательно поселившись в столице, Петр Васильевич покупает дом на Миллионной и начинает выполнять весьма значительные поручения государыни: управляет созданным по его же предложению Санкт-Петербургским дворянским банком, председательствует в комиссии по сооружению Исаакиевского собора. В 1785-м высочайшим рескриптом ему повелевается обозреть систему преподавания в Пажеском корпусе, «а равно… освидетельствовать успехи и ввести порядок, который должен быть присвоен всем вообще Российским училищам». С тех пор началась плодотворная деятельность П.В. Завидовского на ниве отечественного просвещения. Он составляет новый план обучения, одобренный императрицей, а вслед за тем делает ей представление о неудовлетворительности преподавательского состава Медико-хирургической школы и необходимости учреждения академии. По его инициативе в Вену, Париж и Лондон направляются русские доктора для ознакомления с постановкой подобного образования за границей. Еще более важна роль Завидовского в деле открытия в двадцати пяти губерниях бесплатных народных училищ, что является одним из крупнейших событий екатерининского царствования. Государыня любила посещать Главное народное училище, помещавшееся в бывшем доме купца Щукина на углу Садовой и Чернышева переулка (ныне территория Апраксина двора), слушала лекции для воспитанников, осматривала классы и всегда оставалась довольна увиденным… В 1787 году Петр Васильевич, не без некоторых опасений, женился на графине В.Н. Апраксиной. Зная нелюбовь Екатерины к этому семейству, нашумевшему в свое время многими скандалами, он счел нужным объяснить императрице свой поступок. «Беру овечку из паршивого стада, – писал он ей накануне женитьбы, – но на дух свой надеюсь твердо, что проказа ко мне никак не пристанет, наподобие как вынутое из грязи и очищенное от оной золото ничьих рук не марает». В дальнейшем ему пришлось пережить немало утрат, о чем он сообщал своему ближайшему другу графу С.Р. Воронцову: «Сколько я несчастливый отец, на что мне говорить! Шестерых детей слышал только первый голос и, подержа на руках, в гроб положил… Хотя живу, но как громом пораженный; сам не чувствую моей жизни». В конце концов судьба сжалилась над супругами, оставив им в живых двоих сыновей – Александра и Василия – и дочь Татьяну. Первые годы правления Павла, вопреки ожиданиям, оказались для Завадовского вполне благополучными: государь возвел его в графское достоинство Российской империи и пожаловал орден Святого Андрея Первозванного. Однако в 1799-м в Ассигнационном банке, состоявшем в ведении Петра Васильевича, была обнаружена незначительная растрата: «Но так как, – говорилось в царском указе, – под начальством графа Завадовского подобная операция случается уже в третий раз, то он отставлен от службы». Хотя к разворовыванию денег граф отношения не имел, но, по правде говоря, он не всегда проявлял должную щепетильность к казенному интересу – таковы были, да и остаются нравы… Опальный вельможа удалился в свои любимые Ляличи и поселился во дворце, построенном знаменитым Кваренги по образцу петербургского Ассигнационного банка (так пожелала его покойная благодетельница Екатерина), вероятно, напоминавшем ему время от времени причину его отставки. Но и там он не обрел покоя. Приставленный к нему соглядатай в лице местного исправника, как мог, отравлял жизнь графу беспрерывными доносами; между прочим он донес императору, что дом Завадовского выше Михайловского замка. К счастью для Петра Васильевича, его вовремя предупредили об этом, и он успел насыпать перед своим жилищем террасу, закрыв нижний, подвальный этаж, так что при измерении оно оказалось на целый аршин ниже царского дворца… С воцарением Александра I служба Завадовского возобновилась. Он был немедленно вызван в столицу и занял место председателя комиссии по составлению законов. Впрочем, пробыл он на нем недолго: царю не терпелось облагодетельствовать Россию новым законодательством, а, по мнению Петра Васильевича, столь важное и трудное дело по самой своей природе не могло подвигаться быстро и ему суждено было растянуться (как оно в действительности и вышло) не на одно десятилетие. В результате граф был уволен от должности председателя комиссии, но в 1802 году, при учреждении министерств, ему поручили пост министра народного просвещения. Наступило бурное время Александровских реформ, и П.В. Завадовский оказался на высоте его: за десять лет управления министерством он сделал для народного образования больше, чем было сделано за все минувшее столетие. Открылись сотни новых учебных заведений, в том числе губернские гимназии, университеты в Казани и Харькове, Главный педагогический институт и несколько лицеев. Чтобы поднять престиж общеобразовательных заведений, Петр Васильевич отдал в гимназию собственных сыновей, не обращая внимания на ропот знати, сетовавшей на то, что графские дети будут сидеть рядом с детьми сапожников и кучеров. Министр стал выше предрассудков, считая, что цель образования как раз и заключается в том, чтобы сглаживать сословные различия между людьми. Кроме того, он разработал весьма либеральный цензурный устав, который позднее был изменен с ущербом для свободы слова. Граф П.В. Завадовский скончался в январе 1812 года, накануне великих событий в жизни России, чью решающую роль он предвидел и чью благодарную память вполне заслужил. Следующий персонаж из когорты фаворитов, «случайных людей», не снискал благодарности потомков, но тоже, вероятно, не будет ими забыт – по причине близости к крупным историческим личностям. Такие люди могут светить лишь отраженным блеском и тут же меркнут, когда угасает само светило… «Скупой рыцарь» Из всех сохранившихся портретов светлейшего князя П.А. Зубова этот – самый поразительный. Исполнен он неизвестным художником незадолго до смерти последнего екатерининского фаворита и может служить подтверждением старой истины о бренности всего земного. Вместо прежнего красавца с горделивой осанкой и орлиным взором, каким предстает Зубов на картинах И.-Б. Лампи, перед нами седой, лысеющий старик с большим носом и бородавкой в углу рта, недоверчиво глядящий куда-то мимо нас. В далеком прошлом остались толпы льстивых просителей, осаждавших подступы к покоям, где надменный временщик принимал их в халате, небрежно развалившись в кресле. П.А. Зубов Все закончилось в тот роковой день 6 ноября 1796 года, когда великая государыня испустила последнее, хриплое дыхание и навсегда отправилась в те далекие, неведомые края, «идеже несть печали, ни воздыхания». В ту минуту бледный, дрожащий Платон Александрович почувствовал себя осиротелым дитятей, брошенным на произвол судьбы: все от него отшатнулись, все оставили… Свидетель предсмертных часов Екатерины II, граф Ф.В. Ростопчин, которому суждено было сыграть важную роль в два последующих царствования, так описывает поведение князя: «Отчаяние сего временщика ни с чем сравниться не может. Не знаю, какие чувства сильнее действовали на сердце его; но уверенность в падении и ничтожестве изображались не только на лице, но и во всех его движениях. Проходя сквозь спальную комнату императрицы, он останавливался по нескольку раз пред телом государыни и выходил рыдая…Толпа придворных удалялась от него, как от зараженного, и он, терзаемый жаждою и жаром, не мог выпросить себе стакана воды». Зубов опасался немедленной опалы со стороны Павла, вступившего на освобожденный матерью престол, которого ему пришлось слишком долго дожидаться. Но в отличие от придворных государь на первых порах проявил великодушие, утешая князя и заверяя в своей благосклонности. Он даже сохранил за ним на некоторое время все прежние должности и возвратил трость – отличительный знак дежурного генерал-адъютанта, промолвив при этом: «Продолжайте исполнять ваши служебные обязанности при теле моей матери; надеюсь, что вы мне будете служить так же верно, как и ей». Надежды императора – по крайней мере, во второй их части – не оправдались; если обязанность состоять «при теле» живой, а затем и покойной государыни Платон Александрович исполнял добросовестно и до конца, то по отношению к ее сыну он проявил самую черную неблагодарность… Дворцовые покои бывшему фавориту пришлось незамедлительно очистить. Неделю он прожил у своей сестры О.А. Жеребцовой, в ее доме на Английской набережной, но вскоре Павел вспомнил о нем и подарил ко дню его рождения стотысячный особняк в конце Галерной улицы (принадлежавший позднее графам Бобринским), отделав его с большой роскошью и снабдив золотой и серебряной посудой, экипажами и лошадьми. В сам же день рождения, 15 ноября, императорская чета удостоила новое жилище князя своим посещением. Когда растроганный этой незаслуженной милостью Зубов повалился им в ноги, государь поднял его с колен и многозначительно произнес: «Кто старое помянет, тому глаз вон». И хотя непринужденное веселье не покидало Павла в тот вечер, сердце Платона Александровича тоскливо сжималось: уж он-то знал, что очень скоро ему помянут прошлые грехи. Неприятности начались ровно две недели спустя. За нерадивое управление Зубовым порученными ему Сестрорецкими оружейными заводами на него, как на генерал-фельдцейхмейстера, был сделан начет в 50 тысяч рублей. Правда, в скором времени Павел простил ему этот долг и позволил на два года отправиться за границу «для поправления здоровья». Но по пути с князем, не чуявшим ног от радости, случился казус, вновь поссоривший его с императором. В Риге, через которую должен был проезжать Зубов, готовились к встрече польского короля Станислава Понятовского, приглашенного Павлом в Петербург. Однако король в ожидаемое время не прибыл, и все почести, включая пышный обед, достались случайно подвернувшемуся Зубову – как-никак, русскому генералу. За это военный губернатор граф П.А. Пален, имевший вдобавок неосторожность проводить своего бывшего покровителя и благодетеля до Митавы, получил строгий выговор от императора. Волею судеб оба они – Пален и Зубов – через четыре года стали активными участниками заговора против Павла… В начале правления Александра I бывший реакционер князь П.А. Зубов сделался вдруг завзятым либералом и ходил, по свидетельству очевидца, «с конституцией в кармане», предлагая превратить закоснелый в своих кляузных функциях Сенат в Законодательное собрание. Выступал он и с другими смелыми по тем временам проектами. Один из них – о запрещении продажи крестьянских семей без земли – получил одобрение и был утвержден. В 1803 году свободолюбивые порывы Зубова дошли до того, что в письме к государю он выразил готовность отпустить на волю своих крепостных – около 30 тысяч душ. Однако дело это как-то замялось, и в дальнейшем Платон Александрович больше о нем не заикался. Напротив, он показал себя помещиком жестоким и безжалостным, доведя принадлежавших ему крестьян до полного обнищания, чем наконец вызвал неудовольствие императора. В 1807 году особым повелением Александр взял под свою защиту крепостных князя Зубова, «из которых большая часть, оставив поля свои необработанными, снискивают себе пропитание мирским подаянием, некоторые же… умирают от болезней, происходящих единственно от дурной и недостаточной пищи». Тот же документ предписывал князю обеспечить своих крестьян хлебом, грозя в противном случае обрушить на него всю силу закона. После этого неприятного случая Зубов стал осторожнее, стараясь не привлекать к себе внимание властей. Он окончательно обосновался в своих литовских поместьях и, предавшись мании бессмысленного накопительства, не гнушался самого постыдного барышничества. Тратил он на себя очень мало, одевался плохо: скаредность его достигла крайних пределов. Седой, сгорбленный, в пятьдесят лет князь казался дряхлым стариком, оживляясь лишь при виде бесчисленных золотых и серебряных слитков; их он, наподобие пушкинского «скупого рыцаря», хранил в подвалах своего замка близ Янишек. Богатства его были колоссальны: одних серебряных монет на 20 миллионов рублей, не считая всего остального. Незадолго до смерти П.А. Зубов неожиданно женился на двадцатилетней красавице-польке Текле Валентинович из бедной дворянской семьи. Поначалу он вовсе не собирался вступать с ней в брак, а просто-напросто предложил ее матери некоторую сумму денег в обмен на благосклонность дочери; но когда та с негодованием отказалась, «скупой рыцарь» решил любой ценой завладеть сокровищем и в скором времени попросил руки девушки. Эта поздняя женитьба не принесла ему счастья – жил он с молодой женой плохо и через несколько месяцев, 7 апреля 1822 года, отправился на тот свет, не оставив ни в чьем сердце доброй о себе памяти. Перед самой кончиной Зубовым овладел страх смерти: он боялся всякого напоминания о ней, меняясь в лице при звуках погребального звона, а в разговоре часто задумывался и без всякой видимой связи произносил: «Так ему и надо!» Кого он имел в виду? Убитого при его участии Павла? А может – самого себя?.. Герой следующего нашего рассказа был тесно связан с Платоном Зубовым и до некоторой степени разделил его судьбу. Невольно к этим грустным берегам… Жизнь А.М. Грибовского (1767–1834), последнего по времени секретаря Екатерины II, оставившего «Записки» о ней, богата превратностями и приключениями. Сын казачьего есаула, он рано остался без родительской опеки и должен был сам пробивать себе дорогу. Не доучившись в Московском университете, шестнадцатилетний Адриан определился «к статским делам», то есть мелким чиновником в канцелярию. Некоторый наружный лоск и образованность помогли ему попасть сперва в Комиссию нового Уложения, а затем – в секретари Олонецкого приказа общественного призрения. Исполняя обязанности казначея, юный «приказный», которому в ту пору не исполнилось и восемнадцати, проиграл в карты 1000 рублей казенных денег. Если бы Г.Р. Державин, бывший тогда олонецким губернатором, не замял по доброте своей это дело, возместив растрату из собственных средств, Грибовскому, возможно, пришлось бы отправиться по этапу в еще более холодные края. К счастью, для него все закончилось отставкой, да еще с повышением в чине… Новая попытка восхождения на бюрократический Олимп началась в конце 1786 года. Благодаря поддержке влиятельных знакомых, с которыми он сошелся на почве своих литературных трудов, Адриан Моисеевич был зачислен в штат Кабинета ее императорского величества, а вслед за тем – в канцелярию князя Г.А. Потемкина, что и решило его дальнейшую судьбу. Во время Русско-турецкой войны Грибовский вел журнал военных действий; на основании записей в нем Потемкин составлял донесения Екатерине. А.М. Грибовский После смерти своего высокого покровителя А.М. Грибовский в январе 1792 года прибыл в Петербург, где его ожидали пожалование в следующий чин и другие награды. Явившись к фавориту императрицы с рекомендациями графа А.А. Безбородко, он был сделан правителем канцелярии П.А. Зубова и вскоре, благодаря своей вкрадчивости и подобострастию, стал доверенным лицом не только князя Платона, но и самой государыни. Дальше все пошло как по маслу: в 1793-м его производят в полковники, а 11l августа 1795 года Грибовский становится секретарем императрицы «у принятия прошений». То было время его наивысшего процветания; он принимает участие в решении вопросов государственной важности и иногда злоупотребляет своим положением, способствуя назначению на ответственные должности приятных ему, но не всегда достойных людей. У подъезда занимаемого им дома на Миллионной дежурит великолепный экипаж, запряженный четвериком, с гусарами и егерями на запятках; он задает роскошные пиры, устраивает концерты – словом, ведет широкий образ жизни… Со вступлением на престол Павла все переменилось. 14 января 1797 года Грибовского высылают на родину, в Малороссию, а в мае следующего года арестовывают, доставляют в столицу и сажают в Петропавловскую крепость. Предъявленные обвинения серьезны: переселение на свои земли казенных крестьян и утрата ценных картин и эстампов из Таврического дворца. Ему приходится внести в казну более 30 тысяч рублей, после чего в феврале 1799-го его вновь высылают в Подольскую губернию. Однако злоключения бывшего статс-секретаря на этом не заканчиваются: в 1800-м против него возбуждают новое уголовное дело – о присвоении казенной земли в Новороссийской губернии. Следует заключение в Шлиссель-бургскую крепость, откуда Грибовский выходит благодаря хлопотам жены всего за месяц до убийства императора. Отказавшись служить новому государю, Адриан Моисеевич потихоньку распродает свои дома и имения, что позволяет ему добрых лет десять жить припеваючи, отдаваясь музицированию, к которому он имел великую склонность. На свою беду, Грибовский решил заняться откупами и винокурением, но, желая поправить тем самым расстроенное состояние, пришел в еще большее разорение. В 1817-м он вынужден был объявить себя банкротом, неспособным платить долги. Однако нашлись такие, кто усомнился в его добросовестности, подав жалобу в Сенат. Началась длительная тяжба, потребовавшая поездок в обе столицы. Находясь с 1829 по 1833 год в Петербурге, Адриан Моисеевич вел подробный дневник; отдельные записи в нем представляют, по моему мнению, интерес для любознательного читателя. «1830 год. Июня 4 – В Летнем саду, в круглом пруде, утопилась 17-летняя девушка, которая оставила на берегу шляпку и платье, и поэтому была замечена; по вытащении из пруда она была уже мертва… Августа 17 – После обеда был в Таврическом саду, который находится в гораздо лучшем против прежнего виде, особливо ботанический сад, между которым овощные гряды как бы на картине были написаны. Чистота и опрятность примерны… В саду шум каскадов напоминает о величии основателя его (то есть князя Г.А. Потемкина. – А. И.); вся вода из Лиговского канала в него проведена, из которой составились немаловажной величины пруды и означенные каскады… Августа 20 – Был у князя Голицына, которым не был принят. Не полно ли ползать по лестницам знатных и мелких чиновников и иждивать (то есть тратить. – А. И.) последние крохи? Вышедши от этого вельможи, шута и святоши развратного, ходил по тротуарам в крайнем стеснении духа, сильно чувствуя свое уничижение и вспоминая, что этот камер-паж Екатерины II за счастие считал, когда А. (то есть Адриан; автор, как было принято в XVIII веке, говорит о себе в третьем лице. – А. И.) скажет ему ласковое слово, а теперь не хотел даже с ним видеться». «Развратный святоша» – это бывший министр просвещения князь А.Н. Голицын, которому юный Пушкин адресовал известную эпиграмму: Вот Хвостовой покровитель, Вот холопская душа, Просвещения губитель, Покровитель Бантыша… «Сентября 21 – После обеда ездил посмотреть Охту, которая будто бы получила это название по переселении на это место Петром I крестьян изнутри государства, которые долго горевали, приговаривая ох-mu, ох-ти\ Обе слободы стоят на правом берегу Невы, дома сплошно построены, большею частью деревянные, но есть и каменные, в два и в три этажа, на две или три версты; в средине верфь на реке Чернавке, где строятся корабли и другие суда, две церкви и съезжий дом с будками; обе слободы причислены к городу и составляют особую часть…» Наивное объяснение древнего названия Охта – любопытный пример народной этимологии, аналогичный приводимому М.И. Пыляевым в его «Старом Петербурге» толкованию другого старинного наименования, Автово. «1831 год. Февраля 10 – Проходя из Большой Миллионной к Зимнему дворцу, долго и с горьким чувством смотрел на Екатерининский балкон, вспоминая прежнюю свою счастливую жизнь. Вот на этом балконе иногда она стояла и разговаривала со своими близкими. (Балкон сей на углу, смотрит на Миллионную.) Вот здесь жил князь Зубов (первый дом от большого дворца), а под ним моя канцелярия. Вот здесь, где теперь экзерциргауз (ныне участок домов № 36, 38 и 40 по Миллионной. – А. И.) были мои покои, меблированные от придворной конторы. Но увы, все это жестоко изменилось после нее». В январе 1833 года многолетняя тяжба наконец-то разрешилась: Грибовскому удалось доказать свою правоту. А еще через год он навеки переселился туда, где не бывает ни споров, ни тяжб… Фавориты и временщики всегда любили выставлять напоказ свою преданность. Но встречались среди них и такие, кто вдобавок щеголял бескорыстием. Насколько это соответствовало действительности, читатели скоро узнают. «Преданный без лести Некоторые государи больше всего ценили в своих приближенных не ум, не самостоятельность суждений и даже не честность и порядочность, а личную преданность, готовность беспрекословно исполнить любоеприказание господина. Это качество Павел I и его сын Александр нашли в А.А. Аракчееве (1769–1834). Именно Павел, возведя его в 1799-м в графское достоинство и утверждая его герб, придумал знаменитый девиз «Без лести предан», переделанный современниками в обратном смысле: «Бес, лести предан». Нет ничего удивительного в том, что Аракчеев был любимцем Павла. Их роднила глубокая привязанность к мелочному соблюдению формы, внешнего порядка, стремление превратить людей в игрушечных солдатиков, обесчеловечить их. Стоило императору заподозрить хотя бы тень непослушания, и навлекший на себя его гнев немедленно подвергался ссылке в Сибирь или заключению в крепость. В подобных случаях Аракчеев также приходил в бешенство и мог откусить у солдата ухо или вырвать усы. Поражает то, что, казалось бы, мягкий, гуманный Александр, которого многие подданные именовали не иначе как «наш ангел» (недаром ангелу мира на Александровской колонне придано портретное сходство с царем), упорно не замечал или не хотел замечать таких отталкивающих черт характера Аракчеева, как его зверская жестокость с подчиненными, в особенности с нижними чинами, и нравственная нечистоплотность, а проще говоря – подлость по отношению к сослуживцам вообще. Однажды он чуть было не погубил этим всю свою карьеру, подвергнувшись длительной немилости Павла. Причиной же послужила следующая неприглядная история. Родной брат Аракчеева, Андрей, командовал артиллерийским батальоном. Как-то, в 1799 году, в арсенале случилась кража золотых кистей и галуна, похищенных с хранившейся там старинной колесницы. Караульными в тот день были солдаты артиллерийского батальона, поэтому ответственность ложилась на родственника графа. Желая его выгородить, Аракчеев донес императору, что караул был из полка генерала Вильде, которого вспыльчивый Павел тут же отрешил от службы. Однако невинно пострадавший генерал сумел через Кутайсова довести до сведения государя, как обстояло дело, и за ложное донесение графа Аракчеева отправили в отставку, продолжавшуюся до самой смерти Павла… А.А. Аракчеев При случае Алексей Андреевич не прочь был показать свою «простоту» и бескорыстие. Когда в январе 1808 года души в нем не чаявший Александр I назначил своего любимца военным министром, Аракчеев велел департаментским чиновникам съезжаться для представления новому начальнику в 4 часа утра, в лютую стужу. В назначенное время граф обратился к ним с такой речью: «Господа! Рекомендую себя; прошу меня беречь, я грамоте мало знаю, за мое воспитание заплатил батюшка четыре рубля медью. Я долго не хотел брать этого места, но государю угодно было непременно меня определить. Мне ничего не надобно, а будут у нас дела хорошо идти – вам вся награда». Вольно было царскому любимцу в пику «паркетным шаркунам» хвастать своей малограмотностью и мнимой простотой. Но так ли уж бескорыстен был «преданный без лести»? Да, он отказался от ордена Андрея Первозванного, снятого императором Александром со своей груди и присланного графу при милостивом рескрипте; но взамен получил право на неслыханное отличие: отдачу войсками почестей в присутствии самого государя. Отказался Алексей Андреевич и от звания фельдмаршала, очевидно поняв смехотворность положения полководца, ни разу не бывшего ни в одном сражении и благоразумно удалявшегося от малейшей опасности по причине, как он сам любил выражаться, «раздражительности нервов». А вот что пишет о «бескорыстии» графа его современник Н.И. Греч: «Аракчеев не был взяточником, но был подлец и пользовался всяким случаем для охранения своего кармана. Он жил в доме 2-й артиллерийской бригады, которой он был шефом, на углу Литейного и Кирочной улицы (на месте этого одноэтажного деревянного особняка уже сто лет как стоит нынешний Дом офицеров. – А. И.). Государь сказал ему однажды: „Возьми этот дом себе". – „Благодарю, государь, – отвечал он, – на что он мне? Пусть остается вашим; на мой век станет"». Бескорыстно, не правда ли? Но истинною причиною этого бескорыстия было то, что дом чинили, перекрашивали, топили, освещали на счет бригады, а если б была на нем доска с надписью «Дом графа Аракчеева», эти расходы пали бы на хозяина. Правда, в царствование Павла Аракчеев, в ту пору еще барон, обзавелся было собственным домом, точнее – тремя, из которых уцелел лишь один, и поныне стоящий на набережной реки Мойки (№ 35) у Зимней канавки, известный историкам Петербурга как «дом Аракчеева». 25 февраля 1797 года император Павел издал указ о постройке на Дворцовой площади экзерциргауза, то есть манежа, там, где позднее возвели Штаб гвардейского корпуса. Для этого понадобилось снести три здания, в том числе старый Почтовый двор и дом Брюса с флигелями, выходившими на Мойку. Набережная реки Мойки, дом № 35. Современное фото В июле того же года Аракчеев обратился к цесаревичу Александру Павловичу с таким слезливо-льстивым посланием: «Батюшка ваше императорское высочество! Осмелился принесть к вашему императорскому высочеству первую мою просьбу, касающуюся уж именно до меня. После сломанных домов, на котором месте теперь строится экзерциргауз в Миллионной, осталися от оных домов по Мойке назади… флигели, а именно от Брюсова дома; но как я квартиру имея во дворце не имею конюшни, сараев и для жительства своих людей места, то сделайте высочайшую милость, батюшка… доложите государю императору, чтоб оные флигели мне пожалованы были; они хотя теперь и переломаны, но я, употребивши на поправку их тысяч шесть, буду иметь у себя уже маленький собственный дом. Ваша милосердная душа, конечно, исходатайствует от государя императора оную милость, ибо кроме вашего императорского высочества я никого не имею». По своему обыкновению, господин барон явно прибеднился: в результате «поправки тысяч в шесть» на месте «переломанных флигелей» вырос не один «маленький собственный дом», а целых три, стоявшие по набережной в ряд и оцененные в «Табели полупроцентного сбора в доход городу» 1804 года в 30, 17 и 18 тысяч рублей! Первый из них, который и дошел до наших дней, был выстроен по проекту покровительствуемого Аракчеевым архитектора Ф.И. Демерцова, надо полагать бесплатно и едва ли не подчиненными Алексею Андреевичу солдатами. Однако уже в апреле 1800 года, после своей вынужденной отставки, Аракчеев продал его купцу А.К. Жукову, а вслед за тем и остальные два дома у него покупает сенатор В.С. Томара. При реконструкции в 1820-х Дворцовой площади они были сломаны. Больше граф Аракчеев домов в Петербурге не строил и не покупал: на его век хватило казенных… Есть русская пословица: «Начал гладью, а кончил – гадью». Поразительно, насколько она применима ко многим государственным деятелям, выступавшим в начале своей политической карьеры с самыми благими и гуманными намерениями, а закончившим ее весьма скверным образом. Вольнолюбивые реформаторские поползновения с годами испарялись как вода, и вчерашние либералы, то ли разочарованные в человеческой природе, то ли из-за неверия в собственные силы, превращались в яростных гонителей свободы. Начал гладью, а кончил… Среди тех, кто окружал молодого царя в ранние годы его царствования, выделяется, возможно, своей типичностью фигура Н.Н. Новосильцова (1768–1838). Он был родным племянником известного вельможи графа А.С. Строганова, и это во многом облегчило ему первые шаги по службе. Приобретя в доме дяди прекрасное воспитание, Николай Новосильцов сначала находился при дворе в качестве пажа Екатерины II, затем, повзрослев, отправился на войну (а они в ту пору велись почти беспрестанно), участвовал в Шведской и Польской кампаниях, получил боевую награду и дослужился до звания подполковника. В 1796-м, после смерти императрицы, он вышел в отставку и суровые годы павловского царствования провел не на плац-парадах, а на студенческой скамье, изучая математику и медицину в Англии. Именно эта страна, с ее прочными парламентаристскими устоями, сильной аристократией и слабой королевской властью, стала землей обетованной для многих русских дворян, игравших заметные роли во второй половине XVIII – начале XIX века. Граф С.Р. Воронцов, Н.С. Мордвинов, П.В. Чичагов, Н.Н. Новосильцов, граф В.П. Кочубей были убежденными англоманами. Им очень хотелось завести у себя на родине те же порядки, но они не очень отчетливо представляли себе, каким образом можно было бы этого добиться. Н.Н. Новосильцов Как ни странно, на первых порах сам государь, воспитанный республиканцем Лагарпом, поддерживал их устремления: и он тоже мечтал (или делал вид, что мечтает) о конституции, об освобождении крестьян, о справедливых законах. Новосильцов, сблизившийся с Александром еще в бытность его великим князем, по приезде из Англии сразу же вошел в тесный кружок сподвижников нового царя, прозванный в обществе «триумвиратом». В него входили также граф П.А. Строганов, которого его кузену Новосильцову пришлось в свое время чуть ли не стаскивать с парижских баррикад, и польский князь Адам Чарторыйский, лелеявший надежды помочь своей обездоленной отчизне. Вскоре к ним присоединился граф В.П. Кочубей, в ту пору тоже одержимый новыми идеями и тягой к реформаторской деятельности. Вместе они образовали то, что император в шутку называл Комитетом общественного спасения, а понаторевший в государственной рутине И.И. Дмитриев, неплохой поэт и в то же время крупный чиновник, – «партиею молодых людей образованного ума, получивших слегка понятие о теориях новейших публицистов и напитанных духом преобразования и улучшений». Н.Н. Новосильцов, старший по возрасту и опытнейший из них, не дававший своим соратникам чересчур увлекаться несбыточными теориями, сделался самым доверенным лицом Александра. По словам другого современника, государь «видел в нем умного, способного и сведущего сотрудника, веселого и приятного собеседника, преданного и откровенного друга, паче всех других полюбил его и поместил у себя во дворце». В доказательство своего доверия и расположения к Новосильцову император пожаловал его действительным камергером и статс-секретарем. Позднее он занял пост товарища министра юстиции, но фактически его значение было гораздо большим, и он направлял всю внутреннюю политику. Правда, длилось это недолго: спустя всего три года, в 1804-м, обновительский пыл царя поугас, реформы стали принимать сугубо бюрократическую направленность, а о конституции и освобождении крестьян говорить вдруг перестали. Николай Николаевич, как человек умный, быстро сообразил, что мода на либерализм отходит и вот-вот совсем отойдет, а потому счел за благо временно удалиться со сцены, уехав надолго в Вену. Сделал он это не потому, что не мог смириться с переменой взглядов Александра, а лишь затем, чтобы публика успела подзабыть его собственные «увлечения». Из Вены, где раскаявшийся реформатор вел весьма бурный и неправедный образ жизни, он вернулся отягощенный дурными привычками, но зато полностью освободившийся от былых политических заблуждений. Отныне он – ярый консерватор, ополчившийся против всего того, что когда-то сам проповедовал. Назначенный в 1813-м вице-президентом временного польского правительства, а спустя два года – комиссаром (то есть уполномоченным, наделенным большой властью) в царстве Польском, Н.Н. Новосильцов проявил огромное рвение в наведении там отнюдь не либеральных порядков, восстановив против себя, а главное – против России все местное население. В 1824-м вдобавок к прежней должности его назначили попечителем Виленского учебного округа, и он повел себя таким образом, что вызвал поток жалоб, в том числе и в Третье отделение. В одной из них говорилось: «Новосильцов, преданный вину и женщинам, не зная на старости лет меры разврату и издержкам, взяв в управление университет, учредил в оном род тайного судилища и подобрал себе в помощники людей, известных безнравственностию, для добывания денег, составления доносов, преследований и представления всех дел в таком виде, как ему угодно… История не представляет примеров подобного угнетения, в котором находится Литва, где каждый чиновник, каждый помещик зависит от прихоти Новосильцова…» Кончилось все это Ноябрьским восстанием 1830 года, жестоко подавленным, но не прибавившим славы николаевскому царствованию… А Николай Николаевич, пожалованный в сенаторы и члены Государственного совета, занял в 1834-м место его председателя, получив в скором времени еще и графский титул. Когда ему напоминали о благородных стремлениях прошлого, он, смотря по настроению, то приходил в умиление и называл те времена счастливейшими в своей жизни, то презрительно усмехался, говоря о них как о глупостях и шалостях молодых лет. Грузный и отяжелевший, увешанный орденами и лентами, он ежедневно садился в экипаж, останавливавшийся у подъезда его квартиры в доме принца Ольденбургского на Марсовом поле, и отправлялся в Английский клуб. Пожалуй, это единственное, что напоминало о его былой англомании. Куда девались прежний аристократизм и изысканные манеры? Как-то на ежегодном клубном празднике председатель Государственного совета и Комитета министров граф Новосильцов, по свидетельству Н.И. Греча, так развеселился, что пустился плясать перед обомлевшими зрителями трепака! Таков был печальный конец одного из самых значительных деятелей той эпохи, которую поэт восславил как «дней Александровых прекрасное начало». В старину говорили: сердце царево в руке Божьей. Только этим и можно объяснить непонятное пристрастие монархов к людям, вряд ли того заслуживавшим… «Князь мира» вершит правосудие В последние годы, среди прочего, нам не везет и с министрами юстиции: то ли они не подходят к своей должности, то ли должность – к ним, но так или иначе министры быстро с ней расстаются, порой со скандалом, уступая мало насиженное место очередному претенденту. В утешение современникам могу сказать, что и в прошлом этот пост занимался иногда людьми совсем для него не пригодными и вдобавок, в отличие от нынешних, сидели они на нем подолгу. К примеру, князь Д.И. Лобанов-Ростовский (1758–1838), о котором пойдет речь, удерживал его за собой целых десять лет, успев за это время изрядно опостылеть всем, имевшим с ним дело. Князь вообще обладал даром возбуждать по отношению к своей персоне самые недружелюбные чувства, какие бы обязанности он ни исполнял. Д.И. Лобанов-Ростовский Благодаря знатному происхождению и богатству Дмитрия Ивановича служба его протекала более чем успешно: достаточно сказать, что за три года, с 1779 по 1782, он получил три очередных чина и был выпущен из гвардии Семеновского полка в армию подполковником. Но особенно блистательно его служебная карьера пошла при Павле: чем-то этот маленький, невзрачный человечек с тяжелым, неуживчивым характером пришелся по душе такому же вспыльчивому, сумасбродному императору. И хотя прослужил он при нем всего год, но успел за этот короткий срок получить генерал-майорский, а затем генерал-лейтенантский чин и в придачу орден Святой Анны 1-й степени. В 1807-м Александр I, неизвестно, по каким соображениям, возложил на Д.И. Лобанова-Ростовского, совместно с князем А.Б. Куракиным, ведение переговоров с Наполеоном, которые завершились подписанием Тильзитского мира. И хотя Дмитрий Иванович, в награду произведенный в полные генералы, играл при заключении этого непопулярного в русском обществе договора далеко не главную роль, молва почему-то взвалила всю вину именно на него, и в придачу к генеральскому чину он получил насмешливое прозвище Князь мира, которым титулуют Сатану. Причина, по всей видимости, крылась в невыносимой заносчивости и высокомерии Лобанова-Ростовского. Эти малоприятные свойства дали повод Ф.Ф. Вигелю так отозваться о нем: «Никогда еще ничтожество не было самолюбивее и злее, как в этом сокращенном человеке, в этом сердитом карле…» Можно было бы усомниться в справедливости такой характеристики, если бы она не подкреплялась высказываниями всех писавших о князе. Редко о ком мнения современников столь единодушны… Тем не менее одно за другим следуют непостижимые с точки зрения здравого смысла назначения его на важные и ответственные посты. В 1808-м он становится петербургским военным губернатором, но по своей бестолковости и бешеной грубости не мог долго им оставаться и уже через год вынужден был проситься в отставку. Разумеется, император отпустил его с почетом, наградив орденом Святого Александра Невского. Позднее Лобанов-Ростовский занимал другие высокие должности, а в 1817-м ему поручают Министерство юстиции. О том, как проявил себя Дмитрий Иванович в качестве блюстителя правосудия, видно из письма весьма осведомленного в государственных делах Н.М. Лонгинова к графу С.Р. Воронцову, посланного в мае 1823 года: «Он, стоящий на страже законов, постоянно поступал против них и жертвовал ими. Казалось, что его прихоти и причуды составляют весь закон… Живет он с гадкой женщиной, от которой у него много детей… и женщина эта на глазах у всех принимает все предлагаемое… Берет ли сам министр или не берет, как же не сказать, что в его министерстве все продажно, если там целая компания грабителей?» Справедливости ради следует сказать, что, когда император в 1822 году хотел поручить Лобанову еще и Военное министерство, тот, ссылаясь на старость, слезно просил государя уволить его от обоих. Однако Александр не мог решиться на замену столь ценного деятеля, и в результате Министерство юстиции осталось за князем. Стоило ли стесняться, чувствуя себя таким незаменимым? Как следует из письма Лонгинова, Дмитрий Иванович и не стеснялся… Конец его карьере положил уже новый царь – Николай I, предварительно удостоив алмазных знаков ордена Андрея Первозванного. Оставление князем своего поста в октябре 1827 года было встречено с восторгом. В донесении в Третье отделение Фаддей Булгарин, внимательно следивший за всеми слухами и толками в обществе, сообщал: «Ничто не может сравниться с радостью при известии об отставке министра юстиции Лобанова-Ростовского. Известно, что его любовница с шайкою своею делала, что хотела. Сам князь, по упрямству и горячности характера, никого не слушал, кроме людей, которые для своих выгод обманывали его». Фурштатская улица, дом № 6. Современное фото Съехав с казенной квартиры, отставленный сановник поселился в купленном им двухэтажном каменном особняке на Фурштатской улице (дом № 6), где, всеми забытый, и окончил свои дни. Если царские милости, непрестанно изливавшиеся на князя Лобанова, объяснить сложно, то причину блестящей карьеры Л.В. Дубельта, сделанной им в николаевское время, понять нетрудно: его, наряду с графом С.С. Уваровым, можно назвать настоящим идеологом «патриархального деспотизма» – системы взглядов, достигшей наибольшего расцвета как раз в ту пору. Певец несвободы В последние годы царствования Николая I по Петербургу ходил такой «анекдот». Начинавший свою карьеру откупщика В.А. Кокорев решил нанести визит управляющему Третьим отделением Дубельту, по слухам проявлявшему к нему сильный интерес. Кокорев посещает принадлежавший генералу особняк на Захарьевской. Хозяин принимает его отменно ласково, угощает сигарой, расспрашивает о делах, рассыпается в любезностях… Л.В. Дубельт На прощание он осведомляется о произведенном им на гостя впечатлении. «Я скажу откровенно, – ответил Кокорев. – Вам приходилось бывать на представлениях Зама (голландский укротитель, выступавший в столице. – А. И.); он входит в клетку льва, гладит его по голове, а публика с замиранием сердца любуется этим зрелищем. Но каково бедному Заму? Небось про себя он только и думает: „Унеси Бог поскорее!“» После этого Дубельт будто бы оказывал новому откупщику неизменное покровительство… Вероятно, Кокорев хотел подольститься к могущественному жандармскому начальнику, что ему и удалось. Но если уж прибегать к сравнениям из мира животных, Леонтия Васильевича уместнее было бы уподобить не льву, а хамелеону. Проделанный им путь к вершинам карьеры наглядно подтверждает это. В 1807-м Л.В. Дубельт (1792–1862) окончил курс в Горном корпусе и в чине прапорщика участвовал в кампании против Наполеона, а затем и в Отечественной войне 1812 года. Был адъютантом Раевского и Дохтурова, а с 1822-го – командовал Старооскольским пехотным полком. В молодые лета он, по словам Н.И. Греча, считался «одним из первых крикунов-либералов в Южной армии». Далее тот же Греч пишет: «Когда арестовали участников мятежа (14 декабря 1825 года. – А. И.), все спрашивали: «Что же не берут Дубельта?» Некоторое время он действительно находился под подозрением, но, как оказалось, членом тайных обществ не был, а лишь входил в масонскую ложу «Соединенных славян», где, помимо него, состояли цесаревич Константин Павлович, А.Х. Бенкендорф и А.Ф. Орлов. Уже тогда проявилось главное качество Дубельта, помогавшее ему во всей его дальнейшей жизни: слыть, но не быть. Он всегда принимал защитную окраску окружающей среды: между либералами слыл либералом, между консерваторами – консерватором. Обладал и еще одной удивительной способностью – мастерски подделывать любой почерк… Не добившись желаемых результатов от дружбы с вольнодумцами, уволенный в 1828-м в отставку, Леонтий Васильевич, по зрелом размышлении, перешел в лагерь их противников, поступив в начале 1830 года в жандармы. Мотивы такого решения с виду выглядели вполне безупречно. О них он, оправдываясь, писал жене: «Ежели я, вступая в Корпус жандармов, сделаюсь доносчиком, наушником, тогда доброе мое имя, конечно, будет запятнано. Но ежели, напротив, я… буду опорой бедных, защитой несчастных, – тогда чем ты назовешь меня? Не буду ли я тогда достоин уважения, не будет ли место мое самым отличным, самым благородным?» Понравившись Бенкендорфу, Дубельт быстро продвигается по служебной лестнице: уже в 1835-м он занимает должность начальника штаба Корпуса жандармов, а через четыре года становится управляющим Третьим отделением. За это время его политические воззрения приходят в полное соответствие с воззрениями столпов николаевской империи и в качестве таковых представляют интерес и в наши дни. О них Л.В. Дубельт поведал на страницах своего «Дневника», относящегося к 1840—1850-м годам, но опубликованного лишь недавно. Читая его, трудно отделаться от впечатления, что писался он с тайным расчетом на посторонний глаз, хотя задуман был, по мысли автора, в назидание сыновьям. Начинается «Дневник» общими рассуждениями в евангельском духе, однако они скоро переходят в патриотические тирады и похвалы царям, прошлым и нынешним. Есть там афоризмы, достойные Козьмы Пруткова, например: «В нашей России ученые должны поступать, как аптекари, владеющие и благотворными, целительными средствами, и ядами, – и отпускать ученость только по рецепту правительства». Или такой: «Иностранцы – это гады, которых Россия отогревает своим солнышком, а как отогреет, то они выползают и ее же кусают». Встречаются, впрочем, и записи, свидетельствующие о здравом смысле их автора. Интересен отклик Дубельта на события Февральской революции 1848 года во Франции; одно время Николай I всерьез подумывал о вмешательстве России с целью наведения «порядка» в этой стране. Дубельт был решительно против такой идеи: «Вся Европа станет за Францию, то где же нам справиться с целой Европой, когда и с Кавказом не справимся, хотя Кавказ нам домашнее дело и эта война идет у нас в кармане, под рукою, а и тут, сколько бьемся, а конца не добьемся!» И все же самым поразительным в устах бывшего либерала выглядит его восхваление и даже воспевание несвободы. «Наше правление, – рассуждает он, – стоит на самой середине между кровавым деспотизмом восточных государств и буйным безначалием западных народов. Оно самое отеческое, патриархальное, и потому Россия велика и спокойна». И делает логический вывод: «Наш народ оттого умен, что тих, а тих оттого, что несвободен». Взгляды Дубельта, а если говорить точнее – взгляды той властной верхушки, к которой он так идеально приспособился, далеко не столь архаичны и далеки от нас, как может показаться. Нам еще долго придется освобождаться от пут «патриархального деспотизма», пустившего в нашем отечестве прочные и глубокие корни. Слишком много тех, кто желал бы думать за нас и отпускать свободу «только по рецептам правительства»! Новый государь, Александр II, отнесся к Дубельту столь же милостиво, как его отец, и предложил в 1856 году стать преемником шефа жандармов князя А.Ф. Орлова. Однако Леонтий Васильевич скромно отказался от высокой должности, мотивировав это тем, что, по его убеждению, она требует титула и богатства. Очевидно, царь не понял намека, ругнул Дубельта «донкихотом» (!) и, отправив его в отставку, позволил каждую пятницу являться к нему без доклада, во время утреннего чая. Тем и закончилась карьера «певца несвободы». Но довольно о политиках и государственных мужах: пора бросить взгляд на представителей творческих профессий, тем более таких, которые оставили заметный след в увековечении образа Петербурга, один – мимолетными зарисовками, другой – бессмертными атлантами в портике Нового Эрмитажа. Однако начнем с мастера, чье имя у всех на слуху благодаря знаменитому роману Ильфа и Петрова. Писатели имеют право на вымысел! Последние годы над Петербургом витает дух Остапа Бендера: то и дело выясняются новые факты его туманной биографии, связывающие великого комбинатора с городом на Неве. Того и жди обнаружится, что он вовсе не плод фантазии гениальных одесситов, а вполне реальное лицо родом, скажем, с Итальянской улицы, где ему уже успели воздвигнуть памятник. Изображает он неутомимого охотника за сокровищами мадам Петуховой рядом с объектом его вожделений – гамбсовским полукреслом. Но если сам Остап Ибрагимович, на мой взгляд, все же целиком и полностью принадлежит Одессе, то вот изделие мастера Гамбса действительно могло появиться на свет на этой петербургской улице, только не в здании, возле которого поставлен монумент, а немного дальше – в доме № 17. Именно здесь более полувека размещались фабрика и магазин знаменитого мебельщика, а впоследствии и его сына. Генрих Даниэль Гамбс (1764–1831) приехал в Петербург из прусского городка Нейвида в 1795 году, вероятно наслышавшись о пышном дворе императрицы Екатерины II; кроме того, ему явно хотелось оказаться подальше от ожесточенных сражений между французами и австрийцами, что велись тогда вблизи этого тихого и спокойного поселения, образовавшегося вокруг древней княжеской резиденции. Явился он с весьма ограниченными средствами, а посему не стал терять времени и, подыскав подходящее помещение, известил горожан через «Санкт-Петербургские ведомости» о своих ближайших планах: «Механик Гамбс, обучавшийся своему художеству у Давыда Рентхена в Нейвиде, честь имеет известить почтенную публику, что он откроет сего Ноября 22 числа по Невскому проспекту против Казанской церкви в доме господ Еропкиных под № 297 магазин для продажи всяких мебелей. – В рассуждении потребы знатного капитала, как для сего заведения так и для содержания фабрики, имеет он производить продажу не иначе как за наличные деньги, напротив же того обещает продавать все за самые сходные цены» (Санкт-Петербургские ведомости. 1795. № 93). Итальянская улица, дом № 17. Современное фото Помимо мебели, магазин Гамбса (он находился в несохранившемся доме на углу Невского и Казанской) торговал также «электрическими машинами», воздушными насосами и прочими вещами, свидетельствовавшими о разносторонних дарованиях их изготовителя. Он недаром называл себя механиком; ему удалось найти применение этой стороне своего таланта в разнообразных хитроумных тайниках, оснащавших его бюро и секретеры; в свое время там было укрыто немало драгоценностей, но вот прятать бриллианты в стульях – это уже изобретение позднейшей эпохи… Дела пошли хорошо, и через четыре года Гамбс перебрался в более аристократическую часть города – на Большую Морскую улицу, где открыл мебельную лавку в нынешнем доме № 23. К тому времени он уже прочно стал на ноги: можно было подумать и о женитьбе. Подругу жизни Генрих нашел в дочери «цесарского», то есть австрийского, дворянина Антона Венкера фон Данкеншвейля, который, однако, несмотря на свое благородное происхождение, промышлял в столице портняжным делом. Оно принесло ему порядочное состояние и два каменных дома на смежных участках – Невском проспекте (№ 46) и Итальянской улице (№ 17), приобретенные еще в 1780-х у бригадира А.А. Саблукова. Брак с Шарлоттой Антоновной еще больше укрепил материальное положение Генриха Гамбса, позволив вдобавок перевести свое мебельное заведение в дом тестя на Итальянской (в ту пору она звалась также Садовой и Малой Садовой), где ему суждено было прожить до самой смерти. В феврале 1801 года, едва обосновавшись на новом месте, он объявил через газету, что «в Садовой улице… на мебельной Гамбсовой фабрике продаются за сходную цену, кроме разного сорта мебелей, лучший избранный фарфор и картины». Из этого следует, что Гамбс выступал против узкой специализации в торговле и, стремясь к расширению ассортимента, включал в него и другие предметы убранства покоев… Спустя полтора десятка лет слава мастера достигла расцвета: он удостоился почетного звания придворного механика и ему разрешено было разыгрывать изделия своего ремесла в лотерею. Вот одно из газетных объявлений того времени: «С дозволения правительства разыгрываться будет большая лотерея, изо 100 выигрышей состоящая и во 100 тысяч рублей оцененная. Выигрыши можно видеть ежедневно… с 9 ч. утра до 6 ч. вечера, а равно и билеты по 5 р. получать на фабрике Придворного Механика Гейнриха Гамбса, в Садовой улице под № 33. Сии выигрыши… состоят из собрания прекраснейших вещей и великолепнейших мебелей. Главный выигрыш – Архитектоническо-Механическое музыкальное бюро с позолоченною бронзою» (Санкт-Петербургские ведомости. 1815. № 95). Многие из работ Гамбса, выполненные по рисункам В. Бренны и А. Воронихина, украшали пригородные царские дворцы, и до сих пор их можно видеть, например, в Павловске; это подлинные шедевры мебельного искусства, не уступающие произведениям таких мастеров, как Д. Рентген или А. Жакоб. У Гамбса родилось трое сыновей; старший из них, Петер, продолжил дело отца, который скончался в 1831-м, возможно от свирепствовавшей в тот год холеры. По семейному разделу между вдовой Гамбса, ее матерью и сыновьями именно Петеру достался дом на Итальянской, где помещались фабрика и магазин. Участок на Невском (№ 46) был тогда же продан генерал-майору А.Н. Сутгофу. Отныне Петер Гамбс стал главой фирмы, и на его долю выпала нелегкая задача поддерживать ее высокую репутацию. А в том, что она была таковой, лишний раз убеждают слова И. Пушкарева, автора известного труда «Описание Санкт-Петербурга», вышедшего в свет через несколько лет после смерти знаменитого мастера. В главе о мелкой промышленности он пишет: «Из множества мебельных мастеров прежде первенствовал над всеми покойный Гамбс… отличный художник в этом роде, и мебели его славились красотою и прочностию. Все, что было изобретаемо нового в Европе, непременно появлялось в его магазине. В память любви к своему ремеслу он оставил несколько механических бюро с музыкою и множеством потайных ящиков, открывающихся и закрывающихся при подавлении скрытой пружины. Одно такое бюро ценилось в 30 000 рублей. Наследники Гамбса до сего времени поддерживают заведение». Вообще надо сказать, гамбсовская мебель стоила чрезвычайно дорого и предназначалась для людей с солидными доходами… В 1836 году Петер Гамбс заказал начинающему архитектору Г. Боссе перестройку пришедшего «в немалую ветхость» дома, которому в ту пору было уже около ста лет. Возведенное зодчим двухэтажное здание на высоких подвалах (третий этаж надстроили в конце XIX века) напоминает по стилю другую раннюю работу Боссе – особняк Е.Н. Нарышкиной на Сергиевской, 7, что неудивительно, так как их разделяет всего пять лет. И по сей день бывший дом Гамбса во многом сохранил свой наружный облик, несмотря на переделки, осуществленные Л. Бонштедтом в 1858–1860 годах, когда здание перешло к новому владельцу – Управлению Российских железных дорог. А незадолго перед тем фирма Гамбса, очевидно не выдержав растущей конкуренции, прекратила свое существование. Вот почему медная дощечка, которую будто бы обнаружили Остап Бендер и Киса Воробьянинов в недрах очередного стула, снабженная надписью «Этим полукреслом мастер Гамбс начинает новую партию мебели» и датированная 1865 годом, является, увы, анахронизмом. Впрочем, это ничуть не вредит художественным достоинствам романа: писатели имеют право на вымысел! Остановивший мгновение Тот, кто интересуется картинами жизни старого Петербурга, не может не знать художника А.О. Орловского (1777–1832). В его бытовых зарисовках остановлены мимолетные мгновения, позволяющие перенестись на много лет назад, увидеть уличные сценки, которыми могли любоваться Пушкин или Гоголь. Кстати говоря, поэт был знаком с Орловским, бывал у него в мастерской, восхищаясь его «быстрым карандашом» и «прекрасными рисунками», упоминал о них в своих произведениях. Возможно, рассматривая картинки с изображениями «Щеголя в дрожках» или «Офицера в санях», современники узнавали в них своих знакомых – уж очень характерны их лица. По рисункам Орловского им самим исполнено множество превосходных литографий. Жизнь его могла бы послужить сюжетом для приключенческого романа. Александр Орловский родился в Варшаве, в семье содержателя гостиницы, а если быть более точным – убогой «господы», то есть постоялого двора. О занятиях живописью никто из его родных, разумеется, и не помышлял. Художественные способности в мальчике обнаружились очень рано, но, скорее всего, они бы бесследно заглохли, если бы не счастливый случай: его рисунки попались на глаза княгине Чарторыйской. По ее ходатайству Александр был принят в учение варшавским живописцем, французом по происхождению, Норбленом. Правда, он не дал мальчику хорошей профессиональной подготовки, но зато не стеснял его творческой фантазии, предоставив своему воспитаннику самому выбирать сюжеты для рисунков и карикатур. В 1794 году охваченный патриотическими чувствами Орловский покинул Норблена и примкнул к восстанию под предводительством Тадеуша Костюшко. В одной из стычек он был ранен и, вернувшись в Варшаву, отказался в отчаянном положении. Помог ему тот же Норблен, разыскав и вновь приняв его к себе. Однако неспокойный и даже буйный нрав ученика то и дело приводил к столкновениям с учителем. А.О. Орловский Орловский снова оставляет Норблена и целый год скитается неизвестно где, одно время даже подвизаясь в труппе какого-то фокусника. Наконец он берется за ум, возвращается в мастерскую и возобновляет занятия живописью, делая заметные успехи. Ему свойственна острая наблюдательность, порой – блестящая техника, но отсутствие строгой художественной школы становится причиной серьезных пробелов и приводит к тому, что некоторые детали он так никогда и не научится рисовать. Потом были странствия по Литве, где художник надеялся собрать средства для поездки в Италию, но эта затея успеха не имела. Зато, вернувшись в Варшаву, Александр знакомится с князем Юзефом Понятовским, который принимает в нем участие и назначает вполне приличное жалованье. Однако Орловский не оставляет мечту накопить денег для путешествия в обетованную землю всех художников и с этой целью в 1802 году приезжает в Петербург, где ему суждено было остаться навсегда. Поначалу он очень нуждался, но счастливый случай помог ему и здесь. Заручившись поддержкой и расположением нескольких влиятельных лиц, Александр Осипович, как отныне будут его называть, получает аудиенцию у великого князя Константина Павловича. Очарованный умом и острым языком художника, брат русского императора помещает Орловского в принадлежавшем ему Мраморном дворце и добивается назначения его придворным живописцем. С того дня началась официальная карьера Александра Осиповича. Его обязанности состояли в исполнении требований великого князя, заказывавшего ему разные рисунки «по предметам, относившимся до образования и преобразования русской армии и до современных событий, в которых она со славой участвовала». Произведения Орловского приобретают широкую популярность в столичном обществе. По просьбе французского посла Коленкура он исполняет серию рисунков, изображающих быт северных народов, благодаря чему становится известен и за границей. Вот как описывает этот период жизни Александра Осиповича в своих воспоминаниях вице-президент Академии художеств граф Ф.П. Толстой: «Он бойко рисовал… и с поразительным искусством улавливал сходство тех лиц, которые попадали в его до крайности смешные карикатуры. Не менее ловко рисовал он казаков, башкир и лошадей… Будучи человеком весьма не глупым и в обществе находчивым и ловким, Орловский, благодаря своим односторонним способностям по искусству, скоро вошел в моду между военною молодежью». Типы для своих многочисленных рисунков художник брал не с потолка, он много путешествовал по России, знакомясь с народными обычаями и нравами. В 1809 году его самолюбие было удовлетворено: за картину «Бивуак казаков» ему присвоили звание академика батальной живописи. Иногда положение придворного живописца доставляло Орловскому немало огорчений. Однажды, в конце 1820-х, он написал большую картину (что делал весьма редко), изображавшую переход Суворова через Альпы, проработав над ней несколько месяцев. Все, кто видел картину, очень ее хвалили. Гордый своим произведением художник намеревался поднести его императору Николаю I. А.О. Орловский. Казаки верхом (Атаманский полк). 1820 г. Но когда министр двора князь П.М. Волконский увидел полотно, то заметил в форме солдат «важную» ошибку: на мундирах оказалось одной пуговицей больше, чем положено. Сделав художнику строгий выговор, министр отказался принять картину. После его ухода взбешенный Орловский схватил нож и изрезал холст на мелкие кусочки… Он вообще отличался вспыльчивостью, порой доходившей до жестокости. В гневе Александр Осипович был страшен, особенно учитывая его необыкновенную физическую силу, коей он очень гордился и любил хвастать. Его первая жена, зная о желании мужа иметь потомство, после четырехлетнего бесплодного брака решилась на обман: трижды, во время его отсутствия, она «рожала» ему детей, которых на самом деле брала из воспитательного дома. Когда горничная донесла об этом Орловскому, он пришел в ярость, прогнал жену, отдал детей обратно в воспитательный дом и добился суда над доктором и акушеркой, бескорыстно помогавшими его супруге. Вторая жена Орловского, Елизавета Данебек, немка по национальности, имея опыт общения с дикими животными (она была содержательницей зверинца), сумела лучше с ним поладить и родила ему двоих, на сей раз уже его собственных детей. Александр Осипович был страстным коллекционером, собиравшим картины, старинное оружие и рыцарские доспехи. Но самым ценным в своей коллекции он считал собрание старого итальянского фаянса, живопись на котором, по утверждению Орловского, принадлежала кисти молодого Рафаэля. Несмотря на большую физическую силу, здоровье художника оказалось не очень крепким: он умер еще не старым человеком, оставив после себя, кроме бесчисленных рисунков, также несколько десятков картин масляными красками, многие из которых ныне хранятся в Русском музее. Среди них и приведенный на снимке автопортрет Орловского в экзотическом черкесском, или казачьем, наряде. «Атланты небо держат на каменных руках» Эти стихи невольно всплывают в памяти, когда смотришь на знаменитый портик Нового Эрмитажа, уже полтора столетия украшающий Миллионную улицу. Второе, что приходит на ум, – трагическая судьба мастера, создавшего гранитных богатырей. Увы, Александр Иванович Теребенев не имел сил нести жизненные тяготы со стойкостью своих каменных творений и рухнул под их грузом. Родился он в 1815-м, в год смерти своего отца, известного скульптора и рисовальщика, особенно прославившегося в Отечественную войну лубочными карикатурами на французскую армию и самого Наполеона. Александр пошел по стопам отца и деда, избрав наследственную профессию скульптора, и в 1836-м окончил Академию художеств с малой золотой медалью. Удостоенный звания художника XIV класса, он был оставлен при Академии. В скором времени А.И. Теребенев принял участие в возобновлении пострадавшего от пожара Зимнего дворца, проявив при этом недюжинное дарование, а затем подтвердил свои способности, выполнив аллегорические группы для парадной лестницы Опекунского совета на Большой Мещанской (ныне Казанская ул., 7). В 1845 году ему присваивают звание академика. А.И. Теребенев Теребеневу принадлежит честь создания первого скульптурного изображения А.С. Пушкина: сразу же после смерти Александра Сергеевича его друзья заказали начинающему ваятелю небольшую статуэтку поэта в полный рост. Несмотря на ее внешнюю обыденность и некоторую скованность, современники увидели в ней немало достоинств, главным из них было портретное сходство. М.Ф. Каменская в своих воспоминаниях пишет, что «Теребенев как-то особенно поймал… тип и выражение лица Пушкина; он точно такой, каким я его помню в Царском Селе во время нашего с ним первого знакомства». Популярность теребеневского произведения была так велика, что уже в ноябре 1837 года автор вынужден был подать в правление Академии просьбу пресечь изготовление подделок под его статуэтку, пользовавшихся большим спросом. То была пора надежд и успехов молодого, красивого скульптора, которому везло и в любви: начавшийся еще в старших классах Академии роман с дочерью почтенного профессора живописи Дунечкой Егоровой закончился счастливым браком. Жена его была хороша собой; недаром отец, сотворивший множество образов для петербургских храмов, писал с нее и с двух ее сестер ангелов… В 1842-м рядом с Зимним дворцом, на месте сломанного Шепелевского дома на Миллионной, приступили к возведению нового музея по проекту мюнхенского архитектора Лео Кленце. Через три года здание подвели под крышу. Главный его фасад намечено было украсить портиком с десятью фигурами атлантов из серого полированного гранита. По принятому варианту скульптор Гальбиг в Мюнхене сделал модель атланта в малом размере. Она была доставлена в Петербург, и в 1846 году А.И. Теребенев собственноручно изваял ее в натуральную величину, после чего бригада из ста пятидесяти каменотесов в два года завершила титанический труд по изготовлению статуй. Ближайший помощник Александра Ивановича, каменных дел мастер Г.А. Балушкин, позднее вспоминал, что каждому из них было назначено свое, особое задание, кто к чему приучен был: один обрабатывал низ, другой – руки, третий – ноги, четвертый – торс. Но лицо каждой фигуры скульптор отделывал своими руками, ему же принадлежит пластическая моделировка статуй, то есть передача напряжения и силы. Помимо атлантов, Теребенев также изваял все гранитные гермы (четырехгранные столбы с человеческими головами. – А. И.) между оконными проемами и скульптурные украшения фасада на Зимнюю канавку. Осенью 1848 года все было готово. Сам Л. Кленце высоко оценил искусство мастера. «Красота и благородный стиль этих скульптур, – писал он, – чистота и тонкость работы и блеск полировки не оставляют желать ничего лучшего…» Работы производились в несохранившемся здании манежа Гвардейского корпуса у Зимней канавки. Император Николай I часто посещал мастерскую и следил за ходом дела. Каменотесы разместились во флигеле на Большой Конюшенной, а сам Александр Иванович с женой проживал поначалу в доме княгини Голицыной (Миллионная ул., 30), а затем переехал в дом Китнера у Конюшенного моста (наб. р. Мойки, И). Там он занимал великолепную квартиру из четырнадцати комнат, платя за нее 3 тысячи рублей серебром. Оттуда было рукой подать до места его новой службы в Эрмитаже, куда Теребенев поступил по окончании работ. Его служебные обязанности не были особенно обременительны – помогать профессору Бруни в наблюдении за сохранностью скульптур и античных статуй. Первое разочарование постигло мастера при распределении наград после завершения строительства музея в декабре 1850 года: за свой художественный подвиг он удостоился всего-навсего ордена Святой Анны 3-й степени, который обычно давали мелким канцелярским чиновникам за добросовестное переписывание никому не нужных бумажек. И сколько ни убеждал себя Александр Иванович, что творил он не для наград, а для потомства и что труд его останется в веках, – горечь обиды не проходила… Дальнейшие невзгоды не заставили себя ждать. Ранее, в том же 1850-м, супруги приобрели у одного немца, цехового мастера, каменный особнячок на 9-й линии Васильевского острова, выложив за него 4 тысячи задатку. А через год бывший хозяин подал на Теребенева жалобу и стал гнать его из дому, требуя остальных денег. Не терпевший судебных кляуз скульптор махнул рукой и простился с приобретенным жилищем, а заодно и с уплаченным задатком. Судьба проделывает с бедным Александром Ивановичем и его женой еще одну злую шутку. В 1851-м Авдотья Алексеевна получила после смерти отца шеститысячное наследство. На эти деньги супруги купили в захолустной 12-й роте Измайловского полка одноэтажный деревянный домишко, принадлежавший матери Теребенева, которая вторым браком была замужем за известным издателем и книгопродавцем И.В. Слениным. Но через несколько лет случился пожар, и дом сгорел почти дотла. Продав за полцены его остатки, Теребеневы в 1867-м перебираются в столь же захолустную Коломну. Житейские неудачи, а главное – отсутствие заказов на крупные работы, которые могли бы принести славу и деньги, подтачивали моральные силы, заставляя искать утешения в испытанном средстве – алкоголе. В результате Александр Иванович, не дослужив до пенсии нескольких месяцев, лишается должности. Начинаются горемычные скитания по квартирам в самых отдаленных и бедных частях города. Вскоре скончалась, не выдержавшая потрясений, жена, и Теребенев остается один, больной, без всяких средств к существованию. Ночует он где попало, то в сторожке у жалостливого дворника, а то и просто на скамейке в парке. 31 июля 1859 года прославленный скульптор умирает в палате для бедных Обуховской больницы. Так окончил свои дни один из последних мастеров николаевского классицизма. Вместе с ним уходила в прошлое целая эпоха, рушились старые каноны, небо падало на землю, и не было атлантов, способных удержать его… В России нужно жить долго Жизнь генерал-фельдмаршала князя Василия Владимировича Долгорукого (1667–1746) может служить наглядным примером бренности и непрочности человеческого существования, особенно в так называемые переломные эпохи. Родился и вырос он в старой, еще допетровской Руси и был пятью годами старше будущего императора. Начинал службу стольником при царях Иоанне и Петре Алексеевичах, продолжил ее в Преображенском полку, а первое боевое ранение получил в 1705 году при взятии твердыни курляндских герцогов – Митавского замка. Приставленный к малороссийскому гетману Мазепе, Василий Владимирович не сумел вовремя раскусить коварного и лукавого изменника, как не смог этого сделать и сам царь. Стихией князя был открытый бой и явный враг, что он не раз доказывал в дальнейшем. Незадолго до предательства Мазепы, в 1708 году, Петр доверил Долгорукому, в то время уже майору гвардии, подавление Булавинского бунта на Дону. Несомненно, учитывалось то, что у князя имелись личные счеты с восставшими, убившими незадолго перед тем его брата Юрия Владимировича. Восстание подавлялось с обычной для той суровой эпохи жестокостью, о чем Долгорукий письменно доносил царю: «Которые воры взяты на бою 143 человека, и я, государь, по дороге… велел поставить 20 виселиц и буду их вешать 17 числа и несколько четвертовать и по кольям растыкать». Повинившихся бунтовщиков велено было щадить, – казацкая сила могла пригодиться в дальнейшем. Петр настолько уверовал в способность князя Василия к быстрым и решительным действиям, что, несмотря на неудачу с Мазепой, поручил ему присматривать за новым гетманом – Скоропадским, накрепко приказав проявлять при этом величайшую бдительность. Через несколько месяцев грянуло Полтавское сражение, в котором В.В. Долгорукий проявил себя с самой лучшей стороны, заслужив чин генерал-поручика и пожалование богатыми поместьями. В неудачном для русских Прутском походе в 1711 году Василий Владимирович вместе с фельдмаршалом Б.П. Шереметевым на военном совете высказался против капитуляции, призвав «не класть оружия, но проложить штыками дорогу сквозь многочисленные ряды неприятеля». Однако силы были слишком неравны, и в итоге Петр вынужден был заключить с турками мир на невыгодных для России условиях. Тем не менее действия Долгорукого получили одобрение государя, который наградил его орденом Святого Андрея Первозванного. После этого князь успешно воевал в Польше, где, помогая Меншикову, с небольшими силами наголову разбил 15-тысячное войско противника. В.В. Долгорукий В 1715-м Василию Владимировичу, поставленному во главе комиссии, расследовавшей чудовищные злоупотребления по провиантской части, пришлось снова столкнуться со светлейшим князем, но уже как с крупнейшим расхитителем казны. Петр приказал Долгорукому явиться к нему с докладом в токарню, где он имел обыкновение коротать свой досуг. Выслушав сообщение, неопровержимо доказывавшее вину царского любимца и его подручных, государь задумался с мрачным видом. В этот момент раздался стук в дверь: Меншиков, очевидно предупрежденный Екатериной, вбежал в комнату и повалился Петру в ноги, умоляя защитить его от «злодеев». Видя тяжкую борьбу в душе царя между долгом и привязанностью, Долгорукий предложил вместо Меншикова (но непременно в его присутствии!) наказать другого участника хищений, рангом поменьше. Роль «мальчика для битья» – в буквальном смысле этих слов – была отведена новгородскому вице-губернатору Якову Корсакову, которого на глазах Меншикова подвергли жестокому наказанию кнутом, после чего сослали в Сибирь… В том же году случились еще два события, несопоставимые по важности, но весьма заметные в жизни нашего героя. Первое касалось личных дел князя: он получил на берегу Невы земельный участок под застройку и уже приступил к возведению на нем каменных палат (на месте дома № 24 по Дворцовой набережной). Второе произошло в самом конце года, когда заболевший государь вместо себя отправил в Польшу князя Василия Владимировича «для лучшего управления дел». Ему поручено было, действуя заодно с фельдмаршалом Б.П. Шереметевым, принудить магистрат города Гданьска прервать торговые сношения со Швецией и оказывать содействие, в том числе и военное, русской армии. Все поставленные царем задачи были успешно выполнены, кроме одной: члены магистрата наотрез отказались выдать в виде дополнительной контрибуции восхитивший Петра старинный триптих с изображением Страшного суда работы Ганса Мемлинга, не одно столетие украшавший один из городских храмов. Долгорукому пришлось смириться и отступить от своего требования. В 1718 году над головой князя, занимавшего к тому времени весьма видное положение в государстве, разразилось несчастье, надолго лишившее его всего достигнутого до сих пор. Под пытками царевич Алексей Петрович показал, что князь Василий советовал ему не бояться письменного отречения от наследования престола, ибо этот акт ничего не стоит нарушить, и хулил своего государя, говоря, что «если б не царица, нам бы и жить нельзя; я бы в Штетине первый изменил». Столь серьезные обвинения, вдобавок переданные в сгущенных красках его давнишним недругом Меншиковым, не забывшим прошлые «обиды», возымели, как и следовало ожидать, немедленное действие: арестованного князя в оковах доставили в Москву, где он был приговорен к лишению чинов, знаков отличия и имущества, после чего сослан в Казань. Сжалившаяся над бедным узником государыня, вероятно втайне от мужа, дала ему 200 червонцев на дорогу… Лишь в конце 1724 года, на исходе своего царствования, император, скорее всего, по ходатайству кого-нибудь из влиятельных родственников Василия Владимировича вспомнил наконец о прозябавшем в нищете и унижении изгнаннике, разрешив ему вновь поступить на службу в чине бригадира. Однако на глаза к себе не допустил, услав служить в Персию, где, так и не прощенный государем, он оставался вплоть до вступления на трон благоволившей к нему Екатерины I. Князю вернули ордена и пожаловали чин генерал-аншефа, а затем, стараниями Меншикова, желавшего любой ценой удалить его от двора, назначили главнокомандующим российскими войсками в Персии, где он прежде служил простым бригадиром. После этого Долгорукий отправился обратно к войскам с поручением добиться от шаха подтверждения земельных уступок в силу заключенного в 1724 году между Россией и Турцией мира. Быстро закончилось недолговечное царствование Екатерины, преждевременно умершей от застольных излишеств, и на трон вступил одиннадцатилетний отрок Петр II. Занесшийся сверх всякой меры Меншиков задумал женить его на своей дочери, но, допустив ряд промахов, вмиг лишился былого значения и отправился в далекую сибирскую ссылку. Большую часть меншиковских богатств поделил между собой клан Долгоруких, чье возросшее могущество зиждилось на дружеской близости юного государя с Иваном Долгоруким, семью годами старше его. Долгоруким очень хотелось иметь в своих рядах такого уважаемого и влиятельного сородича, как Василий Владимирович, а потому, под предлогом болезни, он был вызван из действующей армии и 25 февраля 1728 года, в день коронации Петра II, возведен в чины генерал-фельдмаршала и подполковника лейб-гвардии Преображенского полка. Тем временем старшие Долгорукие, в первую очередь хитроумный интриган князь Василий Лукич, задумали осуществить то, чего не удалось Меншикову с его дочерью: женить царя на представительнице их рода, выбрав для этой цели княжну Екатерину Долгорукую, сестру фаворита. Поначалу Василий Владимирович высказался против этой идеи, но события пошли своим чередом, и князь не стал им препятствовать. 30 ноября 1729 года состоялось обручение, а вскоре император заболел оспой и 19 января следующего года скончался четырнадцати лет от роду. На семейном совещании, состоявшемся незадолго до кончины Петра, большинство Долгоруких настаивало на том, чтобы в случае кончины государя провозгласить императрицей обрученную невесту покойного. Но тут решительно восстал В.В. Долгорукий, заявив, что они затевают «неслыханное дело», сулящее гибель всему их роду. «Не только посторонние, но и я, и прочие нашей фамилии на то не согласятся». Высказав свое мнение, старый фельдмаршал покинул собравшихся и уехал. Попытка Ивана Долгорукого предъявить подписанное им подложное завещание Петра в пользу сестры князя ни к чему не привела, а впоследствии, как и предсказывал Василий Владимирович, имела для рода Долгоруких самые гибельные последствия… Приглашенный на совещание Верховного тайного совета, В.В. Долгорукий высказался против ограничения самодержавия, что спасло его на первых порах от опалы в царствование Анны Иоанновны. Однако очень скоро ему пришлось вновь пережить то, что он уже испытал прежде. За какие-то неодобрительные высказывания его жены в адрес императрицы он, по доносу одного из придворных, 23 декабря 1731 года вторично был лишен чинов и знаков отличий, но на сей раз приговорен к смертной казни, «всемилостивейше» замененной ссылкой в Шлиссельбург, а затем в Ивангород. В 1739 году, когда Иван Долгорукий под пытками признался в существовании подложного завещания, начались новые гонения против Долгоруких, коснувшиеся и Василия Владимировича, сосланного в Соловецкий монастырь «на вечное заточение». К счастью для узника, подтвердилась старая истина, что ничего вечного не бывает, всем бедам рано или поздно приходит конец, надо только верить и ждать. Через два года наступило царствование императрицы Елизаветы Петровны, возвратившей престарелому В.В. Долгорукому все отобранные у него чины, ордена и звания, а вдобавок назначившей его президентом Военной коллегии. В этом звании он и скончался. В России нужно жить долго, тогда до всего доживешь! Когда знакомишься с биографиями известных деятелей Петровской эпохи, обращает на себя внимание некая закономерность: достигнув почестей, богатства и высоких чинов, многие из них в одночасье лишались всего и нередко кончали жизнь на виселице или на плахе. Виной тому были ненасытная алчность, безудержное взяточничество и нежелание отделять собственный карман от казенного. Редко кому из навлекших на себя царский гнев, но избежавших смерти удавалось впоследствии, хотя бы частично, вернуть утраченное значение. Самое удивительное в том, что жестокое наказание, как правило, не оказывало на виновных ровно никакого воздействия и, чудом спасшись, они продолжали совершать то, за что едва не поплатились жизнью, видя в постигшей их каре не справедливое возмездие, а лишь происки врагов или простое невезение. Низкий нравственный уровень не исключал важных заслуг, вознаграждать за которые государевы люди предпочитали себя сами. Когда все воруют, глуп тот, кто упускает удобный случай, – такова была тогдашняя чиновничья мораль, мало чем отличающаяся от нынешней. Типичным примером может служить личность барона Петра Павловича Шафирова (1669–1739), воплотившего в себе самые немыслимые противоречия. Взлеты и падения барона Шафирова Отец будущего барона и вице-канцлера был евреем из Смоленского воеводства и звался просто Шафиром, что по-польски означает сапфир. После присоединения этих земель к России по Андрусовскому договору 1667 года он, как многие из его соплеменников, перебрался в Москву и, приняв православие, обратился в Павла Филипповича Шафирова. Знание иностранных языков стало для него поистине драгоценным отличием, позволившим без труда подыскать почетную и выгодную службу в Посольском приказе. Следуя зову предков, в придачу к официальным занятиям Шафиров завел весьма обширную торговлю. Дела его, как служебные, так и коммерческие, похоже, складывались удачно, и при государе Федоре Алексеевиче бывший Шафир был пожалован в дворянское достоинство. Успехи отца помогли сыну получить превосходное по тем временам образование: он владел латинским, французским, немецким, польским и голландским языками, к которым позднее добавился также итальянский. Однако решающее значение в последующей судьбе Петра Павловича сыграли именно торговые занятия: рассказывают, будто бы, зайдя однажды в лавку, царь Петр приметил стоявшего за прилавком расторопного молодого человека, разговорился с ним и, узнав о его обширных лингвистических познаниях, назначил переводчиком в тот самый Посольский приказ, где некогда подвизался его родитель. С 1691 года началась государственная служба Шафирова. Поначалу он занимался почти исключительно переводами, причем не только официальных бумаг, но и тех иностранных книг, преимущественно календарей, которые, по мнению Петра I, могли оказаться полезными для развития его подданных. Уже в скором времени незаурядные способности нового «толмача» были должным образом оценены: в 1697 году его включили в состав Великого посольства, сопровождавшего государя в его путешествии за границу под именем Петра Михайлова. Оно имело целью создание антитурецкого военного союза, приглашение иностранных специалистов и закупку вооружений. П.П. Шафиров За время этой поездки Шафиров ближе познакомился с царем и удостоился хвалебных отзывов крупного деятеля той поры Ф.А. Головина, получившего через пару лет под свое управление внешнюю политику России. К этому же времени относятся и первые дипломатические поручения Шафирова. Он участвовал в трехсторонних русско-польско-датских переговорах накануне Северной войны, а в 1703 году Головин назначил его своим тайным секретарем. Однако самостоятельная деятельность Петра Павловича началась уже после смерти Головина, когда канцлерский пост занял Г.И. Головкин. Шафирову поручили при необходимости замещать его и заведовать текущими делами Посольского приказа. Занятие это было не из легких: Россия переживала тяжелые времена, оказавшись, по сути дела, один на один с могущественным противником – шведским королем Карлом XII, так как прежний союз распался. Приходилось настойчиво искать новых союзников, не теряя из виду и старых. На долю П.П. Шафирова выпали трудные переговоры с иностранными послами с учетом прямых указаний государя. Умение располагать к себе, внушать доверие, смягчать и затушевывать резкости, допускаемые царем, и обращать в свою пользу любые, не замечаемые другими мелочи – вот наиболее важные качества Шафирова как дипломата. В 1708 году Петр I отблагодарил его за усердие, пожаловав триста крестьянских дворов, а в 1709-м, после победоносной Полтавской баталии, наградил высоким чином тайного советника и званием вице-канцлера. Одновременно малороссийский гетман Скоропадский подарил ему два богатых села. В том же году государь передал под его управление почты, находившиеся в ведомстве Посольского приказа. А еще через несколько месяцев Петр Павлович первым удостоился доселе неслыханного на Руси баронского титула. Но главная роль Шафирова на дипломатической арене была впереди. В 1711 году Петр I предпринял с малыми силами неудачный поход против турок и в результате оказался в очень опасном, почти безвыходном положении, со всех сторон осажденный вражескими войсками. Чтобы спасти армию и выйти из окружения, царь готов был на любые жертвы. И вот тут-то в полной мере проявились не только дипломатические, но и купеческие способности барона: с помощью прямых подкупов и посулов он сумел выторговать мир на гораздо более приемлемых, чем изначально, условиях. Правда, ему пришлось остаться у неприятеля в качестве заложника впредь до исполнения договорных обязательств. Самыми тяжелыми среди них были запрещение русским войскам проходить через польские территории и сдача Азова. Их исполнение откладывалось, и это ставило вице-канцлера буквально на край пропасти. Лишь согласие царя на сдачу столь дорого доставшейся ему крепости, подтверждение обещания вывести войска из Польши и подкуп муфтия, имевшего большое влияние на султана, позволили барону в апреле 1712 года возобновить совершенно необходимый России Прутский мир. Но он не стал для Шафирова концом испытаний: враждебные козни французского посла и крымского хана, а также промедление с выводом войск привели к тому, что его вместе с российским послом П.А. Толстым и со свитой из двухсот человек заключили в Семибашенный замок, где от страшной скученности и недостатка воздуха они едва не задохнулись. К счастью, дальнейшие события оказались более благоприятными, что позволило вице-канцлеру возобновить прерванные переговоры и заключить 3 июля 1713 года новый, уже третий по счету и такой долгожданный мир. В результате Петр I, обезопасив себя со стороны турок, получил столь необходимую для него свободу действий против шведов, а Шафирову с Толстым было наконец разрешено вернуться в Россию. Заслуги барона и тут не остались без награды: в 1716 году он получил трехтысячную прибавку к жалованью, годом позже был назначен вице-президентом Коллегии иностранных дел, в 1719-м удостоился ордена Андрея Первозванного, а в 1722-м пожалован в сенаторы и произведен в действительные тайные советники. Наряду с плодотворной государственной деятельностью любивший хорошо пожить Петр Павлович не забывал и о личном обогащении. Для этого он не брезговал никакими средствами, соревнуясь с другим любителем наживы – А.Д. Меншиковым. Вместе с ним барон еще в 1703 году вошел в компанию, имевшую монопольное право на добычу в Белом море моржового, китового и тюленьего жира. Громадные и чрезвычайно прибыльные промыслы обогатили обоих, но одновременно жестоко рассорили. Соперничество постепенно переросло в лютую вражду, тем более что оба отличались вспыльчивым нравом. Начались взаимные доносы, что привело в конечном итоге к падению Шафирова. Его обвинили в присвоении части конфискованного имущества бывшего сибирского губернатора князя Гагарина, утаивании почтовых доходов и других злоупотреблениях. Известно, что Петр I ненавидел казнокрадов и безжалостно их карал, делая исключение лишь для незаменимого Данилыча, с которым разделывался собственноручно, с глазу на глаз. На Шафирова эти особые отношения не распространялись, поэтому приговор оказался суровым: смертная казнь через отсечение головы, назначенная на 15 февраля 1723 года в Московском Кремле. Вот как описывает ее очевидец: «С него сняли парик и старую шубу и возвели на возвышенный эшафот, где он, по русскому обычаю, обратился лицом к церкви и несколько раз перекрестился. Потом стал на колени и положил голову на плаху, но прислужники палача вытянули его ноги, так что ему пришлось лежать на своем толстом брюхе. Затем палач поднял вверх большой топор, но ударил им возле, по плахе, – и тут Макаров от имени императора объявил, что преступнику, во уважение его заслуг, даруется жизнь, но с тем, чтоб он навсегда оставался в заключении и был сослан в Сибирь». Правда, так далеко помилованный преступник не уехал, оставаясь до смерти Петра в Нижнем Новгороде, хотя и лишенный всего имущества и существовавший лишь на скудный ежедневный паек в 33 копейки… По иронии судьбы поднявшийся из низов Шафиров принадлежал к аристократической партии, с которой породнился, выдав своих дочерей за представителей титулованной знати. Чтобы не обострять с ней отношения, вступившая на трон Екатерина I немедленно вернула опального барона в столицу, пожаловав орденом Александра Невского и назначив президентом Коммерц-коллегии. В то же время, желая удержать от политических интриг, ему поручили писать историю Петра Великого, разрешив пользоваться всеми архивами. Однако тихая кабинетная работа не особенно привлекала живого, деятельного Шафирова, занимался он ею неохотно, отвлекаясь на суетные злобы дня, и в итоге широко задуманный труд остался лишь в проекте. В начале царствования Анны Иоанновны о нем снова вспомнили как о дипломате, поручив заключить договор с Персией, но то была скорее почетная ссылка, из которой он мечтал вырваться, чтобы возвратиться в Петербург. Отказавшись от соперничества с занявшим его пост графом Остерманом и сосредоточившись на управлении вновь отданной в 1733 году под его попечение Коммерц-коллегией, Петр Павлович обрел твердую почву под ногами. При этом он, перенесший столько невзгод, вовсе не думал отказываться от незаконных приобретений, напротив, отдался им всей душой, словно стремясь наверстать упущенное. Пользуясь положением президента Коммерц-коллегии, Шафиров, промышлявший торговлей смолой в Архангельске, намеренно сбивал цены и заставлял мелких смолокуров заключать с ним невыгодные для них сделки. Не упускал он своего и в Сенате: приговоренным за серьезные преступления к смерти купцам велел прозрачно намекнуть, что, заплатив ему по 1000 рублей, они смогут избежать казни, и, получив просимое, слово свое сдержал. Петр Павлович, казалось, был соткан из противоречий: человек низкого происхождения, добившийся всего своими силами, он непримиримо враждовал с таким же, как сам, простолюдином Меншиковым и действовал заодно с выходцами из боярских фамилий. Доносил на своего врага, разоблачая его плутни, и совершал точно такие же, подставляя себя под удар. Как дипломат он ревностно отстаивал интересы России, но в то же время не стеснялся принимать явно не бескорыстные приношения от иностранных послов. У большинства современных политических деятелей таких противоречий не встретишь, а на их гербах, если бы таковые имелись, следовало бы начертать девизы: «Воровство без заслуг» и «Личное благо превыше всего»! Не менее примечательна для Петровской эпохи личность старшего современника Шафирова, которому будет посвящен следующий наш рассказ. «Голова, голова, кабы не так умна ты была…» Царскому стольнику П.А. Толстому (1645–1729) суждено было сделаться пращуром графской ветви развесистого и весьма обильного плодами родословного древа дворян Толстых. Как и его гениальный потомок, Петр Андреевич дожил до глубокой старости, но на этом их сходство заканчивается: первый граф Толстой не питал никакой склонности к философическим раздумьям и, не помышляя о вечном, стремился брать от жизни то, что она могла ему предложить в данную минуту. Мало заботясь о любви небесной, он без остатка отдавался наслаждениям любви земной, говоря точнее – плотской, принося даже в очень преклонном возрасте посильные жертвы на алтарь Венеры. Да и жестокая эпоха, в которую ему довелось жить, не располагала к спокойным, неторопливым размышлениям о спасении души, то и дело предлагая головоломные задачи сохранения в целости хотя бы телесной оболочки. Младший из троих сыновей воеводы Андрея Васильевича Толстого, он появился на свет божий в тот самый год, когда на престол вступил государь всея Руси Алексей Михайлович, получивший прозвище Тишайший. Первой женой царя была М.И. Милославская, ставшая матерью Софьи, Федора и Иоанна, оставивших тот или иной след в русской истории. К тому же роду-племени принадлежала и мать Толстого – родная сестра боярина И.М. Милославского, одного из главных противников Петра I. Позднее старший брат Петра Андреевича, Иван, взял в супруги Марию Матвеевну Апраксину, приходившуюся свояченицей царю Федору Алексеевичу и сестрой будущему петровскому генерал-адмиралу Федору Матвеевичу Апраксину. Эти родственные связи во многом определили поступки и жизненный путь П.А. Толстого. П.А. Толстой Службу он начал в 1665 году, находясь при отце в Чернигове, там же принял первое боевое крещение, затем участвовал в Чигиринских походах князя В.В. Голицына против турок. В 1682 году, вслед за безвременной кончиной слабого здоровьем государя Федора Алексеевича, вспыхнуло восстание стрельцов. Во время страшного мятежа, старательно разжигавшегося царевной Софьей и ее приспешниками, Петр Толстой, входивший в их число, занимался подкупом стрелецкой верхушки. Этим его роль не ограничивалась: вместе со своим родственником Александром Милославским он открыто призывал рядовых стрельцов к «воровскому бунту». Как свидетельствует очевидец тех событий, сообщники «по полкам на прытких… лошадях скачучи, кричали громко, что Нарышкины царевича Иоанна Алексеевича задушили, и чтоб с великим поспешением они, стрельцы, шли в город Кремль». После того как живой и невредимый царевич Иоанн вместе с младшим братом Петром были предъявлены царицей Натальей Кирилловной беснующейся толпе, а ее собственный брат Иван Кириллович Нарышкин предан стрельцами мучительной смерти, страсти мало-помалу улеглись, и царевна Софья заняла вожделенное место правительницы при несовершеннолетних царях-отроках. В виде награды за свои действия во время Стрелецкого бунта Петр Андреевич удостоился дворцового чина комнатного стольника при царе Иоанне Алексеевиче. Здесь в драматических событиях жизни нашего героя наступает перерыв на целых семь лет, до того времени, когда возмужавший царь Петр, а если быть более точным – его приверженцы свергнут правительницу Софью и заключат ее в монастырь, взяв бразды правления в свои руки. Едва не лишившись во время очередной кровавой междоусобицы головы и осознав, что золотые дни для его благодетельницы, а стало быть, и для всех Милославских безвозвратно миновали, Петр Андреевич легко поддался на уговоры ранее упомянутого Ф.М. Апраксина и перешел на сторону набиравшего силу юного государя. Впрочем, тот долгое время испытывал к бывшему мятежнику вполне понятное недоверие, а посему услал его подальше от Москвы, назначив воеводой в Великий Устюг. Именно там в 1694 году, во время поездки Петра I в Архангельск, между ним и Толстым завязалось более близкое знакомство. Впрочем, обрести царскую милось оказалось делом чрезвычайно трудным даже для такого хитрого и вкрадчивого человека, каким был Петр Андреевич. Не помогли ни военные заслуги во 2-м Азовском походе 1696 года, ни самоотверженная готовность в уже немолодом возрасте отправиться для обучения морскому делу в Италию, хотя царь не без удовольствия откликнулся на это предложение. Полтора года, проведенные под теплым небом одной из цивилизованнейших стран Европы, произвели на пришельца из сурового северного края ошеломляющее впечатление: Толстой навсегда влюбился в Италию, в ее культуру и искусство, изучил итальянский язык и даже взялся переводить Овидия и Макиавелли! Не забывал он и тех наук, ради которых проделал столь долгий путь, прилежно изучая кораблестроение и математику, что, согласитесь, для пятидесятидвухлетнего человека выглядит настоящим подвигом. Находясь в Италии, Петр Андреевич впервые проявил свои незаурядные дипломатические способности, выступая в качестве официального представителя русского царя в Дубровнике, Бари и Риме. У него находилось время и на то, чтобы вести подробный путевой дневник, куда заносилось все достойное внимания. Написанный довольно легким для того времени слогом, этот уникальный документ эпохи подробно описывает быт и нравы итальянцев, памятники архитектуры, не забывая массу других примечательных подробностей. Среди прочего автора дневника поразило то, что венецианцы богаты, ведут трезвый образ жизни, платят небольшие налоги и, что выглядело особенно странным с точки зрения русского человека, не боятся своих правителей! Разумеется, такой завзятый женолюб, каким был Петр Андреевич, не мог обойти вниманием женские прелести итальянок, приведя сравнение между уроженками Неаполя и Венеции. Забегая вперед, стоит отметить, что впоследствии все итальянские художники и архитекторы, прибывавшие в Петербург по приглашению Петра I, находили самый радушный прием в доме П.А. Толстого, управлявшего, наряду с прочими своими занятиями, также Канцелярией иностранных дел. Нечего и говорить о том, что, вернувшись в 1699 году на родину, Петр Андреевич сделался убежденным сторонником самых радикальных Петровских реформ. К тому моменту он приобрел внешность настоящего европейца, явившись перед знавшими его людьми в совершенно новом обличье: безбородый, в модном длинном парике и узком камзоле. Однако, изменив наружность, Толстой остался тем же ловким, пронырливым интриганом, готовым пожертвовать чем угодно ради собственной выгоды, и если превосходил подавляющее большинство царских приближенных умом и образованностью, то уж никак не нравственными качествами. Трудно осуждать его за это: таковы были общепринятые правила и обычаи в той среде. Оказавшись без дела, он приложил массу усилий и, как говорят, расстался с 2 тысячами золотых червонцев, «подаренных» им влиятельному вельможе Ф.А. Головину с тем, чтобы тот замолвил за него словечко царю. После долгих колебаний Петр I, по-прежнему относившийся к новоявленному европейцу с некоторой опаской, в конце концов назначил его на ответственный пост посла в Константинополе, где тот провел долгих тринадцать лет, с 1701 по 1714 год. За это время государь вполне оценил дарования Петра Андреевича, сумевшего оплести султанский двор хитрыми сетями, настраивая визирей друг против друга и умело используя их соперничество в интересах своего монарха. Для достижения желаемого приходилось не скупиться на взятки, разумеется не забывая и себя. Некий совестливый, а вернее всего – обделенный секретарь посольства посчитал нужным донести об этом куда следует. К несчастью для него, жалоба попала не к царю, а к графу Ф.А. Головину, и тот, памятуя о прежнем подарке, по-дружески дал совет Толстому опасаться доносчика, а главное – немедленно возместить растрату. Чтобы обезопасить себя на будущее, Толстой, по утверждению одного французского дипломата, «вознамерился отравить секретаря, но не тайно, а предварительно предав его суду, в присутствии членов посольства, под предлогом неверности и недозволенных сношений с великим визирем. Призван был священник для напутствия приговоренного к смерти, и яд был дан в венгерском вине». Оставим приведенное обвинение на совести француза, но даже если оно справедливо, то среди, мягко говоря, предосудительных поступков Петра Андреевича история с секретарем выглядит далеко не самым тяжким грехом… Стоит заметить, что положение посла в тогдашней Оттоманской империи было отнюдь не безопасным, и во время осложнения российско-турецких отношений в 1710–1713 годах Толстой дважды оказывался в роли заключенного в Семибашенном замке. Хотя, как говорят, оттуда открывался пленительно красивый вид на Мраморное море и бухту Золотой Рог, узника это зрелище ничуть не успокаивало и, выйдя на свободу, он принимался настойчиво хлопотать о позволении покинуть опостылевший Константинополь. Лишь в 1714 году настал желанный день, когда П.А. Толстой смог прибыть в Петербург – новую столицу Российского государства, которой он еще не видел. При помощи крупного посула многоопытный в житейских делах Толстой первым долгом постарался снискать расположение могущественного А.Д. Меншикова. Государь принял бывшего посла в круг своих ближайших сподвижников, хотя нет-нет да и обнаруживал в отношении, казалось бы, безмерно преданного слуги прежнее подспудное недоверие. Как рассказывал впоследствии в застольной беседе граф Н.И. Панин, «когда… Петр Великой в компании подвеселится и Толстой тут, то Государь, снявши с него парик и колотя его по плеши, говаривал: голова, голова, кабы не так умна ты была, давно б я отрубить тебя велел». Эта шутка, вполне в петровском духе, заключала большую долю истины и, надо полагать, не особенно нравилась Петру Андреевичу, напоминая грубо и доходчиво, что он не в своей любезной Италии, а в России и имеет дело с царем-деспотом, перед которым следует трепетать, даже когда тот благодушно весел. Можно было утешать себя лишь тем, что с другими приближенными Петр обходился еще бесцеремоннее. Зная, к примеру, что «первый министр» Ф.А. Головин испытывает врожденное отвращение к салату и уксусу, государь, когда ему приходила охота невинно подшутить над беднягой, приказывал крепко удерживать его за руки и, по словам очевидца-иностранца, «в это время набивал ноздри и рот Головина салатом и уксусом, пока тот не закашливался так, что у него бросалась из носу кровь». Вообще же государь относился к Толстому в ту пору необыкновенно милостиво и в благодарность за понесенные в Турции труды и лишения пожаловал ему свой портрет, вырезанный на кости, с надписью: «Посылаю тебе мою рожу, собственноручно выполненную. Петр». Драгоценная реликвия долго хранилась в семье писателя Л.Н. Толстого, но в конце концов куда-то исчезла. Специальным царским указом П.А. Толстому предоставлялось исключительное право заводить мануфактуры, занимавшиеся изготовлением предметов роскоши, причем производство освобождалось от налогов. Он был сделан членом Совета по иностранным делам и в этой должности сопровождал Петра во время его второго заграничного путешествия в 1716 году, побывав в Данциге, Берлине, Париже, где участвовал в различных дипломатических переговорах. В скором времени и Петру Андреевичу довелось сослужить царю такую службу, которую тот не забыл до конца дней своих. Он отыскал и уговорил вернуться на родину царевича Алексея Петровича, вздумавшего, говоря современным языком, просить политического убежища у своего шурина, австрийского императора. Опасаясь возможных дипломатических осложнений, цесарь спровадил беглеца в Неаполь, где тот беззаботно наслаждался всеми радостями жизни в отведенном ему нагорном замке Сент-Эльмо в обществе своей любовницы, «девки Ефросиньи». В один далеко не прекрасный для царевича день их идиллия закончилась с появлением ненавистного П.А. Толстого, посланного царем вместе с А.И. Румянцевым со строжайшим наказом непременно разыскать и вернуть непокорного сына. По слухам, обнаружить местопребывание царевича удалось совершенно случайно. Призванный к одному из двух царских эмиссаров местный брадобрей плохо исполнил свою должность и, услышав от клиента крепкое русское слово, неожиданно рассмеялся. Когда его стали расспрашивать, чему он смеется, он указал на замок, где ему довелось стричь одного русского, и тот наградил его тем же словцом. Прибегнув к угрозам и заманчивым обещаниям, Толстой привлек на свою сторону Ефросинью, и та сумела добиться от безвольного царевича нужного решения. Как известно, по возвращении несчастного заточили в Петропавловскую крепость, где он и окончил б августа 1718 года свои печальные дни. Под вынесенным ему членами Верховного суда смертным приговором среди прочих стояла и подпись П.А. Толстого. По некоторым сведениям, после произнесения приговора Петр поручил П.А. Толстому, А.И. Румянцеву, И.И. Бутурлину и А.И. Ушакову «казнити Алексея Петровича смертию, якоже подобает казнити изменников государю и отечеству», но «тихо и неслышно», чтобы «не поругать царскую кровь всенародною казнию», что те в точности и исполнили, придушив царевича подушкой. В связи с разыскным делом в 1718 году была создана Тайная канцелярия, и возглавил ее тот же Петр Андреевич Толстой, очевидно сочтенный государем наиболее пригодной фигурой для расследования «изменнических» дел. Отныне царские милости и награды сыпались на него одна за другой: он жалуется поместьями, получает орден Святого Андрея Первозванного, а в 1724 году, по случаю коронации Екатерины, ему даруется графский титул. В богатстве и роскоши президент Коммерц-коллегии, а по совместительству главный мастер политического сыска, проводил свой досуг, окруженный преимущественно иностранцами, отчасти по собственной склонности, отчасти – желая угодить молодой любовнице-итальянке Лауре, которая прибрала старого сластолюбца к рукам, извлекая из его служебного положения немалую денежную прибыль. Чтобы прекратить неприятные толки, Петру Андреевичу в конце концов пришлось с ней расстаться, опять-таки не без пользы для себя: он, как явствует из донесения французского посла Кампредона, сумел убедить царя, что «Лауре очень удобно было бы поручить переговоры в Риме, которые она может повести тем верней и секретней, что все думают, будто она надоела ему, Толстому, и навсегда прогнана им, и, следовательно, никто не заподозрит, что ей поручили какое-либо дело». В конце концов Лаура отбыла на родину, снабженная тайным предписанием и 10 тысячами дукатов наличных денег. О том, как преходяще человеческое счастье, Петр Андреевич смог убедиться на собственном опыте, когда, не поладив с прежним приятелем и союзником Меншиковым по вопросу о престолонаследии, был лишен графского титула и заключен в ту самую Петропавловскую крепость, где при его активном участии оказался, а затем и расстался с жизнью царевич Алексей. Приговоренный к смертной казни, милостиво замененной пожизненным заточением в Соловецком монастыре вместе со старшим сыном Иваном, Толстой, должно быть, не раз вспоминал длинными бессонными ночами о безвинной жертве своего коварства. А впрочем, кто знает, о чем думают старики, когда им не спится?.. Человек, о котором нам предстоит говорить далее, благодаря своей ловкости и уму сумел благополучно миновать все опасности чрезмерной близости к трону и даже стремился по мере сил быть честным и справедливым, что выгодно отличало его от многих. Государево око Знакомство с личностью первого российского генерал-прокурора Павла Ивановича Ягужинского (1683–1736) приводит на память старую народную поговорку: пей, да дело разумей. Он обожал веселые застолья с плясками до утра, но на другой день способен был переделать столько дел, сколько обычному человеку и в неделю не осилить. В пьяном виде бывал «шумен» и вспыльчив, однако, протрезвев, неизменно поступал по справедливости, невзирая на чины и богатство. Обладатель разгульной русской души не был русским по рождению: отец его, бедный органист в одном из лютеранских храмов Немецкой слободы, прибыл в Москву из Литвы, где наш герой и появился на свет. Через некоторое время родитель будущего генерал-прокурора оставил свое малоприбыльное занятие и поступил на военную службу, достигнув майорского чина. Младший из двоих его сыновей, Павел, радовал отцовское сердце живым, веселым нравом и привлекательной наружностью. Этими качествами мальчик обратил на себя внимание фельдмаршала Ф.А. Головина, пожелавшего взять его к себе в пажи. Позднее мы видим Павла уже камер-пажом при дворе; в 1701 году случай дал ему возможность заговорить с царем, и это решило его дальнейшую судьбу: умная, складная речь молодого человека понравилась государю, и он велел его зачислить в гвардейский Преображенский полк. П.И. Ягужинский Для успешного продвижения по службе немалое значение имело то, что, помимо Петра, Ягужинский сумел понравиться и Меншикову, а также всем тем, от кого зависела его карьера. Для упрочения своего положения он перешел из лютеранства в православие, что дало ему возможность в 1710-м жениться на одной из богатейших невест — Анне Федоровне Хитрово и тем самым породниться с московской знатью. В то время Павел Иванович уже имел чин капитана Преображенского полка и звание камер-юнкера. В качестве адъютанта он сопровождал царя в неудачном Прутском походе, который лично для него оказался вполне успешным, доставив полковничий чин. Государь все сильнее привязывался к своему адъютанту, ценя его за расторопность и сообразительность, умение быстро схватывать суть дела во всех деталях. В 1712-м Ягужинский в числе немногих удостоился чести присутствовать при бракосочетании Петра и Екатерины и в том же году сопровождал царя в заграничной поездке. Но все это было лишь прологом к его будущей государственной деятельности. Она началась с важного дипломатического поручения: всемерно добиваться от датского короля, союзника России в Северной войне, реальной помощи в действиях против шведов. Однако, не имея средств для подкупа придворных (весьма важного рычага в закулисных переговорах), трудно было рассчитывать на успех, и все усилия Ягужинского оказались тщетными. Впрочем, это не повредило ему в глазах государя, понимавшего всю трудность поставленной задачи. Куда более радушный прием ожидал Павла Ивановича при прусском дворе. Король всячески старался выказать дружелюбие и расположение к русскому царю, хотя делал это, разумеется, не бескорыстно. Его страстью были рослые российские гренадеры, которых по совету Ягужинского он и получил в подарок от Петра в количестве ста человек, вместе с двумя овчинными шубами и несколькими черкасскими лошадьми. Попутно Павел Иванович устроил брак дочери покойного царя Иоанна Алексеевича, Екатерины, с герцогом Мекленбургским. В 1719 году вместе с Я.В. Брюсом и А.И. Остерманом он участвует в мирных переговорах со шведами, причем советует царю для скорейшего заключения мира снарядить к берегам Швеции военную экспедицию, что и было сделано. В процессе переговоров Ягужинский твердо настаивал на необходимости присоединения к России не только Эстляндии, но и Лифляндии (часть нынешней Латвии). В следующем году он отправляется в Вену с дипломатическим поручением, касавшимся, в частности, предполагаемого супружества герцога Голштинского с одной из дочерей Петра. Именно благодаря его настояниям герцог наконец решился на поездку в Россию, чего так долго добивался царь. Брак с великой княжной Анной Петровной, заключенный несколькими годами позже, положил начало новой династии, к которой принадлежали будущие правители России. 1722 год стал в жизни Ягужинского поворотным: государь назначает его генерал-прокурором Сената, оказав тем самым величайшее доверие. Правда, это назначение нельзя назвать совершенно неожиданным – уже ранее ему был поручен надзор за коллегиями, новым правительственным органом, пришедшим на смену прежним приказам. В обязанности генерал-прокурора входило «сидеть в Сенате и смотреть накрепко, дабы Сенат ту свою должность хранил и во всех делах… истинно, ревностно и порядочно, без потеряния времени, по регламентам и указам отправлял». О значении, какое Петр придавал новой должности, свидетельствует то, что генерал-прокурор не подчинялся никому, кроме самого государя, и вдобавок обладал правом законодательной инициативы. По мысли Петра, «сей чин, яко око наше и стряпчий о делах государственных, должен во всем верно поступать». Надо отдать П.И. Ягужинскому должное: он искренне стремился оправдать ожидания императора. Столкнувшись с целым морем злоупотреблений, в которых были замешаны высшие должностные лица, генерал-прокурор всемерно пытался с ними бороться, хотя масштаб обрушившихся дел нередко превосходил его силы и возможности. Однако там, где речь шла о готовности противостоять грубому произволу, явно попирающему законы, Ягужинский неизменно оказывался на высоте положения, не боясь вступать в конфликт с самыми знатными и влиятельными людьми. Показателен случай с одним приказным, имевшим несчастье встать поперек пути царице Прасковье Федоровне (вдове царя Иоанна Алексеевича) и самовольно подвергнутым ею мучительным пыткам в стенах Тайной канцелярии, куда она проникла обманным путем. Вызванный среди ночи Павел Иванович буквально вырвал полуобгоревшего колодника из рук служителей обезумевшей от ярости царицы, обвинив ее при этом в самоуправстве. Следует добавить, что кроме него никто не осмелился бросить вызов покровительствуемой царем вдове… После смерти Петра положение генерал-прокурора пошатнулось. Он поссорился с Меншиковым и чуть было не подвергся жестокой опале. Его спасло лишь заступничество герцога Голштинского. В дальнейшем, сблизившись с П.А. Толстым и А.И. Остерманом, Павел Иванович сумел вернуть себе расположение императрицы и даже вошел в ее ближайший круг. Он по-прежнему стремился быть полезным, защищая интересы крестьян и купечества в поданной государыне записке, но при дворе Екатерины I не склонны были прислушиваться к разумным советам. Иностранные дипломаты не переставали удивляться переменам, наступившим со смертью Петра. Саксонский посланник Лефорт 14 июля 1725 года доносил своему правительству: «Невозможно описать поведение этого двора: со дня на день, не будучи в состоянии позаботиться о нуждах государства, все страдают, ничего не делают, каждый унывает, и никто не хочет приняться за какое-либо дело, боясь последствий… Везде недовольны правлением, которое заботится только о своих удовольствиях…Дворец делается недоступным, полным интриг, заговоров и разврата». В таких условиях все попытки полезной деятельности не имели никаких шансов на успех. В 1726 году усилиями князя Меншикова Ягужинского отсылают послом в Польшу, где он находился почти до самой смерти Екатерины. При Петре II влияние лишенного генерал-прокурорской должности Ягужинского на ход дел в государстве было ничтожным, сводясь, по сути дела, лишь к выполнению придворных функций. Кончина императора-отрока вновь призвала отставного сановника к политической активности. Поначалу Павел Иванович примкнул к членам Верховного тайного совета, желавшим ограничить самодержавие в свою пользу. Однако он быстро понял, что олигархическая форма правления не сулит ничего хорошего для страны, а также для него лично, и послал гонца в Митаву, к герцогине Курляндской, будущей императрице Анне Иоанновне, посоветовав отложить окончательное решение относительно предложенных ей условий до приезда в Москву. Проведав об этом, «верховники» арестовали Ягужинского, подвергнув его допросам. Как известно, Анна вняла убеждениям тех, кто противился замыслам олигархов, и порвала пресловутые «кондиции». Ягужинский же, которому вернули утраченный пост генерал-прокурора, до конца своих дней пользовался милостью и доверием государыни. В продолжение ее царствования он ссорился и мирился с Бироном, враждовал с Остерманом, а за год до смерти был сделан кабинет-министром, но его деятельность в этот период не могла идти ни в какое сравнение с той ролью, какую он играл при Петре I. Такие люди, как Ягужинский, подобны орудиям, полезность или бесполезность которых целиком зависят от того, кто ими пользуется: в хороших руках они способны творить чудеса, а в плохих и неумелых – ржавеют и портятся. Мелкие интриги и забота о собственных интересах уравнивали его с прочими придворными, лишая ореола борца за справедливость, каким он обладал в прежние времена. Разгульный образ жизни преждевременно свел в могилу человека, о необыкновенных способностях которого говорили все знавшие его. Впрочем, в России такая судьба вовсе не удивительна… «Елизавета Петровна перехитрила лукавого француза» Нелегко современному человеку понять приемы тайной дипломатии XVIII века! Как-то плохо укладывается в голове, что для достижения цели претенденты на престол не гнушались прибегать к помощи иностранных держав, принимая на себя заведомо невыгодные для их государств обязательства. Это называлось политикой и принималось как должное. Именно такую партию попытался разыграть с великой княжной Елизаветой Петровной французский посол маркиз Иоахим-Жак де ла Шетарди (1705–1758). И.-Ж. де ла Шетарди Но прежде чем рассказать, что из этого вышло, бросим беглый взгляд на прошлое нашего героя, типичного знатного дворянина дореволюционной Франции. Он рано лишился отца, а его мать, женщина легкомысленная и расточительная, не оставила в наследство сыну ничего, кроме своих пороков. Молодому человеку, обладавшему ненасытным тщеславием и огромным самомнением, на первых порах пришлось прокладывать себе дорогу военной службой. Дослужившись до средних чинов, он пришел к выводу, что карьера дипломата сулит куда больше выгод и вместо того, чтобы подставлять голову под вражеские пули, гораздо лучше употребить ее по иному назначению. Восемь лет – с 1731 по 1739 – провел Шетарди в качестве посланника французского короля в Берлине, очаровывая прусский двор изысканной утонченностью и несравненными манерами, как вдруг, неожиданно для себя, получил новое, не слишком приятное назначение в российскую столицу. Надо сказать, что к тому времени в русско-французских отношениях существовал большой разлад: еще в 1726 году Франция отозвала своего посла и с тех пор не имела постоянного полномочного представителя в России. Между тем борьба с возрастающим австрийским влиянием настоятельно требовала присутствия такового в Петербурге, и Шетарди отправился туда, получив ясные и недвусмысленные наставления. Целью его должно было стать содействие возможному политическому перевороту, который ввергнул бы Россию в хаос и привел к утрате ею всякого политического значения. Почва для будущих дипломатических интриг казалась весьма благодатной: в стране усиливалось недовольство иноземным засильем; масла в огонь добавило намерение Анны Иоанновны завещать трон своей племяннице Анне Леопольдовне, отстранив при этом дочь Петра – Елизавету, пользовавшуюся всеобщей симпатией. Ходили даже слухи, что русские вельможи решили прибегнуть к поддельному завещанию Петра I, чтобы лишить императрицу трона и удалить из России наиболее ненавистных чужеземцев. Итак, воодушевленный почетной и благородной миссией избавления Европы от новых варваров, коих надлежало перессорить, посеяв между ними смуту и раздоры, маркиз Шетарди выехал 28 августа 1739 года в Петербург. Его многочисленная свита, состоявшая из 12 секретарей, 8 священнослужителей, 6 поваров и 50 пажей, поражала своим великолепием и призвана была показать русским дикарям, что такое Франция! После четырехмесячного путешествия Шетарди наконец прибыл в Северную столицу и немедленно увяз в бесконечных согласованиях придворных церемониалов. Чуть не год ему пришлось договариваться относительно того, кто кому должен поклониться первым, когда и с кем надлежит танцевать и кто будет начинать менуэт. За этими важными переговорами незаметно шло время, которое французский посол, по отзыву его английского коллеги, проводил в безделье и роскоши. Одно огорчало маркиза: знатные русские никак не хотели наносить ему визиты, вести доверительные беседы, делясь сокровенными мыслями о внутренних делах государства, и оставляли иностранного дипломата в неприличном уединении. Пришлось обращаться к вице-канцлеру Остерману с требованием заставить неучтивых вельмож посещать его; своей странной выходкой Шетарди, по всей вероятности, немало повеселил хитрого немца; тем не менее тот обещал ему свое содействие. В скором времени доселе неспешные события замелькали в ошеломляющем вихре. 23 октября 1740 года умирает императрица Анна. Перед самой ее кончиной Бирон сумел вырвать у государыни согласие на назначение его регентом до совершеннолетия недавно родившегося принца Иоанна Антоновича. Однако уже через три недели Бирона арестовывают, и на его место садится Анна Леопольдовна, провозглашенная правительницей при том же принце, ее сыне. В дело начинает активно вмешиваться Швеция, поддержавшая права на престол наследников Петра – царевны Елизаветы и герцога Голштинского (будущего Петра III). Разумеется, поддержка северного соседа была далеко не бескорыстной: шведы рассчитывали получить обратно отвоеванные у них Петром I земли. В июле 1741 года они объявляют войну России. За спиной Швеции стоит Франция, поддержавшая ее, по слухам, двухмиллионной субсидией, направленной как на военную помощь, так и на организацию в России партии сторонников Елизаветы, которые будто бы должны восстать в момент перехода шведами русской границы. Авторами этого хитроумного плана называли шведского посла Нолькена, маркиза Шетарди и лейб-медика Лестока, доверенного лица Елизаветы. На самом деле если такой план и существовал, то лишь в воображении тех, кто распускал подобные слухи. Об этом говорит уже тот факт, что начало военных действий не повлекло за собой никакого восстания, хотя у Елизаветы не было недостатка в приверженцах. Как ни странно, именно Шетарди, затеявший тайные переговоры с великой княжной и постоянно подбивавший ее принять помощь шведов, меньше всех верил в успех замышляемого переворота. Однако обстоятельства вынуждали его поторопиться, дабы не уступить Швеции пальму первенства в деле погружения России в «допетровское ничтожество», а именно это, по его мнению, должно было наступить после воцарения Елизаветы. Он начинает слишком часто ее посещать, чем навлекает подозрение властей на них обоих. По просьбе встревоженной царевны он ненадолго прекращает свои визиты, но затем возобновляет их с прежним усердием, суля ей финансовую поддержку короля Людовика XV. Самовлюбленный француз мнил себя великим политиком, полагая, что сумеет добиться от «легкомысленной» и «безвольной» Елизаветы всего, чего пожелает. Желал же он вкупе со шведским послом Нолькеном всего-навсего письменного обязательства земельных уступок Швеции в обмен на помощь при овладении отеческим престолом. Императрица Елизавета Петровна Эти переговоры, начатые в декабре 1740 года, продолжались до февраля следующего года, но оказались совершенно безуспешными, по крайней мере для обоих послов. Осторожная и неглупая Елизавета, так и не дав требуемого ими документа и ни на йоту не поступившись интересами России, сумела получить и содействие своим планам со стороны Швеции, и финансовую помощь от французского короля, которой воспользовалась для одаривания сторонников. Думается, впрочем, что и без того ей ничего не стоило при поддержке гвардии свергнуть непопулярный и едва державшийся режим… Все произошло как бы само собой, повинуясь естественному ходу событий. 24 ноября 1741 года гвардия, уже давно готовая встать на сторону Елизаветы, получила приказ выступить в поход: властям хотелось во что бы то ни стало убрать ненадежные войска из Петербурга. Это и послужило сигналом к действию. Приверженцы царевны, поняв, что дальше медлить нельзя, убедили ее встать во главе гвардейцев и арестовать Анну Леопольдовну. Между тем Шетарди всего за несколько часов до переворота доносил своему правительству, что «если партия принцессы не порождение фантазии (а это я заботливо расследую), вы согласитесь, что весьма трудно будет, чтобы она могла приступить к действиям, соблюдая осторожность, пока она не в состоянии ожидать помощи от Швеции». Из этого пассажа ясно видно, что французский посол, мягко говоря, не владел ситуацией, и, скорее всего, захват Елизаветой власти стал для него полной неожиданностью. Позднее, вспоминая о случившемся, сын фельдмаршала Миниха весьма резонно заключает свои рассуждения такими словами: «Последствия показали, что Елисавета Петровна перехитрила лукавого француза и ослепила шведов». Лучше и не скажешь! Вступив на престол, императрица наградила Шетарди сверх всякой меры, но отвергла все его попытки влиять на внешнюю политику России. Не добившись от нее согласия на посредничество Франции в мирных переговорах со шведами, разочарованный маркиз в сентябре 1742 года отбыл восвояси. Вторичное его появление в Петербурге, уже в качестве частного лица, в ноябре следующего года закончилось еще печальнее: замешанный в заговоре против вице-канцлера А.П. Бестужева и его брата, он был арестован и выслан на родину в 24 часа. Елизавета Петровна переиграла «лукавого француза» по всем статьям и не только не ввергла Россию в ничтожество, на что так надеялся Шетарди, но, напротив, подняла ее на новую высоту, чему он, сам того не ведая, в меру сил способствовал! Вообще говоря, западноевропейские государства всегда с удовольствием использовали любую возможность насолить России, прибегая для этого к самым разнообразным приемам, будь то «дружественное» посредничество в дипломатических спорах с соседними странами или поощрение всякого рода самозванцев и самозванок, которые время от времени неизвестно откуда появлялись на политическом горизонте, чтобы затем вновь погрузиться в небытие… Обман госпожи д’Обан Без сомнения, многим хорошо известна судьба пресловутой княжны Таракановой, выдававшей себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны от тайного брака с графом А.Г. Разумовским. Похождения этой загадочной авантюристки и ее трагический конец всегда привлекали к себе внимание, а посвященная ей картина художника К.Д. Флавицкого, хотя и искажавшая реальные события, прославила автора и принесла ему звание профессора живописи. Куда менее знакома история другой самозванки, некой госпожи д’Обан, скончавшейся в 1771 году в глубокой старости в одном из парижских предместий. Европейское общественное мнение, готовое поверить в любую нелепость, если дело касалось непонятной и внушавшей постоянные опасения России, легко позволило убедить себя в том, что в действительности под этой фамилией скрывалась принцесса Шарлотта, состоявшая в браке с покойным царевичем Алексеем Петровичем, чудом спасшаяся от смерти и бежавшая на Запад. Причиной ее побега стало будто бы нестерпимое обращение мужа, жаждавшего любой ценой избавиться от ненавистной иностранки, чтобы жениться на некой «русской барышне из фамилии Нарышкиных» и всячески ускорявшего гибель законной супруги постоянными жестокими побоями. Не довольствуясь этим, он, как рассказывали, девять раз (!) пытался ее отравить, и ей удалось уцелеть лишь благодаря противоядию, даваемому преданным врачом. В конце концов несчастной жертве посчастливилось ускользнуть от своего палача, выдав себя за умершую, а вместо нее заранее подкупленные люди подложили труп скончавшейся накануне служанки. Очевидная несуразность этой выдумки была далеко не столь очевидна для людей, чрезвычайно слабо осведомленных в событиях русской истории; что же касается распространителей подобных измышлений, то своей ложью они преследовали какую-то скрытую, но явно злонамеренную цель. Единственная, крошечная крупица правды заключалась в том, что сын Петра I, приверженец православных обычаев и заветов отечественной старины, и в самом деле не любил свою жену, немку по национальности, чуждой ему веры и взглядов, сосватанную для него отцом из чисто политических соображений. Шарлотта, которой ко времени замужества в 1709 году едва исполнилось пятнадцать лет, не проявила той зрелости ума и чувств, что позволили ее соотечественнице, принцессе Ангальт-Цербстской (будущей императрице Екатерине II), находившейся в момент прибытия в Россию в столь же юном возрасте, быстро здесь освоиться, овладеть языком и перестать чувствовать себя чужой. Принцесса Шарлотта Супруга царевича не только сохранила свое протестантское вероисповедание, но и отгородилась плотной стеной от всего русского, внушавшего ей непреодолимое отвращение. Она жила в окружении собственной свиты придворных, которых привезла с собой из родного Брауншвейга, страдая от равнодушия супруга, имевшего внебрачную связь с крепостной девкой, и от неприязненного к себе отношения царской родни. Убийственный петербургский климат довершил ее невзгоды, доведя дело до скоротечной чахотки, осложненной вторыми родами и общим нежеланием жить, что в результате привело злосчастную заложницу политических расчетов к преждевременной кончине на исходе 1715 года. Такова была простая и суровая правда. Но кого-то из западных политиков она, по-видимому, не устраивала, что и привело к немедленному уверованию в легенду о чудесном избавлении иноземной принцессы от русского изверга-мужа. Возможно, любознательные читатели захотят узнать дальнейшую судьбу мнимой Шарлотты, придуманную и расцвеченную кое-какими экзотическими подробностями. После бегства из России принцесса в сопровождении немца-слуги Вольфа (которого она выдает за своего отца) и девушки-служанки попадает сначала в Швецию, а оттуда переезжает во Францию, прямиком в город Париж, – именно там она почему-то рассчитывает обрести самое надежное пристанище. Однако этому помешала нечаянная встреча с одним из секретарей русского посланника князя Куракина, уставившимся на нее «с видом пристального и подозрительного изумления». Пришлось бежать еще дальше – на самый край света, каковым в ту пору считалась Америка, во французскую колонию (тогда еще не штат) Луизиана. Однако и там царственная беглянка, отныне являвшаяся миру в образе «девицы Вольф», умудрилась повстречать человека, видевшего ее в бытность свою в Петербурге и немедленно признавшего. Им оказался французский офицер, кавалер д’Обан, за два года перед тем побывавший в русской столице в поисках хорошо оплачиваемой службы. Посетив как-то раз случайно, из простого любопытства, придворную церковь, он заметил там принцессу, и грустное, подавленное выражение ее лица глубоко запечатлелось в его памяти. Не подав виду, что узнал Шарлотту, д’Обан твердо решил связать свою дальнейшую судьбу с судьбой этой загадочной женщины. Узнав, что новоприезжий намерен на сбереженные его «дочерью» ценности приобрести небольшую плантацию с чернокожими невольниками, расторопный кавалер поспешил распродать свои наследственные земли в Шампани и на вырученные средства основал совместно с господином Вольфом что-то вроде товарищества на паях. Сблизившись таким образом с предметом своих тайных помышлений, д’Обан признался Шарлотте в том, что узнал ее. Поначалу та пришла в отчаяние, но в конце концов уверовала в порядочность французского офицера и ограничилась тем, что взяла с него клятву в нерушимом сохранении тайны. Через некоторое время из далекой России до них дошла весть о трагической кончине злополучного царевича, но овдовевшая принцесса, приняв во внимание всю трудность, даже невозможность отстаивания своих владетельных прав, предпочла отказаться от них, удовлетворившись плантацией с неграми рабами. Между тем старик Вольф скончался, оставив свою мнимую дочь в весьма затруднительном положении, поэтому, когда д’Обан поведал ей о своих нежных чувствах (о которых она, разумеется, догадывалась) и предложил руку и сердце, Шарлотта особенно долго не задумывалась. Так бывшая принцесса неожиданно для себя стала женой пехотного капитана гарнизона местных войск в Луизиане. Постепенно она совершенно примирилась со своей скромной участью, родила дочь и, вероятно, до самой смерти не покинула бы Луизиану, если бы внезапная болезнь мужа не потребовала их обратного путешествия в Старый Свет. Далее легенда о невероятных приключениях бывшей принцессы развивается по уже накатанной колее: в Париже ее в очередной раз узнает прежний знакомец – граф Мориц Саксонский, с которого она опять-таки берет клятву в неразглашении тайны до истечения трех месяцев. В указанный срок граф посвящает в нее самого французского короля, а между тем выздоровевший д’Обан получает чин майора и назначение на один из островов в Индийском океане, куда супруги благополучно отбывают. Узнав о необыкновенной судьбе беглой принцессы, король Людовик XV повелел предупредить губернатора острова о необходимости бережного и уважительного к ней отношения, а затем оповестил австрийскую императрицу Марию-Терезию о том, что ее покойная тетка Шарлотта на самом деле жива-здорова и пребывает в качестве майорской жены на острове, принадлежащем французской короне. Обрадованная, но одновременно озабоченная племянница нашла способ оповестить новообретенную родственницу, что рада будет принять ее под свое покровительство, если та оставит супруга, неравного ей по происхождению, и переселится в австрийские владения. Однако виновницу этих забот предложение императрицы не прельстило, и она предпочла остаться госпожой д’Обан. Лишившись впоследствии сначала дочери, а затем и мужа, вторично овдовевшая принцесса в 1756 году вновь прибывает в Париж и поселяется в гостинице, где ее, по поручению короля, неоднократно навещает сам маршал Ришелье. По свидетельству этого вельможи, которое он не счел нужным утаить от доверенных лиц (благодаря чему оно, вероятно, и сделалось достоянием гласности), после всех перенесенных несчастий и ударов судьбы госпожа д’Обан мечтала лишь о том, чтобы избрать какую-либо религиозную общину, где могла бы дожить остаток дней в размышлениях о бренности всего сущего. Надо заметить, что у скромной вдовы имелись все возможности для спокойного, обеспеченного существования: австрийская императрица назначила ей пожизненную ренту в 45 тысяч ливров, а помимо этого нашлись средства и для приобретения за 112 тысяч франков богатого поместья Мельер-де-Витри в окрестностях Парижа, где она, как уже было сказано, и скончалась в 1771 году. На ее похоронах присутствовал австрийский посланник, ставший распорядителем траурной церемонии, а придворный священник французского короля аббат Сувестр повелением его величества совершил погребальную службу в местной приходской церкви. Историю самозваной принцессы Шарлотты не обошли вниманием такие личности, как русская императрица Екатерина II, будто бы написавшая по пунктам опровержение всех содержащихся в ней нелепостей, дав тем самым повод к невыгодной для себя публичной полемике: ей тут же припомнили, как нехорошо она обошлась с собственным мужем. Ранее же, еще в 1760 году, сам «фернейский отшельник» господин Вольтер, трудившийся в ту пору над «Историей Петра Великого», обратился с письмом к И.И. Шувалову по поводу ходивших в Европе упорных слухов о неожиданно воскресшей принцессе, перевоплотившейся в госпожу д’Обан. Известно с давних пор: самозванцы появляются сами по себе, а вот принимают (или делают вид, что принимают) их легенды на веру только те, кому это выгодно. Тот факт, что именно Австрия и Франция сразу и безоговорочно поверили в россказни госпожи д’Обан, ясно свидетельствует, кому был выгоден сей обман! Сын Отечества История российского чиновничества до такой степени кишит всякого рода мздоимцами, неправыми судьями, алчными корыстолюбцами, что, не будь среди этого скопища нечестивцев малого числа праведников, можно было бы потерять веру в человечество. К числу таких редких образцов следует отнести князя Якова Петровича Шаховского (1705–1777). Не так давно после более чем столетнего перерыва были переизданы его «Записки», впервые увидевшие свет в 1810 году. В них автор знакомит читателей, «любовь к добродетели и патриотический дух имеющих», с обстоятельствами своей жизни. Тот, кто возьмет на себя труд продраться сквозь чащу корявых, порой трудных для понимания слов, будет вознагражден знакомством с человеком, у которого современным чиновникам, право же, есть чему поучиться. Прежде всего – неуступчивости в защите государственных интересов, готовности до конца отстаивать справедливое, на его взгляд, дело, ну и, разумеется, умению преодолевать материальные соблазны. Проследим по порядку жизненный путь Я.П. Шаховского, приведший его в конце концов, хоть и ненадолго, к посту генерал-прокурора. Службу он начал в четырнадцать лет простым солдатом в Семеновском полку, и до офицерского чина ему пришлось тянуть лямку целых шесть лет. Я.П. Шаховской Военная карьера князя закончилась в 1740-м, когда его, ротмистра Конной гвардии, назначили на весьма «неавантажную» должность советника управления петербургской полиции. Этому предшествовали важные события. Дело в том, что, несмотря на высокие нравственные принципы, Яков Петрович оставался человеком своего времени, когда не считалось зазорным иметь высоких покровителей. На свою беду, он близко сошелся с кабинет-министром Артемием Волынским, посулившим ему выхлопотать сенаторскую должность. К сожалению, очень скоро низвергнутый вельможа окончил дни на плахе, а его приятель Шаховской вместо Сената попал на службу в полицию. И это еще можно было почитать за счастье, ибо многие из друзей Волынского оказались в Тайной канцелярии… Якова Петровича спасло то, что к нему благоволил сам Бирон. Став после смерти Анны Иоанновны регентом при малолетнем царевиче Иване, он тут же поставил князя «главноначальствующим» в полиции с чином действительного статского советника. Такой скачок из бывших ротмистров в штатские генералы выглядел совершенно невероятной удачей и объяснялся, скорее всего, желанием Бирона иметь на высоких постах верных себе людей. Однако уже через три недели и этот благодетель подвергся аресту, власть перешла к правительнице Анне Леопольдовне, а Бирон отправился в ссылку. Шаховской оказался в довольно неприятном и щекотливом положении, которое разрешилось тем, что его оставили товарищем новоназначенного генерал-полицмейстера. Судьба и в третий раз сыграла с ним злую шутку, когда очередной высокий покровитель, кабинет-министр граф М.Г. Головкин, добившийся его назначения в сенаторы, спустя короткое время также пал в результате дворцового переворота, возведшего на трон Елизавету. Шаховской и на сей раз был пощажен; правда, из сенаторов его исключили, но тут же предоставили пост обер-прокурора Синода, а чтобы подтвердить оказанное доверие, именно ему поручили отправлять недавнего благодетеля с прочими узниками в Сибирь… Началась одиннадцатилетняя служба Я.П. Шаховского в Синоде, ознаменованная бесконечной войной с верхушкой духовенства, не желавшей жертвовать даже малой частью своих доходов в пользу государства. Противники князя имели сильного и постоянного защитника в лице фаворита – А.Г. Разумовского, питавшего к ним по своему бывшему ремеслу церковного певчего неодолимую слабость. Тем не менее неуклонным соблюдением законов Шаховской приобрел такое доверие императрицы, что она почти всегда вставала на его сторону. В 1753-м Яков Петрович получил пост генерал-кригскомиссара, то есть главного интенданта, требовавший особой честности и порядочности. Однажды эти качества подверглись серьезному испытанию. При возобновлении невыгодного для России контракта с английским консулом Вульфом о поставке сукна для армии князю была предложена взятка в 25 тысяч рублей – деньги огромные! Соблазн оказался велик: у Шаховского подрастала дочь, которой требовалось приданое. Он попросил день для раздумий. Поражает искренность, с какой автор, ничего не утаивая и не выставляя себя безупречным праведником, описывает свою душевную борьбу. «Но напоследок, – пишет он, – собрав… примеры прежде бывших в свете патриотов, кои… не токмо убожество, но и многие бедствия терпеливо сносили, усчастливился я… из мыслей моих бродящие лакомства прогнать». Справившись с собой, он получил моральное право не потакать и чужим слабостям или пуще того – откровенной недобросовестности. Заняв в 1760 году должность генерал-прокурора, Шаховской повел себя круто и неуступчиво. Особенно часто приходилось ему давать отпор елизаветинскому «прибыльщику», графу П.И. Шувалову, который, прикрываясь мнимым радением о казенном интересе, по большей части набивал собственные карманы. Довелось Якову Петровичу столкнуться и с наследником престола, великим князем Петром Федоровичем. Услышав об отказе удовлетворить незаконные прошения покровительствуемых им фабрикантов и откупщиков, цесаревич со слезами досады поклялся, что, когда Бог возведет его на престол, Шаховскому не миновать эшафота. До этого дело не дошло, однако в первый же день после своего воцарения новый государь отрешил ненавистного ему генерал-прокурора от должности, назначив на нее весьма способного, но столь же жуликоватого А.И. Глебова. «Слывущий честнейшим… отставлен, а бездельником слывущий и от уголовного следствия спасенный Петром Шуваловым сделан на его место генерал-прокурором», – отмечает в своих «Записках» Екатерина II. Сама она неизменно благоволила к князю и, став императрицей, часто обращалась за советами и возлагала на него бесчисленные поручения. Зато и благодарила она с поистине царской щедростью, пожаловав бывшему генерал-прокурору, произведенному ею в сенаторы, за короткое время 35 тысяч рублей. В 1766-м изнуренный годами и болезнями Я.П. Шаховской отпросился на покой, занявшись на досуге разведением садов и воспоминаниями о прожитой жизни… Галерею сынов отечества, которую мы открыли портретом князя Я.П. Шаховского, продолжим изображением его старшего современника И.И. Неплюева (1693–1773). В чем-то их судьбы сходны, хотя один начал службу на суше, а другой – на море. Не щадя жизни Двадцати трех лет от роду Иван Неплюев, бедный дворянин, к тому времени уже женатый и имевший детей, был определен гардемарином на флот. В том же 1716-м Петр I выбрал из числа гардемаринов тридцать человек для обучения мореплаванию на галерах в Венеции. За скупыми строчками воспоминаний автора о годах «навигацкой науки» за границей чувствуется жизнь тяжелая, не всегда сытая и мало похожая на романтические сериалы. Не все смогли пройти это испытание, – кто умер, кто сбежал, но Неплюев, как записано в его аттестате, «показал себя в науке галерного мореплавания способным и искусным». По возвращении в 1718 году на родину он успешно выдержал экзамен, устроенный царем каждому из обучавшихся, и получил должность смотрителя над строящимися морскими судами. Однако в 1721-м судьба его круто повернулась: оставаясь морским офицером, он превратился в дипломата, заняв пост резидента в Константинополе. Сыграли роль как знание итальянского языка, так и репутация умного и добросовестного человека. В 1724-м ему удалось заключить мирный договор с Персией, по которому большая часть земель на западном берегу Каспийского моря отошла к России. И.И. Неплюев Несмотря на очевидную выгодность договора, Неплюева крайне тревожило, как-то он будет принят царем, и в письмах он просит разузнать об этом благосклонных к нему Г.П. Чернышева и А.И. Остермана. Забегая вперед, хочу сказать, что дружеские отношения с последним едва не станут причиной гибели Неплюева; тем не менее он не отрекся от поверженного вице-канцлера и в своих «Записках» называет его «человеком таковых дарований… каковых было мало в Европе». Что же касается договора с Персией, то опасения оказались напрасными: государь полностью его одобрил и наградил своего резидента очередным чином и 400 душами… В начале 1725 года Петр I умирает. Кончина императора глубоко потрясла Неплюева; он был безмерно предан покойному, видя в нем творца обновленной державы. «Сей монарх, – пишет автор, – отечество наше привел в сравнение с прочими; научил узнавать, что и мы люди; одним словом, на что в России ни взгляни, все его началом имеет». Верность и преданность вообще являлись основополагающими свойствами личности Ивана Ивановича: он никогда не отказывался от своих друзей и тех, кого считал таковыми; даже генерал-прокурора князя Н.Ю. Трубецкого, без колебаний и даже особой нужды предавшего его, продолжал относить к числу своих «благодетелей»… В 1734 году из-за подхваченной в Турции малярии ему пришлось оставить место резидента и вернуться в Петербург, чтобы занять должность члена Коллегии иностранных дел. Через несколько лет дипломатическая карьера И.И. Неплюева закончилась довольно неожиданным образом. В апреле 1740-го его отозвали из Малороссии, где он занимался урегулированием границы между Турцией и Россией, и включили в состав комиссии «для исследования вин кабинет-министра Артемия Волынского». Сделано это было по желанию вице-канцлера А.И. Остермана, хорошо осведомленного о натянутых отношениях Неплюева с главным обвиняемым. Повлияло ли это на конечный исход и был ли Иван Иванович, назначенный, наряду с правителем Тайной канцелярии А.И. Ушаковым, следователем по данному делу, совершенно беспристрастен? Наверное, это один из тех вопросов, которым суждено навсегда остаться без ответа. Несомненно лишь то, что Неплюеву были глубоко чужды олигархические устремления Волынского; к тому же верность престолу они понимали совершенно по-разному. В любом случае судьба Волынского и его друзей была предрешена… Вступление на трон Елизаветы могло положить конец не только служебной деятельности Ивана Ивановича, но и всей его прежней жизни. Ему припомнили близость к Остерману, а его мнимый друг и доброжелатель Н.Ю. Трубецкой, еще недавно спасенный им от подозрений в сочувствии к замыслам Волынского, желая выслужиться, усиленно топил своего избавителя, доказывая, что в том «душа остерманская»! Его лишают ордена и чина, отбирают недавно пожалованные поместья в Малороссии и сажают под домашний арест. Однако следствие не обнаружило в поступках Неплюева ничего преступного, и ему возвращают все, кроме конфискованных имений. В конце концов императрица решила испытать способности бывшего дипломата на новом поприще – в качестве наместника в Оренбургской «экспедиции», как именовалась в ту пору будущая губерния. Правда, назначение это весьма походило на почетную ссылку; именно так отнеслась к нему молодая супруга Ивана Ивановича, на которой он, сорокавосьмилетний вдовец, незадолго перед тем женился. Спустя всего четыре года он снова овдовел, сосредоточив отныне всю свою нежность на сыне Николае, помогавшем отцу в делах по управлению краем. Так получилось, что шестнадцатилетнее пребывание на посту оренбургского губернатора, куда его назначили чуть ли не в наказание, стало для И.И. Неплюева главным делом жизни. Должность, которую иной сановник рассматривал бы как незаслуженную кару и тяжкий крест, Иван Иванович сделал почетной и уважаемой, а главное – чрезвычайно нужной для России. Он строил крепости и слободы в степях, привлекая туда жителей, улаживал столкновения между русскими и «иноверцами», развивал торговлю, организовывал поиск полезных ископаемых, способствовал строительству металлургических заводов – словом, показал себя истинным «птенцом гнезда Петрова». Надо признать, что во взаимоотношениях с местным населением Неплюев придерживался известной имперской тактики «разделяй и властвуй», умело используя родоплеменную вражду, миря и ссоря туземцев по своему усмотрению. Однако трудно, да, наверное, и неправильно судить его за это по меркам нынешних понятий о нравственности… В 1758-м Иван Иванович отпросился в отставку по болезни, купил дом в Петербурге близ Сенной площади и, как он пишет, «был празден» до 1760 года, когда Елизавета пожаловала его сенатором и конференц-министром. В мае 1761-го в столице случился «преужасной пожар», во время которого дом Неплюева сгорел дотла, и он приобрел другой, на Миллионной, впоследствии перешедший к его сыну. А еще через год произошло куда более значимое событие: после дворцового переворота на престол вступила Екатерина II. Не испытывая ни малейшей симпатии к ее мужу, он без колебаний поддержал новую императрицу, после чего в государственной деятельности Ивана Ивановича открылась новая, заключительная глава. Отъезжая с частью гвардии в Петергоф, Екатерина поручила попечению Неплюева своего сына, а также столичный город Петербург со всеми воинскими командами. Его собственный сын находился в тот день в свите государыни. В последний раз довелось Ивану Ивановичу «остаться на хозяйстве» в 1764-м, на время отъезда Екатерины в остзейские провинции. 20 июля, ровно через месяц после ее отбытия, произошел трагический эпизод русской истории, когда подпоручик В.Я. Мирович попытался освободить из заключения свергнутого императора Иоанна Антоновича. В результате узник был убит стражей, а злополучный мятежник казнен на эшафоте. С того памятного случая Неплюеву стало отказывать зрение, и вскоре он совершенно ослеп. В ноябре того же года старый сенатор получил просимую отставку от всех дел и остаток жизни провел в своих имениях, занимаясь сельским хозяйством и радуясь служебным успехам сына и внука, которых горячо любил. В его предсмертном послании к сыну Николаю отразилась душа этого истинного патриота. Там, в частности, есть такие слова: «Люби свое отечество… и в защищении его пользы не щади не токмо благосостояния, но и жизни». Сам И.И. Неплюев всю жизнь неуклонно следовал этому завету. XVIII век в России – слезливо-сентиментальный и беспредельно жестокий, по-детски игривый и нарочито рассудочный – изобиловал самыми разительными контрастами, которые по мере приближения к концу столетия лишь усиливались. Столь же очевидные противоречия свойственны многим государственным деятелям той поры: галантные манеры и изысканно-витиеватые фразы более или менее успешно прикрывали грубо эгоистические устремления. Появившееся лишь при Петре I чужеземное слово «патриот» еще не успело прижиться на русской почве и наполниться реальным смыслом. «Теплов услужил мне во многом…» Григорию Николаевичу Теплову (1717–1779) суждено было за годы правления Екатерины II достичь сенаторского звания и занять высокую должность статс-секретаря. Судьба его не столь уж необычна для того времени. Бесфамильный отрок, сын монастырского истопника, получил родовое прозвище по занятию своего родителя. Об этом позаботился знаменитый Феофан Прокопович, в чьей школе, открытой в 1721 году при архиерейском подворье на реке Карповке, обучался юный Григорий. Ревностный приверженец книжной образованности, умный, наблюдательный пастырь заприметил недюжинные способности молодого человека и отправил его доучиваться за границу, в Германию, откуда Теплов вернулся в 1736-м, поступив в студенты петербургской Академии наук. Еще через год его зачисляют переводчиком при той же академии. Через несколько лет едва начавшаяся карьера Григория Николаевича, как и сама жизнь его, оказывается перед смертельной угрозой: он привлекается по делу кабинет-секретаря Артемия Волынского, заказавшего недавнему студенту составление своей родословной. Следователям не понравилось то, что в ней доказывалось происхождение бояр Волынских от князя Дмитрия Волынца, не уступавшего в знатности царствовавшему дому Романовых. В этом им почудились некие олигархические поползновения. Г.Н. Теплов От возведенных на него тяжких обвинений Теплов защищался уверениями в полной неосведомленности относительно конечных целей порученных ему генеалогических изысканий, утверждая, что «расчерчивал только по приказу, не зная ничего». В ходе допроса он упомянул фамилию архитектора Еропкина, показавшего, как именно следует чертить, после чего Григория выпустили на свободу, а вместо него арестовали названного им человека, кончившего жизнь на плахе. Умение выкручиваться из самых сложных ситуаций и выходить сухим из воды еще не раз пригодится Григорию Николаевичу в будущем. В царствование Елизаветы Петровны Теплов прочно оседлал удачу, сумев понравиться присущими ему музыкальными дарованиями фавориту императрицы, графу А.Г. Разумовскому, как известно, выдвинувшемуся из придворных певчих. Тот пожелал видеть его в качестве наставника при своем младшем брате Кирилле Григорьевиче, отправляемом для приобретения необходимых познаний за границу – сначала в Германию, а затем во Францию. Елизавете пришла в голову дерзновенная мысль назначить бывшего пастуха, присматривавшего в недавнем прошлом за отцовскими волами, президентом Академии наук! Роль помощника при будущем сановнике отводилась Г.Н. Теплову, которому тот обязан был полным послушанием. К сожалению, план императрицы воплотился в жизнь, от чего русская наука ничего не выиграла. Ленивый и не особенно способный К.Г. Разумовский за время своих заграничных странствий приобрел лишь поверхностное образование да умение неплохо изъясняться на «иностранных диалектах», оставшись на долгое время под сильнейшим влиянием приставленного к нему ментора. Когда в 1746 году граф занял президентское место, Теплов, назначенный асессором академии, сделался в ней полновластным хозяином, часто употребляя полученную им неограниченную власть во зло. По словам историка С.М. Соловьева, «в челе академии стоял человек, не достойный этого положения ни по способностям, ни по образованию, человек, кроме того, нерадивый, исполнявший свою должность чужими (Теплова) руками, и руками нечистыми». Примечателен один факт довольно странного и неуместного вмешательства Теплова в академические дела, когда он выступил гонителем в таком вопросе, от которого некогда сам едва не пострадал! Григорию Николаевичу вдруг показалось подозрительным, зачем историк Миллер составлял найденные в его бумагах родословные, и он от имени президента академии потребовал от него ответа, «сам ли собою» разрабатывал тот найденные родословные или «по чьему-либо приказу или прошению»? Ученому историографу пришлось долго оправдываться и объяснять чисто профессиональный интерес к этой проблеме, но, тем не менее, в дальнейшем ему было запрещено заниматься родословиями. Куда более плодотворной выглядит деятельность Теплова на другом поприще. В 1750 году императрица Елизавета назначает графа К.Г. Разумовского гетманом Малороссии. Чувствуя свою слабую подготовленность к столь ответственному посту, тот испрашивает себе в помощники прежнего наставника. Императрица удовлетворяет его просьбу, отрядив Григория Николаевича «для правления домашних гетманских дел». В действительности все происходило совсем наоборот: поселившись в своей резиденции в уездном городке Глухове, гетман занимался преимущественно своими частными делами, Теплов же заправлял всем остальным. В отличие от беспечного, малодеятельного Разумовского его «помощник» работает не покладая рук: он сближается с местным образованным дворянством, собирает обширные материалы по истории края, вникая во все его нужды, и таким образом подготавливает будущие реформы в Малороссии. Именно ему принадлежала позднее осуществленная мысль о прикреплении украинских крестьян к земле «для избежания праздношатания в народе». После восшествия на престол Петра III положение Григория Николаевича изменилось, притом далеко не в лучшую сторону: по не совсем ясным причинам он навлек на себя гнев вспыльчивого государя, угодил под арест и подвергся строгому допросу. Впрочем, как и в первом случае, ему не только удалось благополучно выпутаться из неприятностей, но и получить, находясь в официальной отставке, высокий чин действительного статского советника! Император не отличался злопамятностью. Иначе повел себя прощенный им арестант: выйдя на свободу, он не замедлил присоединиться к заговорщикам и принял активное участие в июньском перевороте 1762 года, приведшем к власти Екатерину II. Он же в один прием, без всякой подготовки, сочинил весьма обстоятельный манифест о ее восшествии на престол и одновременно текст отречения Петра III от трона. Вместе с князем Федором Барятинским и братьями Орловыми Г.Н. Теплов присутствовал в Ропшинском дворце при трагической кончине злополучного императора. По словам одного иностранного дипломата, «те, кто считает, что несчастный монарх был задушен, полагают также, что он (то есть Теплов. – Л. И.) держал один из концов веревки». Зная осторожность и предусмотрительность Григория Николаевича, трудно поверить, что дело обстояло именно таким образом, но несомненно одно: догадываясь о хитрости и двуличии своего ненадежного союзника, новая императрица не сразу почтила его своим доверием, хотя в одном из писем к Понятовскому признавалась: «Теплов услужил мне во многом». Менее чем через год ему удалось вернуть утраченное было расположение государыни, которая пожаловала его в статс-секретари, определив к принятию прошений на высочайшее имя. Упрочив свое положение при дворе, Теплов отрекся от бывшего благодетеля, графа К.Г. Разумовского, и прилепился к Орловым. Именно Теплов, ранее поощрявший неразумного гетмана в беспочвенных мечтаниях о наследственном закреплении высокого поста за семейством Разумовских, утвердил императрицу в мысли окончательно упразднить гетманство в Малороссии, приведя в доказательство убедительные факты. Однако Теплову присущи были не только пороки и недостатки, но также ряд крупных достоинств. Разносторонне образованный, литературно и музыкально одаренный, энергичный, предприимчивый, он недаром приобрел славу одного из умнейших и просвещеннейших людей своего времени. Екатерина II внимательно прислушивалась к его советам относительно развития отечественной торговли и промышленности, что вызывало сильное озлобление у иностранных дипломатов, заинтересованных как раз в обратном. В своих «Секретных мемуарах» британский посол лорд Джон Бакингемшир пишет относительно Теплова следующее: «Стремясь польстить императрице идеей, будто бы Россия может экспортировать собственные товары, он внушает ей, что благодаря должному вниманию и покровительству ее подданные смогут снабжать себя всем необходимым и, более того, вывозить свою продукцию на российских кораблях на внешние рынки. Это создало ему столь высокий кредит, что его буйные проекты принимаются…» Досада англичанина понятна: по его собственному признанию, заключение договора о торговле на условиях весьма выгодных для Англии, но малопривлекательных для России усилиями статс-секретаря императрицы было сорвано. Мы же с вами имеем возможность убедиться в совершенно верных и здравых экономических суждениях Г.Н. Теплова, который, несмотря на все свои отрицательные качества, вполне заслужил, чтобы его назвали ранее неслыханным на Руси словом «патриот». Вероятно, мало кто сделал для прославления отечества, но уже на поле брани, столько, сколько герой нашего следующего рассказа, хотя начало его карьеры выглядело не особенно обнадеживающим. «Вы займете в моем веке превосходное место…» Свое имя генерал-фельдмаршал Петр Александрович Румянцев-Задунайский (1725–1796), похоже, получил не случайно: ходили упорные слухи, что настоящим его отцом был великий во многих отношениях, но только не по части семейных добродетелей и морали император Петр I. Матушка нашего героя, Мария Андреевна, дочь графа Андрея Артамоновича Матвеева, стала женой бывшего царского денщика Александра Румянцева по воле самого царя, желавшего, чтобы его юная, легкомысленная любовница попала в ежовые рукавицы. Впрочем, суровость мужа не простиралась до строгой охраны своих супружеских прав, да и видеть женщину, на которой он женился из карьерных соображений, ему доводилось не часто по причине постоянных и длительных командировок. Очевидно, это и породило позднейшую легенду, будто бы, возвращаясь после очередной продолжительной отлучки, Румянцев не без удивления узнал, что выехавшая ему навстречу супруга должна вот-вот родить; согласно той же легенде, мальчик появился на свет в маленьком молдавском селении Строенцы, неподалеку от тех мест, где впоследствии ему суждено было прославиться. На самом же деле Петруша родился 4 января 1725 года в Москве и впервые увидел отца, когда ему было уже около шести лет: с октября 1724 года тот исполнял обязанности чрезвычайного посла в Константинополе. Вскоре мальчика записали на службу в Преображенский полк, но, по тогдашнему обыкновению, он продолжал жить и воспитываться дома. Собственно говоря, воспитанием его занималась лишь мать, обучившая сына тому, в чем сама была сильна, – иностранным языкам. Русской же грамоте его кое-как выучил деревенский дьячок в глухой деревушке Алатырского уезда, куда императрица Анна Иоанновна в 1731 году сослала А.И. Румянцева за недостаточную готовность повиноваться ее воле. Только через четыре года царица сменила гнев на милость и назначила опального сановника сначала астраханским губернатором, а затем в армию Миниха, сражавшуюся с турками. Таким образом, отец начал пролагать тот путь, по которому в будущем предстояло пройти сыну. В юношеские, да и в более зрелые годы Петр не радовал родителей, в изобилии доставляя им одни неприятности и огорчения. В 1739 году, по просьбе отца, его отправили в Берлин, в распоряжение посланника при прусском дворе барона Бракеля. Однако четырнадцатилетний шалопай оказался явно не на высоте своей должности «дворянина при посольстве», как она официально называлась. Начальство, в лице означенного барона, не замедлило сообщить в Петербург о «продерзостях и мотовстве» молодого Румянцева, который ничему не желал учиться, зато охотно затевал драки, делал долги, закладывал вещи и платье, чтобы иметь деньги на беспутное времяпрепровождение с солдатами, лакеями и прочими «бездельными людьми». Нередко он и вовсе исчезал из дому и пропадал по несколько дней неизвестно где. В мае 1740 года несостоявшегося дипломата на телеге и морским путем доставили обратно на родину. Из своего недолгого пребывания в Берлине Румянцев вынес лишь превосходное знание немецкого языка – едва ли не всю последующую жизнь он говорил по-русски с заметным акцентом. Отец определил юношу в Сухопутный шляхетный корпус «под особливое и крепкое смотрение», однако его пребывание там не оставило никаких видимых следов – он даже не упомянут в формулярных списках на 1740 год. Самое удивительное, что 28 октября того же года недоучившегося кадета неожиданно производят в подпоручики. Столь странное и непонятное отличие находит свое объяснение в недавно опубликованном документе – письме А.И. Румянцева к графу Б.Х. Миниху от 21 января 1741 года, где он благодарит фельдмаршала за покровительство, оказанное его сыну. Особого внимания заслуживают следующие строки: «Притом же и того не мог преминуть без засвидетельствования моего нижайшего и чувственнейшего благодарения за милостивое… к сыну моему отеческое призрение в награждении… подпоруческого ранга, а особливо, что по его прежним ребяческим продерзостям от себя отрешить не изволили, но держать при себе в ординарцах…» Оказывается, вместо учебы в корпусе Петруша удостоился чести быть на посылках у всемогущего в ту пору Миниха, который, во внимание к отцу, наградил сына «подпоруческим рангом». Через несколько дней после получения этого письма благодетель сам попадет в опалу и будет отстранен от должности, а его бывший ординарец отправится в Финляндию, где примет участие в начавшейся вскоре войне со Швецией. То была первая военная кампания молодого офицера, но об этом периоде его жизни мало что известно. Мы знаем лишь, что в июне 1741 года, то есть к началу боевых действий, шестнадцати лет от роду, он уже имел чин поручика, а в октябре – капитана. Думается все же, что столь быстрое продвижение по службе следует приписать скорее заслугам отца, чем сына. При подготовке и подписании Абоского мирного договора 1743 года, ознаменовавшего конец войны со Швецией, А.И. Румянцев был одним из главных действующих лиц; он и здесь не упустил возможности выдвинуть сына, послав его к императрице Елизавете с известием о почетном и выгодном для России мире. Награда не заставила себя долго ждать: А.И. Румянцев с потомством был возведен в графское достоинство, а его сын из капитанов пожалован в полковники и назначен командиром Воронежского пехотного полка. И это в восемнадцать лет! В новой должности Петр Александрович не переменил своих привычек и продолжал вести себя самым предосудительным образом; чтобы мои слова не сочли за преувеличение, я просто процитирую весьма осведомленного, а главное – благожелательно и даже восторженно настроенного к будущему герою России историка Д.Н. Бантыш-Каменского: «Он удальством превосходил товарищей, пламенно любил прекрасный пол и был любим женщинами, не знал препятствий и часто, окруженный солдатами, в виду их торжествовал над непреклонными; обучал батальон в костюме нашего прародителя, перед домом одного ревнивого мужа; заплатил другому двойной штраф за причиненное оскорбление и в тот же день воспользовался правом своим, сказав, что он не может жаловаться, ибо получил вперед удовлетворение!» Слухи о молодецких забавах Румянцева доходили до Елизаветы и изрядно ее коробили: императрица, как женщина, всегда очень остро реагировала на обиды, наносимые представительницам ее пола; к примеру, она заставила одного майора, похитившего и растлившего крепостную девушку, жениться на ней. Не поздоровилось бы и нашему «проказнику», не будь он сыном заслуженного и уважаемого человека. Государыня ограничилась повелением отцу самому наказать свое великовозрастное чадо, что тот добросовестно исполнил, пустив в ход розги. Петр принял отеческое внушение с покорностью, позволив себя, как он сам потом рассказывал, порядочно «припопонить», но поведения своего не изменил. Чтобы заставить юного полковника угомониться, царица в 1745 году самолично подыскала ему богатую и завидную невесту – Марию Артемьевну Волынскую, дочь казненного при Анне Иоанновне кабинет-министра. Обрадованные и польщенные родители всячески старались склонить сына к браку, но тот наотрез отказался, не желая расставаться с прежней холостяцкой жизнью. В письмах старик Румянцев уговаривал его остепениться и не сводить их с матерью прежде времени в могилу, а мать горько сетовала на свое детище, говоря, что «видно, в нем ни страху Божеского нет, ни жалости об нас». Одно из отцовских посланий, выразительный документ эпохи сентиментальной в наивных пасторалях, но очень прозаичной в реальной жизни, заслуживает того, чтобы привести обширный отрывок из него: «Ее Императорское Величество… милосердуя о Вас, матери изволила говорить, что уже приспело время Вам женитца и изволила представлять Вам невесту, жалуя как меня, так мать и всю нашу фамилию, – дочь покойного Артемья Волынского. Вы ее знаете, что она не красавица и не дурна, пред прочими же всеми невеста весьма богата. Вы сами ведаете всех невест, сколько за кем, а за ней более двух тысяч душ, и не знаю, не будет ли трех, двор московской… что в Москве другого едва сыскать можно. Здесь, в Набережной улице, у Крюкова каналу, каменный великий дом, к тому ж конский завод и всякий домовый скарб, а она весьма неглупа и состояния самого доброго…Я Вам, любезный мой сын, советую сей невесты не пропущать! Ее богатее сыскать трудно; да и дом совсем готов. Хотя, по благодати Божией, достаток малый и имеем, да однако ж, что более, то лучше». О любви или хотя бы взаимной склонности здесь нет и помину: речь идет просто-напросто о выгодной торговой сделке, сулящей солидную прибыль. Но даже столь весомые доводы не убедили Петра Александровича расстаться со своим холостяцким житьем, которым он, по-видимому, был вполне доволен. И все же в 1748 году, к великой радости родных, Петр Александрович обвенчался с княжной Екатериной Михайловной Голицыной, дочерью петровского фельдмаршала. Жених был умен, хорош собою, невеста также красива и неглупа, а вдобавок имела хорошее состояние и обширные родственные связи. После свадьбы молодые поселились в Москве. Первые годы их супружества прошли в относительном согласии: у них родилась дочь, умершая в младенческом возрасте, а затем – трое сыновей, младшие из которых, Николай и Сергей, были погодками. С рождением в 1755 году последнего ребенка для Екатерины Михайловны закончилась и совместная жизнь с мужем. Отныне ей приходилось видеть его лишь урывками и общаться только посредством писем, которые к тому же приходили от него весьма редко. Причина разлада заключалась в том, что граф не умел владеть своими страстями, не желал ни в чем себя стеснять и заводил бесчисленные любовные истории. Он не был создан для тихой семейной жизни… В 1756 году началась семилетняя война с Пруссией, которую Румянцев начал генерал-майором, а закончил генерал-аншефом. Настала пора свершений и подвигов; орел расправил крылья и вырвался на свободу, попав наконец в родную стихию. В самих недостатках будущего фельдмаршала крылись его главные достоинства; им нужно было «перебродить», чтобы из кислого виноградного сока образовалось превосходное, хотя и терпкое вино. Бесшабашное молодечество и разгульное озорство превратились со временем в спокойную и уверенную отвагу, дерзость – в предприимчивость, упорство и неуступчивость – в умение добиваться намеченной цели, а всегда отличавшие его хитрость и изворотливость, выдававшие природный ум, обернулись способностью проникать в замыслы противника и угадывать его намерения – драгоценными качествами для полководца. П.А. Румянцев ярко проявил их в 1761 году при осаде Кольберга (ныне польский город Колобжег). До этого случались мелкие стычки с неприятелем, из которых граф всегда выходил победителем; было и крупное сражение в 1759-м, при Франкфурте, где Румянцев командовал центром русской армии и активно содействовал поражению Фридриха II, за что удостоился ордена Святого Александра Невского. Однако настоящую славу Петру Александровичу принесло взятие Кольберга, когда он, командуя отдельным корпусом, осмелился ослушаться командующего, фельдмаршала А.Б. Бутурлина, приказавшего ему отойти на зимние квартиры, и заставил пруссаков сложить оружие. Сам прусский король, наставляя своих генералов, призывал их более всего опасаться «этой собаки – Румянцева», считая, что прочие русские военачальники для них не страшны. Это ли не слава? Между тем скончалась императрица Елизавета Петровна, и престол на полгода занял Петр III, осыпавший покорителя Кольберга наградами, пожаловавший высокий чин генерал-аншефа, но немедленно прекративший войну с Пруссией, готовясь начать другую – с Данией, за обладание милой его сердцу Голштинией. Румянцев, не вдаваясь в политические рассуждения, готов был к схватке с новым противником, теперь уже в качестве главнокомандующего, но накануне его отъезда в армию произошел дворцовый переворот, и трон мужа заняла его жена, Екатерина II, скоро ставшая вдовой. На какое-то время Петр Александрович отошел от дел, уйдя в частную жизнь. Находясь в Данциге, он завязал бурный роман с одной немкой и даже намеревался уехать с ней на воды, жене же написал, что болен, хочет оставить службу, и требовал денег. Но графиня, хорошо изучившая своего влюбчивого мужа, сразу поняла, в чем дело, в деньгах отказала, а вместо этого принялась усовещивать его, напоминая о детях и супружеском долге – то есть о том, чего он никогда и знать не хотел. Вот отрывок из одного такого послания, где мягкая в общем-то женщина пытается угрожать неверному супругу нуждой и разорением: «Я клянусь, что ежели уедешь безо всякого определения, то, собрав все крепости, письма и все, что в доме есть, с описью отдам твоим близким, потому что я не хочу этого более на себе иметь, что все твое в моих руках будет, а ты будешь ездить со своею полюбовницею да веселиться, а я здесь плакать да крушиться, да в долги входить. Так, воля твоя, тяжело, я уже шесть лет, что иго на себе ношу, знаю, каково сносить, видишь много примеров: Апраксин ездил же с б…, да теперь дошло, что ни ему, ни жене кушать нечего, а детей по миру приходится пускать…» В ответном письме Петр Александрович выбранил жену и заявил, что не желает ее видеть. На воды он так и не уехал, а отправился в Петербург, куда его настойчиво звала новая императрица. В середине 1763 года Румянцев прибыл в Северную столицу и представился ко двору. Здесь он нашел самый теплый прием, подружился с преклонявшимся перед его военными талантами Григорием Орловым (граф и впоследствии всегда умел ладить с фаворитами), бывал на придворных обедах и не обижался, когда присутствующие шутили, что он по-русски говорит совсем как немец. Часто речь заходила о подвигах генерала в прошлую войну, и все сходились в признании его заслуг. Однако Екатерина II решила испытать способности П.А. Румянцева на гражданском поприще, которое порой оказывалось куда более трудным, чем военное. В конце 1764 года он был назначен генерал-губернатором Малороссии и одновременно президентом тамошней коллегии, главным командиром малороссийских казацких полков, запорожских казаков и Украинской дивизии. Графиня Екатерина Михайловна, ранее безуспешно пытавшаяся съехаться с мужем, когда он жил в Петербурге, предприняла новую попытку восстановить прерванные семейные отношения и отправилась вслед за ним в Глухов. Однако ей не удалось склонить его даже к формальному сожительству под одной крышей: граф редко бывал в своей официальной резиденции, находясь в постоянных разъездах, и не желал принимать участие в заботах о воспитании детей. Поняв бесплодность всех усилий, Екатерина Михайловна в 1767 году возвратилась в Москву. Как нетрудно догадаться, супруг не был опечален ее отъездом, который едва заметил: его внимание поглощали иные проблемы. Румянцев-администратор оказался ничуть не хуже Румянцева-полководца и справлялся с новыми задачами столь же успешно и энергично, как с врагами на полях сражений. Он сумел завести в Малороссии те же порядки, что и в остальной империи, постепенно подавив все потуги на автономию и уничтожив прежние привилегии; при нем была произведена генеральная перепись населения, введено деление на губернии и окончательно установлено крепостное право. Вместе с тем Румянцев старался не перегибать палку, чрезмерно отягощая народ, – напротив, стремился по мере сил облегчать повинности и боролся с произволом и взяточничеством, царившими в присутственных местах. Разразившаяся в 1768 году война с Турцией прервала деятельность графа на посту генерал-губернатора: государыня назначила его командующим Второй армией, поручив Первую его шурину, князю А.М. Голицыну. Но уже в сентябре следующего года, недовольная медлительностью князя, она отстраняет его от командования Первой армией и передает ее Румянцеву. Несмотря на большой численный перевес противника, русские войска в Валахии и Молдавии одерживали победу за победой. Наиболее успешной оказалась летняя кампания 1770 года, когда турецкие войска были разбиты сначала близ Рябой Могилы, затем за рекой Ларгой и, наконец, при Кагуле. Две последние победы русской армии под предводительством П.А. Румянцева выглядят особенно впечатляюще. 7 июля произошла битва при Ларге, длившаяся восемь часов и завершившаяся полным поражением 80-тысячной турецкой армии, возглавляемой тремя пашами и крымским ханом. Граф лично командовал отрядом гренадер, атаковавших вражеский лагерь, воодушевляя их собственным примером и побуждая совершать чудеса героизма. Рядовые воины боготворили своего командира, называли его «прямым солдатом» и слагали о нем песни. Но самой грандиозной стала победа, одержанная 21 июля у реки Кагул; в этой исторической битве 22-тысячная русская армия разгромила 150-тысячное турецкое войско, поддерживаемое с тыла татарской конницей. Был момент, когда многочисленный отряд янычар произвел смятение в рядах русских, но граф Румянцев криком «Стой, ребята!» сумел остановить бегущих и переломить ход сражения. Турки дрогнули, а затем, видя гибель янычар, обратились в беспорядочное бегство, потеряв около 40 тысяч одними убитыми. Новая тактика, примененная Румянцевым, основанная на том, чтобы воевать не числом, а умением, показала свое полное превосходство. Награда за этот беспримерный подвиг тоже была достойной: 26 июля Екатерина II пожаловала герою орден Святого Георгия 1-й степени и произвела в генерал-фельдмаршалы. Тогда же государыня почтила графа собственноручным письмом, где, в частности, говорилось: «Вы займете в моем веке несумненно превосходное место предводителя разумного, искусного и усердного. За долг почитаю вам отдать сию справедливость». В последующие три года были новые сражения и новые победы. В 1774 году 50-тысячная русская армия, действовавшая уже в Болгарии, нанесла сокрушительное поражение вчетверо превосходившим ее силам противника, после чего турки запросили мира, согласившись на все условия. 10 июля того же года в придунайском селении Кючук-Кай-нарджи был подписан славный для России мирный договор. Помимо территориальных приобретений и торговых привилегий, он создавал предпосылки для позднейшего бескровного присоединения Крыма в 1783 году. П.А. Румянцев-Задунайский 10 июля 1775 года, в день торжественного празднования по случаю заключения мира, Екатерина осыпала П.А. Румянцева новыми милостями и наградами: ему было пожаловано наименование Задунайского «для прославления чрез то опасного перехода через Дунай», украшенные алмазами фельдмаршальский жезл и шпага, орден Андрея Первозванного, лавровый венок и масличная ветвь, а кроме того, 5 тысяч душ в Белоруссии, 100 тысяч рублей на построение дома и т. д. Императрица любила широкий размах и умела быть щедрой. После окончания войны граф П.А. Румянцев-Задунайский вновь вступил в должность правителя Малороссии. В 1776 году его вызвали в Петербург, чтобы поручить почетную миссию: сопровождать наследника престола в Берлин по случаю предстоявшего бракосочетания его с племянницей прусского короля, принцессой Вюртембергской. «Не вздумайте отговариваться», – предупреждали графа его искренние доброжелатели – А.А. Безбородко и П.В. Завидовский. Петр Александрович и не думал этого делать. В Берлине он имел случай увидеться со своим прежним соперником – Фридрихом II, рассыпавшимся перед ним в комплиментах и усадившим рядом с собой, в то время как два принца Брауншвейгских и три Вюртембергских должны были стоять. Все это приятно щекотало самолюбие не совсем равнодушного к таким вещам графа, хотя сравнение его с одним из генералов Фридриха, сделанное королем, вызвало со стороны фельдмаршала ироническую реплику. В 1779 году умерла Екатерина Михайловна; несмотря на полное равнодушие мужа к ней и к своим сыновьям, которых он видел очень редко и даже, как говорят, не всегда узнавал в лицо, графиня воспитала в них привязанность и благоговейное отношение к отцу. Лучше, чем к другим, Петр Александрович относился к среднему сыну, Николаю, но и с ним переписывался не часто и в основном по денежным вопросам. Чувствовал ли он себя одиноким? Ощущал ли потребность в домашнем уюте, чем так дорожил другой наш великий полководец, Кутузов? Думаю, что нет. После военных побед граф Румянцев превыше всего ценил победы над слабым полом: женщины заменяли ему все остальное – друзей, вино, шумные забавы. Уже в преклонном возрасте, увидев на балу у австрийского посла Кобенцеля графиню Н.Л. Соллогуб (будущую бабушку писателя В.А. Соллогуба) в сильно декольтированном платье, фельдмаршал, сладко улыбнувшись, заметил, что нельзя представить себе большее искушение… Когда началась вторая Русско-турецкая война (1787–1791), Екатерина назначила Румянцева главнокомандующим Украинской армией, но было уже ясно, что отныне ему отводится второстепенная роль, а на первый план выдвинулась фигура Г.А. Потемкина, в недалеком прошлом его «дражайшего друга» и ученика. Старый воин понял это очень скоро и сам предложил объединить все войска под командованием светлейшего князя. Императрица не сразу решилась на этот шаг, хотя и находила пребывание Румянцева в армии «вредным ее делам», предвидя неизбежное соперничество между ним и Потемкиным. В конце концов в марте 1789 года граф, ссылаясь на больные ноги, добился сложения с себя полномочий командующего, но еще долгое время продолжал оставаться в Молдавии, вблизи театра военных действий, приводя в негодование государыню и вызывая досаду Потемкина, опасавшегося появления разных нелепых слухов. При заключении мира с турками Румянцев, живший на покое в своем малороссийском имении, был награжден шпагой, осыпанной алмазами, «за занятие части Молдавии в начале войны». Возможно, получив этот утешительный приз, граф с горечью вспомнил о былых триумфах… В конце жизни судьба подарила ему еще одну возможность отличиться и показать себя, хотя повод для этого с современной точки зрения был не самый удачный. В 1794 году в Польше вспыхнуло освободительное восстание под предводительством Тадеуша Костюшко, и русская армия, возглавляемая Суворовым, двинулась на его подавление. Императрица вспомнила и о Румянцеве, обратившись к нему с очень ласковым, даже льстивым письмом, где просила разделить с ней «тягости», и соблазняла радостью солдат, когда те услышат, что «обожаемый Велизарий опять их приемлет, как детей своих в свое попечение». Сравнение престарелого фельдмаршала с Велизарием, византийским полководцем VI века, не по своей вине впавшим в немилость к императору Юстиниану, но вновь призванным в трудную для родины минуту, было конечно же не случайным и походило на завуалированное извинение. Получив под командование часть войск, остававшийся на Украине Румянцев продвигал вперед разные корпусы своей армии и, помогая Суворову словесными наставлениями и благоразумными распоряжениями, содействовал разгрому «мятежников». В 1795 году благодарная Екатерина пожаловала его похвальной грамотой (все остальное он уже имел), деревнями и домом «с приличным убранством». В 1795 году семидесятилетний фельдмаршал пережил свой последний роман с некой «бригадиршей Капуани», на которой собирался жениться, испросив предварительно согласие императрицы. Брак этот, однако, по каким-то причинам не состоялся. 6 ноября 1796 года государыня переселилась в мир иной, а через месяц за ней последовал один из самых могучих «екатерининских орлов», придававших блеск ее царствованию. Тяга к историческим воспоминаниям – знак, что в настоящем мало поводов для радости: славное прошлое должно утешать и вселять веру в будущее. К сожалению, история наша сложилась таким образом, что многое из завоеванного и обильно политого русской кровью ныне оказалось за пределами России и все подвиги П.А. Румянцева-Задунайского, Г.А. Потемкина-Таврического и А.В. Суворова-Рымникского, а главное – тысяч русских солдат и офицеров оказались как бы совершенными впустую. Но ничто не проходит бесследно, и, пока мы будем чтить своих героев, на их могилах не вырастет ядовитая трава забвения… После подробного повествования о П.А. Румянцеве, наверное, уместно будет сказать несколько слов о его матери, отличавшейся завидным долголетием и столь же завидной памятью, хранившей воспоминания о знаменитых современниках, которых она знала весьма близко. Живая хроника столетья Если бы графиня Мария Андреевна Румянцева (1698–1788) вздумала написать мемуары, это была бы, несомненно, увлекательная книга. Она родилась незадолго до начала Северной войны, когда царь Петр еще только готовился прорубать окно в Европу, а покинула этот мир в эпоху всеми признанного могущества России, когда, по образному выражению екатерининского дипломата графа А.А. Безбородко, ни одна пушка на континенте «без позволения нашего выпалить не смела». Род, к которому принадлежала наша героиня, урожденная Матвеева, приобрел значение благодаря ее деду, боярину Артамону Сергеевичу, занимавшему важные государственные должности и убитому во время очередного Стрелецкого бунта. В 1671 году царь Алексей Михайлович женился на его воспитаннице Наталье Кирилловне Нарышкиной, ставшей в скором времени матерью будущего императора Петра Великого. Таким образом, судьба Матвеевых оказалась тесно связанной с царствующей династией. Правда, в мужском колене их род пресекся еще в 1730-х, зато в женском имел яркую представительницу в лице дочери Андрея Артамоновича Матвеева (в 1715 году он получил графский титул), прожившую длинную, насыщенную событиями жизнь. Детство и отрочество Марии Андреевны прошли за границей, сначала в Вене, потом в Гааге, где ее родитель до 1710 года исполнял обязанности посла. Андрея Матвеева можно назвать истинным «птенцом гнезда Петрова» – хорошо образованным, безоговорочно принимавшим проводимые царем реформы, устроившим свой дом совершенно на иноземный лад, причем по собственному желанию, а не по принуждению. Дочерей он также постарался воспитать в новом вкусе, обучив в первую очередь иностранным языкам и танцам, в чем все три изрядно преуспели. Особой красотой и бойкостью отличалась старшая, Мария, привлекшая на одной из ассамблей внимание государя Петра Алексеевича, который не замедлил почтить ее своей близостью. Не желая снисходить к чрезмерной кокетливости годившейся ему в дочери возлюбленной, ревнивый и скорый на расправу Петр поначалу пытался прибегать в отношении ее к мерам физического воздействия. Убедившись в бесполезности такого рода внушений, он решил выдать ее замуж за своего генерал-адъютанта, небогатого дворянина А.И. Румянцева, в надежде, что тот сумеет приструнить легкомысленную красавицу. Этот брак не вызвал особого восторга у отца невесты, хотя царь пожаловал жениха «немалыми деревнями», конфискованными у казненного незадолго до того А.В. Кикина. Молодые поселились в доме на Красном канале (участок дома № 3 по Марсову полю), где их навещал сам царь, как один, так и со своей супругой. Он присутствовал на крестинах дочерей Румянцевых, Екатерины и Дарьи, родившихся в 1721 и 1723 годах. Единственный же сын, будущий фельдмаршал, появился на свет в Москве, незадолго до кончины императора, которого молва, как читатель уже знает, склонна была считать его подлинным отцом. При императрице Анне Иоанновне, за отказ занять предложенную ему должность президента Камер-коллегии, А.И. Румянцев подвергся суду и был приговорен ни много ни мало к смертной казни, милостиво замененной, однако, ссылкой с лишением чинов, ордена и ранее пожалованного денежного награждения в 20 тысяч. Жена последовала за мужем, и около четырех лет опальным супругам пришлось провести в глухой деревне, под строгим надзором специально приставленного офицера, обязанного доносить о мельчайших событиях их жизни. В 1735 году последовало прощение, и далее служба Александра Ивановича протекала вполне успешно, особенно при императрице Елизавете Петровне, которая была дружна с Марией Андреевной еще в бытность цесаревной. В самом начале своего правления она удостоила Румянцеву звания статс-дамы, а вслед за тем возвела ее мужа с нисходящим потомством в графское достоинство. В 1749 году графиня овдовела, и вся ее дальнейшая жизнь прошла при дворе, где она до старости задавала тон в танцах, нередко открывая балы, и в модах, которым не переставала следовать до самой смерти. Одной из первых придворных дам, с которыми великой княгине Екатерине Алексеевне пришлось войти в близкое соприкосновение после замужества с наследником русского престола, была графиня М.А. Румянцева, не особенно дружелюбно настроенная к ней и в особенности – к ее матери, с которой постоянно враждовала. М. А. Румянцева Позднее в своих «Записках» Екатерина II не пощадит Марию Андреевну, выставив ее злой сплетницей, запойной картежницей, «встававшей со стула только за естественной надобностью», а вдобавок «самой расточительной женщиной в России» и большой любительницей незаслуженных подарков. Иные отзывы о М.А. Румянцевой можно найти в записках иностранных путешественников и дипломатов. Камер-юнкер Ф. Берхгольц, прибывший в Россию в свите герцога Голштинского, чья резиденция находилась рядом с палатами Румянцевых на Красном канале, и увидевший Марию Андреевну еще совсем молодой, называет ее «женщиной весьма любезной и образованной». Ему вторит граф Сегюр, знавший графиню уже почти девяностолетней: «Разбитое параличом тело ее одно обличало старость; голова ее была полна жизни, ум блистал веселостью, воображение носило печать юности. Разговор ее был так интересен и поучителен, как хорошо написанная история». Однако подробнее всех о встречах с престарелой матроной рассказывает венесуэльский путешественник и политический деятель граф Миранда, посетивший Петербург летом 1787 года. Интересно, что в ту пору М.А. Румянцева проживала не в своем доме, а неподалеку, в Летнем дворце Петра I, где летней порой часто селились люди, близкие ко двору. После их первого свидания граф записал в своем дневнике: «Старая госпожа сообщила мне множество подробностей частной жизни Петра Великого и показала… дом, который построил и в котором жил этот император, сказавший своей супруге: „Поживем пока, как добрые голландские граждане живут, а как с делами управлюсь, построю тебе дворец, и тогда заживем, как государям жить пристало". Старуха показала мне распятие, которое Петр I собственноручно вырезал ножом на двери залы, а также некую вещицу из дерева – подарок тому же Петру от курфюрста Саксонии – с тремя циферблатами, из коих один показывает время, а два других отмечают направление и силу ветра, ибо соединены с флюгером, помещенным на крыше дома. Осмотрел комнату, в которой Петр спал, мастерскую, где он работал на токарном станке, и т. д., и не переставал удивляться бодрости графини, ее туалетам, украшениям и завидной памяти, а ведь этой женщине уже сто лет». Все записанное Мирандой – чистая правда, за исключением возраста рассказчицы; может быть, старушка проявила в данном случае своеобразное кокетство, прибавляя себе годы? В графине Румянцевой, которую он за время пребывания в Петербурге еще неоднократно посещал, любознательный иностранец обрел настоящий клад, не уставая слушать ее бесконечные рассказы о былом, отличавшиеся вдобавок чрезвычайной откровенностью. К сожалению, соотечественники не проявляли такого же интереса ни к личности старой графини, ни к ее воспоминаниям, подтвердив известное пушкинское высказывание, что «мы ленивы и не любопытны». Очень часто старые люди уносят свои, порой интереснейшие, воспоминания в могилу, и они оказываются навсегда потерянными для будущих поколений, потому что у тех, кто их слышал, редко возникает желание записывать услышанное, да еще со всеми подробностями. Поэт Г.Р. Державин откликнулся на смерть Марии Андреевны прочувствованными стихами, где, в частности, есть такие строки: …Она блистала Умом, породой, красотой И в старости любовь снискала У всех любезною душой. Наверное, в России, чтобы заслужить похвалы, нужно умереть! От любезной и умной старушки графини Румянцевой, помнившей времена полнейшего беззакония и варварства, переходим к ее младшему современнику, графу Никите Ивановичу Панину (1718–1783). Одним из первых начал он прокладывать длинный и тернистый путь к правовому государству, не оконченный и по сей день. «Для единого блага подданных…» Будущий граф родился в семье комиссариатского чиновника и службу в Конногвардейском полку начал еще при императрице Анне. Однако остаться до конца дней своих военным, как брат Петр, ему было не суждено. Пожалованный в камер-юнкеры, пригожий Никита удостоился мимолетного внимания государыни Елизаветы Петровны, и это дало повод французскому послу Далиону, чутко следившему за малейшими событиями придворной жизни, сообщить своему правительству: «Кажется, мы накануне появления нового фаворита». Правда, уже через месяц, в другом донесении, дипломат оповестил начальство, что «Геркулес Разумовский сокрушил Адониса Панина», и все пошло своим чередом… Тем не менее через несколько лет заинтересованные лица постарались избавиться от возможного соперника, добившись его назначения посланником в Данию. В том же 1747 году Никиту Ивановича переводят к шведскому двору, где он оставался почти двенадцать лет. Его задачей было всеми силами препятствовать восстановлению там абсолютной монархии, что, как полагали в Петербурге, привело бы к опасному усилению Швеции. Находя порученную ему миссию слишком сложной и трудноисполнимой, Панин неоднократно просил об отозвании, но неизменно получал вежливый отказ. Постепенно он свыкся со своей должностью, мало того – глубоко проникся идеями государственного порядка, господствовавшими в Швеции, навсегда сделавшись приверженцем ограниченного самодержавия. Падение в 1758 году покровительствовавшего ему канцлера А.П. Бестужева и замена его графом М.И. Воронцовым сделали положение Панина, и без того нелегкое, совершенно невыносимым. В 1760-м, неожиданно для самого себя, он был назначен воспитателем малолетнего цесаревича Павла. Естественным образом последовало сближение Никиты Ивановича с матерью его подопечного, будущей императрицей Екатериной, которая, так же как и он, была тесно связана с Бестужевым. Тем временем скончалась Елизавета, и на престол вступил Петр III. Вынужденный сносить от капризного монарха многочисленные обиды, Панин относился к нему неприязненно, хотя тот и пожаловал ему высокий чин действительного тайного советника, наградив вдобавок орденом Святого Андрея Первозванного. Кроме того, Никита Иванович опасался того, что в любой момент его отправят обратно в Швецию и заставят добиваться того, с чем он прежде сам всемерно боролся: восстановления самодержавия! Н.И. Панин Ничего удивительного, что Панин присоединился к сторонникам переворота, причем, если верить княгине Дашковой (кстати сказать, молва упорно называла Никиту Ивановича то отцом, то любовником последней), он высказывался за установление ограниченной монархии по шведскому образцу. После воцарения Екатерины Панин не только сохранил должность воспитателя при великом князе, но приобрел еще большее значение, сделавшись одним из ближайших советников новой государыни. Хотя главное его желание – увидеть на троне своего воспитанника – не осуществилось, Никита Иванович не терял надежды добиться изменения верховного правления. В августе 1762 года он представил императрице обширный проект его реформирования. Начинается этот документ с подробного рассмотрения деятельности Сената, который решает дела по законам, принятым в разные времена, подчас «скоропостижно, неосмотрительно и даже пристрастно», а все дела рассматриваются в отдельных коллегиях, «с наблюдением одного приказного порядка». В нынешнем своем виде Сенат, по мнению Панина, «не может иметь попечений о том, чтобы натуральная перемена времен, обстоятельств и вещей всегда была обращена на пользу государственную». Главной причиной всех зол и недостатков прежнего правления Никита Иванович считал фаворитизм. Елизаветинский кабинет окончательно превратился, по его словам, в «домашнее, а не государственное место, которым воспользовались тогдашние припадочные (то есть случайные. – Л. И.) люди для своих прихотей и собственных видов». Уж он-то знал об этом не понаслышке! «Необходимо поэтому, – делает вывод автор проекта, – установить формою государственное верховное место… законодания, из которого, яко от единого государя… истекать будет собственное монаршее изволение». Таким местом должен был стать предлагаемый Паниным Императорский совет, в чью компетенцию входили бы все важнейшие дела и законодательство. Разделенный на четыре департамента – иностранных и внутренних дел, военный и морской, Совет состоял бы не более чем из восьми и не менее чем из шести членов, управляющих этими департаментами под названием статс-секретарей или министров. В заседаниях Совета, собираемого пять раз в неделю в присутствии императора, «каждый министр по своему департаменту предлагает дела… а советники императорские своими мнениями и рассуждениями оные оговаривают, и мы нашим самодержавным повелением определяем нашу последнюю резолюцию». Короче говоря, Панин предлагал то, что в значительной мере было воплощено в жизнь М.М. Сперанским почти полвека спустя в образе Государственного совета и просуществовало до 1917 года! Однако мессия явился слишком рано, зерно упало на сухую почву и не дало всходов. Императрица, сама поручившая Никите Ивановичу составление проекта и, казалось бы, считавшая учреждение Совета делом уже решенным, неожиданно предложила нескольким лицам высказать свои соображения по этому поводу. Все опрошенные горячо восстали против малейшего намека на ограничение самодержавной власти, и 28 декабря 1762 года уже подписанный манифест об учреждении Императорского совета был разорван. Точно так же в свое время поступила императрица Анна Иоанновна с пресловутыми «кондициями», навязанными ей тогдашними олигархами. Правда, она никогда не считалась просвещенной государыней и не переписывалась с Вольтером… Вместо предлагавшегося Паниным Екатерина создала свой частный Тайный совет, но он никак не отвечал главной цели уничтоженного проекта – «утверждению правительства на твердых и непременных основаниях закона», а потому не мог удовлетворить Никиту Ивановича, осознавшего, что он потерпел очевидное и сокрушительное поражение. Во внешней политике, которой в течение почти двух десятков лет, начиная с 1763 года, руководил Панин, тоже не все ладилось. Его идея так называемого «Северного аккорда», то есть наступательного и оборонительного союза России, Пруссии, Дании, Швеции, Польши и Англии для поддержания мира на севере Европы, полностью провалилась; вместо гармоничного «аккорда» получился явный диссонанс: слишком разнородными и несовместимыми были интересы названных стран. Чрезмерно активное вмешательство в польские дела и поддержка Понятовского стали причиной длительной и кровопролитной войны с Турцией, а упорная ориентация Панина на союз с прусским королем Фридрихом привела в конце концов к разделу Польши, все выгоды от которого достались той же Пруссии и Австрии, причем, если можно так выразиться, совершенно даром. Между тем пути Екатерины II и Панина все больше расходились, и охлаждение императрицы становилось совершенно неизбежным. Она уже в меньшей степени нуждалась в советниках, а ее политические взгляды сильно отличались от тех, которых придерживался он. Впрочем, императрица всегда отличалась завидным терпением и умением выжидать. Наружные признаки милости были налицо: в сентябре 1767 года Никита Иванович вместе с младшим братом Петром были пожалованы в графское достоинство, а в 1773-м, в связи с окончанием воспитания Павла Петровича, государыня щедро наградила Панина деньгами и поместьями. Истинное же отношении Екатерины к братьям Паниным видно из ее писем к Потемкину, где она пишет, что старшего брата «богатством… осыпала выше заслуг и превознесла», а младшего называет «первым вралем» и своим «персональным оскорбителем»… Но если отношения с государыней постепенно портились, то влияние Панина на воспитанника ничуть не ослабевало. В том же 1773 году Павел вступил в брак с Натальей Алексеевной, в выборе которой участвовал его наставник, а после ее смерти в апреле 1776 года очень скоро женился на вюртембергской принцессе Марии Федоровне. В обоих случаях отношения Никиты Ивановича с «молодым двором» были прекрасными. Особенным доверием прониклась к нему вторая супруга наследника, действовавшая в затруднительных случаях по его советам и указаниям. Правда, незадолго до кончины Н.И. Панина под влиянием различных обстоятельств Павел несколько переменился к своему бывшему воспитателю, но, зная характер цесаревича и его зависимость от чужих мнений, удивляться этому не приходится. Смерть настигла Никиту Ивановича, когда он менее всего ее ожидал, чувствуя себя хорошо и готовясь к переезду на лето в имение… При общих для той среды и эпохи недостатках граф Н.И. Панин обладал редкими во все времена достоинствами, признаваемыми даже его врагами: безукоризненной честностью, добротой и, главное, широтой взглядов, свойственной лишь по-настоящему умным и образованным людям. «Верховная власть, – писал Панин в своем политическом завещании, – вверяется государю для единого блага его подданных… Он должен знать, что нация, жертвуя частью естественной своей вольности, вручила свое благо его попечению, его правосудию, его достоинству, что он отвечает за поведение тех, кому вручает дела правления, и преступления, им терпимые, становятся его преступлениями». Эти слова не утратили значения до наших дней и вряд ли когда-нибудь утратят. Однако путь к законности и правопорядку в нашем Отечестве оказался, как уже было сказано, весьма извилистым и непростым. Бецкий, воспитатель детский Год его рождения в точности неизвестен: не то 1703, не то – 1704. Столь же двойственны указания на мать нашего героя – то ли баронесса Вреде, то ли баронесса Спарре, обе шведки. Зато бесспорно, что отцом незаконнорожденного мальчика был русский генерал (впоследствии фельдмаршал) князь Иван Юрьевич Трубецкой, и прижил он его, находясь в многолетнем шведском плену, куда попал после проигранного сражения под Нарвой в 1700 году. По обыкновению русских бар давать побочным детям усеченные родовые фамилии стал Иван Иванович называться Бецкой или Бецкий, а при поступлении в 1726-м на военную службу выдал себя за польского шляхтича. Впрочем, отец не забывал о своем отпрыске и в скором времени взял его к себе в адъютанты. Мы не будем долго задерживаться на раннем периоде жизни Бецкого, отметив лишь, что науки он проходил сначала в Копенгагенском кадетском корпусе, а затем – в Париже, где ему довелось бывать и впоследствии. Пребывание в этом городе и вообще во Франции имело громадное влияние на всю его последующую судьбу: страдая из-за своего незаконного происхождения, Иван Иванович горячо сочувствовал детям, лишенным родителей; не случайно предметом его особого интереса и внимания в чужих краях стали именно воспитательные учреждения. К этому следует добавить знакомство с идеями французских энциклопедистов, прежде всего Руссо, чьи взгляды он принял близко к сердцу и попытался в свое время осуществить на практике. Возможности для этого представились после восшествия на престол Екатерины II, которую Бецкий, бывший некогда камергером великого князя Петра Федоровича, знал с самого ее прибытия в Россию. Досужая молва даже провозгласила Ивана Ивановича отцом императрицы, на том основании, что он находился в давних дружеских отношениях с ее матерью, а также по причине подмечаемого многими внешнего сходства. В марте 1763 года Бецкий становится во главе Академии художеств, сменив на этом посту И.И. Шувалова. В отличие от своего предшественника преимущественное внимание он уделял воспитанию, целью которого было «образовать породу людей, свободных от недостатков общества». Для этого в созданное при Академии Воспитательное училище стали набирать пяти-шестилетних мальчиков, находившихся под постоянным надзором гувернеров. Воспитанники росли в полной изоляции от внешнего мира, «дабы во все время их пребывания в академии никогда не давать им видеть и слышать ничего дурного, могущего их чувства упоить ядом развратности». После десятилетнего обучения те из них, кто обнаружил зачатки художественных дарований, могли поступать в академию, остальные же определялись к различным ремеслам, «по их наклонностям и способностям». И.И. Бецкий Сходная система легла и в основу учрежденного в том же 1763 году по проекту И.И. Бецкого, вначале в Москве, а затем в Петербурге, Воспитательного дома, чей устав до мельчайших подробностей был разработан им лично. Любой мог принести туда младенца во всякое время, ничего не объясняя, указав лишь, крещен он или нет. Ребенка сдавали на руки кормилице или няньке, а через два года переводили в особый разряд, где содержались дети обоего пола. С семи лет начиналось раздельное воспитание и обучение чтению, письму, основам религии, а также несложным ручным работам. С четырнадцатилетнего возраста питомцы начинали овладевать избранными ими ремеслами, а в восемнадцать-двадцать могли вступать в брак. После этого три-четыре года они имели право пользоваться бесплатным жильем при доме, а при выходе оттуда получали полное обмундирование и права вольных людей. Таким образом, по замыслу Бецкого, должно было постепенно увеличиваться число городских обывателей, «третье сословие», к которому причислялись все бывшие питомцы. В одном из писем 1784 года, адресованном опекунам Воспитательного дома, Иван Иванович развил свою мысль относительно дальнейшего предназначения воспитанников: «Воспитателям надлежит как можно стараться, чтобы из них не сделать, как то прежде было… окруженных леностью и негой господ, ниже, как то ныне, мне кажется, выходит, грубыми чувствами наполненных и рабствующих крестьян… отдавая их мастеровым, а не фабрикантам… чтоб разными услугами в домах могли находить себе с честию пропитание, а иных, если откроется в них способность к художествам, отсылать сюда в Академию…» Однако суровая действительность, не желавшая считаться с умозрительными теориями, опровергала их на каждом шагу. Смертность среди питомцев была огромной; нравственный же уровень тех, кто выжил, был весьма далек от того, что грезилось И.И. Бецкому. Бывшие воспитанники в основной своей массе пополняли не ряды свободных ремесленников, а именно «рабствующих крестьян» или полукрепостных фабричных. Финансовые привилегии, данные воспитательным домам и позволившие им накопить огромные капиталы, тратились по большей части, увы, не на улучшение содержания детей, а на удовлетворение постоянно возраставших аппетитов их наставников, надзирателей и т. п. Именно эти люди, как правило весьма мало походившие на добрых пастырей, целиком и полностью распоряжались судьбами своих подопечных, нередко оказывавшихся трагическими. Иван Иванович был также автором проекта воспитательного общества благородных девиц, учрежденного в 1764 году при Воскресенском (Смольном) монастыре. Туда принимались девочки пяти-шести лет, причем с родителей брали подписку в том, что до восемнадцатилетнего возраста они не имеют права требовать их обратно. Первый выпуск «смолянок» состоялся в 1776 году; пожалуй, лучшим памятником многолетнего существования этого заведения стали написанные Д.Г. Левицким знаменитые портреты некоторых воспитанниц, сохранившие их имена для потомства. Что же касается приобретавшихся ими знаний, то Н.И. Греч в своих «Записках» замечает на сей счет: «Воспитанницы первых выпусков Смольного монастыря, набитые ученостью, вовсе не знали света и забавляли публику своими наивностями, спрашивая, например: где то дерево, на котором растет белый хлеб?» Он же приводит ходившие по городу язвительные стишки, сочиненные к портрету Бецкого: Иван Иваныч Бецкий Человек немецкий, Носил мундир шведский, Воспитатель детский, В двенадцать лет Выпустил в свет Шестьдесят кур, Набитых дур. Разумеется, здесь не обошлось без преувеличений – далеко не все выпускницы Смольного были «набитыми дурами», однако несомненная ущербность оторванной от жизни, инкубаторно-карантинной системы воспитания подмечена верно. Утопическая идея «образовать породу людей, свободных от недостатков общества» обнаружила свою полную несостоятельность. Девственное сознание, незнакомое с самыми элементарными, обыденными вещами, не уберегало от «упоения ядом развратности» и не способно было выработать противоядие. Попадая из искусственно созданного мирка в реальную жизнь, бывшие воспитанницы быстро и, главное, некритически усваивали новую, не придуманную мораль той среды, куда они попадали. Достаточно вспомнить взаимоотношения И.И. Бецкого с бывшей питомицей опекаемого им заведения, Г.И. Алымовой. Семидесятитрехлетний старец воспылал греховной страстью к молоденькой девушке, бедной сироте, которую он поселил у себя в доме. Стыдясь или опасаясь действовать напролом, престарелый влюбленный опутал ее сетью хитроумных, но, как оказалось, совершенно ненужных интриг. Юная Глафира не усмотрела в поведении своего наставника ничего предосудительного и позднее признавалась, что «будь он откровеннее, я бы охотно сделалась его женою». Впрочем, Иван Иванович вряд ли всерьез помышлял о браке и до самой кончины (а умер он в 1795 году) оставался холостяком. Если говорить о личных качествах Бецкого, то наряду с несомненным умом и сострадательностью ему были присущи чисто детское самолюбие и непоследовательность, что порой делало его малоприятным в общении. Многое он унаследовал от пороков и добродетелей своего времени, являясь в полной мере сыном его. XVIII век не смог осилить труднейшую и едва ли решаемую задачу – воспитание некоего идеального человека, оставив ее последующим поколениям. Как бы там ни было, И.И. Бецкий закладывал основы российской педагогики и, в меру своего разумения, служил ей верой и правдой всю свою жизнь. Жанетта-Жозефина-Жанетта Те, кто хоть немного знакомы с историческими характеристиками членов дома Романовых, должно быть, знают, что великий князь Константин Павлович не блистал особыми достоинствами ни как человек, ни как государственный деятель, унаследовав многие недостатки своего родителя – грубость, вспыльчивость, жестокость, солдафонство. О его отношениях с женщинами не стоило бы и говорить, если бы это косвенным образом не повлияло на судьбу России. Ведь не вступи он в морганатический брак с польской графиней Иоанной (Жанеттой) Грудзиньской и не откажись тайно от престола, история нашего отечества, возможно, сложилась бы несколько иначе. Во всяком случае, декабристам, отказавшимся присягать Николаю I, пришлось бы искать другой повод для восстания! Первой супруге Константина Павловича, принцессе Юлиане Генриетте Кобургской, названной после принятия ею православия Анной Федоровной, пришлось с ним весьма несладко. Еще невестой она вынуждена была в угоду жениху подниматься зимой в б часов утра, садиться за клавесин и играть военные марши под громовой аккомпанемент трубы и барабана; разозлившись, Константин выкручивал своей покорной жертве руки и кусал ее. Поженили их в феврале 1796 года, когда великому князю не исполнилось и семнадцати, а его избраннице – пятнадцати лет. Настроенной на сентиментальный лад девушке, почти ребенку, вместо грезившейся в мечтах нежной идиллии пришлось стать свидетельницей отвратительных проделок сумасбродного мальчика-мужа, вроде стрельбы из пушек живыми крысами. Ничего удивительного, что через пять лет супружества, как только для этого представилась возможность, Анна Федоровна уехала за границу и больше в Петербург не вернулась. Великий князь Константин Павлович Так завершилась начальная глава брачной эпопеи великого князя. Из нее становится понятным, почему, формально оставаясь женатым, он оказался в двусмысленном положении брошенного мужа. Справедливости ради отметим, что, войдя в зрелый возраст, Константин Павлович изменил свое поведение по отношению к женщинам… По-видимому, постепенно холостяцкое житье стало тяготить его, и в 1803 году он облюбовал себе в жены польскую княжну Жанетту Антоновну Четвертинскую, родную сестру царской фаворитки Марии Антоновны Нарышкиной. Однако стоило цесаревичу заикнуться о своих матримониальных планах, как мать, вдовствующая императрица Мария Федоровна, резко восстала не только против неравного брака, но и против самой мысли о разводе. Вместо этого она посоветовала сыну переменить образ жизни, остепениться и не ронять своего сана, а если уж ему непременно хочется жениться, то искать подругу жизни следует среди владетельных особ. Тем все тогда и кончилось. Пришлось великому князю довольствоваться временными связями. Наиболее длительным и прочным оказался его роман с француженкой Жозефиной Фридрихс. История этой женщины довольно любопытна и заслуживает более подробного описания. Четырнадцатилетней девочкой (было это в конце 1790-х) она обратила на себя внимание некоего богатого английского лорда, пожелавшего воспитать из бедной прислужницы в магазине готового платья спутницу жизни по своему вкусу. Родители Жозефины, хотя и неохотно, дали согласие на этот опыт в духе просветительских идей того времени. Для начала англичанин поместил свою подопечную в один из лучших пансионов, где она провела четыре года, обучаясь хорошим манерам и кое-каким наукам. По выходе оттуда Жозефина оказалась под строгой опекой благодетеля, намеревавшегося довершить полученное в пансионе образование. Он окружил ее всевозможной роскошью, перевез в свой родовой замок, но уже не заговаривал о женитьбе. К несчастью, щедрый покровитель скоро умер, не оставив никакого завещания, и наследники немедленно изгнали его воспитанницу из замковых покоев. Раздумывая, что делать дальше, Жозефина понемногу распродавала полученные в подарок драгоценности. Попутно она мечтала о богатом красавце, который изменит всю ее жизнь, предложив руку и сердце. С этой целью она стремилась завязать знакомства в театрах и на публичных гуляньях. В желавших познакомиться с хорошенькой девушкой недостатка не было, однако дальше непристойных предложений их ухаживания не заходили, и Жозефина затосковала. Наконец ей повезло: она повстречала молодого человека, назвавшегося флигель-адъютантом русского императора, полковником Фридериксом, прибывшим в Лондон с важными документами. Со своей стороны Жозефина представилась ему бывшей невестой английского аристократа, лишившейся своего нареченного в самый канун их свадьбы. Богатые наряды и светское обхождение убеждали в правдивости ее слов, и пригожий полковник не замедлил сделать Жозефине предложение. Они обвенчались; две недели после свадьбы промелькнули как дивный сон, хотя новоиспеченный супруг не смог скрыть легкого разочарования относительно имущественного положения своей избранницы. Наступила пора разлуки; посланец царя объявил ей о своем вынужденном отъезде, пообещав в самом скором времени прислать деньги на проезд в Россию. После нескольких месяцев бесплодного ожидания Жозефина, продав все оставшееся имущество, отправилась в Петербург, на поиски пропавшего мужа. Там ее ожидал страшный удар: полковника Фридерикса среди лиц императорской свиты не оказалось, зато среди побывавших за последнее время в Лондоне курьеров отыскался некий Фридрихс, но не флигель-адъютант, а обыкновенный фельдъегерь, располагавший лишь солдатской койкой в общей казарме. Жозефина Фридрихс Убитая горем Жозефина совершенно растерялась, и, не повстречай она в совершенно чужом для нее городе старой знакомой, приютившей ее на время, ей пришлось бы очень плохо. Тем временем в Петербург вернулся временно отсутствовавший Фридрихс, разыскал свою законную жену и, не утруждая себя извинениями и оправданиями, стал домогаться прав на нее. Пришлось подчиниться. Была нанята квартира, и вновь соединившаяся чета попыталась зажить семейной жизнью. Радости она им обоим не принесла. Вскоре Жозефина возненавидела мужа и решила найти себе высокого покровителя. В 1807 году, на одном из петербургских маскарадов, ей удалось познакомиться с цесаревичем Константином Павловичем, к которому она обратилась за поддержкой. Великий князь охотно согласился принять на себя заботу о несчастной страдалице. 7 июня следующего года французский посол Коленкур занес в свою записную книжку следующие строки: «Некая Фридрихс, француженка, жена фельдъегеря и с год любовница великого князя, родила мальчика. Он велел перевести его к себе во дворец, и сама императрица-мать позаботилась о матери. За нею ухаживают во дворце великого князя, и он в восхищении». Константин Павлович оказался нежным отцом. В письмах 1813 года к графу В.Ф. Васильеву, управлявшему во время пребывания великого князя в действующей армии его дворцом в Стрельне, постоянно упоминаются мадам Фридрихс и горячо любимый сын, с коими он, по его словам, мечтал как можно скорее соединиться. Назначенный в 1814 году наместником царства Польского, он смог осуществить свою мечту, но вот мечте Жозефины о замужестве с великим князем не суждено было сбыться. Сначала этому препятствовали чисто формальные преграды, а позднее цесаревич увлекся другой женщиной, – по странному совпадению ее, как и первую избранницу, тоже звали Жанеттой Антоновной, но на сей раз Грудзиньской. Потеряв надежду на желанную перемену в своей судьбе и устав от ложного положения, в котором она все эти годы находилась, давно разведенная с первым супругом Жозефина 7 марта 1820 года вышла замуж за полковника Вейса. А всего через две недели после этого цесаревич получает долгожданный развод и уже 12 мая вступает в брак с графиней Грудзиньской, получившей в скором времени титул княгини Лович. Это событие сильно отразилось на здоровье Жозефины. В поисках исцеления от телесных и душевных недугов она переезжает с места на место, не находя себе покоя, и спустя четыре года умирает в Ницце. Через несколько лет, в июне 1831-го, не стало великого князя, а вскоре за ним последовала и его жена, княгиня Лович. Хотя Константин Павлович погиб не от рук заговорщиков, как родитель, а от впервые посетившей Русскую землю эпидемии холеры, его преждевременную кончину также можно назвать роковой: находясь в крайне удрученном состоянии из-за вспыхнувшего неожиданно для него в ноябре 1830 года Польского восстания, он сделался легкой жертвой болезни. Тот, о ком нам предстоит говорить далее, имел непосредственное отношение к заговору против Павла, но умер раньше его, причем при довольно загадочных обстоятельствах. Миллионная не стала Дерибасовской Если бы к концу XVIII века Миллионная не имела прочно приставшего к ней названия, она, пожалуй, могла бы стать Дерибасовской: семейство адмирала О.М. де Рибаса владело здесь двумя большими домами, а этого порой оказывалось вполне достаточно, чтобы дать улице, переулку или, на худой конец, мосту свое имя. Однако Миллионную, в отличие от других улиц, трудно было удивить богатыми особняками и даже дворцами, поэтому она не стала Дерибасовской. Тем не менее человек, носивший эту фамилию, сохранился не только в памяти одесситов. Среди иностранцев, обретших в России вторую родину, де Рибас занимает весьма заметное место. Последние годы жизни адмирал провел в Северной столице и оказался замешанным в важных и драматичных событиях. Осип Михайлович, он же дон Хосе Мигель де Рибас (1749–1800), был сыном испанского дворянина и шотландки из старинного рода лордов Дунканов. Его отец поступил на службу к неаполитанскому королю и долгое время занимал высокий пост директора министерства государственного управления и военных сил. Он имел полную возможность дать сыну прекрасное образование, чем и не преминул воспользоваться. Особые способности юноша обнаружил к языкам, которых знал не менее шести; впоследствии к ним добавился и русский. Из уважения к заслугам отца семнадцатилетний Хосе производится в подпоручики пехотного полка, а в 1769 году, находясь в Ливорно, знакомится с командующим российским флотом на Средиземном море графом А.Г. Орловым. Эта встреча определила его дальнейшую судьбу. Он охотно согласился перейти на русскую службу, а в дальнейшем, как известно, оказал графу существенную помощь в похищении самозванки княжны Таракановой. Благодаря рекомендательным письмам Орлова в 1772-м его назначают воспитателем в Сухопутный шляхетный корпус, затем он поступает волонтером под начальство П.А. Румянцева и участвует в первой Русско-турецкой войне. После ее окончания Осип Михайлович, как стали называть его в России, возвращается на прежнее место, заняв должность цензора. К тому времени он успел завоевать доверие императрицы, отдавшей на его особое попечение Алексея Бобринского, своего незаконного сына от Г.Г. Орлова. Завязав теплые отношения с бывшим начальником корпуса И.И. Бецким, Рибас женится в 1776 году на его воспитаннице и будущей наследнице А.И. Соколовой, чем окончательно упрочивает свое положение. Нелишним будет отметить, что свадьба эта состоялась в присутствии государыни. О.М. де Рибас Однако спокойная, скучноватая служба в кадетском корпусе не удовлетворяет предприимчивого и деятельного, мечтающего о ратных подвигах испанца: в 1779-м он добивается своего перевода в армию, но уже в чине полковника. Годом позже состоялась его встреча с Потемкиным, имевшая для Осипа Михайловича не меньшее значение, чем встреча с Орловым. Свои военные способности и незаурядное мужество он сумел полностью проявить во время второй Русско-турецкой кампании 1787–1791 годов, к концу которой командовал гребной флотилией. Светлейший князь высоко оценил заслуги Осипа Михайловича. В письме Екатерине от 4 сентября 1790 года после крупной победы над турецким флотом он, в частности, писал: «Я не могу нахвалиться Генерал-Майором Рибасом. При его отличной храбрости наполнен он несказанным рвением». В придачу к чисто воинским талантам Осипа Михайловича буквально распирало от идей или, как тогда говорили, «прожектов». Он придумал способ доставать со дна моря потопленные легкие турецкие суда и переоборудовать их в гребные и канонерские, приспособленные для плавания по мелководью, чем значительно усилил едва нарождавшуюся в ту пору Черноморскую флотилию. В ходе военных действий Потемкин поручил Рибасу командовать авангардом в корпусе генерала Гудовича. 14 сентября 1789 года в результате штурма ему удалось овладеть турецкой крепостью Хаджибей, за что он был награжден военным орденом Святого Георгия 3-й степени. Через пять лет на месте завоеванной крепости приступили по его проекту к строительству нового города – Одессы. В следующем году Осип Михайлович сделался кавалером 3-й степени того же ордена, которой за все время существования этой награды удостоились лишь 125 человек. В рескрипте на его имя говорилось: «Во уважении на усердную службу, многие труды и подвиги, понесенные им в течении минувшей кампании, когда он, командуя гребною Черноморскою флотилиею при вступлении оной в Дунай, опровергнул неприятельские укрепления, устье его заграждавшие, разбил и пленил все суда флотилии турецкой и овладел замками Тульчею и Исакчею». Самое удивительное то, что Осип Михайлович показал себя в равной степени искусным моряком и отважным кавалеристом, что, согласитесь, бывает не так часто! Все время после окончания войны и до вступления на престол императора Павла де Рибас, пожалованный к тому времени в звание вице-адмирала, посвятил устроению Одессы. Указом от 26 декабря 1796 года новый государь повелел приостановить все работы, а стоявшего во главе их де Рибаса сместить с должности. Пошли слухи о допущенных им серьезных злоупотреблениях, за что ему грозила ссылка в Сибирь. Однако адмиралу удалось оправдаться, и он не только не был сослан, но и занял место члена Адмиралтейств-коллегии. В конце января 1797 года Осип Михайлович прибыл в Петербург, где ему суждено было прожить до конца жизни. Вскоре он назначается на должность генерал-кригскомиссара, то есть главного интенданта, а уже в мае 1799 года, за отличное исполнение своих обязанностей, производится в полные адмиралы и вдобавок получает пост управляющего Лесным департаментом. При Павле служебные взлеты и падения совершались очень быстро, а посему всего через девять месяцев де Рибас за допущенные им крупные хищения изгоняется со службы, оказавшись на некоторое время не у дел. Надо полагать, именно в это время происходит его особое сближение с вице-канцлером графом Н.П. Паниным и английским послом лордом Витвортом, вынашивавшими планы отстранения императора от власти. Привлечение на свою сторону де Рибаса, о ком один из современников написал, что «это был человек чрезвычайно хитрый, предприимчивый и ловкий», можно считать для участников заговора большой удачей. Правда, адмирал А.С. Шишков в своих «Записках» утверждает, что Осип Михайлович до последней минуты колебался, кого ему выгоднее будет предать – царя или самих заговорщиков, но это суждение весьма пристрастное и, скорее всего, несправедливое. К отрицательным чертам де Рибаса с большим основанием можно отнести неумеренное мотовство, благодаря чему он изрядно растратил имение своей жены и наделал долгов, а также присущую большинству екатерининских сановников неразборчивость в изыскании необходимых для роскошной жизни денежных средств. Чтобы рассчитаться с кредиторами, он даже вынужден был в 1798 году продать в казну свой дом на Миллионной, доставшийся ему по наследству от И.И. Бецкого. Как бы там ни было и какими бы мотивами Осип Михайлович ни руководствовался, он стал одним из основных и наиболее активных сторонников свержения царствовавшего монарха. Трудно объяснить это простой обидой на императора, отстранившего его от должности, тем более что немилость продолжалась лишь с марта по октябрь 1800 года, после чего де Рибас получил место помощника вице-президента Адмиралтейств-коллегии и возможность являться к государю с личными докладами. По свидетельству графини Головиной, «заговорщики решили, что он воспользуется одним из этих докладов для совершения преступления, но в тот же самый день Рибас заболел и несколько времени спустя умер. В бреду он говорил только о своих ужасных намерениях и об испытываемых им угрызениях совести». Говорят, что явившийся при известии о болезни Осипа Михайловича бывший вице-канцлер Н.П. Панин не отходил от постели больного, опасаясь будто бы с его стороны возможных разоблачений. Ходили также слухи, что его отравили собственные сообщники, но все это не подкреплено никакими доказательствами и пока остается тайной, которую адмирал унес собой в могилу… Челночный дипломат Во второй половине XX века широко распространилось выражение «челночная дипломатия», которое подразумевает попеременное посещение двух или более стран, как правило с примирительной миссией. Особенно часто его стали употреблять в связи с поездками различных миротворцев по странам Ближнего Востока. Однако возникло оно гораздо раньше, и первым, кто употребил его в вышеозначенном смысле, был русский царь Александр I, окрестивший своего флигель-адъютанта А.И. Чернышева «челноком» (по-французски – la navette) для облегчения сношений между императорами. Такое определение является вполне обоснованным: в течение четырех лет, с 1808 по 1812 год, будущий военный министр многократно исполнял роль посредника между Александром и Наполеоном, которых можно было бы назвать «заклятыми друзьями». Но вначале несколько вступительных слов об этом деятеле, занимавшем весьма важное место в царствование Николая I. Родился он в 1785 году в семье генерал-поручика И.Л. Чернышева и Евдокии Дмитриевны, урожденной Ланской, сестры екатерининского фаворита, и назван был, надо полагать, в честь дяди Александром. В пятнадцать лет бойкий, смышленый юноша имел счастье обратить на себя внимание своего августейшего тезки, только что занявшего родительский престол, и тот пожаловал его в камер-пажи. В 1802 году Александра Чернышева производят в корнеты Кавалергардского полка, а три года спустя он в должности полкового адъютанта участвует в сражениях с Наполеоном, заслужив два ордена за храбрость. В 1808 году, уже после заключения между Россией и Францией Тильзитского мира, ставшего на самом деле не более чем перемирием, Чернышев, который в ту пору имел уже чин штаб-ротмистра, был отправлен курьером в Париж. Наполеон выразил желание познакомиться с посланцем русского государя и, заметив на его груди боевые награды, поинтересовался, за что они получены. Императору французов понравилась независимая манера общения молодого офицера, смело возражавшего в ответ на критику действий русской армии во время минувшей кампании. С тех пор он начал оказывать ему неизменное расположение. Когда в 1809 году между Францией и Австрией разразилась новая война, Чернышев, успевший к тому времени выполнить уже не одно поручение Александра при дворе французского императора, вновь посылается в Париж с обещанием помощи в кампании против австрийцев. Русскому посланцу предписывалось в дальнейшем оставаться в полном распоряжении Наполеона, поэтому он имел возможность наблюдать за взятием Вены и окончательным поражением австрийцев при Ваграме. А.И. Чернышев Во время этой решающей битвы Александр Иванович неотступно находился при императоре, за что удостоился получить от него крест Почетного легиона. Немного позже он узнал, что Александр I пожаловал его во флигель-адъютанты, – таким образом, награды сыпались на царского посланца с обеих сторон! После Ваграмского сражения Чернышев отправился с письмом Наполеона в Петербург, чтобы тут же выехать с ответными посланиями Александра к французскому и австрийскому императорам, а затем вновь вернуться в российскую столицу. В марте 1810 года Чернышев доставил в Париж очередное письмо от своего государя и с тех пор в течение двух лет почти постоянно находился при французском дворе, лишь ненадолго приезжая в Петербург с письмами Наполеона. Тогда-то он и получил от Александра прозвище Челнок. Надо сказать, его роль выходила далеко за рамки простого посредничества: в действительности он в значительной степени заменил собой русского посла, старого и неспособного князя А.Б. Куракина, обнаружив незаурядные дипломатические способности. При этом Александр Иванович отнюдь не сторонился светских развлечений, – напротив, он, казалось, с головой погрузился в водоворот шумного парижского веселья, посещая придворные балы и часто бывая в салоне принцессы Боргезе, любимой сестры Наполеона, которая, по слухам, питала к нему нежные чувства. Красивый и ловкий, вдобавок превосходный танцор, Чернышев пользовался огромным успехом у женщин. Однако радости светской жизни не заслоняли для него главного, и нередко именно в дамских будуарах ему удавалось добывать чрезвычайно полезные сведения. Попадая в кабинеты представителей иностранных держав, он как бы ненароком успевал разглядеть оставленные на столах документы и бумаги, представлявшие большой интерес. Одним словом, неутомимый Челнок сновал между парижскими гостиными в поисках нужной информации и неизменно ее находил. Министр полиции Савари, внимательно следивший за действиями Чернышева, предупреждал правительство о чрезмерной любознательности русского представителя, но до поры до времени его никто не хотел слушать… Вся переписка двух императоров осуществлялась при помощи Чернышева, который зорко следил за всем происходящим во Франции и находил возможность сообщать о своих наблюдениях Александру. Словом, в лице русского представителя при своем дворе Наполеон приобрел опасного врага, неустанно подогревавшего природную подозрительность царя все новыми и новыми фактами, свидетельствовавшими о недобрых намерениях Бонапарта в отношении России. В секретном донесении Александра Ивановича от 9 января 1811 года говорилось: «Осмеливаюсь сказать Вашему Величеству, что, несмотря на то что речи императора Наполеона исполнены миролюбия, все его действия совершенно не согласны с ними. Быстрота, с какою в продолжении шести месяцев совершено столько насильственных присоединений, предвещания, что за ними последуют другие захваты, деспотические и насильственные меры, которые употребляет Наполеон для увеличения своих войск… ставят различные европейские державы в крайне тревожное положение относительно французской империи». Вслед за тем А.И. Чернышев советует Александру как можно скорее и на любых условиях закончить войну с турками, чтобы иметь время заключить оборонительные союзы с Австрией и Швецией и быть готовым к столкновению с гораздо более грозным противником. Итак, молодой флигель-адъютант, лишь незадолго перед тем произведенный в полковники, не стесняется давать советы самому государю, и тот не усматривает в таком поведении своего посланца ничего предосудительного. Мало того, он внимательно прислушивается к его развернутым рекомендациям, а однажды делает против особенно понравившихся ему строк собственноручную помету: «Почему у меня мало таких министров, как этот молодой человек?» Между тем отношения между Россией и Францией все больше накаляются, и положение Александра Ивановича становится все менее приятным. После переданного русским государем сожаления по поводу неискренности поведения французского императора и, в частности, предполагаемого намерения восстановить независимую Польшу Наполеон пожелал узнать личное мнение Чернышева по этому вопросу. Однако тот предпочел дать уклончивый ответ, сославшись на свою молодость и неопытность. Тогда Наполеон взял его за ухо и не отпускал до тех пор, пока не услышал ясного подтверждения существования у царя подобных опасений. К началу 1812 года Чернышеву стало окончательно ясно, что ему, как говорится, пора сматывать удочки. За ним установили постоянную слежку и в конце концов обнаружили у него секретное донесение Александру I с приложенными копиями с документов, в том числе и таблицу с указанием структуры наполеоновской армии. Разразился громкий скандал. Наполеон негодовал и требовал во что бы то ни стало отыскать предателя, сообщившего эти сведения. Впрочем, чтобы преждевременно не осложнять отношений с Россией, Чернышева решили выпустить из Парижа, о чем он только и мечтал, послав в Петербург просьбу о своем отозвании. 13 февраля 1812 года состоялась последнее свидание Александра Ивановича с Наполеоном, продолжавшееся целых два часа. В продолжение этого времени император, окончательно решившийся воевать, не переставал твердить о своем миролюбии и о том, что, может быть, все еще уладится. На следующий день А.И. Чернышев покинул Париж, куда ему суждено было вернуться только через два с лишним года, но уже в качестве победителя, в свите государя. Пора «челночной дипломатии» закончилась, настал черед говорить пушкам! К тесному кругу приближенных императора Александра I, отличавшихся европейской образованностью и утонченными манерами, принадлежали также двое людей совершенно иного склада, притом очень не похожие друг на друга. Первый, а им был пресловутый Аракчеев, любил выставлять напоказ свою мнимую простоту и частенько говаривал, что учился на медные деньги и «грамоте мало знает». Второй, генерал-адъютант Ф.П. Уваров, мог бы сказать о себе то же самое, однако хвастаться этим не находил нужным. Оба пользовались доверием государя, который прислушивался к их мнениям. Но если один употреблял свое влияние чаще всего во вред ближнему, то другой старался поступать наоборот. Счастье изменило лишь однажды В судьбе Федора Петровича Уварова (1769–1824) лишний раз нашла подтверждение известная русская поговорка: «Не родись красивым, а родись счастливым». Впрочем, природа не отказала нашему герою и в приятной наружности, одарив буйными кудрями и румянцем во всю щеку. Не довелось ему получить лишь мало-мальски приличного образования, но это обстоятельство не стало для него препятствием в достижении высокого положения. Родился Федор Уваров в семье небогатого, хотя и родовитого дворянина и до восемнадцати лет безвыездно жил с матерью в деревне. Правда, удача и тут не оставляла своего баловня: пока он проводил время в незатейливых сельских забавах, военная служба, на которую он, по обычаю того времени, был записан с шести годков, подвигалась своим чередом. Из сержантов армейской артиллерии беззаботный недоросль, сам того не ведая, попал в каптенармусы Преображенского полка, затем последовало повышение в чине, а к началу 1788 года его зачислили вахмистром в Конную гвардию. Разумеется, служба в этом привилегированном аристократическом полку была ему не по карману, но при поступлении в армейский полк она давала преимущество в два чина. Отцовский покровитель, генерал Тутолмин, помог определить юношу, лишь понаслышке знакомого с офицерскими обязанностями, сразу капитаном (!) в Софийский пехотный полк, и очень скоро Феде Уварову пришлось понюхать пороху в войне со шведами. Очевидно, боевое крещение прошло успешно, и уже в сентябре 1790 года он получает очередной чин секунд-майора и переводится в Смоленский драгунский полк. Ему выпало на долю участвовать в военных действиях против поляков под командованием Суворова, который в 1795 году произвел его в подполковники. Нелегкое для дворян царствование Павла обернулось для Уварова временем полнейшего благоденствия. Причиной тому была его близость с супругой генерал-прокурора, светлейшего князя П.В. Лопухина, приходившейся мачехой фаворитке императора. По ее просьбе Уварова переводят в Петербург. Вслед за тем военная карьера Федора Петровича начала продвигаться со сказочной быстротой: в сентябре 1798 года он снова зачисляется в Конную гвардию, а в октябре император назначает его своим генерал-адъютантом с одновременным производством в генерал-майоры. Столь неслыханные милости довершило награждение орденом Святой Анны 1-й степени. Ф.П. Уваров В августе 1799 года Ф.П. Уваров становится шефом Кавалергардского корпуса, первый эскадрон которого называется его именем. В следующем году корпус преобразуют в полк, состоящий под командованием того же Уварова. До конца жизни государь не переставал оказывать командиру полка милости, неоднократно выражая ему монаршее благоволение, а незадолго до своей трагической кончины произвел в генерал-лейтенанты. Тем не менее кавалергарды во главе с шефом приняли деятельное участие в заговоре против Павла. В роковой день 11 марта 1801 года Федор Петрович с несколькими офицерами своего полка охранял наследника престола, а после его воцарения находился в свите, сопровождавшей нового государя Александра I при переезде из Михайловского замка в Зимний дворец. В качестве генерал-адъютанта нового императора он принял участие в войне с Наполеоном, отличившись при Аустерлице. Но в историю Федор Петрович вошел прежде всего благодаря своим удачным действиям в Отечественную войну 1812 года. Командуя 1-м кавалерийским корпусом в битве при Бородине, он вместе с казаками атамана Платова предпринял успешный разведывательный рейд, так называемый «поиск», в тыл противника, задержавший продвижение войск Наполеона и позволивший усилить левый фланг русской армии. Потом были заграничные походы и сражения, а после окончания военных действий Уваров почти безотлучно находился при государе, сделавшись одним из самых приближенных к нему лиц. Он часто сопровождал Александра во время пеших и конных прогулок, пользуясь этим, чтобы откровенно говорить царю то, чего, по его мнению, требовали интересы России. Генерал обращался и к письменной речи, хотя по причине скудного образования последняя давалась ему не без труда. По свидетельству военного историка А.И. Михайловского-Данилевского, Федор Петрович «подал записку Государю о бедственном положении России, описывая в оной, что все состояния вообще недовольны, что доверие исчезло, что налоги обременительны, что нет правосудия и что промышленность год от года упадает». Как бы огорчился наш герой, узнав, что переживаемые Отечеством беды и через двести лет останутся теми же! Большинство современников, возможно, из чувства зависти любили подмечать только смешные черты характера Уварова. Сохранилось немало рассказов о его своеобразном французском языке, которым он овладел уже в зрелом возрасте и конечно же не по учебникам. Желание не отстать от других в казавшемся чрезвычайно важным в ту пору умении «изъясняться на французском диалекте», каковым он любил блеснуть в обществе, порой действительно приводило к комичным случаям. Тем же забавным пристрастием отличался и другой герой Отечественной войны, генерал М.А. Милорадович. Однажды за столом они затеяли между собой оживленную беседу. «О чем они толкуют?» – поинтересовался туговатый на ухо император у сидевшего рядом с ними графа Ланжерона, француза по происхождению. «Извините, государь, – с улыбкой отозвался тот, – я их не понимаю, они говорят по-французски…» Однако куда более важными выглядят иные черты личности Ф.П. Уварова. О здоровье подчиненных и о поддержании ими чести и доброго имени он заботился не меньше, чем о государственном благе. Порой его рекомендации могут вызвать улыбку, но в их основе всегда заметно искреннее желание сделать людям добро. Немало было таких, кто полагал, что, будь в 1820 году командиром Гвардейского корпуса Уваров, всегда внимательно относившийся к нуждам солдат, не разыгралась бы печально знаменитая Семеновская история. В конце концов счастье, сопутствовавшее Федору Петровичу на протяжении всей жизни, вдруг изменило ему. Весной 1824 года он опасно заболел и через шесть месяцев скончался еще совсем не старым человеком. На его похоронах присутствовал Александр I, следовавший за гробом покойного. Желая намекнуть на участие Уварова в заговоре против Павла, Аракчеев довольно громко и злорадно произнес: «Один царь здесь его провожает, каково-то другой там его встретит?» Однако обвинение в неблагодарности и коварстве по отношению к убитому государю вряд ли справедливо. Отсутствие личной заинтересованности в падении ненавистного многим тирана говорит о том, что поступками Федора Петровича руководила скорее забота об общем благе. Вдобавок ходили упорные и небезосновательные слухи о намерении Павла устранить цесаревича Александра и передать престол племяннику жены, принцу Евгению Вюртембергскому. Когда пришла пора действовать, Уваров без колебаний сделал свой выбор, встав на сторону великого князя… Детей у Федора Петровича не было, и все свое значительное состояние, доставшееся ему после покойной жены, он оставил дальним родственникам, за исключением 400 тысяч рублей, завещанных им на сооружение памятника русской гвардии, в рядах которой ему довелось пройти славный путь. Эти деньги пошли на возведение Нарвских триумфальных ворот. Как нетрудно догадаться, между Уваровым и Аракчеевым существовали крайне неприязненные отношения, но последний, при самом горячем желании, не имел возможности сильно вредить своему врагу, находившемуся под постоянным покровительством императора Александра. Герой нашего следующего рассказа не имел такой защиты, а вдобавок находился в прямом подчинении мстительного временщика, с которым имел давние счеты. Крепость не сдалась Василий Григорьевич Костенецкий родился в 1769 году в семье мелкопоместного дворянина Черниговской губернии. У родителей с трудом хватило средств на то, чтобы довезти дюжего парубка до Петербурга и отдать его в Артиллерийский и инженерный кадетский корпус, где обучались по большей части недоросли из небогатых семей. В одно время с Костенецким там же воспитывался «на медные деньги», как он позднее любил повторять, другой выходец из бедных дворян, только Новгородской губернии, известный в будущем деятель граф А.А. Аракчеев. Говорят, что чрезмерно искательному и благонравному Алеше частенько доставалось от его товарищей, а в исполнители постановлений кадетского суда неизменно избирался рослый и сильный Василий. В дальнейшем это неблагоприятно отразилось на его карьере… А. Аверьянов. Подвиг генерала Костенецкого Получив боевое крещение в 1788 году при осаде и штурме Очакова, Костенецкий быстро выдвинулся благодаря невиданному бесстрашию, а главное – способностям, позволившим ему в короткий срок стать отличным артиллерийским офицером. В 1800 г. он назначается командиром гвардейской конно-артиллерийской роты, но в полной мере его военные таланты развернутся уже в александровское царствование. В.Г. Костенецкий – участник всех сражений с Наполеоном, причем в бою под Бородином, уже в генеральском звании, ему пришлось пустить в ход не только пушечные ядра, но и толстенный «банник» – дубину, предназначенную для чистки стволов и досылания зарядов, которой он орудовал как палицей. Обычно же, отражая конные атаки, он рубился не обыкновенной саблей, а богатырским полуторным палашом, полученным специально для него из арсенала Оружейной палаты! Когда позднее Александр I благодарил Василия Григорьевича за этот подвиг, тот будто бы посетовал на то, что в артиллерии не употребляются железные банники, на что царь ответил: «Сделать их нетрудно, но где найти Костенецких, чтобы владеть ими?» Несмотря на мнимо милостивое отношение к генералу, «властитель слабый и лукавый» не оценил должным образом его заслуг: по небрежной халатности В.Г. Костенецкого трижды обходили наградами, давая те, что он уже имел. А после войны и вовсе забыли. В 1820 году, в период наивысшего могущества графа Аракчеева и явно не без его участия, боевого генерала, с 1807 года не получавшего повышения в чине, оставили без определенной должности с расплывчатой формулировкой «зачислен по артиллерии». В повседневной жизни Василий Григорьевич усвоил себе спартанские привычки, доходившие до прямого чудачества: никогда не топил комнат, обходился без простыней и одеял, зимой ежедневно валялся в снегу, питался самой простой, однообразной пищей, не пил и не курил. По характеру он был добр и обладал нежным, влюбчивым сердцем, что не мешало, впрочем, крайней вспыльчивости и горячности его нрава. Как говорят, женщины его любили, но, по всей вероятности, не те, которых любил он, почему, дожив до седых волос, Василий Григорьевич так и не женился. М.И. Пыляев утверждает, что Костенецкий был безнадежно влюблен в некую красавицу-княжну, причем его юношеская страсть как-то не вязалась с его вполне зрелым возрастом и даже служила поводом для насмешек. Трудно сказать, была ли неразделенная любовь к неведомой княжне последней в его жизни, но то, что она была не единственной, сомнению не подлежит, о чем сохранилось вполне достоверное свидетельство современника. Другой женщиной, сумевшей поразить воображение неустрашимого воина, стала графиня Клеопатра Ильинична Безбородко, племянница покойного канцлера и наследница значительной доли его несметного состояния. Претендентов на ее руку, как читатель, вероятно, догадывается, оказалось предостаточно, среди них преобладали графы и князья, но разборчивая невеста долго не могла решить, кто именно достоин стать ее мужем. К.И. Лобанова-Ростовская (урожденная Безбородко) Пока означенные титулованные особы без всякой видимой для себя пользы толклись в гостиной Клеопатры, у нее появился еще один поклонник – В.Г. Костенецкий. Василия Григорьевича ничуть не смущало, что графиня была лет на двадцать пять моложе его и в тысячу раз богаче. Не обескуражило его и то, что родители облюбованной им избранницы, заподозрив в нем дерзкого охотника за приданым, отказали ему от дома. Он решил действовать по-военному, без проволочек, подвергнув неприступную крепость внезапному штурму. Появившись в один прекрасный день у подъезда графского особняка на Почтамтской, он оттолкнул преградившего ему было дорогу швейцара, быстрыми шагами вошел в дом и напрямик объяснился с графиней. Получив столь же прямой и ясный отказ, Василий Григорьевич бросился перед ней на колени и объявил, что в таком случае вынужден увезти ее силой, так как жить без нее не может. Однако Клеопатра Ильинична, девушка не робкого десятка и отважная наездница, в ответ лишь рассмеялась, положив тем самым конец тягостной сцене. Штурм не удался: крепость не сдалась. Генералу осталось лишь, признав свое поражение, удалиться восвояси… В скором времени графиня Безбородко вышла замуж за князя Александра Яковлевича Лобанова-Ростовского, более подходящего ей по возрасту и состоянию, а отвергнутый соискатель навсегда остался неженатым. Неизвестно, жалел ли он об этом; скорее всего, нет, ибо все его привычки и повадки обличали в нем закоренелого холостяка, созданного не для семейной, а для походной жизни. Заварил кашу! Казалось бы, граф Д.А. Гурьев (1751–1825), тринадцать лет возглавлявший Министерство финансов, должен был громко заявить о себе именно в этой области. Однако получилось так, что значительно больший след он оставил в поваренном искусстве: ему принадлежит рецепт прославленной среди ценителей изысканных блюд гурьевской каши, обессмертившей его имя в веках. Кушанье это, изобретенное графом, как говорят, в честь победы над Наполеоном, приготовлялось на сливочных пенках с грецкими орехами, персиками, ананасами и другими фруктами и было, наверное, очень сладким. Что касается служебной деятельности Гурьева, то ее плоды, напротив, оказались чрезвычайно горькими. За годы его управления российскими финансами бумажный рубль упал в цене по отношению к серебряному почти в четыре раза, а хаос и неразбериха в финансовой сфере дошли до того, что министр несколько лет кряду не мог представить Государственному совету отчета в расходовании бюджетных средств! Говоря о прошлом Дмитрия Александровича, можно лишь повторить слова Гоголя, относящиеся к Чичикову: темно и скромно происхождение нашего героя. Он также был дворянином, но уж точно не столбовым; известно, что его прадеда, Кузьму Гурьева, приписали к благородному сословию лишь при Петре II. Начав действительную военную службу в двадцать один год простым солдатом лейб-гвардии Измайловского полка, Дмитрий Гурьев одно за другим получил звания капрала, а затем каптенармуса и через полгода был уже сержантом. Пребывание в столичном гвардейском полку имело то неоценимое преимущество, что помогало заводить знакомства с нужными людьми. Наш герой обрел такового в лице графа П.М. Скавронского, внучатого племянника Екатерины L Он до такой степени сблизился и подружился с молодым богачом, что три года пропутешествовал вместе с ним за границей, числясь в то же время на службе и исправно получая очередные чины. В 1781 году князь Потемкин вздумал выдать за Скавронского одну из своих племянниц, однако поначалу кандидат в женихи и слышать не хотел о браке. Рассказывают, будто бы именно Дмитрий Александрович уговорил приятеля подчиниться воле не знавшего удержу своим прихотям фаворита, за что удостоился наград от обоих: по уверению Ф.Ф. Вигеля, Скавронский подарил Гурьеву в знак дружбы три тысячи душ (!), а Потемкин выхлопотал у императрицы трудно достижимое в ту пору придворное звание камер-юнкера. Д. А. Гурьев Что касается первого утверждения известного мемуариста, то оно сильно смахивает на вымысел, второе же могло иметь под собой реальное основание: не исключено, что пожалование в камер-юнкеры действительно состоялось благодаря поддержке князя. Правда, случилось это только через пять лет, в 1786 году, и если рассматривать получение желанного звания в качестве знака благодарности, то ожидание ее следует признать несколько затянувшимся. Так или иначе, в дальнейшей карьере Гурьева был преодолен самый трудный рубеж. Дальше все пошло значительно легче. К тому времени Дмитрий Александрович уже обзавелся супругой. Его собственное родовое состояние было довольно значительным, насчитывая 1300 душ, но еще больше он приобрел женитьбой на графине Прасковье Николаевне Салтыковой, «тридцатилетней девке, уродливой и злой, на которой никто не хотел жениться, несмотря на ее три тысячи душ». Павловское царствование обошлось для Гурьева без особых потрясений, – он даже сумел достичь сенаторского звания, но подлинное его возвышение началось уже при Александре. Благодаря счастливому умению дружить с нужными людьми Дмитрий Александрович умудрился втереться в тесный кружок близких к царю молодых реформаторов, хотя его тяжелый, неповоротливый ум если и склонен был к новшествам и переменам, то разве что в сфере кулинарии. В августе 1801 года он получил должность управляющего Императорским кабинетом, которую занимал до конца жизни. Если бы честолюбие нашего героя не простиралось дальше этого места, он так и остался бы в памяти знавших его людей просто обжорой и изобретателем гастрономических изысков. Но, к сожалению, ничем не оправданное тщеславие Гурьева и обычай монархов искать государственных людей в своем ближайшем окружении привели к тому, что заурядный придворный, не имевший никакой подготовки, в 1802 году назначается товарищем министра финансов. Это стало прологом к получению им соответствующих чинов и орденов. Через четыре года он становится уже министром уделов с оставлением во всех прочих должностях, а в 1810 году достигает заветной цели – поста министра финансов. Поначалу Дмитрий Александрович являлся безропотным исполнителем предначертаний М.М. Сперанского, составившего план улучшения финансового положения, но при явных признаках охлаждения к всемогущему статс-секретарю перешел в стан его врагов. Экономический курс, предложенный Сперанским, объявили ошибочным. Как и следовало ожидать, предпринятые Д.А. Гурьевым попытки проводить новую финансовую политику успеха не имели: стоимость ассигнаций падала, государственный долг возрастал, бюджетный дефицит стал обыденным явлением. Правда, страна переживала нелегкие времена, – началась Отечественная война с Наполеоном, потребовавшая напряжения всех сил государства. В этот напряженный исторический момент в кресле министра финансов оказался, по словам графа Ф.В. Ростопчина, «человек… не имеющий другого образования, кроме уменья объясняться по-французски, интриган и честолюбец в высшей степени», занимавшийся делами «в полудремоте», «великий охотник до лакомых блюд и до новостей в административном мире», готовый пожертвовать всем, чтобы «удержаться в милости и увеличить свое состояние». И если финансы Российской империи находились в удручающем положении, то имущественные дела управлявшего ими министра процветали: только за два первых года пребывания на этом посту ему были пожалованы 100 тысяч рублей и 3 тысячи десятин плодороднейшей земли в Симбирской губернии «в вечное и потомственное владение». За этим последовали и другие щедрые награды. В 1819 году Гурьев удостоился графского титула. Сам новоиспеченный граф был также далеко не скуп в расходовании казенных средств, если это могло обеспечить ему какие-либо личные выгоды или приобрести новых влиятельных друзей. Чрезмерное искательство и угодливость Дмитрия Александровича в конце концов сослужили ему дурную службу, ускорив отставку; последней каплей стало удержание им 700 тысяч рублей из миллиона, выделенного в помощь голодающим в Белоруссии, на покупку разоренного имения одного вельможи. Каков же был результат неусыпных трудов графа на посту министра? В 1823 году дефицит бюджета превысил все мыслимые показатели, мануфактурная промышленность пребывала в самом жалком состоянии, в торговле царил застой, государственный кредит был подорван, казна лишилась доверия вследствие неаккуратности платежей, вдобавок над ней тяготел внутренний долг в виде обесценившихся ассигнаций. После отставки графа Гурьева секретарь императрицы Елизаветы Алексеевны Н.М. Лонгинов писал о нем своему другу М.С. Воронцову: «Чрезмерная гордость, пошлость речей, ум тяжеловесный и вялый, бесчувственное сердце, упорство характера, ничему не уступающее, как только себялюбию, низость самого подлого царедворца, спесь самая грубая и жестокая, дерзость, часто наказанная, но всегда остающаяся неисправимою, все это не дает еще полного портрета этого толстяка, так как жадность и корыстолюбие со многими другими добавлениями должны необходимо служить подкладкою этой картины». Не странно ли, что в течение многих лет чрезвычайно важный и ответственный пост занимал человек совершенно к нему не пригодный, осмеиваемый и презираемый своими современниками? Так бывало не раз и в новейшей отечественной истории. К великому сожалению, если уроки прошлого чему-то и учат, то уж никак не в России, где снова и снова повторяются одни и те же несуразности, а закулисные хитросплетения и пронырливость претендентов на должность значат куда больше, чем их деловые качества. Расхлебывать же заваренную неспособными чиновниками кашу приходится их преемникам. «Как можно меньше шума» Император Николай Павлович любил, чтобы его ближайшие сподвижники и подручники глядели орлами, готовыми без промедления лететь и исполнять царскую волю. Одаренные княжескими титулами А.Ф. Орлов и А.И. Чернышев, прославившийся чудовищными злоупотреблениями граф П.А. Клейнмихель, граф В.Ф. Адлерберг и прочие николаевские сановники имеют на парадных портретах такой вид, словно в любую секунду согласны умереть за правое дело. Это отвечало духу времени. Недаром Гоголь писал, что какой-нибудь гвардейский поручик, заказывая художнику свое изображение, «требовал непременно, чтобы в глазах виден был Марс», а погрязший во взятках гражданский чиновник «норовил так, чтобы побольше было прямоты и благородства в лице и чтобы рука опиралась на книгу, на которой бы четкими словами было написано: „Всегда стоял за правду"». С.А. Кокошкин Такое же, не вполне невинное кокетство заметно и в публикуемом портрете петербургского обер-полицмейстера С.А. Кокошкина, слывшего между современниками отнюдь не теми добродетелями, которые он при помощи официального живописца постарался изобразить на своей физиономии. Об этом весьма ценимом Николаем I деятеле имевший возможность лично познакомиться с ним А.И. Герцен сказал, что «он служил и наживался так же естественно, как птицы поют». Правда, столь поэтический образ не очень подходил к человеку с измятым, «дряхлорастленным» лицом и в завитом парике, каким предстал генерал перед ссыльным писателем… Когда министр внутренних дел Л.А. Перовский доложил императору, что Кокошкин сильно берет взятки, тот невозмутимо ответил: «Да, но я сплю спокойно, зная, что он полицмейстером в Петербурге». И действительно, не нашлось бы лучшего мастера уладить дело так, чтобы все было шито-крыто, овцы целы и волки сыты, замять любой скандал, не допустив неприятных слухов до начальственных ушей. В своей служебной деятельности Сергей Александрович неуклонно придерживался девиза «Как можно меньше шума», а потому во вверенной его попечениям столице царили ничем не нарушаемые тишь и благодать. И хотя горожане считали Кокошкина человеком жестоким и бессердечным, похвальное стремление во что бы то ни стало сохранить видимость наружного благополучия подвигло его однажды на совершение доброго поступка. Случай этот, описанный Н.С. Лесковым в рассказе «Человек на часах», произошел в 1839 году, накануне Крещения, когда в Петербурге неожиданно наступила оттепель. В образовавшуюся близ Дворцовой набережной полынью провалился человек и стал тонуть. Стоявший в карауле у Зимнего дворца солдат гвардии Измайловского полка Постников, услышав крики утопающего, покинул пост, спустился на лед и вытащил несчастного. Тем самым он подвергнул свою жизнь двойной опасности. По суровым законам того времени, если бы эта история вышла наружу, его ожидал военный суд, наказание шпицрутенами и ссылка в каторжные работы. Случайно проезжавший мимо офицер инвалидной команды, которому Постников сдал спасенного им утопленника, по тщеславному легкомыслию решил приписать подвиг часового себе, в надежде получить медаль «за спасение погибавших». Он доставил впавшего в беспамятство, измученного и продрогшего человека в полицейскую часть, заявив, что спас его с риском для собственной жизни. На вопрос, каким образом ему самому удалось при этом даже не замочить стоп, офицер отвечал путано и неубедительно, но факт оставался фактом, и полицейские отправились будить спавшего пристава… Тем временем над Постниковым нависла страшная опасность: полковое начальство в лице подполковника Свиньи-на проведало о «преступлении» солдата, и лишь опасение за собственную участь заставило командира некоторое время промедлить, прежде чем обратиться к великодушию и «многостороннему такту» обер-полицмейстера, который, как было известно, старательно избегал любого повода вводить государя во гнев. Расчеты Свиньина блестяще оправдались: Сергей Александрович повел дело со свойственной ему ловкостью, и все закончилось тем, что инвалидный офицер, к великой своей радости, получил из рук генерала ожидаемую медаль, а проступок часового так и не дошел до сведения монарха. На радостях добросердечный командир роты, где служил Постников, предложил Свиньину простить провинившегося солдата, однако подполковник приказал дать ему в назидание двести розог, после чего наказанного на шинели отнесли в лазарет. Впрочем, по тем временам это считалось чуть ли не отеческим внушением, тем более что Свиньин распорядился выдать от себя высеченному Постникову фунт сахару и четверть фунта чаю, чтобы скрасить его пребывание на больничной койке. Вероятно, был доволен таким исходом и С.А. Кокошкин, которого перестала мучить совесть за невольное потворство преступному малодушию нижнего чина. Не склонен был потворствовать подчиненным и герой следующего нашего рассказа, воплотивший в себе одном целую эпоху. Граф любил строгость! В исторической галерее столпов самодержавия, прославившихся на избранном ими поприще, почетное место занимает граф А.А. Закревский (1783–1865). Любимец двух императоров – Александра I и Николая I, – генерал-адъютант, генерал от инфантерии, финляндский генерал-губернатор, министр внутренних дел, московский военный генерал-губернатор, член Государственного совета – таков перечень его должностей и званий. При поверхностном знакомстве с личностью этого деятеля может показаться, что перед нами всего лишь грубый, необразованный солдафон, царский сатрап, бездумный исполнитель монаршей воли. Однако это не совсем так: Арсений Андреевич всегда служил не за страх, а за совесть, и она у него имелась. Он всей душой принял систему власти, которую можно назвать патриархальным деспотизмом. Система эта пустила в нашем отечестве глубокие корни и, в сущности, никогда не отмирала. Свой долгий жизненный путь будущий граф начал в небольшой деревушке Тверской губернии, где его родитель, отставной поручик, владел 34 крестьянскими душами. Скудное образование, полученное им в отделении Гродненского кадетского корпуса, не позволяло рассчитывать ни на что большее, кроме как на скромную участь армейского офицера в одном из отдаленных гарнизонов. Но благоприятствовавшая молодому человеку судьба распорядилась иначе: Архангелогородским полком, где он начал в 1802 году службу в чине прапорщика, командовал немногим старший его по возрасту генерал-майор граф Н.М. Каменский. А. А. Закревский Их сблизила общая страсть к карточной игре, в которой счастье, однако, гораздо чаще улыбалось младшему партнеру. Отметивший это обстоятельство Каменский не преминул им воспользоваться и стал время от времени просить удачливого Арсения метать банк вместо себя, а впоследствии сделал его своим адъютантом, оказывая неизменное благоволение. С 1805 года Россия вступила в эпоху почти непрестанных войн, что позволило молодому и доселе не особенно известному генералу Каменскому занять почетное место в ряду отечественных полководцев. Он не переставал оказывать своему любимцу самое широкое покровительство. По словам Вигеля, «Закревский заведовал всем у графа: походною канцелярией, казенными и собственными его деньгами и целым домом, а в сражениях всегда бывал при нем, ловя на лету его приказания и передавая их с быстротою вихря, под неприятельскими ядрами, картечами и пулями». Он становится батальонным, затем полковым и бригадным адъютантом, участвует в боях, удостаивается боевых наград. Довелось ему повоевать и с французами, и со шведами, и с турками. Преждевременная, довольно странная и неожиданная кончина графа Н.М. Каменского в 1811 году, хотя и лишила Арсения Андреевича человека, которого он считал своим благодетелем, не повлияла на успешное продолжение его служебной карьеры. После личного свидания с императором Александром для передачи ему бумаг покойного генерала, Закревский, в ту пору уже майор, назначается адъютантом к военному министру, позднее главнокомандующему русскими войсками М.Б. Барклаю де Толли. Через полтора месяца, в конце января 1812 года, оставаясь в прежней должности, он получает чин подполковника, с переводом в лейб-гвардии Преображенский полк, а всего через две недели (такое прежде случалось лишь при Павле!) производится в полковники. Вместе со своим начальником Арсений Андреевич принимает участие в достопамятной битве при Бородине и награждается орденом Святого Владимира 3-й степени, причем к награде его представил сам Барклай де Толли. Вынужденный оставить армию из-за разногласий с Кутузовым, который сменил его на посту главнокомандующего, Барклай в письме к государю дал своему бывшему адъютанту самую лестную характеристику, причислив к числу офицеров, «наиболее отличившихся своими личными заслугами, испытанной храбростью, неистощимым усердием к службе и настоящим военным талантом». «Я хотел, – пишет он далее, – официально представить его Вашему Величеству, и единственное, что меня удерживало, – это его настойчивые просьбы не делать этого. Тем самым он доказал, что не преследует никаких личных целей, а только искреннюю преданность своему Отечеству. Ваше Величество найдет в нем офицера, который, если представятся обстоятельства, сослужит государству важную службу». Подобная оценка не может быть случайной. Закревский обладал драгоценными качествами, неизменно привлекавшими к нему человеческие сердца: преданностью и надежностью. Он хранил верность прежнему начальнику, оставаясь при нем до конца, и таким же образом повел себя по отношению к новому: когда тот удалился из армии, бывший адъютант, занимавший к тому времени должность директора Особой канцелярии при военном министре, последовал за ним. Расположенный к Барклаю император решил прислушаться к его мнению о своем подчиненном и в декабре 1812 года пожаловал Закревского во флигель-адъютанты. Войну Арсений Андреевич закончил генерал-адъютантом и дежурным генералом недавно учрежденного Главного штаба, где ведал, в частности, личным составом всей армии. За время службы он сумел приобрести много друзей; среди них такие известные личности, как А.П. Ермолов, Ф.В. Ростопчин, Д.В. Давыдов, П.М. Волконский, М.С. Воронцов, относившиеся к нему с неизменным уважением, хотя Арсений Андреевич не блистал европейской образованностью и не владел никакими иностранными языками. Лишь с одним человеком, казалось бы близким ему по скромному происхождению, далеко не светскому воспитанию и даже по духу, Закревский находился в постоянных неладах – с графом Аракчеевым. В отношении его он полностью разделял взгляды своих друзей, величавших ненавистного фаворита не иначе как «змеем» и приписывавших именно ему пагубное влияние на императора, что отнюдь не соответствовало действительности: на самом деле Аракчеев являлся лишь послушным исполнителем царской воли. Подобно другим патриотически настроенным офицерам, Арсений Андреевич осуждал положение дел в России: чрезмерное увлечение парадной стороной военной службы, засилье иноземцев и многое другое. Когда в 1823 году государь пожелал доверить ему пост финляндского генерал-губернатора, известная московская барыня Н.Д. Офросимова довольно язвительно пошутила на его счет, примолвив: «Да как же будет он там управлять и объясняться? Ведь он ни на каком языке, кроме русского, не в состоянии даже попросить у кого бы то ни было табачку понюхать!» Однако Закревский, командовавший вдобавок отдельным Финляндским корпусом, не заслужил никаких нареканий со стороны государя и, по-видимому, неплохо справлялся со своими обязанностями даже без знания «чужеземных диалектов». Новый император, Николай I, также отнесся к нему весьма милостиво, пожаловав орден Святого Александра Невского и назначив членом Верховного уголовного суда по делу декабристов. Впрочем, судьбе угодно было избавить Арсения Андреевича от участия в этом процессе: по домашним обстоятельствам он отправился в Москву и пробыл там довольно много времени. В апреле 1828 года А.А. Закревский назначается министром внутренних дел с оставлением в прежней генерал-губернаторской должности, приняв таким образом на свои плечи весьма нелегкую ношу. В том, что она непомерно тяжела, он убедился очень скоро. Повсюду процветало самое оголтелое взяточничество. За деньги тайные дела показывались подсудимым, а чиновничья волокита превосходила все мыслимые пределы: нерешенных дел накопилось почти две с половиной тысячи (!), причем некоторые из них тянулись по двенадцать и более лет. Железной рукой, не щадя и самого себя, Арсений Андреевич принялся наводить порядок. Один из современников, служивших в ту пору под его началом, позднее вспоминал: «Для всего ведомства настала новая эра – полнейшего милитаризма. Не только в механизме общего управления, но и в мельчайших подробностях службы введена строгая дисциплина и щепетильный формализм». Новый начальник потребовал от чиновников, кроме утренних часов службы (с 10 до 15 часов), собираться в канцелярию в б часов и оставаться до 10 вечера, под наблюдением экзекуторов. О каждом нарушении приказано было непременно доносить министру, который объявил, что никого не выпустит в отставку прежде, чем дела будут окончены и приведены в образцовое состояние. Предупреждая тайный ропот подчиненных, Закревский привел им железный резон: «Вы сами, господа, запустили все и загадили, вы же и вычистите, а тогда с Богом! Государь вам не даром платил жалованье, награждал чинами и орденами». Такое начало порождало большие надежды; как говорилось в одном секретном донесении в Третье отделение, «публика в восторге, а взяточники и ленивцы в страхе и трепете». Однако, как это неоднократно бывало в прошлом и еще не раз случится в будущем, сработало железное правило, сформулированное одним современным деятелем: хотели как лучше, а получилось как всегда. Упование на чисто административные меры, увеличение министерских штатов, усиление и без того чрезмерной централизации, когда все замыкалось на одном человеке – самом министре, не приводили к желаемым результатам. Полицейские и судебные чины, несмотря на повышение окладов, продолжали брать взятки, взбаламученное чиновничье море очень скоро успокоилось и вошло в привычные берега, – словом, все пошло по-старому. Тем не менее Арсений Андреевич продолжал пользоваться доверием государя, а в 1830 году, по ходатайству местного сената, был возведен в графское достоинство Великого княжества Финляндского. С особенной силой все пороки и недостатки исповедуемой Закревским системы управления проявились во время впервые посетившей Россию эпидемии холеры в 1830–1831 годах. Ставка исключительно на силовые, принудительные меры в виде повсеместных карантинов, застав и караулов, без малейших попыток разъяснения действий властей, полностью провалилась. То здесь, то там вспыхивали стихийные волнения. В Петербурге, на Сенной площади, в июне 1831 года разразился так называемый холерный бунт, подавлять который пришлось с помощью войск. Лишь прибытие находившегося в пригородном дворце императора, его грозная речь, а паче всего – готовая к употреблению артиллерия оказали смирительное воздействие на взбудораженную толпу, предотвратив серьезное кровопролитие. Призвав Закревского, Николай I спросил у него, чему он приписывает причину народных волнений. «Единственно распоряжениям и злоупотреблениям полиции», – не задумываясь, отвечал тот. «Это еще что значит?» – «То, государь, что полиция силой забирает и тащит в холерные больницы и больных и здоровых, а потом выпускает только тех, кто откупится». – «Что за вздор! – закричал разгневанный император. – Кокошкин, – обратился он к обер-полицмейстеру, – доволен ли ты своей полицией?» – «Доволен, государь». – «Ну и я совершенно тобой доволен». С этими словами Николай отвернулся и ушел в другую комнату. Зная о недовольстве царя, Закревский через несколько месяцев подал прошение об отставке. В ноябре он получил ее, с правом ношения мундира и пенсией в 25 тысяч рублей в год. Однако Арсений Андреевич был слишком важным винтиком в государственной машине николаевского царствования, чтобы навсегда отказаться от его услуг. Когда в результате европейских потрясений 1848 года в России настала пора очередного «закручивания гаек», император вспомнил о верном и убежденном поборнике решительных действий, назначив его московским военным генерал-губернатором. В этом качестве Закревский пребывал в течение одиннадцати лет, присвоив себе роль заботливого патриарха, пекущегося о неразумных чадах. В полном соответствии с такими взглядами на свои обязанности граф относился к москвичам как к шаловливым детям и по собственному разумению наблюдал за их благонравием, ничуть не интересуясь, хотят они того или нет. Он вмешивался в семейные дела, требовал, давал советы, журил, хвалил, бранил, устраивал показательные выволочки, не справляясь с буквой закона и не озадачиваясь вопросом, имеет ли на это право. Как часто бывает, строгий ревнитель чужой нравственности не замечал, что творится в его собственном семействе, где он, впрочем, не имел решающего голоса. А между тем супруга графа, уже весьма немолодая Аграфена Федоровна, некогда пленявшая поэтов, и дочь Лидия, бывшая замужем за сыном канцлера К.В. Нессельроде, вели самый предосудительный образ жизни. В дневнике хорошо осведомленного шефа жандармов Л.В. Дубельта имеется запись, датированная 10 августа 1854 года: «У графини Закревской без ведома графа даются вечера, и вот как: мать и дочь, сиречь графиня Нессельроде, приглашают к себе несколько молодых дам и столько же кавалеров, запирают комнату, тушат свечи, и в потемках которая из этих барынь достанется которому из молодых баринов, с тою он имеет дело. Так на одном вечере молодая графиня Нессельроде досталась молодому Муханову. Он, хотя и в потемках, но узнал ее, и как видно, что иметь с нею дело ему понравилось, то он желал на другой день сделать с нею то же, но она дала ему пощечину. Видно, он был неисправен или ей не понравился. Гадко, а что еще гаже, это что Муханов сам это рассказывает». После смерти Николая I положение Закревского пошатнулось: плоть от плоти закончившегося царствования, он, разумеется, не захотел принять грядущих перемен и не желал ничего о них слышать. Постепенно теряя прежнее значение, он уже вызывал в москвичах не столько страх, сколько насмешки. Новый император искал лишь повода, чтобы избавиться от докучного «старовера», и повод нашелся. Последней каплей, переполнившей терпение государя, стало скандальное венчание неразведенной дочери графа с новым мужем, состоявшееся при явном и активном содействии ее нежного родителя. Арсений Андреевич и здесь не изменил своему обыкновению, пригрозив непокорному батюшке, отказывавшемуся совершать незаконный обряд, ссылкой в Сибирь! Но на сей раз уехать пришлось ему самому, хотя и не в холодную Сибирь, а за границу, куда он отправился после отставки. Москвичи с ликованием встретили его уход, думая, что навсегда простились со старыми порядками. Как же они ошибались! «Я не люблю, чтобы меня так любили…» Родившийся в семье директора Артиллерийского и инженерного шляхетского корпуса, П.А. Клейнмихель (1793–1869) с детства числился состоящим в Дворянском полку, хотя рос и воспитывался дома. Действительная же его служба началась в 1808 году, притом сразу в чине подпоручика. В 1812 году девятнадцатилетний Петр был переведен из Конногвардейского в Преображенский полк и назначен адъютантом к графу А.А. Аракчееву, что оказало огромное влияние на всю его дальнейшую жизнь. За неполный год пребывания в этом качестве он вполне усвоил жизненные правила своего начальника, который, почуяв в искательном и исполнительном молодом человеке родственную душу, проникся к нему доверием. Вероятно, Аракчеев с лучшей стороны рекомендовал его государю, и тот сделал Клейнмихеля своим флигель-адъютантом. Граф и впоследствии не забыл полюбившегося ему офицера: в 1819 году, явно по его ходатайству, П.А. Клейнмихеля, в ту пору уже полковника, поставили во главе штаба войск военных поселений, находившихся в ведении графа. Попав под крыло всемогущего тогда «змея», как заглазно честили опостылевшего временщика его многочисленные недоброжелатели, Петр Андреевич вступил на торный путь к чинам, почестям и богатству, по которому уверенно шагал свыше трех десятилетий. Взошедший на престол император Николай Павлович удалил Аракчеева, но тут же приблизил к себе его верного питомца, назначив главноуправляющим Департаментом военных поселений, а вскоре после этого пожаловав в генерал-адъютанты. В 1830-х годах П.А. Клейнмихель выполнял множество разных поручений, состоя членом невообразимого количества всевозможных комитетов. Он участвовал в сооружении «домов трудолюбия», устраивал телеграфные линии между Петербургом и Варшавой, изыскивал способы к сокращению расходов на Военное министерство, заведовал инспекторским департаментом того же министерства и, наконец, руководил возобновлением Зимнего дворца после пожара. П.А. Клейнмихель В результате этих непосильных трудов внук лютеранского пастора, не имевший никакого родового состояния, вдруг сделался обладателем 4362 крепостных душ в одной из плодороднейших губерний, а вдобавок винокуренного завода, суконной и бумажной фабрик! Столь быстрое и непомерное обогащение вряд ли может быть объяснено сравнительно редкими денежными пожалованиями, получаемыми в виде поощрения от государя. О том, какой репутацией уже тогда пользовался этот усердный царский слуга, свидетельствует трагикомический случай, относящийся к 1842 году. О нем повествует в своих «Записках» М.А. Корф, бывший в ту пору государственным секретарем. Некий полковник Богданов, служивший прежде под началом Клейнмихеля в Департаменте военных поселений, а затем перешедший в возглавляемый им же Корпус путей сообщения, в один прекрасный день ворвался в кабинет министра внутренних дел Л.А. Перовского, вооруженный двумя пистолетами и кинжалом. «Ваше превосходительство, – воскликнул он в сильнейшем возбуждении, – вы преследуете мелких мошенников и терпите главных воров, безнаказанно грабящих казну, Клейнмихеля и ему подобных… Я пришел предложить вам мои услуги против них!» Оказалось, бедняга лишился разума и впоследствии был посажен в смирительный дом, но причиной помешательства, как признает сам Корф, стали вопиющие деяния его непосредственных начальников, и в первую очередь П.А. Клейнмихеля, о чем Богданову было известно лучше, чем кому-либо другому… Заняв в 1842 году пост главноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями, Петр Андреевич, пожалованный к тому времени в графское достоинство, возглавил строительство железной дороги Петербург – Москва. Именно здесь он во всем блеске проявил присущие ему таланты и вписал свое имя в историю. Чтобы составить представление о масштабах и степени полезности его деятельности, давайте перелистаем дневник начальника Штаба Корпуса жандармов и одновременно управляющего Третьим отделением Л.В. Дубельта, которого трудно заподозрить в желании опорочить царского любимца. Вот запись, относящаяся к 1849 году, когда грандиозное предприятие уже близилось к завершению: «Все бранят графа Клейнмихеля, что цены на железной дороге недешевы, и сожалеют, что почти весь сбор перейдет в карман американцев, с которыми сделан самый странный и разорительный контракт». Согласно этому, действительно «странному», договору американец Уайенс должен был получать за ремонт вагонов сумму в 17 раз превосходящую ту, что платили за ту же работу в других странах Европы! Впрочем, объяснение столь кабальных для казны условий найти не столь уж трудно. Еще менее Петр Андреевич склонен был считаться с людскими потерями. Приказ получен и должен быть исполнен. Любой ценой. Последние слова могли бы стать девизом на графском гербе Клейнмихеля. При этом ему, как и многим тогдашним сановникам, была совершенно чужда идея служения отечеству: они служили только государю, добиваясь его «благоволения», мало заботясь об остальном. «Мы знаем одного царя, нам нет дела до России», – сказал однажды другой деятель того времени, К.В. Нессельроде, и это полностью соответствовало действительности. Общеизвестно, что постройка железной дороги стоила жизни тысячам безымянных крепостных, трудившимся и гибнувшим в нечеловеческих условиях, о чем потрясающе написал в своей одноименной поэме Н.А. Некрасов. Приходят на память знакомые с детства строки: Прямо дороженька: насыпи узкие, Столбики, рельсы, мосты. А по бокам-то все косточки русские… Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты? Продолжим чтение дневника. «1 февраля 1852 года. Статский советник Вонлярлярский жаловался Государю Императору, что граф Клейнмихель не платит ему денег за работы… Граф Клейнмихель представил Его Величеству свои оправдания и доказательства, что Вонлярлярский совершенно удовлетворен и что просьба его не основательна. Его Величество не убедился доводами графа Клейнмихеля, и этим недоверием он так огорчен, что занемог и утверждает, что не хочет и не может служить долее». Сетования графа вряд ли были искренними. Во всяком случае, он превозмог нанесенную ему обиду и остался на своем месте. Запись от 17 марта того же года: «Бросают нехорошую тень на Управление путями сообщения. Рассказывают, что правление оного прежде начала работ требует всегда огромные капиталы Государственного казначейства, кладет их в Коммерческий банк и процентов нигде в приходе не показывает». Оказывается, излюбленная и в наши дни схема «прокручивания» казенных денег через коммерческие банки придумана отнюдь не нынешними жуликами и может считаться классической! Читаем дальше: «Граф Клейнмихель так огорчен последствиями дела Вонлярлярского, что хочет оставить службу, и жаль, что при этом случае он позволяет себе даже неприличные выражения насчет своего Государя и благодетеля!» В этом случае истинное нутро забывшего об осторожности Петра Андреевича выглянуло наружу: хамство и грубость новоявленного графа были всем хорошо известны. К примеру, директора своей канцелярии, носившего немного странную фамилию Заика, он, по слухам, однажды просто-напросто избил, так что даже привыкший к его диким выходкам чиновник не выдержал и стал проситься в отставку. 25 ноября того же 1852 года Дубельт аккуратно занес в свой дневник: «На графа Клейнмихеля слышны беспрерывные жалобы. Теперь жалуется на него подрядчик Иконников. Ему должно получить за работы по железной дороге 3 500 000 рублей серебром, из коих на 1 миллион 500 тысяч квитанции уже утверждены и представлены, но он не получил ни копейки. Иконникову не платят за мосты, по которым ездят уже полтора года, под тем странным предлогом, что на те мосты сметы еще не сделаны. Шесть человек подрядчиков совершенно разорены и умерли в нищете от отчаяния». Раздосадованный постоянными жалобами на состояние железной дороги, на то, что с пассажирами дурно обращаются, плохо кормят, а вдобавок вагоны протекают, император решил лично проверить положение дел, для чего 1 сентября 1853 года совершил поездку до Москвы. Накануне его отъезда Клейнмихель, по свидетельству Дубельта, призвал к себе подчиненных и сказал им: «Смотрите, употребите наистрожайшие меры, чтобы во время проезда его величества не было жалоб». – «Да что же нам делать?» – отвечали они. На это граф им возразил: «Убью вас, ежели будут жалобы». Невольно вспоминается напутственное слово гоголевского городничего к своим полицейским по схожему поводу! Разумеется, инспекционная поездка государя не выявила никаких безобразий, и 3 сентября Петр Андреевич был удостоен очередного «монаршего благоволения»… Но всему на этом свете приходит конец. Наступил он и для графа Клейнмихеля. Новый государь, Александр II, поступил с ним так же, как в свое время его отец поступил с Аракчеевым, – слишком сильно общественное мнение восставало против него, а времена пришли такие, что с общественным мнением приходилось считаться. 15 октября 1855 года карьера Петра Андреевича закончилась: его вынудили подать в отставку. О том, как она была встречена, читаем у того же Дубельта: «Известие об увольнении графа Клейнмихеля было принято с радостию не только его подчиненными, но даже и публикой. Не помню, чтобы кто-нибудь заслужил такую общую ненависть!» Ему вторит в своем дневнике А.Ф. Тютчева: «Всеобщее ликование по поводу ухода Клейнмихеля… Город принял праздничный вид, можно думать, что получено известие о какой-нибудь большой победе: люди обнимают и поздравляют друг друга. Никогда, кажется, никто не заслужил такой популярной ненависти». Как-то, за несколько лет до этого, во время доклада у Николая I в ответ на высказанное царем опасение новых неприятных сюрпризов со стороны своего любезного слуги Дубельт счел нужным возразить: «Граф Клейнмихель слишком вам предан и слишком любит вас, чтобы снова огорчить». В ответ он услышал от государя весьма многозначительную фразу: «Я не люблю, чтобы меня так любили, как любит он!» Петербургский почт-директор Редко о ком можно прочесть столько хвалебных отзывов, сколько о петербургском почт-директоре Константине Яковлевиче Булгакове (1782–1835). Когда мнения столь единодушны, – им нельзя не доверять, а вслед за тем возникает невольный интерес к человеку, сумевшему завоевать всеобщее расположение. Большую часть жизни он прожил в Петербурге, любил его и сделал немало полезного в своей области. Обстоятельства появления на свет братьев Булгаковых (Константин Яковлевич имел старшего брата-погодка Александра) довольно романтичны и покрыты завесой тайны. Они стали плодами запретной любви их отца, выдающегося дипломата Я.И. Булгакова, служившего в ту пору посланником в Константинополе, к некой даме, не то француженке, не то гречанке. Малолетние сыновья безотлучно находились при отце, разделив с ним более чем двухлетнее заключение в Семибашенном замке, куда Булгаков был водворен султаном в 1787 году, после объявления Турцией войны России. В 1789 году его наконец освободили, и в следующем году он вернулся на родину. Константин и Александр, получившие отцовскую фамилию и герб, смогли поступить в училище при лютеранской церкви Петра и Павла в Петербурге. После недолгого пребывания в должности посла в Варшаве Яков Иванович временно оказался не у дел. Воспользовавшись полученной передышкой, он поселился в купленном в 1793 году доме на Большой Морской (№ 29) и лично наблюдал за образованием детей. После окончания училища оба брата были зачислены юнкерами в Коллегию иностранных дел, только старший сделался «архивным юношей» в Москве, а младший до 1801 года оставался в Петербурге, после чего присоединился к брату. Вскоре их пути разошлись: по просьбе отца Константина причислили сверх штата к дипломатической миссии в Вене, Александр же немного погодя отправился в качестве секретаря посольства в Неаполь. К.Я. Булгаков О венском периоде жизни К.Я. Булгакова один из его знакомых, Ф.Ф. Вигель, позднее напишет: «Работы ему там было мало, да, я думаю, и вовсе не было; зато в сем материальном городе нашел он бездну наслаждений. Он был красив лицом, крепок телом, любил без памяти женщин и умел им нравиться. Успехи его по сей части были вседневные, бесконечные; уверяли, что вся австрийская аристократия перебывала в его объятиях». Это безоблачное существование закончилось в 1809 году По воле случая разрыв с Австрией и отзыв русской миссии из Вены почти совпал со смертью Я.И. Булгакова, так что вскоре после возвращения в Москву Константину вместе с братом пришлось хоронить отца. С 1810 по 1816 год К.Я. Булгаков пребывал на дипломатической службе, которая подвигалась весьма успешно и была отмечена многими наградами, включая орден Святого Владимира 3-й степени, что в его лета считалось чем-то необыкновенным. В 1816 году Александр I предложил ему должность посланника в Копенгагене, но Константин Яковлевич не находил в себе нужных способностей и вместо этого довольно неожиданно попросил назначить его московским почт-директором. Через три года, завоевав любовь и признательность москвичей и, что не менее важно, своих подчиненных, Булгаков был переведен на ту же должность в Петербург. Среди полезных дел, которыми он отметил свое недолгое пребывание на директорском посту, было открытие бесплатной школы для детей бедных почтовых чиновников, мелких служащих и сторожей, где они могли учиться по новому для того времени методу взаимного обучения. В Петербурге начался основной этап служебной деятельности Булгакова, продолжавшийся в течение пятнадцати лет, до самой его смерти. Трудно перечислить все сделанные им улучшения, призванные коренным образом изменить прежние почтовые порядки; среди наиболее заметных и значительных было заведение дилижансов, а немного позднее – почтовых колясок, обеспечивавших гораздо более скорое сообщение между Петербургом, Москвою и Киевом. В 1827 году к ним добавились казенные почтовые дилижансы, связывавшие Северную столицу с прибалтийскими губерниями и царством Польским. По настоянию К.Я. Булгакова с 1825 года стал издаваться почтовый календарь, содержавший описание всех дорог Российской империи, с массой дополнительных указаний и сведений. Константин Яковлевич лично составил подробные правила постройки удобных для публики станционных домов, добился учреждения новых почтовых трактов. При нем были введены штемпельные отметки на письмах, с указанием времени их отправки – правило, сохранившееся до наших дней. Чрезвычайно важной для ускорения почтовых сообщений с иностранными государствами явилась впервые заключенная Булгаковым в 1822 году конвенция с Австрией и Пруссией. Этим нововведением он заслужил особую благодарность вдовствующей императрицы Марии Федоровны, состоявшей в постоянной и обильной переписке со своими многочисленными германскими родственниками. Порой излишняя уступчивость и готовность услужить всем и каждому делали жизнь Булгакова почти невыносимой. В письмах к брату он жаловался, что многие вполне зажиточные и даже богатые знакомые донимают его постоянными просьбами доставить их корреспонденцию бесплатно, чтобы сэкономить какие-то гроши; особенной назойливостью отличались дамы… Затронув вопрос о переписке двоих братьев, нельзя не пожалеть, что, опубликованная в журнале «Русский архив», она до сих пор не переиздана: в эпистолярном наследии прошлых поколений ей должно быть отведено весьма почетное место. Многочисленные, мелкие и крупные события того времени нашли отражение на страницах этих писем. Необычность и даже курьезность ситуации в том, что с 1832 года Александр Яковлевич Булгаков занимал в Москве ту же должность, какую брат его занимал в Петербурге, то есть почт-директора. Если добавить к этому, что оба брата отличались чрезвычайным любопытством и могли удовлетворять его способами, доступными только им, то становится понятным, почему их переписка является подлинным кладезем разнообразнейших фактов и слухов. Нередки в письмах Константина Яковлевича и упоминания о Петербурге, отличающиеся живостью и непосредственностью впечатлений. Вот отрывок из его письма к брату от 12 августа 1818 года, еще до переезда в Северную столицу: «Я не налюбуюсь на Петербург: что за здания, что за тротуары, столбики чугунные, что за чистота! Дома все были выкрашены вновь к приезду Прусского короля…Бульвар против дворца перенесен саженей на 20 ближе к Адмиралтейству; сим открыли прекрасный вид на Неву и на биржу. Бульвар против большой фасады Адмиралтейства тоже подвинется в отсутствие Государя ближе к зданию, и сделается от того улица и шире, и прекраснее…Одним словом, со временем город сей будет точно восьмое чудо света». А вот что писал он десять лет спустя (14 октября 1828 года) по поводу только что установленной колесницы Славы на здании Главного штаба: «Колесница и лошади на арке нового строения против дворца совсем поставлены. Вид прекрасный; только мне жаль, что вызолочены: лучше бы казалось оставить их белыми или выкрасить под бронзу. Как столица украшается! Как хороши колонны, поставленные уже перед Исакиевской церковью. Совершенная прелесть!» Интересная и, думаю, далеко не всем известная деталь: оказывается, первоначально колесница была позолоченной. По всей видимости, Булгаков оказался не одинок в своем мнении, и в дальнейшем от золочения отказались, причем едва ли только из соображений экономии. За год до смерти Константин Яковлевич случайно оказался в доме, с которым у него были связаны детские и юношеские воспоминания, чем не преминул поделиться с братом: «Вчера я обедал у графа Витгенштейна, вдовца, что был женат на Радзивиловой. Обед был славный и приятный…А знаешь ли, где живет Витгенштейн? В Морской, в бывшем батюшкином доме, где мы отдыхали от Петропавловских трудов, при ангеле-отце. Мне, право, казалось, что вот он войдет в двери. Дом переделан, но все-таки я в нем нашелся. Много было приятных воспоминаний». В его собственный дом, а точнее, в казенную квартиру на Почтамтской дважды в неделю, по вечерам, «стекались, – пишет П.А. Вяземский, – все звания и все возрасты: министры, дипломаты русские и иностранные, артисты свои и чужеземные, военные, директоры департаментов, начальники отделений и многие другие, не принадлежащие никаким отделениям. Разумеется, тут была и биржа всех животрепещущих новостей, как заграничных, так и доморощенных». Воспоминания Вяземского как бы продолжает, дополняя их новыми подробностями, уже упомянутый мною Вигель: «Вечера эти были новостию для Петербурга; соединяя лучшее общество с нелучшим, они привлекали совершенною свободой и равенством, которые на них царствовали. Сам хозяин являлся в сюртуке и с трубкою во рту, а курительный табак был к услугам всех гостей. Дамы, разумеется, тут не показывались, и это можно было бы назвать холостою компанией, если бы в гостиной не сидела хозяйка, жена Булгакова… которая, впрочем, все хохотала, обходилась свободно и нимало не стесняла веселья общества». Чересчур напряженная работа и активная светская жизнь, участие во всевозможных комитетах и комиссиях, неумение отказываться от массы обременительных поручений, наконец, обширная переписка с множеством друзей и знакомых подтачивали силы Константина Яковлевича, ускорив его преждевременную кончину. Про него можно с полным основанием сказать, что он жил для общества и умер, исчерпав все данные Богом силы. Банкир и дипломат В числе множества иноземцев, навсегда осевших в России, можно встретить и фамилию И.С. Рибопьера, упоминаемую в придворных летописях и воспоминаниях современников. Выходец из Швейцарии, в 1778 году он прибыл в Петербург с рекомендательным письмом Вольтера, удостоился приема у императрицы, а вслед за тем и офицерского чина. В скором времени Иван Степанович, как стали называть его в России, был назначен адъютантом к Г.А. Потемкину, что открыло ему доступ в высшее общество и дало возможность быстрого продвижения по служебной лестнице. Положение Рибопьера окончательно упрочила женитьба на фрейлине А.А. Бибиковой, без памяти влюбившейся в красавца-адъютанта. Много лет спустя светские недоброжелатели распустят слух, будто бы мать, чтобы прикрыть грехопадение дочери, выдала ее замуж за некоего парикмахера Пьера Рибо, но это не более чем пустая сплетня: на самом деле Рибопьеры принадлежали к старинному дворянскому роду. От этого брака и появился на свет герой нашего рассказа – Александр Иванович Рибопьер (1781–1865). Благодаря тесной дружбе его отца с очередным фаворитом А.М. Дмитриевым-Мамоновым, императрица охотно привечала хорошенького мальчугана, и с пятилетнего возраста он чувствовал себя в дворцовых покоях как дома. По тогдашнему обыкновению, его еще в раннем детстве записали сержантом лейб-гвардии Семеновского полка, а затем перевели вахмистром в Конногвардейский полк. Успехам юного царедворца не повредила даже катастрофа, случившаяся в 1789 году с его родителем: Екатерина заподозрила Рибопьера в пособничестве «изменившему» ей Мамонову, который неожиданно изъявил желание вступить в брак с девицей Щербатовой. Неизвестно, действительно ли Иван Степанович помогал осуществлению матримониальных планов своего приятеля, но, как бы то ни было, ему пришлось удалиться от двора. Он отправился на войну с турками и геройски погиб при штурме Измаила. Тем временем его сын, воспитывавшийся под наблюдением француза-гувернера, посещал малые эрмитажные собрания государыни, попасть куда считалось величайшей честью. Так продолжалось до самой кончины Екатерины II, чью смерть Александр Рибопьер горько и искренне оплакивал, хотя в течение нескольких последующих лет у него не было причин жаловаться на ее преемника. Император Павел, приняв в 1798 году должность гроссмейстера ордена Святого Иоанна Иерусалимского, назначил Рибопьера одним из четырех оруженосцев. Одновременно началась его действительная военная служба в Конногвардейском полку, а в феврале 1799 года он был назначен флигель-адъютантом. Однако всего через четыре месяца его положение круто изменилось: совершенно безосновательно государь приревновал Александра к своей возлюбленной А.П. Лопухиной, но по собственным расчетам решил сменить гнев на милость и выдать ее за восемнадцатилетнего юношу замуж. А.И. Рибопьер К счастью для Рибопьера, брак этот не состоялся из-за нежелания самой фаворитки, увлеченной в ту пору своим будущим мужем князем Гагариным. Дело кончилось тем, что нежданно-негаданно для себя молодой корнет вдруг обратился в дипломата, будучи прикомандирован сверх штата к посольской миссии в Вене. Там, в промежутках между веселыми балами и застольями, он постигал секреты дипломатии, учась у старших коллег. В конце концов Рибопьер все же не избежал общей участи и подвергся государевой опале. Случилось это после его возвращения в Петербург, в самом конце царствования Павла. За дуэль с князем Четвертинским, а в действительности – за якобы дурной отзыв о все той же Лопухиной, ставшей к тому времени княгиней Гагариной, Александра Ивановича по приказу императора исключили из службы, лишили всех знаков отличия и с разрубленной на поединке рукой, истекающего кровью, заключили в секретный каземат Петропавловской крепости. После этого настал черед его родных. Вот как вспоминал об этом впоследствии сам Рибопьер: «По мере того как Павел наказывал, гнев его все более и более разгорался: он отправил мать мою и сестер в ссылку, конфисковал дом наш и все имущество в Петербурге и окрестностях, отдал матушку под надзор полиции…» Пострадал даже его дядя, будущий фельдмаршал М.И. Кутузов, обвиненный в том, что «имел вид огорченного родственника»! Вступив на престол, Александр I немедленно освободил заключенного, вернул ему прежнее звание и вновь отправил в Вену, где недавний узник, еще не забывший ужасов мрачного каземата, нашел самый сердечный прием. Впрочем, начальный этап дипломатической карьеры Рибопьера прошел очень скромно и незаметно, не оставив никаких следов в истории дипломатических сношений двух стран, а посему перейдем к следующему, более важному периоду его деятельности. К тому времени он принял участие в первой военной кампании против Наполеона, женился по любви на Е.М. Потемкиной, внучатой племяннице покойного князя Таврического, которую знал с детских лет, и наконец в 1810 году, по просьбе новоназначенного министра финансов графа Д.А. Гурьева, был переведен в его министерство. Первое крупное исполненное лично им поручение касалось предмета весьма злободневного и в наши дни: розыска разворованных 7 миллионов рублей, отпущенных правительством для ссуды жителям Смоленской губернии, жестоко пострадавшим от наполеоновского нашествия. Произошло это в 1816 году; несмотря на чинимые губернатором и его чиновниками препятствия, деньги (не в пример нынешним расследованиям!) были отысканы и возвращены в казну, а расхитители наказаны. В августе следующего года произошло важное, можно сказать, историческое событие: учрежден Государственный коммерческий банк, а его управляющим стал А.И. Рибопьер. Это благодетельная правительственная мера принесла огромную пользу отечественной торговле, промышленности и финансам. Отсутствие долговременных кредитов, предоставляемых под умеренные проценты, и необходимость прибегать к краткосрочным займам на самых невыгодных условиях привели к разорению множества некогда славных купеческих родов. По инициативе Рибопьера отделения банка появились во всех крупнейших городах Российской империи. В скором времени его назначили также председателем Заемного банка, учрежденного еще при покойной императрице, и таким образом он оказался во главе всех государственных кредитных учреждений, за исключением ломбардов и Приказов общественного призрения. Александр Иванович старался по мере возможности облегчить и упростить денежные обороты частных лиц, повышая тем самым и эффективность использования подвластных ему банковских средств. Он расходился с министром во взглядах на систему откупов, считая их вредными для интересов казны, а кроме того, открыто порицал строгость таможенных тарифов, которые, по его мнению, не уничтожали контрабанды, а лишь стесняли торговлю и приводили к повышению цен. Посланный государем в Одессу, он отстоял установленную там систему порто-франко, то есть право беспошлинного ввоза и вывоза товаров, что привело к длительному процветанию этого приморского города. С уходом в отставку министра Д.А. Гурьева в 1823 году закончилась и карьера А.И. Рибопьера как финансиста; он ушел с поста управляющего банком и вскоре, награжденный бриллиантовыми знаками к ордену Святой Анны 1-й степени, был вновь причислен к Министерству иностранных дел, получив назначение на должность чрезвычайного посланника в Константинополь. Последовавшая вслед за этим кончина императора Александра I замедлила отъезд Рибопьера к месту новой службы. Тем временем на престол вступил Николай Павлович, и, по представлению К.В. Нессельроде, Александру Ивановичу поручено было посетить Вену и известить австрийского монарха о восшествии на российский трон нового государя. Прибыв наконец после долгих проволочек в Константинополь, наш посланник в скором времени оказался в очень непростом положении. На первых порах ему удалось снискать расположение султана и добиться от него смягчения участи многих христианских пленников, но в октябре 1827 года, после разгрома турецко-египетского флота в Наваринской бухте англо-франко-русской эскадрой, отношение к русскому дипломату резко изменилось и его жизнь оказалась в опасности. Драгоман Порты грозил ему заключением в Семибашенный замок, но получил твердый ответ: «Скажите тем, кто вас послал, что времена подобных нарушений международного права прошли безвозвратно, что я никому не советую переступать мой порог, что я вооружу всех своих и буду защищаться до последней капли крови и что если кто осмелится посягнуть на мою жизнь или даже на мою свободу, то в Константинополе не останется камня на камне. Государь и Россия сумеют отомстить за меня». 14 апреля 1828 года был обнародован манифест о войне с Турцией. Как известно, она стала победоносной для русского оружия, и постепенно турецкие власти вновь сделались чрезвычайно любезными и предупредительными. А.И. Рибопьеру удалось добиться от них признания Греции как независимого государства, в рамках, установленных международной конференцией. На этом, собственно говоря, заканчивается основная миссия Александра Ивановича. Он удостаивается высокой награды, а в конце 1830 года его отзывают из Турции и назначают на ту же должность при прусском и мекленбургском дворах. Дипломатическая служба при теплых, совершенно родственных отношениях, существовавших в ту пору между русским и прусским монархами, не требовала больших усилий, а лишь определенного такта, коим А.И. Рибопьер обладал в полной мере. В 1839 году его карьера как дипломата закончилась: он был отозван в Петербург, заняв место в Государственном совете, куда отправляли на покой всех высших сановников. По неизвестным причинам Николай I, оказывая Рибопьеру все наружные знаки благоволения, не особенно жаловал его, «а только, – по замечанию самого Александра Ивановича, – терпеливо сносил мое присутствие». Может быть, он видел в нем осколок столь не любимого им екатерининского двора, а может, просто не терпел людей с повышенным чувством собственного достоинства. 26 августа 1856 года, в день коронации Александра II, Рибопьер получил графский титул, что, вероятно, обрадовало старика, но не могло вернуть ни одного дня из тех лучших лет его жизни, что остались далеко позади. Как все люди, много повидавшие на своем веку, он любил поговорить о прошлом, и рассказы его слушались с большим интересом. В 1877 году журнал «Русский архив» опубликовал «Записки» графа А.И. Рибопьера, благодаря чему мы можем сами оценить занимательность его рассказов о старине. Фельдфебеля в Вольтеры Многим известны крылатые слова, сказанные некогда одним британским депутатом на заседании в палате общин: «the right man in the right place», что означает «подходящий человек на подходящем месте». Когда это соответствие нарушается, ничего хорошего ждать не приходится, даже если человек украшен многочисленными достоинствами и заслугами. Красноречивым примером, подтверждающим эту истину, может служить история, произошедшая с почтенным адмиралом Е.В. Путятиным, назначенным в 1861 году ни с того ни с сего… министром народного просвещения! Е.В. Путятин Что же представлял собой Евфимий Васильевич Путятин? Родился он в 1803 году, в 1822 году окончил Морской кадетский корпус и в своей дальнейшей карьере прошел долгий путь от мичмана до адмирала. В молодых летах ему довелось участвовать и в кругосветном путешествии, и в морских сражениях, но прославился он прежде всего как умелый и ловкий дипломат, действовавший по преимуществу на восточных рубежах Российской империи. В начале 1840-х годов решительными мерами он пресек разбои и грабежи туркменов в Каспийском море, восстановив нормальное судоходство и упрочив тем самым русское влияние. Но главное дело его жизни было впереди. В 1852 году, уже в чине вице-адмирала, Е.В. Путятин возглавил экспедицию в Японию. Она продолжалась почти три года и завершилась заключением весьма выгодного для России договора, имевшего большое политическое и экономическое значение. Был сделан первый шаг к установлению нормальных взаимоотношений с доселе совершенно изолированной страной, чего долго, но безуспешно добивались другие европейские страны, причем в условиях сильнейшего противодействия Англии и Франции, а первоначально и самого японского правительства. По возвращении из экспедиции Путятин получил от вступившего тем временем на престол нового императора Александра II графский титул. Другой важной дипломатической победой адмирала Путятина стал договор с Китаем, подписанный в городе Тяньцзине 1 июня 1858 года, открывший русским доступ как к морским портам, так и во внутренние провинции Китая. Вскоре после этого произведенный в полные адмиралы Евфимий Васильевич, вероятно к немалой радости своей супруги, англичанки по происхождению, был назначен на пост военно-морского агента в Лондоне. Все было хорошо, но два с лишним года спустя, как гром среди ясного неба, последовало новое, совершенно неожиданное предложение: занять должность министра народного просвещения. Справедливости ради следует сказать, что Путятин пытался отказываться, но государь настоял на своем. Неизвестно, какие качества адмирала побудили остановить выбор именно на нем – то ли его дипломатические таланты, проявившиеся, правда, по большей части в общении с восточными владыками, то ли решительность, а порой и откровенная жестокость в обращении с подчиненными. Известен был случай, когда Путятин, в ту пору еще капитан 1-го ранга, приказал под дулом пистолета перепороть всю команду, взбунтовавшуюся против командира. В другой раз он посоветовал одному молоденькому лейтенанту выброситься за борт ввиду невозможности их совместной службы. Все это отнюдь не предвещало полезной деятельности на ниве народного просвещения: военный сановник, прошедший полный курс николаевской муштры, явно не годился на такую должность. О том, как восприняли это назначение в студенческой среде, можно понять из воспоминаний А.М. Скабичевского: «Как известно, у нас искони существует такое понятие в правительственных сферах, что твердая власть наиболее свойственна военным элементам, и потому для проявления ее у правительства всегда имеются про запас два-три военных генерала… страшилища с вылупленными глазами и скрежещущими зубами, которые в экстренных случаях и выпускаются на врагов отечества, как волкодавы на хищных зверей или разбойников…» Вместе с тем граф отличался чрезвычайной набожностью, состоя в постоянной переписке с митрополитом Филаретом, который, как утверждают, и рекомендовал его царице как «религиознейшего человека», а та, в свою очередь, настойчиво хлопотала о нем перед мужем. Возможно, император уступил влиянию своей супруги или кого-то из придворных, как это бывало не раз, но так или иначе, по словам весьма осведомленного в этих вопросах А.В. Никитенко, «Путятин сделан министром, к стыду правительства, ко вреду России и к собственному позору». Дальнейшие события, увы, подтвердили правоту такого заключения, и неполные пять месяцев пребывания графа в министерской должности если не погубили полностью его репутацию, то нанесли ей ощутимый урон. Он решительно не знал, что делать с разразившимися в ту пору студенческими волнениями, рассылая грозные циркуляры, требовавшие от университетского начальства восстановления порядка. Адмирал не скрывал, что во всех новых веяниях видит лишь «пошлый либерализм», а не действительные потребности общества, предполагая по мере сил ставить ему заслон. Он немедленно осуществил целый ряд запретительных мер, направленных к уничтожению студенческих свобод, причем, по военному обычаю, любой проступок студента вменялся в вину его «начальнику», то есть ректору или декану. Как пишет тот же Скабичевский, студентов разом лишили льгот, какими они пользовались в предыдущие четыре года: закрыты были и касса взаимопомощи, и библиотека, строго-настрого воспрещены сходки и судбища, уничтожены концерты и прочее. Особое возмущение вызвало введение так называемых «матрикул» – специальных тетрадочек, «в которых записывались… правильность хождения на лекции и поведение… и без предъявления которых студент не допускался бы в университет». В результате выступления молодежи приняли еще более ожесточенный характер, так что власти сочли необходимым временно закрыть университет. В декабре того же 1861 года Е.В. Путятин, осознав свою полную непригодность к занимаемому им посту, подал в отставку и получил ее, заняв место в Государственном совете. Он прожил еще более двадцати лет, не отмеченных какими-нибудь заметными свершениями. О своей недолгой министерской карьере адмирал вспоминать не любил. Справедливости ради следует признать, что административная деятельность Путятина пришлась на очень нелегкие для России годы, когда, как и в нынешнее время, старый, привычный уклад жизни уходил в прошлое, а новый еще не сложился. Хорошо и привольно в этих условиях чувствовал себя лишь нарождавшийся класс будущих хозяев жизни – оборотистых дельцов и предпринимателей, которых в ту пору еще не называли «новыми русскими»… Много умного, да мало хорошего В эпоху Великих реформ 1860-х годов, наряду с идеалистами, радостно приветствовавшими «зарю новой жизни», и длинноволосыми «нигилистами», мечтавшими потрясти, а то и вовсе обрушить устои общества, в России народился также тип дельцов, не веривших ни в бога ни в черта. Энергичные, беззастенчивые, не обремененные никакими нравственными запретами в сфере добывания материальных благ, они в совершенстве овладели искусством делать деньги из ничего. Называли этих толстосумов «спекуляторами» и относились так, как всегда относятся к денежным мешкам. Заметное место среди петербургских финансовых воротил на протяжении нескольких десятков лет занимал человек по своему происхождению и воспитанию, казалось бы, совершенно не предназначенный для избранного им поприща. Николай Николаевич Сущов (1830–1908) принадлежал к старинному дворянскому роду и получил образование в Училище правоведения, куда принимались лишь дети потомственных, столбовых дворян. Первоначальная карьера его подвигалась вполне успешно и не предвещала ничего необычного: к началу 1860-х годов он уже занимал весьма значительный пост директора канцелярии при министре юстиции Д.Н. Замятнине, имея придворное звание камергера, а позднее сделался обер-прокурором Сената. Супруга его, урожденная Козлова, также принадлежала к родовитому и уважаемому семейству: один из ее братьев был адъютантом и ближайшим другом цесаревича Александра Александровича (будущего императора Александра III), а другой – генералом свиты. Однако положение в обществе не могло удержать Сущова, непомерно привязананного ко всем плотским радостям жизни, от чисто подьяческих плутней. В миллионной тяжбе между двумя польскими магнатами он умудрился стать негласным поверенным обеих сторон, что, как нетрудно догадаться, обеспечило ему двойное вознаграждение. Все было хорошо до тех пор, пока дело не дошло до суда и одна из тяжущихся сторон, как того и следовало ожидать, не проиграла процесс. Тут-то и всплыла на поверхность неблаговидная роль обер-прокурора, предоставившего обиженным клиентам за весьма солидную мзду некие гарантии, что было немедленно доведено ими до сведения министра юстиции. Разыгравшаяся вслед за этим между Д.Н. Замятниным и Н.Н. Сущовым сцена достойна быть занесенной в летопись крайних проявлений человеческого бесстыдства. После того как почтенный, щепетильно честный Дмитрий Николаевич, пылая праведным гневом, предъявил вызванному «на ковер» подчиненному бесспорные письменные доказательства его вины, тот не торопясь извлек из кармана пенсне, оседлал им мясистый нос и внимательно ознакомился с содержанием врученного документа. Закончив чтение, он с сожалением посмотрел на начальника и с прискорбием покачал головой: «Да, плохи дела, ваше высокопревосходительство. Положение ваше, можно сказать, трагичное, безвыходное…» – «Мое?! – не помня себя от изумления, воскликнул министр. – Не мое, а ваше, я вас под суд отдам!» – «Э, полноте, ваше высокопревосходительство, разве вы не понимаете, какой из этого выйдет скандал? Везде только и слышно: судебная реформа, святость новых установлений, неподкупность судей, а тут вдруг сам сенатский обер-прокурор замешан в грязной афере. Вы представьте себе…» – «Немедленно подавайте в отставку!» – резко оборвал его возмущенный Замятнин. Собеседник, демонстрируя полнейшее самообладание, спокойно произнес, глядя министру прямо в глаза: «Только при двух условиях: чин тайного советника и сохранение придворного звания. Иначе я не согласен». Немного успокоившись и трезво оценив создавшуюся ситуацию, Замятнин счел за благо уступить наглецу. Сущов ничуть не стеснялся содеянного, напротив – гордился собой и, находясь в веселом настроении, любил рассказывать об обстоятельствах своей отставки приятелям. Расставшись с государственной службой, Николай Николаевич развил небывалую деловую активность, играя первостепенную роль во всевозможных концессиях, новоучреждаемых банках и прочих предприятиях, сулящих скорую и ощутимую прибыль. Он писал проекты, составлял уставы плодившихся как грибы после дождя частных акционерных обществ, директорствовал, где только можно, стряпал зачастую весьма сомнительные судебные иски, получая за свои услуги баснословные гонорары в сотни тысяч рублей. Правда, всем этим он занимался и прежде, еще находясь в должности сенатского обер-секретаря, что, разумеется, никак не вязалось с его служебным положением и камергерским званием, но теперь, вырвавшись на простор, окончательно обрел твердую почву под ногами. Самое удивительное то, что, наживая миллионы, Сущов умудрился их проесть, пропить, истратить на женщин и проиграть в карты, не оставив в итоге своему семейству никакого состояния! Отличаясь весьма внушительной и запоминающейся внешностью, он был известен любому петербургскому жителю, начиная от первостатейного сановника и кончая последним извозчиком: необъятной толщины, краснолицый, огненно-рыжий, с блестящими хитрыми глазами, разъезжавший по городу на рыжей лошади с рыжим, наподобие хозяина, кучером, – не человек, а какое-то языческое божество, требовавшее непрерывных денежных жертвоприношений. Личность его приобрела столь широкую знаменитость, что под фамилией Саламатов она встречается в произведениях тогдашних беллетристов. О его кутежах с цыганами и опереточными певицами ходили легенды: несмотря на неимоверную тучность, Николай Николаевич обожал танцевать и делал это довольно ловко, предпочитая вальсы, но любил пройтись и в русской пляске, вызывая неизменный восторг и шумное одобрение собутыльников. Обладая чудовищным аппетитом, мог шутя, в несколько минут, опорожнить два громадных блюда свежих расстегаев и выпить невероятное количество спиртного. Содержал нескольких любовниц и еще развлекался на стороне… Как-то, после маскарада, за ужином в ресторане Пивато на Большой Морской, одна из спутниц Сущова выразила желание побренчать на фортепьяно. Тот немедленно потребовал предоставить ему свободный кабинет с инструментом, однако такового не оказалось. «Так послать напротив, к Гроссману, и купить!» – распорядился Сущов. Часа через два, глубокой ночью, инструмент наконец привезли, но в нем уже отпала надобность, поскольку компания собралась уходить. «Что прикажете с фортепьяном делать, Николай Николаевич?» – спросил официант. «С фортепьяном? Возьми себе на чай!» В деловых отношениях Сущов не знал пощады, цинизм его не имел границ, но одновременно он мог проявить сочувствие к тому, кто вряд ли того заслуживал. Однажды к нему на прием явился убитый горем отец и рассказал, что сын его, также окончивший курс в Училище правоведения, поступил кассиром (?!) в некое акционерное общество и имел неосторожность растратить 50 тысяч рублей. Несомненно, престарелый родитель знал, что выпускники этого заведения склонны поддерживать друг друга, поэтому рассчитывал на помощь бывшего правоведа. Сущов действительно помог проворовавшемуся собрату, причем сделал это весьма своеобразным способом. Из расспросов отца следовало, что при царивших в акционерном обществе порядках кассир имел неограниченный доступ к огромным суммам и при желании мог их легко украсть. Николай Николаевич выразил сомнение в услышанном от посетителя, сказав, что поверит лишь в том случае, если сын похитит еще 100 тысяч и отец принесет их ему. На другой же день старик явился снова и принес требуемое! Взяв деньги, Сущов отправился в правление указанного общества и объявил его членам, что благодаря их безалаберности у них из кассы украдены 150 тысяч рублей, потребовав проведения ревизии. Поначалу члены правления отрицали недостачу, но, когда она подтвердилась, Сущов предложил им во избежание скандала удовлетвориться возвращением 100 тысяч, а остальные 50 доложить из собственного кармана. Не желая поднимать шум вокруг этой неприглядной истории, они так и сделали. Кассир, разумеется, подал в отставку, – тем дело и кончилось. Другой эпизод, рассказанный человеком, близко знавшим Сущова, проливает свет на характер деятельности, а главное – жизненные принципы этого ловкого дельца. «На одном из общих собраний, на котором и я присутствовал, оказалось нужным сделать важное постановление, которое нужно было потом сообщить министру. Проект прочли. – Ну, – сказал Сущов, – в этой редакции едва ли пройдет. Попросили его проредактировать. Он согласился, сказав, что это будет стоить десять тысяч. Потом засел за стол, принял глубокомысленный вид, долго возился. Публика мало-помалу разбрелась. Он переставил несколько слов, сделал несущественные изменения, опять перечел. – Ну, теперь хорошо. – И подал председателю бумагу: – Велите переписать. – Что вы, Николай Николаевич, столько времени возились с таким вздором? – спросил я. – Нельзя, батенька, нужно же внушить этим идиотам, что без помощи Сущова ничего путного не выйдет». По довольно туманному и витиеватому отзыву графа С.Ю. Витте, «Сущов… был человек с громадными способностями, с большим здравым смыслом, но этот свой здравый смысл и свои способности он употребил в смысле государственных целей недостаточно производительно». Говоря проще и яснее, весь свой ум такие люди употребляют не на пользу ближнего, а на то, чтобы кого-нибудь объегорить и огрести побольше денег. Получается как в старой русской пословице: «Много умного, да мало хорошего!» Он дорожил «любовию народной» Обычно в русской истории получалось так: если государственный деятель или просто человек на более или менее значимом посту проявлял мягкость, стараясь действовать не угрозами и насилием, а уговорами и убеждением, его непременно клеймили позорными прозвищами болтуна и «гнилого либерала», добивающегося дешевой популярности. Такова была участь тех, кто пытался в рамках существующей системы быть справедливым и человечным. Что из этого выходило, мы увидим на примере героя нашего рассказа, князя Александра Аркадьевича Суворова-Рымникского (1804–1882), внука знаменитого полководца. Он рано лишился отца, который, по преданию, погиб, повредив руку при спасании тонувшего слуги. По воле случая это произошло в водах того самого Рымника, где великий Суворов одержал одну из самых блистательных своих побед. Судьба отца, отдавшего жизнь за одного из «малых сих», а также слава деда, пользовавшегося любовью и даже обожанием своих солдат, несомненно во многом определили линию поведения молодого князя. Весьма способствовало этому и полученное им образование в лучших европейских университетах. Надо помнить и то, что пребывание в них пришлось на период радостного подъема после окончания Наполеоновских войн. А. А Суворов-Рымникский Усвоенные юношей взгляды были весьма близки взглядам будущих декабристов. Ничего удивительного, что, вернувшись в 1824 году на родину и поступив юнкером в Конногвардейский полк, он сблизился с сослуживцем, князем А.И. Одоевским, вовлекшим его в члены Северного общества. Впрочем, роль Александра Суворова оказалась незначительной и губительных последствий на его дальнейшую жизнь не имела. Все же он был отправлен служить на Кавказ, где отличился в нескольких сражениях с горцами. За этим последовало участие в войнах с Персией и Турцией, где он уже в качестве флигель-адъютанта сопровождал Николая I, пользуясь полным его доверием. В 1839 году Суворов назначается командиром Фанагорийского гренадерского полка, которым некогда командовал его дед, а 9 августа того же года получил генеральский чин. Его отличало крайне редкое в эпоху палочной муштры и зубодробительных внушений мягкое и гуманное отношение к солдату. Он запретил офицерам и унтер-офицерам неоправданную жестокость по отношению к рядовым, чья служба и без того была далеко не сахар, и ревниво следил за их материальным довольствием. К сожалению, командовать полком ему довелось недолго – всего лишь три года, а его преемник, скорее всего, вернул прежние порядки… Александр Аркадьевич же получил новое назначение – на должность командира 1-й бригады 3-й гренадерской дивизии. В этом качестве он успешно исполнил роль миротворца там, где другой, может быть, пролил бы немало крови. Во время волнений в Костроме, вызванных опустошительными пожарами и нераспорядительностью местных властей, посланный туда с войсками князь не пошел привычным путем безжалостных расправ, а прибегнул к уговорам и разъяснениям, сумев погасить народное недовольство. Государю понравились действия Суворова, и он решил испытать его таланты на административном поприще, поставив в 1848 году на пост губернатора Прибалтийского края, весьма неспокойного в ту пору. Поводов для недовольства хватало, но главными были ненормальные земельные отношения помещиков и крестьян, грозившие стихийными бунтами, и межнациональные противоречия. Они вытекали из вопиющего социального неравенства между немецкой аристократической верхушкой и обнищавшим коренным населением, состоявшим из латышей и эстонцев. К этому добавились неразумная русификаторская политика, навязывавшая местному населению чуждое им православие, и свирепствовавшая в крае эпидемия холеры. Проще всего оказалось противостоять последней напасти; с ней удалось справиться благодаря вовремя принятым медицинским мерам и бесстрашию князя: он лично объезжал очаги заразы, убеждая бежавших из городов жителей возвращаться к местам своего обитания. Молва о разумных действиях А.А. Суворова помогла предотвратить панику, что было, пожалуй, самым главным. Решить остальные проблемы оказалось не во власти генерал-губернатора, хотя он, по своему обыкновению, пытался сглаживать противоречия и обходить острые углы, стремясь к заведомо недостижимой цели: чтобы и волки были сыты, и овцы целы. По естественному зову сердца его влекла к себе культурная дворянская прослойка, сплошь состоявшая из немцев. Их интересы Суворов всячески отстаивал перед центральной властью, сделавшись горячим поборником сохранения так называемых «балтийских привилегий». Он также упорно добивался отмены указа о необходимости крестить детей от смешанных браков по обрядам православной церкви, что удалось осуществить в самом конце его пребывания на посту генерал-губернатора Прибалтийского края, который он оставил в апреле 1861 года. Местное дворянство, жалея об уходе князя, провожало его чуть ли не со слезами, зато во мнении других он прослыл отъявленным германофилом… 18 октября того же года Александр Аркадьевич был назначен военным генерал-губернатором Петербурга. Эта должность стала тяжким и, увы, непосильным испытанием для доброго князя. То, что с трудом удавалось ему в Прибалтике, оказалось невозможным в столице, переживавшей, как и вся страна, период потрясений, связанных с крестьянской реформой. Погруженная в летаргический сон Россия начала медленно пробуждаться от спячки, и процесс этот протекал отнюдь не безболезненно. В том же 1861 году начались студенческие беспорядки, годом позже в городе запылали страшные пожары, появились антиправительственные воззвания, и наконец случилось небывалое: в 1866 году грянул выстрел Каракозова, не попавший в царя, но положивший конец генерал-губернаторской карьере А.А. Суворова. В сущности, это стало лишь предлогом к его отставке: он нажил себе среди придворной братии сильных врагов. Ему предоставили почетную, но ничего не значащую должность генерал-инспектора пехоты, которую он занимал до самой своей смерти в 1882 году. Князем Суворовым были недовольны очень многие: политика сглаживания углов и задабривания, как и всякий компромисс, могла иметь лишь временный успех. Да, он отпустил арестованных студентов на поруки, но не смог помешать закрытию университета; он отвергал причастность к поджогам учащейся молодежи, но был бессилен против предпринимаемых Третьим отделением в отношении ее суровых карательных мер; не подписал ни одного указа о смертных казнях, но не мог их предотвратить. На него возлагали вину за деморализацию жизни в столице, объясняя ее неоправданными послаблениями низшим слоям населения и не понимая того, что Россия стронулась с места в направлении капитализма, а это не могло не отразиться на общей нравственной атмосфере в обществе. Прежняя наружная «тишь, гладь да божья благодать», когда народ не смел шелохнуться без воли начальства, безвозвратно ушла в прошлое, и новая эпоха принесла с собой новые порядки. Либерально настроенный А.В. Никитенко, вкусив первых плодов весьма относительной свободы, с негодованием записывает в свой дневник от б января 1864 года следующие гневные строки: «Никогда, кажется, в Петербурге не совершалось столько мерзостей, как ныне, в управление гуманного болвана генерал-губернатора Суворова. Воровство денное и ночное в огромных размерах, каждый день и каждую ночь разбой, пьянство, небывалое даже в России, так что пьяные толпами скитаются по улицам, валяются и дохнут как скоты, где попало…Всевозможные уличные беспорядки: скорая и сломя голову езда по улицам, вследствие которой беспрестанно случаются несчастия, стаи собак бродячих, как в Константинополе, и прочее. Полиция до того распущена и обессилена, что ее решительно никто не слушается…» Ему вторит в своих мемуарах завзятый консерватор граф С.Д. Шереметев, бывший в ту пору еще совсем молодым человеком: «Настало время для правительства унизительное, когда оно сделалось предметом глумления и насмешек, когда каждый шаг его к задабриванию принимался как уступка и сдача и вызывал все новые и большие требования… Князь Суворов из кожи лез, чтобы угодить всем и каждому. По городу ходили рассказы и анекдоты о его либерализме и о „гуманном" (это слово входило в моду) его образе мыслей и действий, но очень скоро его раскусили и поняли его совершенное ничтожество». Слово «гуманный» на долгие времена сделалось в России чуть ли не ругательным, выставлявшим в невыгодном свете того, к кому оно относилось. Не многие отваживались принять на себя эту обременительную ношу. Но князь А.А. Суворов вошел в историю именно с таким определением, и, как мы теперь понимаем, – далеко не худшим! И прогнали Дурново! Люди, действующие не по закону, а исключительно по личному произволу, должны быть готовы к тому, что когда-нибудь и с ними поступят точно таким же образом. Впрочем, человек, о котором пойдет речь в нашем рассказе, вряд ли имел серьезные основания роптать на свою участь. В русскую историю Петр Николаевич Дурново (1842–1915) вошел прежде всего как министр внутренних дел в правительстве графа С.Ю. Витте, жестоко подавлявший революцию 1905 года. Ранее же, с 1884 по 1893 год, П.Н. Дурново занимал пост директора Департамента полиции, но, неожиданно для всех, был смещен с него на основании весьма резкой резолюции Александра III. По мере проникновения в нижние слои общества история его удаления обрастала все новыми подробностями. Однако, прежде чем обратиться к ней, бросим беглый взгляд на биографию Дурново. П.Н. Дурново Можно сказать, что предрасположенность к полицейской службе была у Петра Николаевича в крови: родитель его некогда служил в Корпусе жандармов. И хотя отрок начинал свою карьеру в Морском кадетском корпусе, а затем, получив офицерское звание, около десяти лет бороздил моря и океаны, судьба неудержимо влекла его к занятиям совсем иного рода. Не порывая со своей первоначальной профессией, молодой лейтенант в 1870 году с успехом выдержал выпускной экзамен в Военно-юридической академии и в скором времени оставил военную службу «для определения к статским делам». В последующее десятилетие Дурново занимал различные прокурорские должности, а в 1883 году его назначили вице-директором Департамента полиции. В следующем году Петр Николаевич отправляется в Париж для ознакомления с достижениями французских коллег в деле «надзора за беспокойными и вредными элементами населения». После этого он посетил столицы двух других государств. Результатом поездки явился обширный доклад, освещавший работу полицейских учреждений в Париже, Берлине и Вене, за которым последовало назначение П.Н. Дурново директором департамента. Любопытно, что четвертью века ранее за границей с той же целью побывал граф П.А. Шувалов, занявший после возвращения на родину пост петербургского обер-полицмейстера. На первых порах граф весьма рьяно взялся «за обновление прежних кулачных и взяточнических порядков». К сожалению, усилия любезного, светски образованного Шувалова поднять репутацию столичной полиции закончились полнейшим крахом, и в начале царствования Александра III учреждение это находилось в столь же плачевном состоянии, как и во времена его родителя. Положение осложнялось тем, что перед полицией с небывалой доселе остротой встали задачи политического сыска… П.Н. Дурново ничем не напоминал своего изысканно утонченного предшественника: сухощавый, маленького роста, с тяжелым взглядом темных глаз, он производил отталкивающее впечатление, особенно на тех, кто имел несчастье находиться в его прямом подчинении. За резкое, нетерпимое, порой откровенно хамское обращение с нижестоящими Петр Николаевич заслужил у них прозвища Каторжника и Живореза. Не в его обычае было входить в положение, сочувствовать или просто по-человечески жалеть: малейшая оплошность влекла за собой жестокую кару. «Выгнать!» – таково было излюбленное словечко бессердечного начальника. Подобное поведение можно было бы если не оправдать, то хотя бы понять, будь он сам безгрешен и безупречен. Однако все обстояло иначе. Неумолимый судья чужих проступков питал чрезвычайную слабость к женскому полу, – именно это и стало причиной скандального происшествия, едва не погубившего его карьеру. Суть дела заключалась в том, что для решения сугубо личных проблем директор Департамента полиции не стеснялся использовать обширные и разнообразные средства подчиненного ему ведомства, откровенно злоупотребляя своим служебным положением. Заведя долговременный роман с женой полицейского пристава Менчукова, пожилой ревнивец наблюдал за поведением ветреной наложницы не менее строго, чем иной восточный владыка оберегал неприкосновенность своих законных жен. Только вместо евнуха к дверям ее квартиры был приставлен городовой. Впрочем, это ничуть не помешало ловкой и хитрой женщине вступить в связь с молодым бразильцем, исполнявшим обязанности поверенного в делах этой далекой экзотической страны. Когда смутные подозрения Петра Николаевича обрели под собой прочное основание, он повелел сыщику во что бы то ни стало выследить изменницу. Тот нашел способ выкрасть у дипломата любовные письма Менчуковой, после чего рассвирепевший Дурново устроил своей содержанке дикую сцену. Слегка пострадавшая в перепалке виновница скандала не замедлила сообщить о случившемся возлюбленному. Господин Феррейра д’Абреу (так звали поверенного), поддавшись пылкому южному темпераменту, по одним сведениям, выразил свое возмущение тогдашнему управляющему Министерством иностранных дел Н.П. Шишкину, а по другим – отвесил Петру Николаевичу полновесную пощечину. В результате дело дошло до государя Александра III, питавшего отвращение к историям подобного рода и отнюдь не склонного проявлять сдержанность в выражении своих чувств. Приговор относительно П.Н. Дурново был решителен и краток: «Убрать эту свинью в 24 часа!» На выручку пришла императрица Мария Федоровна, почему-то благоволившая к опальному директору департамента. Следует добавить, что безжалостный в обращении с провинившимися подчиненными Дурново униженно молил ее о заступничестве, проливая горькие слезы… В конце концов государыня упросила мужа пощадить полезного чиновника, и в уважение прошлых заслуг Петра Николаевича отправили заседать в Сенат, полностью сохранив за ним получаемое ранее жалованье. По этому поводу издатель и журналист А.С. Суворин записал в своем «Дневнике» 8 февраля 1893 года: «П.Н. Дурново назначен сенатором. Сенаторы негодуют, говоря, что в Сенат сажают всякого прохвоста». Сам же бывший директор считал себя несправедливо обиженным и сокрушался по этому поводу: «Удивительная вещь! 9 лет я заведовал тайной полицией, мне поручались государственные тайны, как вдруг какой-то бразильский секретаришка подает жалобу, и меня, не требуя объяснений, увольняют в 24 часа! Что за страна, где так поступают с людьми?» Что касается последнего, то бывшие подчиненные Петра Николаевича, пострадавшие от его самоуправства, очевидно, имели схожее мнение на этот счет. Глава 7 Пишущие историю Памятник петровскому времени Среди записок современников о Петровской эпохе «Дневник камер-юнкера Ф.-В. Берхгольца» как по объему, так и по охвату содержащихся сведений, несомненно, занимает первое место. Его последнее полное издание вышло из печати более ста лет назад, давно сделавшись библиографической редкостью. И вот в 2000 году одно московское издательство совершило благое дело, переиздав этот интереснейший исторический документ, особенно ценный для любителей петербургской старины. Несколько слов об авторе. Фридрих-Вильгельм Берхгольц (1699–1771) в течение нескольких лет, с 1721 по 1725, пребывал в России в составе свиты герцога Гольштейн-Готторпского, предназначенного Петром I в мужья старшей дочери Анне. Не теряя времени даром, молодой придворный с немецкой педантичностью стал заносить в свой дневник все достойное, на его взгляд, внимания, не пропуская малейших подробностей. В этой груде мелочей, словно в лавке старьевщика, каждый может найти что-то нужное для себя. А в том, что таковое непременно отыщется, сомневаться не приходится: любознательный Фридрих с равным усердием описывает увиденное им в загадочной стране – от примечательных построек до посещения бани, от маскарадов и свадеб до спуска кораблей. Многое привычное, а потому опускаемое в записках русскими людьми как само собой разумеющееся и общеизвестное дошло до нас лишь благодаря иностранным описаниям. Дело одних – осмыслять и оценивать, а других – наблюдать и заносить на бумагу; Ф.-В. Берхгольц принадлежит к последним. Честь ему и хвала: будь на свете больше таких наблюдателей, не ленившихся вести толстые дневники, насколько богаче и полнее были бы наши знания о прошлом! Ф.-В. Берхгольц Взять хотя бы одну, к сожалению, столь же злободневную и в наши дни проблему – пьянство. Весьма существенная разница в отношении к нему тогда и теперь состоит в том, что ныне, хотя бы на официальном уровне, оно осуждается, а Петр I зачастую насильно спаивал свое ближайшее окружение. На сей счет Берхгольц приводит массу случаев. К примеру, в Летнем саду по приказу царя посетителей принуждали пить большими стаканами простое «хлебное вино», то есть водку, причем, добавляет рассказчик, «даже нежные дамы не изъяты от этой обязанности». Своего апогея повальное бражничество достигло в дни празднования Ништадтского мира со Швецией, заключенного 30 августа 1721 года. Почти непрерывные торжества по этому поводу с обильнейшими возлияниями длились несколько месяцев в Петербурге, после чего продолжились в Москве. Тех, кто по какой-либо причине (в основном из-за боязни быть чуть не на смерть напоенным) пропускал день маскарадных сборищ, заставляли позднее «отрабатывать» алкогольную недоимку, вдобавок потчуя самыми дурными, дешевыми винами. Но предоставим слово автору дневника: «Император приказал собраться в здании Сената всем маскам, которые почему-либо не явились туда в прошедшее воскресенье, чтобы исполнить не исполненное ими, то есть выпить столько же, сколько выпили другие. Для этого были назначены два особых маршала – обер-полицмейстер и денщик Татищев, которым было поручено смотреть, чтобы ни один из гостей… не возвратился домой трезвым, о чем эти господа и позаботились как нельзя лучше. Рассказывают, что там было до тридцати дам, которые потом не могли стоять и в таком виде отосланы были домой». Не обошлось и без драматических происшествий. Беременная супруга гофмаршала В.Д. Олсуфьева, по происхождению немка, прибегла к заступничеству императрицы, умоляя избавить ее от грядущего мероприятия. Однако Петр отказал, мотивируя свою настойчивость нежеланием обидеть других знатных русских дам и тем самым усилить неприязнь к иностранцам. Конец этой истории оказался печальным: бедная женщина так терзалась страхами накануне попойки, что наутро родила мертвого младенца, которого, по слухам, прислала ко двору в банке со спиртом. Царская кунсткамера пополнилась новым экспонатом… Насильственное спаивание стало у Петра чем-то вроде государственной политики. О причинах столь странного поведения монарха Берхгольц, по обыкновению, не задумывается. Но вот другой иностранец, датский посланник Юст Юль, высказывает в своих «Записках» весьма правдоподобное предположение: возможно, таким образом царь выведывал тайные мысли своих собеседников, а из пьяных ссор между ними узнавал о случаях воровства и мошенничества, принимая услышанное к сведению и делая соответствующие выводы. Очевидно, тактика эта приносила свои плоды, ибо Петр следовал ей до конца жизни. Но вернемся к дневнику Берхгольца. Немало места в нем уделено детальному описанию всевозможных церемоний – свадеб, крестин, похорон, народным нравам и обычаям, а также осмотру местных достопримечательностей. Вообще автор вызывает симпатию своей ненасытной любознательностью, стремлением увидеть все новое, еще невиданное. Он без устали посещает храмы, загородные дворцы и сады, взбирается по крутым лестницам на самые высокие башни, чтобы полюбоваться открывающимися оттуда видами. Его интерес к искусству искренен и неподделен. Кстати говоря, именно Берхгольцу мы обязаны сохранением бесценного собрания архитектурных чертежей петербургских построек конца 1730-х – начала 1740-х годов. До сих пор точно не известно, каким образом они попали к нему; не исключено, что это часть архивов Комиссии о санкт-петербургском строении, принадлежавшая казненному вместе с Артемием Волынским архитектору П.М. Еропкину или умершему в 1743 году М.Г. Земцову. Так или иначе, Берхгольц, вновь приехавший в Россию в качестве воспитателя великого князя Петра Федоровича, сумел сберечь драгоценные для нас документы, а вдобавок снабдил каждый проектный чертеж собственноручными примечаниями, поясняющими, что за здание на нем изображено и кому оно принадлежало. До сих пор историки Петербурга пользуются этими указаниями, без которых трудно, а порой и невозможно было бы разобраться в этом обширном наследии. Неудачно ввязавшись в политические придворные интриги против вице-канцлера А.П. Бестужева-Рюмина, Берхгольц вынужден был в 1746 году навсегда покинуть Россию, прихватив с собой упомянутую коллекцию чертежей, оказавшуюся со временем в Стокгольме, где она пребывает и поныне. Дневник же, первоначально опубликованный еще в XVIII веке в немецком историческом журнале, вернулся в Россию в русском переводе, к большой радости всех любителей отечественной истории. Опасная профессия В ряду дневников и воспоминаний иностранцев, посетивших нашу страну в первой четверти XVIII века, записки датского посланника Юста Юля выделяются желанием не просто описать, а по возможности осмыслить наблюдаемые события. По поручению датского короля – союзника России в Северной войне – он находился здесь с весны 1709 до осени 1711 года. Будучи человеком образованным и вдумчивым, Юль стремится понять мотивы поведения русского царя, к которому относится с глубоким уважением, но без особой симпатии. Юст Юль По его мнению, государь достоин бесчисленных похвал: «Он храбр, рассудителен, благочестив, поклонник наук, трудолюбив, прилежен и поистине неутомим. Но когда выдается случай нажить деньги, он забывает все». В подкрепление своих слов датский дипломат приводит несколько примеров вопиющего беззакония, творимого будто бы без ведома царя. Ему ясна и хитроумная тактика Петра, позволявшая отводить возможные обвинения в свой адрес, направляя их на князя А.Д. Меншикова, известного своим стяжательством и корыстолюбием в не меньшей степени, чем боевыми подвигами. «Когда совершается какая-нибудь несправедливость, неудовольствие пострадавших должен отвлечь на себя князь. Если бы князь Меншиков в самом деле обладал всем, что считается его собственностью, то доходы его достигали бы нескольких миллионов рублей. Но возможно ли допустить, чтобы такой правитель, как царь, крайне нуждающийся в средствах для ведения войны и столь же расчетливый… как какой-нибудь бедняк-простолюдин, решился одарить кого-либо подобным богатством?» Исходя из этого, дипломат приходит к весьма логичному выводу, что «доходами… с имущества, отнятого князем Меншиковым у многих… лиц, пользуется сам царь». По словам Юля, когда Петр не желал платить жалованья какому-нибудь офицеру, то в ответ на его жалобы отвечал, что сам он всего-навсего генерал-лейтенант, и отсылал жалобщика к фельдмаршалу, князю Меншикову, а тот поступал так, как угодно было его господину… Однако там, где речь шла о преступлениях, задевающих интересы государства, царь вершил суд и расправу без всяких отговорок и промедлений. Так, изготовителям фальшивых паспортов, при помощи которых им удалось бежать с галер, после поимки раздробили руки и ноги, а затем положили на колеса, оставив умирать мучительной смертью. «Зрелище возмутительное и ужасное!» – восклицает рассказчик, ставший свидетелем экзекуции. Другая казнь в его присутствии состоялась в августе 1710 года, тогда повесили двоих солдат и крестьянина, осужденных за воровство на пожаре торговых лавок. Юст Юль так описывает это жутковатое зрелище: «Преступников привезли на место казни, как скотов на бойню: ни священника, ни иного духовного лица при них не было. Прежде всего, без милосердия повесили крестьянина. Перед тем как лезть на лестницу, приставленную к виселице, он обернулся в сторону церкви и трижды перекрестился, сопровождая каждое знамение земным поклоном; потом три раза перекрестился, когда влезал на лестницу, и когда его с нее сбрасывали. Замечательно, что, уже будучи сброшен и вися в воздухе, он еще раз осенил себя крестом… Далее восемь осужденных солдат попарно метали между собою жребий, потом метали его четверо проигравших, и в конце концов из солдат были повешены только двое. Один из них, уже вися на веревке, перекрестился дважды и поднял было руку в третий раз, но уронил ее». По свидетельству автора записок, русские относятся к смерти с поразительным равнодушием, ничуть не боясь ее. «Обыкновенно после того, как преступнику прочтут приговор, он перекрестится, простится с окружающими и без печали, бодро, идет на смерть, точно не видит в ней ничего горького». Причина такого поведения крылась, по всей вероятности, не в каком-то особом бесстрашии простого русского человека, а скорее в его привычке ко всевозможным жизненным невзгодам, предел которым могла положить лишь смерть… Быть иностранным дипломатом при дворе Петра I значило подвергать свое здоровье серьезным опасностям из-за необходимости часто и неумеренно пить. Как правило, побеседовать с царем удавалось лишь за общей трапезой. «В России пиры и обеды самые удобные случаи для ведения переговоров. Тут, за стаканом вина… обсуждаются и решаются почти все дела». Однако именно в подобных ситуациях существовал риск оказаться напоенным сверх всякой меры, чего как раз и добивался Петр, преследовавший свою особую цель: он внимательно прислушивался к тому, что несли его подгулявшие сотрапезники, ссорясь и бранясь друг с другом, мотал себе на ус и делал соответствующие выводы. «Таким образом, – замечает автор, – оправдывается пословица: когда воры бранятся, крестьянин получает обратно украденное добро». Той же системы развязывания языков придерживался Петр и в отношении чужеземных посланников. Особенно много пили во время застолий на кораблях; чувствуя себя в родной стихии, царь обычно приходил в неистовый раж, требуя, чтобы все присутствующие усердствовали в опорожнении заздравных чаш. По приказу государя специально назначенные люди понуждали пить и в промежутках между общими тостами. Юль, в прошлом морской офицер, приводит в связи с этим комический на первый взгляд эпизод, случившийся с ним 2 мая 1709 года на корабельном банкете у вице-адмирала К.И. Крюйса. «Царский ключник поднес мне большой стакан вина; не зная, как от него отвязаться, я воспользовался тем, что он стар, неловок, толст, притом обут лишь в туфли, и убежал от него на фок-ванты (снасти передней мачты. – А. И.), где и уселся… Но ключник доложил об этом царю, и вот его величество полез за мною сам, держа в зубах тот стакан, от которого я только что спасся. Взобравшись на фок-ванты, он уселся рядом со мною и там, где я рассчитывал обрести полную безопасность, мне пришлось выпить не только стакан, принесенный самим царем, но и четыре других стакана, доставленных к нам по его приказанию. После этого я так захмелел, что без чужой помощи не мог спуститься вниз». Нетрудно догадаться, чем могло окончиться для дипломата это приключение; вскоре один из лучших царских офицеров, подполковник Преображенского полка фон Киркен, во время подобного же угощения на корабле до того напился, что вечером, сходя на берег, упал с пристани и утонул. Такого рода случаи были далеко не редкостью… Однажды, уже на другом корабле, бедный дипломат угодил в еще худший переплет. Вот как сам он описывает обстоятельства роковой попойки, которая чуть было всерьез не поссорила его с Петром: «Когда я отказывался пить, ко мне подходил сам царь, ласкал и целовал меня, одною рукою обхватывал мне голову, другою держал у моего рта стакан и так упрашивал, столько произносил ласковых слов, что я наконец выпивал вино. Не раз пытался я убраться незамеченным, дважды был уже в своей шлюпке; но прежде чем успевал отвалить, в нее спускался сам царь и уводил меня назад». В конце концов Юсту Юлю, отбивавшемуся от попыток во что бы то ни стало напоить его до бесчувствия, пришлось даже обнажить шпагу против посланных за ним офицеров, что привело к столкновению с царем. Назревал политический скандал, но на другой день и русский государь, и датский посланник во избежание ненужных осложнений предпочли предать случившееся забвению. В России Юль пробыл чуть менее двух лет: с сентября 1709 по август 1711 года. В ноябре 1711 года его представили датскому королю Фредерику IV в лагере под Штральзундом. На вопрос государя, желает ли он вторично отправиться к русскому двору, Юль ответил: «Не особенно сильно, ибо мне из долгого опыта известно, какие неприятности предстоят мне от пьянства». Король не стал настаивать и избавил Юля от неприятной для него миссии. В скором времени тот получает чин вице-адмирала. Опытный моряк, умный и образованный человек, смелый, решительный, честный, с чрезвычайно развитым чувством долга, Юль не мог не нравиться Петру. Их последняя встреча состоялась 22 августа 1712 года. Царь, которого Фредерик IV назначил главнокомандующим над своими морскими силами, прибыл к месту стоянки датского флота у берегов Померании. Спустя несколько месяцев русский посол в Копенгагене В.Л. Долгорукий дал понять датскому правительству, что царь вновь хотел бы видеть Юля в качестве посланника при своем дворе. Однако вице-адмирал предпочел просить короля «о всемилостивейшем избавлении его от столь важного поручения». Юст Юль был убит пушечным ядром в морском сражении со шведами под Ясмундом в 1715 году. В донесении об этой битве датский адмирал Рабен отметил, что король потерял одного из лучших флагманов своего флота. Подтверждение кое-каких наблюдений датского дипломата мы найдем и в воспоминаниях другого автора иностранного происхождения; впрочем, большую часть своей жизни, до самой кончины, он прожил в России, много лет состоял на русской службе, поэтому вряд ли можно считать его иностранцем. Память о нем долгое время сохранялась в одном названии… «Вильбовское место» Лет двести тому назад обитателям Сенной площади и ее окрестностей было хорошо знакомо Вильбовское место – обширный пустырь между Садовой и Фонтанкой, вдоль Гороховой улицы (на участках домов № 47 и 49), полностью застроенный лишь к середине XIX века. Когда-то здесь была загородная усадьба Ф. Вильбуа (чья искаженная фамилия произносилась как Вильбоа) с небольшими деревянными хоромами и регулярным садом, простиравшаяся до самой реки. Еще к концу XVIII столетия от нее не осталось и следа. По свидетельству одного местного старожила, хорошо помнившего 1800-е годы, «там летом и осенью продавали гороховые стручки; вот и причина названия этой улицы Гороховою». Не будем касаться вопроса о достоверности этого чересчур уж простого объяснения и обратимся к личности человека, чья непривычная для русского слуха фамилия вошла в состав некогда существовавшего городского топонима. Франц или, правильнее, Франсуа Вильбуа, нареченный в России Никитой Петровичем, играл заметную роль в царствование Петра I и его ближайших преемников, скончавшись в 1760 году, при императрице Елизавете Петровне, в чине вице-адмирала. Морскую службу он начал за семьдесят лет до этого у себя на родине, во Франции. Оказавшись в плену у англичан, молодой француз без особых колебаний перешел на их сторону, продолжив недавно начатую военную карьеру уже под английским флагом. В начале 1698 года судьба свела Вильбуа с русским царем Петром I: он находился в составе эскадры, посланной в Голландию с тем, чтобы доставить юного монарха с его свитой в Лондон. Они оказались на одном корабле, и во время жестокого шторма Петр имел возможность убедиться в мужестве и решительности нового знакомца, не замедлив пригласить его к себе на службу. Предложение было с благодарностью принято. Екатерина I С этого началось почти пятидесятилетнее служение Вильбуа той стране, о которой он ранее едва ли слышал и которая стала для него второй родиной. Ему довелось стоять у истоков возникновения российского флота и принимать участие во всех войнах и походах Петра, весьма отличавшего своего преданного сподвижника. Царь не боялся доверять Никите Петровичу, выступавшему на первых порах в качестве царского денщика, то есть адъютанта, важные и ответственные дела, зная, что на него можно положиться. О степени расположения государя к Вильбуа может служить тот факт, что он позволил ему жениться на старшей дочери пастора Глюка, в чьем семействе нашла приют бедная сирота Марта Скавронская, ставшая позднее женой Петра и императрицей Екатериной I. Кстати сказать, 19 февраля 1712 года Вильбуа присутствовал в качестве шафера на их свадьбе, а много позднее, уже после смерти императора, исполнял те же обязанности на свадьбе его старшей дочери Анны Петровны с герцогом Голштинским… Немудрено, что, пребывая долгое время в такой близости к царскому двору, любознательный француз был хорошо осведомлен о многих скрытых от других вещах. Некоторые из его устных рассказов приведены, со ссылкой на источник, в книге Якоба Штелина «Подлинные анекдоты о Петре Великом», но выдержаны они исключительно в панегирическом тоне. В конце жизни, уже находясь на покое, адмирал решил поведать о виденном и слышанном письменно. В его «Записках», называемых иначе «Рассказы о российском дворе», Петр I предстает совсем иным, куда более сложным и противоречивым. Подлинник воспоминаний до сих пор не найден, и они известны лишь по двум рукописным спискам, хранящимся в Парижской национальной библиотеке и Центральном государственном архиве древних актов в Москве, поэтому авторство Вильбуа не может считаться бесспорным. Но как бы там ни было, со всей уверенностью можно утверждать, что написаны они современником, посвященным во все события придворной жизни, и одно это делает их чрезвычайно ценным источником. Первая часть записок озаглавлена: «Рассказы о подлинной причине смерти царя Петра I и о всешутейшем и всепьянейшем Соборе, учрежденном этим государем при дворе». Подлинная причина преждевременной кончины императора давно известна: застарелая и запущенная болезнь мочевого пузыря, усиливаемая несдержанностью в еде и питье, особенно в том, что касается последнего. Несколько стаканов водки, выпитых на шутовском празднике, лишь ускорили, по мнению Вильбуа, развязку. Весьма красочны и подробны описания пресловутого «всешутейшего Собора», дополняющие то, что мы знаем об этом из «Дневника» камер-юнкера Берхгольца: «Царь учредил его несколько лет тому назад по различным политическим соображениям и находил удовольствие в том, чтобы время от времени отмечать этот праздник. На празднике в виде гротеска изображалось то, что происходит в Риме в конклаве при провозглашении папы римского. Цели этого праздника сводились к одному. Первая и главная состояла в том, чтобы представить в смешном свете патриарха и вызвать презрение у народа к сану патриарха, уничтожить который в своей стране этот государь имел веские причины. <„.> Когда весь… кортеж… прибывал во дворец, где должен был происходить Собор, каждому подносили стакан водки и вводили в просторный зал, построенный в виде галереи. Здесь было несколько кушеток по числу кардиналов. Эти кушетки были отделены друг от друга проходами, где стояли распиленные пополам бочки. Одна половина бочки назначалась для съестных припасов, а другая – для облегчения тела каждого члена Собора. После того как каждому кардиналу было указано его место, всем им было приказано никуда не отлучаться в течение всего Собора, который должен был продолжаться до тех пор, пока все они не придут к единому мнению по вопросам, предложенным им князем-папой или когда Его Преосвященству будет угодно прервать Собор. Обязанность конклавистов, приставленных к каждому кардиналу, состояла в том, чтобы не давать ему уходить со своего места, заставлять его много есть и, особенно, пить и носить послания от одного кардинала к другому. Они возбуждали этими шутовскими донесениями людей, разгоряченных вином, и заставляли их говорить друг другу самые грубые непристойности. Те, кто выполнял эти обязанности, были в большинстве своем молодыми повесами, путешественниками и скитальцами. Они так хорошо делали свое дело во всех отношениях, что многие кардиналы еще долго продолжали страдать от этого, а некоторые даже умерли к концу Собора. Есть подозрение, что они были доведены до такого состояния по прямому указанию царя, приходившего время от времени наблюдать и слушать, что происходило и говорилось в зале. <…> В своих посланиях кардиналы высказывали самое оскорбительное не только в отношении друг друга, но и в отношении их семей. Если в этой перепалке у кого-нибудь вырывалось что-то особенно интересное, факт, на который надо было обратить внимание, царь записывал это на дощечки, которыми он постоянно пользовался. В результате не было такой непристойности, какая бы не совершалась в этой ассамблее. Чтобы покончить с этим описанием, достаточно сказать, что эта вакхическая церемония длилась три дня и три ночи подряд». Ссоря и стравливая друг с другом жестоко напоенных им людей, Петр, как было подмечено Юстом Юлем, преследовал вполне определенную цель: выведывать таким образом о творимых втайне от него злоупотреблениях и безобразиях, чтобы затем принимать соответствующие меры. О нравственной стороне дела он, разумеется, думал меньше всего, тем более что в русском языке в ту пору даже не было такого слова, как «нравственность»… А вот что пишет Вильбуа по поводу массовых казней стрельцов после подавления в 1698 году их последнего бунта со слов непосредственных участников этих событий: «Их выводили… по 10 человек из огороженного места и приводили на площадь. Здесь между виселицами положили большое количество брусьев, которые служили плахой для 5 тысяч осужденных. По мере того как они прибывали, их заставляли ложиться в ряд во всю длину и класть шею на плаху, сразу по 50 человек. Затем отрубали головы сразу всему ряду. Царь не удовлетворился лишь услугами солдат своей гвардии для выполнения этой экзекуции. Взяв топор, он начал собственной рукой рубить головы. Он зарубил около 100 этих несчастных, после чего роздал топоры всем своим вельможам и офицерам своей свиты и приказал последовать его примеру». Согласитесь, что знаменитая картина Сурикова «Утро стрелецкой казни» далеко не в полной мере передает весь ужас этого события! Показательна история появления при дворе Петра пресловутых «денщиков» (в числе коих, как читатель, вероятно, помнит, попал поначалу и сам мемуарист!), отличавшихся, как на подбор, приятной внешностью, сметливостью и готовностью к любым услугам, в том числе и самым зазорным. Не был исключением и самый главный фаворит, «счастья баловень безродный», – А.Д. Меншиков. Вот что пишет о нем Вильбуа: «Его шутки часто веселили молодого государя. Он видел его из окон своей комнаты, которые выходили на царский двор, где молодой продавец пирожков постоянно шутил с солдатами охраны. Однажды, когда он закричал оттого, что один стрелец его слишком сильно потянул за ухо, царь велел сказать солдату, чтобы тот прекратил это, и приказал привести к себе торговца пирожками. Он появился перед царем без всякого смущения и, когда тот задал ему несколько вопросов, отвечал остроумными шутками, которые так понравились царю, что тот взял его к себе на службу в качестве пажа. Царь приказал сейчас же выдать ему одежду. Меншиков, переодетый в чистое платье, показался царю достаточно приятным, чтобы сделать его камердинером и своим фаворитом в италийском вкусе». Смысл последних слов становится понятных из следующего примечания Вильбуа: «Содомия считается на Руси столь незначительным преступлением, что законы не предусматривают никакого наказания виновных в этом. За это наказывают только в войсках, где виновных, застигнутых на месте преступления, прогоняют три раза сквозь палочный строй. Это наказание было установлено военным уставом, изданным Петром I, который, как и другие, не был лишен этого порока. Он был трудолюбив, но вместе с тем являлся настоящим чудовищем сладострастия. Он был подвержен, если можно так выразиться, приступам любовной ярости, во время которых не разбирал пола». Это подтверждается свидетельствами и других современников, а кое-кто из них, например И.И. Бецкой, испытали извращенные наклонности царя на себе самом! Итак, чрезвычайно жестокий, коварный, зверски разнузданный, похотливый деспот; и вместе с тем беспредельно целеустремленный, не знающий устали в трудах, отдающий все силы для общего в его понимании блага, способный к благородным порывам, любящий муж и отец семейства. Этот чудовищный клубок противоречий странным образом уживался в человеке, как будто воплотившем в себе одном все достоинства и пороки своего народа. Мы слишком привыкли к мифотворчеству, однобокой «харизме», поклонению сплошным сусальным добродетелям, чтобы справедливо, всесторонне, а главное – самостоятельно оценивать характеры исторических личностей во всей их сложности и неоднозначности. Неоценимую помощь в этом нелегком деле могут оказать беспристрастные воспоминания людей далеко ушедшей от нас, но такой влекущей эпохи! Все началось в Петербурге Рядом с Мраморным дворцом, отделенный от него одноименным переулком, стоит довольно запущенный бывший особняк Ратькова-Рожнова, ныне принадлежащий Университету культуры и искусств. Оба этих здания теснейшим образом связаны с удивительной, в чем-то трагической судьбой последнего польского короля Станислава Августа Понятовского (1732–1798). В последнем из них, построенном в первой четверти XVIII столетия князем Д.К. Кантемиром, будущий король, а тогда просто граф Понятовский, в 1750-х годах служил в качестве секретаря при квартировавшем там английском посольстве; в Мраморном же дворце он встретит свой последний час. Каким же образом молодой польский аристократ оказался в Петербурге, и какое романтическое приключение повлияло на всю его последующую жизнь? Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к мемуарам Понятовского, написанным им в конце жизни и проливающим свет на многие события. Происходил он из знатного рода: его отец, сторонник покойного шведского короля Карла XII, был женат на представительнице могущественного клана князей Чарторыйских, называемого в Польше просто Семьей. Они стояли за проведение в истерзанной безначалием стране давно назревших реформ. Воспитанный строгой и добродетельной матерью, не пожелавшей доверить столь важное дело наемным гувернерам, к шестнадцати годам юный Станислав обратился в чрезмерно серьезного юношу, сторонившегося сверстников и преисполненного сознанием своего превосходства. «Мне не оставили времени побыть ребенком, если можно так выразиться, – это словно у года отнять апрель месяц… Сегодня такая потеря представляется мне невосполнимой, и я полагаю, что имею право сожалеть о ней, ибо склонность к меланхолии, которой я так часто и с большим трудом сопротивлялся, является, скорее всего, порождением этой неестественной и скороспелой мудрости, не предохранившей меня от ошибок, на роду написанных, а лишь преисполнившей меня исступленной мечтательности в самом нежном возрасте». В 1755 году новоназначенный английский посланник в России сэр Чарльз Генбюри Уильямс, друг семейства Понятовских, взял молодого человека под свое крыло, определив секретарем при возглавляемом им посольстве в Петербурге. Родители Станислава, поддерживавшие в ту пору так называемую «русскую партию» в Польше, надеялись, что их сын сделает блестящую дипломатическую карьеру. Однако, если верить признаниям самого Понятовского, она могла печально завершиться, едва начавшись. Станислав Август Понятовский Поначалу Уильямс обходился со своим подопечным до такой степени нежно и внимательно, что это даже вызвало пересуды в обществе, и, по словам секретаря французского посольства Рюльера, «так как один был прекрасной наружности, а другой крайне развратен, то связь сия была предметом злословия». Однако служебные неудачи, постигшие сэра Чарльза, сильно испортили его характер, сделав чрезмерно вспыльчивым, раздражительным и нетерпимым. Как-то раз вполне невинная застольная беседа неожиданно закончилась очередной вспышкой гнева со стороны посланника; он крикнул, что не потерпит возражений, да еще в собственном доме, и предложил своему секретарю убираться на все четыре стороны, так как не желает его больше видеть. После этого сэр Уильямс убежал и заперся у себя в спальне, оставив пана Станислава в большом смущении и растерянности. «В смятении, охваченный противоречивейшими эмоциями, я машинально подошел к двери его комнаты – он отказался отворить. Я вернулся в помещение, где мы спорили. Балконная дверь, до половины застекленная, была приоткрыта. Я вышел на балкон. Стояла ночь. Я глубоко задумался. Долго стоял я, опершись о балюстраду, отчаяние все больше овладевало мной… Моя нога поднялась уже, непроизвольно, чтобы перекинуться через перила, как вдруг кто-то оттащил меня назад, крепко схватив поперек туловища. То был Вильямс, появившийся как раз в этот момент. Он спросил у слуг, чем я занят, услышал, что я уже длительное время нахожусь на балконе, кинулся туда – и спас меня. Несколько мгновений мы не могли вымолвить ни слова – ни один, ни другой. Затем, обняв меня за плечи, он отвел меня в свою комнату. Обретя способность говорить, я сказал ему: – Лучше убейте меня, чем заявлять, что вы не желаете меня больше видеть… Он молча, со слезами на глазах, обнял меня и некоторое время прижимал к груди, а затем попросил меня не вспоминать о том, что произошло, – и никогда не упоминать об этом». В сей трогательно сентиментальной сцене во вкусе тогдашних романов смущает лишь одно обстоятельство – отсутствие балкона в доме, где она разыгралась. По крайней мере, на сохранившихся чертежах и рисунках того времени его нет. Очевидно, за давностью лет мемуариста просто подвела память. После восстановления дружеских отношений сэр Чарльз продолжил ранее начатые старания свести своего секретаря с великой княгиней Екатериной Алексеевной (будущей императрицей Екатериной II), предпринятые им совместно с канцлером А.П. Бестужевым-Рюминым. Понятовский давно заприметил хорошенькую и, по-видимому, несчастную в браке с не любившим ее человеком женщину, но у него не хватало смелости, да и возможностей познакомиться с ней поближе. У английского же дипломата, как и у российского канцлера, были свои, чисто политические причины желать их сближения. В ту пору двадцатишестилетняя Екатерина находилась в расцвете молодости и женской прелести. Очарованный ею Понятовский не мог забыть этого и через сорок лет: «Оправляясь от первых родов, она расцвела так, как об этом только может мечтать женщина, наделенная от природы красотой. Черные волосы, восхитительная белизна кожи, большие синие глаза навыкате, многое говорившие, очень длинные черные ресницы, острый носик, рот, зовущий к поцелуям, руки и плечи совершенной формы; средний рост – скорее высокий, чем низкий, походка на редкость легкая и в то же время исполненная величайшего благородства, приятный тембр голоса, смех, столь же веселый, сколь и нрав ее…» Однако помимо внешних достоинств великой княгини Понятовский сумел разглядеть и внутренние, почувствовав в ней сильную, незаурядную личность: «Она умела приветить, но и нащупать слабое место собеседника. Уже тогда, завоевывая всеобщую любовь, она торила себе дорогу к трону, занимаемому ею теперь с такой славой. Такова была возлюбленная, сыгравшая в моей судьбе роль арбитра. Все мое существование было посвящено ей – с гораздо большей полнотой, чем об этом заявляют обычно те, кто оказывается в подобном положении». Великая княгиня Екатерина Алексеевна Роль сводника, причем совершенно бескорыстно, взял на себя камергер при великокняжеском дворе Л.А. Нарышкин и справился с ней столь успешно, что в скором времени Понятовский смог встретиться с предметом своего поклонения с глазу на глаз. Так начался роман, не имевший особого значения для Екатерины, зато определивший всю дальнейшую судьбу графа Станислава Августа Понятовского… По настоянию родителей в августе 1756 года ему пришлось на время вернуться в Польшу, чтобы быть избранным в депутаты сейма. По политическим причинам этот сейм не состоялся, и вскоре, благодаря письменным рекомендациям канцлера Бестужева, граф снова приехал в Петербург, но уже в качестве посланника саксонского курфюрста Фридриха Августа II, бывшего одновременно польским королем Августом III. Их встречи возобновились. Однажды пылкому любовнику пришлось пережить несколько неприятных минут. Приехав в Ораниенбаум в надежде повидать Екатерину, он был схвачен слугами великого князя и доставлен к нему на допрос. Петр Федорович усиленно предлагал Понятовскому признаться, что он спит с его женой, обещая в этом случае все простить и забыть, но тот не поддался на уговоры, отрицая свою вину. В конце концов его отпустили домой. Разве мог он ожидать, что в самом скором времени, благодаря стараниям того же Нарышкина и возлюбленной великого князя Елизаветы Воронцовой, ему позволено будет совершенно свободно общаться с Екатериной, притом в присутствии ее супруга и той же «Лизки» Воронцовой, не скрывавшей своих близких отношений с наследником престола! Вот собственные слова Понятовского: «Великий князь еще раза четыре приглашал меня в Ораниенбаум. Я приезжал вечером, поднимался по потайной лестнице в комнату великой княгини, где находились также великий князь и его любовница. Мы ужинали все вместе, после чего великий князь уводил свою даму со словами: – Ну, дети мои, я вам больше не нужен, я полагаю… И я оставался у великой княгини так долго, как хотел». Однако наступил неизбежный день отъезда из Петербурга. Его миссия была закончена, дальнейшее пребывание в российской столице грозило неприятностями. Потом был дворцовый переворот, Екатерина сделалась императрицей, но в ответ на его письма с настоятельными предложениями вернуться в Петербург неизменно отвечала отказами: он ей нужен был в Польше, причем в роли короля, а роль героя-любовника отдана была другому актеру – Григорию Орлову. В Петербурге Понятовский появился лишь тридцать с лишним лет спустя, уже при Павле, в качестве отставного короля не существующего более Польского королевства – так пожелал русский император. Он поселил его во дворце, построенном Екатериной в знак благодарности преемнику Понятовского, графу Г.Г. Орлову, где бывший монарх и окончил свои дни, вспоминая незабвенные времена молодости. Похоронили его в католическом храме Святой Екатерины на Невском проспекте: это имя сопровождало Станислава Августа всю жизнь и осталось с ним даже после смерти… Долгое путешествие Александра Радищева 8 (21) сентября 1802 года в России вышел достопамятный указ: вместо прежних коллегий учреждались министерства. А тремя днями позже в одном из деревянных домишек Московской части произошло куда менее заметное событие: покончил с собой, выпив стакан азотной кислоты, член Комиссии составления законов коллежский советник А.Н. Радищев. Между двумя этими событиями нет никакой видимой связи; и все же она есть, потому что именно Радищев был первым российским гражданином, публично заявившим о необходимости обновления государственного строя, а ведь как раз такими попытками и отмечено «дней Александровых прекрасное начало»! Почему же человек, посвятивший все силы души отстаиванию идей освобождения крестьян от крепостной зависимости и гражданской свободы личности, пожелал уйти из жизни в самый как будто бы подходящий для осуществления своей мечты исторический момент? Чтобы ответить на этот вопрос, хочу напомнить основные повороты трагической судьбы А.Н. Радищева (1749–1802), одного из немногих инакомыслящих, рискнувших открыто противопоставить свою точку зрения общепринятой. Родился он в семье богатого саратовского помещика, владевшего двумя тысячами душ. Отец мальчика, человек весьма образованный, отличался редким для той среды и эпохи добросердечием по отношению к своим крепостным, за что и был ими спасен со всеми домочадцами во время Пугачевского восстания. В страшные для помещиков 1773–1774 годы, когда его родная губерния была охвачена огненным заревом пылавших дворянских усадеб, молодой человек находился далеко, в Петербурге, где незадолго перед тем началась его служба, поначалу – протоколистом в Сенате, а затем – по военно-судебной части. В 1775 году Александр Николаевич ненадолго выходит в отставку и женится на девице А.В. Рубановской, а в следующем году поступает на новое место – в Коммерц-коллегию, которую в ту пору возглавлял граф А.Р. Воронцов. Он по достоинству оценил деловые и душевные качества своего подчиненного и неизменно поддерживал его в самое трудное для него время. А.Н. Радищев Благотворные семена, посеянные родителем в душе старшего сына, дали обильные всходы: всю свою сознательную жизнь Александр Николаевич был в полном смысле слова «мужем чести», не остававшимся глухим к людским страданиям. Это и подвигло его издать в 1790 году на собственный счет свой главный труд «Путешествие из Петербурга в Москву», резко изменивший дальнейшую судьбу сочинителя. Радищев избрал распространенную в эпоху сентиментализма форму путевого дневника, введенную в литературу Лоренсом Стерном. Однако, в отличие от англичанина, он не ограничился «мирным странствием сердца в поисках природы и всех душевных влечений», а дал потрясающую картину чудовищной нищеты и вопиющего бесправия. Сделанные им выводы о неизбежности нового восстания, если помещики не изменят своего отношения к крепостным, отданным в их полную власть, произвели ошеломляющее впечатление на Екатерину II. Не надо забывать, что книга вышла вскоре после Французской революции, и государыня увидела в произведении Радищева прямое подстрекательство к бунту. Секретарь императрицы А.В. Храповицкий лаконично занес в свой дневник ее отзыв о сочинителе: «Сказывать изволила, что он бунтовщик, хуже Пугачева… Говорено с жаром и чувствительностью». Екатерина редко приходила в столь сильное негодование: ясно было, что автору несдобровать. Обер-полицмейстер Н.И. Рылеев, ведавший по совместительству и цензурой, допустившей «зловредный» труд в печать, получил от монархини строжайший выговор с массой нелестных эпитетов относительно своих умственных способностей, но на этом все неприятности для него закончились. Для Радищева же они только начинались. Дело его поручено было главе Тайной экспедиции, неутомимому мастеру кнута С.И. Шешковскому, любившему лично истязать особо важных подследственных. К счастью для Александра Николаевича, сей государственный муж был не чужд слабости большинства чиновников и согласился за взятку, врученную ему свояченицей Радищева, избавить узника от пыток. Далее все пошло заведенным порядком: вынужденное покаяние обвиняемого, смертный приговор и, наконец, «монаршая милость», заменившая казнь десятилетней сибирской ссылкой с содержанием в остроге. В ноябре 1796 года на престол вступил Павел, издавший указ об амнистии ссыльного писателя, с предписанием безвыездно жить в своем калужском имении под надзором полиции… С воцарением Александра I в жизненных обстоятельствах Радищева наступил благотворный перелом: ему были возвращены все прежние права, чины и орден, а кроме того – разрешен въезд в столицу. 6 августа 1801 года его назначают членом Комиссии составления законов. Недавний узник, оживший под влиянием наступившей «оттепели», решил, что настала пора для долгожданных перемен в судебной сфере, и активно принялся за разработку общего плана реформы законодательства. Проект оказался настолько радикальным, что, ознакомившись с ним, председатель комиссии, граф П.В. Завадовский, напрямик заявил автору о вероятности его повторного путешествия из Петербурга в Сибирь. Слова графа подействовали на Радищева страшным образом: он вдруг понял, что, в сущности, в России мало что изменилось и от оттепели до настоящего тепла еще очень далеко. К этому добавились семейные неурядицы, подорванное здоровье… Жизнь вдруг потеряла смысл, и он избрал смерть. Родственникам удалось скрыть факт самоубийства, и А.Н. Радищева похоронили по христианскому обряду на Волковом кладбище. С годами могила его затерялась, но память о добром, честном и отважном человеке, поднявшем голос в защиту безгласных рабов, сохранилась в потомстве. Соглядатай князя Потемкина В 1780-х годах положение при дворе светлейшего князя Г.А. Потемкина-Таврического, тайного супруга Екатерины II, было как никогда прочным и устойчивым. Тем не менее, находясь почти в непрерывных отлучках из Петербурга, объяснявшихся вначале заботами по обустройству и колонизации Новороссийского края, а позднее – военными действиями против турок, Григорий Александрович счел за благо обратиться к услугам человека, способного не только управлять в его отсутствие княжеским имуществом, но, что не менее важно, держать своего принципала в курсе всех столичных новостей, придворных интриг и настроений государыни. Эту роль он отвел одному из своих адъютантов, полковнику артиллерии Михаилу Антоновичу Гарновскому (1754–1814), и, надо признать, выбор князя оказался на редкость удачным. По словам издателя исторического журнала «Русская старина» М.И. Семевского, «обо всем виденном и слышанном, начиная с дел государственной важности и кончая толками при дворе и в городе, писал Гарновский еженедельно, иногда два-три раза в неделю, к правителю канцелярии Потемкина, к его „правой руке“, Василию Степановичу Попову; писалось же это для немедленнаго сообщения общему их начальнику, который, благодаря обширным обозрениям всего виденнаго и слышаннаго его поверенным, мог зорко следить за положением дел в Петербурге и при дворе». Собранные воедино послания или, если хотите, донесения Гарновского составили своеобразный дневник, первая запись которого относится к 6 июня 1783 года, а последняя, без указания даты, – к 1790 году. Листы писчей бумаги дошли до издателя в таком превосходном состоянии, что с них даже не полностью осыпался золотистый песок, употреблявшийся для осушения чернил. Все те, кто писал о М.А. Гарновском, сосредоточивали внимание в первую очередь на внешних событиях жизни потемкинского управителя, в самом деле довольно бурной и богатой превратностями, оставляя в тени наиболее ценное для истории – содержание его «Записок». Именно так они были озаглавлены М.И. Семевским, опубликовавшим их в 1876 году в своем журнале. Чтобы составить понятие об уровне образованности и степени осведомленности автора «Записок», стоит упомянуть о том, что, по свидетельству А.М. Тургенева, «он на восьми или девяти языках, кроме природнаго, изъяснялся… писал отлично хорошо на всех. Императрица Екатерина II его любила, уважала, отличала; Гарновский всегда, во всякое время, имел право входить без доклада в кабинет к государыне». Царицыны фавориты – Мамонов, а позднее и Зубов – поверяли ему свои тайные мысли, первостепенные вельможи, включая графа А.А. Безбородко и генерал-прокурора князя А.А. Вяземского, удостаивали своим доверием. Послания М.А. Гарновского написаны живым, разговорным языком, со множеством вставных сценок, диалогов и монологов в лицах, что позволяет наглядно представить себе изображаемых людей. Возьмем, к примеру, запись, сделанную в апреле 1787 года: «Говорят в городе и при дворе еще следующее: графы Задунайской и Ангальт приносили Ея Императорскому В-ву жалобу на худое состояние российских войск, от небрежения его светлости в упадок пришедших. Его светлость, огорчась на графа Ангальта за то, что он таковыя вести допускает до ушей Ея И. В-ва, выговаривал ему словами, чести его весьма предосудительными. После чего гр. Ангальт требовал от его св-сти сатисфакции». Разумеется, сообщая Потемкину через Попова то, о чем его светлости было известно лучше, чем кому-либо другому, Гарновский счел нужным донести о самом факте подобных пересудов в столичном обществе. Пресловутая «жалоба» оказалась чистейшей напраслиной. Реформы, осуществленные Потемкиным в армии, в частности значительное увеличение численности легкой кавалерии, оснащение кирасирских полков более легким вооружением, наконец, – за что его не переставали благословлять солдаты – введение удобного и практичного обмундирования, разработанного не на основе прусских образцов, как прежнее, а исходя из здравого смысла и удобства пользователей, имели самое благотворное влияние на исход Русско-турецкой войны 1787–1791 годов. Кстати сказать, Григорий Александрович, не отличавшийся злопамятностью, был до такой степени возмущен наветами чужеземного графа, получившего в ведение Сухопутный кадетский корпус, что надолго сохранил по отношению к нему недоброе чувство. Спустя несколько лет, в одном из писем к Екатерине от 29 мая 1790 года, он, в свою очередь, бросил в его адрес едва ли заслуженный (по крайней мере, в первой своей части) упрек: «Граф Ангальт живет в Петербурге, пакостными своими склонностями развращает нравы молодых кадет и не имеет времени или не умеет смотреть за егерским корпусом Финляндским». Многочисленные теплые, даже восторженные отзывы бывших воспитанников Ангальта об их наставнике опровергают высказанное князем обвинение. Вероятно, всем знакомо выражение «потемкинские деревни». По рассказам современников-иностранцев, Г.А. Потемкин, чтобы создать во время путешествия Екатерины II на юг в 1787 году выгодное впечатление о своей деятельности, возвел на ее пути целые селения, бывшие якобы лишь декорациями, выставлял для встречи императрицы празднично одетых людей, выдаваемых за местных жителей, показывал склады хлеба, заполненные мешками не с мукой, а с песком, перегонял с места на место одно и то же стадо скота и т. д. Историки доказали, что все это выдумки, намеренно распространявшиеся многочисленными завистниками князя и врагами России, еще до путешествия Екатерины в Новороссию. В этой связи особый интерес представляет собой свидетельство очевидца, тайного советника Е.А. Черткова, человека правдивого и отнюдь не склонного к лести, чей рассказ Гарновский (явно не лишенный литературных способностей) приводит в письме от 28 июля 1787 года: «Я был с его светлостию в Тавриде, в Херсоне и Кременчуге месяца за два до приезда туда Ея И. В-ва. Я удивлялся его св-сти и не понимал, что то было такое, что он там хотел показать Ея Императорскому В-ву. Нигде там ничего не видно было отменнаго; словом, я сожалел, что его св-сть позвал туда Ея И. В-во по пустому. Приехав с государынею, Бог знает, что там за чудеса явилися. Чорт знает, откудова взялись строения, войски, людство, татарва, одетая прекрасно, казаки, корабли… Ну, ну, Бог знает что… Какое изобилие в яствах, в напитках, словом, во всем – ну, знаешь, так, что придумать нельзя, чтоб пересказать порядочно. Я тогда ходил как во сне, право, как сонный. Сам себе ни в чем не верил, щупал себя, я ли? где я? не мечту ли или не привидение ли вижу? Н-у! надобно правду сказать, ему – ему только одному можно такия дела делать, и когда он успел все это сделать! Кажется, не видно было, чтоб он и в Киеве занимался слишком делами, ну, знаешь, все как здесь…Удивил! ну подлинно удивил! Не духи ли какие-нибудь ему прислуживаются». Это и впрямь походило на чудо, но чудо рукотворное, имевшее вполне реальное объяснение: непрестанный, напряженный труд многих тысяч людей, направляемых упрямой волей устроителя Новороссии. Знаменателен эпизод с принесением мужиками жалобы на подрядчика Долгова, жестоко обманывавшего и притеснявшего их при строительстве каменной набережной Фонтанки. Первая запись на этот счет содержится в том же послании от 28 июля: «Богатый и первостатейный купец Долгов находится теперь в превеликих хлопотах. Будучи подрядчиком строения брегов Фонтанки, делал он ужасныя притеснения и обиды мужикам, при строении находившимся. Граф Яков Александрович (Брюс, петербургский генерал-губернатор) вывел сие наружу и донес Ея И. В-ву. Государыня крайне не благоволит теперь на Долгова. Стараются, а особливо г-н губернатор, примирить его с мужиками, но, Бог знает, будет ли в том какой-нибудь успех». Дело это действительно имело продолжение, причем самое неприятное для властей: в скором времени несколько сотен мужиков явились на Дворцовую площадь с петицией, так что государыне пришлось высылать к ним парламентеров: «7-го числа (августа) поутру появилось на площади против дворца с 400 мужиков, присланных депутатами от общества четырех тысяч работников, у производства при реке Фонтанной работ находящихся, с жалобою к Ея И. В-ву на подрядчика Долгова, крайне их притеснявшего. Собравшиеся на площадь мужики тотчас дали знать о себе, что они не простые зрители, а челобитчики. Всякий раз, когда случалось какой ни есть даме подойти в комнатах Ея И. В-ва к окошку, то они, признавая таковую за государыню, кланялись низко и показывали… в руках жалобу. Всемилостивейшая государыня, узнав о сем, изволила высылать к ним несколько особ, одну за другою, которые обнадеживали их именем Ее И. В-ва скорым удовлетворением их просьбы, с тем только, чтоб они разошлись по-своясям и отнюдь бы толпою праздно на площади не собирались. Но нет! Средство сие не возымело желаемаго действия. Мужики упорно настояли в том, что хотят просить самую государыню, и уверяли увещевавших их господ, что они не собрались бы толпою, если б прежде посланные от них в Царское Село с жалобою к Ее И. В-ву два мужика не были взяты под стражу; а особливо досадили они дежурному генерал-адъютанту графу Ангальту, сказав оному, что они с ним, как с немцем, не знающим по-русски, и говорить не хотят. Пополудни, не знаю, каким образом, удалось захватить из них семнадцать человек, кои тогда же отправлены были за караулом в уголовный суд, с тем, чтоб осуждены были в учинении скопа и заговора. Сие увидя, прочие немедленно разбежались». В этой истории примечательно прежде всего поведение императрицы: вместо того чтобы разобрать жалобу мужиков по существу и наказать их обидчика, она сначала повелела арестовать двух мужицких депутатов, а затем еще семнадцать, обвиненных «в учинении скопа и заговора»! Правда, до стрельбы, как это случится 9 января 1905 года на том же самом месте, дело не дошло, но исторические аналогии, как говорится, напрашиваются сами собой. Верховная власть в России никогда не умела и не желала говорить с людьми. Дальнейшая судьба самого автора «Записок» также оказалась довольно печальной. При императоре Павле управителя ненавистного для государя покойного князя Потемкина отдают под суд за незаконное завладение чужим наследством. Последовало заключение в Петропавловскую крепость с лишением всего имущества. Освободившись из крепости, Гарновский в скором времени опять попадает в тюрьму – на сей раз за неуплату долга. Царствование Александра I хотя и принесло ему желанную свободу, но прежнее состояние оказалось утраченным безвозвратно. Чтобы прокормиться, отставной полковник промышляет карточной игрой, за что высылается из Петербурга в Тверь, под надзор полиции. Различные предпринятые им спекуляции по интендантской части успеха не имели, и бывший любимец фортуны вскоре оканчивает свои дни почти в нищете, изведав на собственном горьком опыте справедливость русской поговорки насчет тюрьмы и сумы… Герой следующего нашего рассказа также оставил после себя дневник, ставший чрезвычайно важным письменным памятником Екатерининской эпохи. «Ум быстрый, прочное познанье… В январе 1802 года любопытствующие петербуржцы, аккуратно просматривавшие раздел объявлений в «Санкт-Петербургских ведомостях», могли прочесть следующее: «Покойного Действительного Тайного Советника и Кавалера Александра Васильевича Храповицкого братья сим объявляют: буде кто имеет долговые на нем требования… то б те благоволили сего Генваря с 15 числа являться каждый день по утрам в доме, что за Калинкиным мостом под № 853. В оном же доме продаются лучшие эстампы, картины, мебели и кровать». Хозяин перечисленных вещей скончался в канун Нового года, по всей вероятности на той самой кровати, которая выставлялась теперь на продажу. Многие еще помнили бывшего статс-секретаря Екатерины II, весьма к ней приближенного и знавшего ее так, как мало кто другой; но вряд ли кому-то могло прийти в голову, что ему суждено войти в историю как автору знаменитого «Дневника», открывшего потомкам многие скрытые стороны личности императрицы… А.В. Храповицкий родился в Петербурге 7 марта 1749 года; восприемником его от купели стал не кто иной, как великий князь Петр Федорович – будущий государь Петр III. Удивляться здесь нечему, хотя батюшка крещеного младенца, Василий Иванович, получил дворянское достоинство всего за два года до рождения сына. К тому времени он уже имел чин премьер-майора гвардии Преображенского полка, а вдобавок служил в Лейб-кампании, которая, как известно, возвела на престол царствовавшую тогда императрицу Елизавету Петровну. По матери новорожденный приходился внуком строителю Вышневолоцкого канала М.И. Сердюкову, любимцу Петра Великого. С юных лет Александр Васильевич проявлял охоту к литературным занятиям. После окончания Сухопутного шляхетного корпуса он некоторое время служил в Семеновском полку, а позднее был зачислен в штат графа К.Г. Разумовского на должность генерал-аудитор-лейтенанта, то есть советника по юридическим вопросам. Все это время, начиная с 1762 года, он пишет стихотворения и драматические произведения, занимается переводами. Возможно, на путь авторства его подтолкнуло раннее знакомство с М.В. Ломоносовым, дружившим с его отцом. Спустя десять лет он уже признанный литератор; сам Н.И. Новиков в своем «Опыте Исторического Словаря о Российских писателях» удостаивает его лестной характеристики. Благосклонен к нему даже такой человек, как драматург А.П. Сумароков, отнюдь не склонный к похвалам. А.В. Храповицкий От Разумовского Александр Васильевич перешел на службу в качестве секретаря к генерал-прокурору князю А.А. Вяземскому. В 1775 году подпись Храповицкого, наряду с прочими, фигурирует под «сентенцией» о наказании смертной казнью «изменника, бунтовщика и самозванца Пугачева». Генерал-прокурор, отметивший легкий и приятный слог своего подчиненного, при случае рекомендовал его императрице, которая повелела ему состоять «при собственных ее делах и у принятия подаваемых ее величеству челобитен». 18 января 1782 года А.В. Храповицкий приступил к новым обязанностям. Десять с лишним лет пребывания в должности статс-секретаря Александр Васильевич не уставал вести «памятные записки», как называл он свой дневник, куда заносил все достойное, на его взгляд, внимания. Иногда записи эти имеют чересчур лаконичный, конспективный характер; чувствуется, что делались они наспех, в надежде вернуться к ним позднее и придать более развернутый вид. Довольно бурный, беспорядочный образ жизни, который вел автор дневника, помешал осуществиться его намерению, но жалеть об этом, наверное, не стоит: очень возможно, что при позднейшей переработке исчез бы аромат непосредственного, сюиминутного впечатления, особенно ценный в такого рода документах. Благодаря дневнику мы видим Екатерину без прикрас и парадного грима – сердито брюзжащей или веселой и остроумной, высказывающей нелицеприятные суждения об окружающих ее людях. Порой перед нами слабая, стареющая женщина, но куда чаще – сильная и властная государыня, умный и дальновидный политик. Храповицкий сумел заслужить ее расположение: он не выносил сора из избы, и все услышанное доверял (правда, без ведома императрицы) лишь своим запискам. Со временем об их существовании стало известно при дворе; не исключено, что именно это обстоятельство и стало причиной отставки Храповицкого в сентябре 1793 года… При расставании ему были пожалованы высокий чин тайного советника и звание сенатора, но вряд ли это могло наполнить его жизнь новым содержанием. Так и не обзаведшийся семьей, он в одиночестве поселился в наемном доме где-то в дебрях Коломны, в которой, по словам Гоголя, «все тишина и отставка». На досуге Александр Васильевич завязывает стихотворную переписку с жившим неподалеку Г.Р. Державиным и сближается с другим известным поэтом того времени – И.И. Дмитриевым. Помимо этого, он посвящает все свободное время любимым занятиям: наслаждается богатым собранием «антиков» (страсть, которую он разделял с Екатериной) и эстампов, пополняет свою довольно обширную библиотеку, а вдобавок продолжает писать стихотворения, которые публикует под инициалами А.Х. По-прежнему, как отзывается о нем И.И. Дмитриев, в обществе он «утороплен и застенчив, но перед всеми учтив и ласков; с друзьями же своими жив, остер и любезен, говорил с точностью, складно и скоро». По субботам Дмитриев навещает Храповицкого, засиживаясь до глубокой ночи и получая огромное удовольствие от беседы с «остроумным словесником и государственным мужем». За два года до смерти старый холостяк оказался потревоженным в своих устоявшихся привычках: ему предстоял переезд на новую квартиру. Об этом он писал в 1799 году брату Михаилу: «Я месяца два в великих хлопотах: продали дом, мною нанимаемый; должен был искать другой и с тягостью моей перебираться, все укладывать и опять разбирать; бумаги и библиотека в таком были беспорядке, что во все то время не мог приняться за перо и узнать, где что лежит». Дом, в котором А.В. Храповицкий провел остаток дней, как ни странно, сохранился, хотя и в перестроенном виде; он находится на набережной реки Фонтанки № 164, в глубине участка. Когда-то здесь стоял деревянный загородный домик известного ученого и знатока русского искусства Якоба Штелина, впоследствии перешедший к его внучке, бывшей замужем за петербургским купцом Иваном Оттом. В 1780-х годах она расширила свои владения и выстроила двухэтажные каменные палаты на крепких сводах. В нижнем этаже помещалась бронзовая фабрика, а в верхнем сдавались «четыре покоя с большим сараем, конюшнею и особливым двором». Там-то и поселился новый жилец. Отсюда же 3 января 1802 года его свезли на Лазаревское кладбище Александро-Невской лавры. По сей день неподалеку от церковных стен можно видеть старинный саркофаг со стихотворной эпитафией, где есть такие строки: Ум быстрый, прочное познанье, В трудах поспешность, испытанье, Обширна память… Именно эти качества А.В. Храповицкого передает драгоценный документ эпохи – его «Дневник». «Вы возбудите ненависть к себе…» Личность трагически погибшего императора Павла всегда привлекала внимание историков. Его называли русским Гамлетом, но не столько из-за сходства характеров, сколько биографий: обоих незаконно отстранили от власти при участии матерей. Но если в советскую эпоху царей и большинство сановников предавали безусловному порицанию, то в наше время принялись столь же безудержно восхвалять, отыскивая и находя в них ранее неведомые добродетели. Переменилось отношение и к Павлу: прежнего тупого солдафона и деспота, заявившего, что в России только тот вельможа, с кем он, Павел, в данную минуту разговаривает, пытаются представить не оцененным по заслугам, оклеветанным идеалистом. Одним словом, вновь налицо отклонение от исторической истины, когда из желания исправить один перегиб допускают другой, но уже в противоположную сторону. Каким же он был на самом деле и случайно ли то, что с ним в конце концов произошло? Известно, что характер человека, который и определяет его судьбу, складывается в детском возрасте, как под влиянием наследственных склонностей, так и полученного воспитания. Процесс этот можно проследить далеко не всегда, но в случае с императором Павлом на помощь приходят «Записки» его воспитателя Порошина, опубликованные полностью в 1881 году и с тех пор не переиздававшиеся. Семен Андреевич Порошин (1741–1769), сын генерал-поручика, начальника горных заводов, окончил Сухопутный шляхетный корпус, где, помимо основных дисциплин, в коих он чрезвычайно преуспел, отдавался также литературным занятиям. Знал несколько иностранных языков, много читал, был сведущ в древней и новой истории, но особенно силен в математике и военном искусстве. По окончании курса Порошин остался при корпусе, а 31 декабря 1761 года его, в чине поручика, назначают флигель-адъютантом сначала к государыне Екатерине Алексеевне, а затем к ее супругу – императору Петру III. Взойдя на престол, Екатерина тут же приставила скромного, благовоспитанного офицера «кавалером» к малолетнему наследнику. В его обязанности входило неотлучно при нем находиться, обучая математике, а кроме того – внушать цесаревичу благородные понятия и мысли. С сентября 1764 по декабрь 1765 года Семен Андреевич вел регулярный дневник, куда заносил все подробности о самочувствии своего подопечного, его учебных делах и досугах. Помимо этого, он записывал темы наиболее интересных застольных бесед, в которых участвовали люди разных возрастов и положений, в основном близкие ко двору. Порой собеседники делились драгоценными с исторической точки зрения воспоминаниями о своей жизни и службе, рассказывали забавные и поучительные случаи, что также находило отражение на страницах дневника. Я уж не говорю о бесчисленных деталях придворного быта и нравов, событиях городской жизни, упоминаниях многих улиц и частей Петербурга, домах и дворцах его обитателей и т. д. Но главное – дневник дает представление о тех чертах характера наследника, в значительной степени предопределивших его роковую кончину. Что до умственных и физических способностей, то здесь все обстояло благополучно: Павел рос понятливым, в меру резвым, в меру усидчивым, способным к наукам, в том числе и точным. Порой он довольно замысловато шутил, порой вдавался в несвойственные его возрасту резонерские рассуждения, что, впрочем, объяснялось почти постоянным пребыванием в обществе взрослых. Цесаревич Павел Петрович В целом очень неглупый, пожалуй, даже чрезмерно развитой ребенок, с признаками излишней раздражительности и гневливости, развившимися впоследствии, он легко привязывался к людям, иногда – слишком, но столь же быстро и охладевал; при этом отличался крайней восприимчивостью как к дурным, так и хвалебным отзывам о предметах своего увлечения. «Гораздо легче Его Высочеству вдруг весьма понравиться, нежели навсегда соблюсти посредственную, не токмо великую и горячую от него дружбу и милость», – отмечает Порошин. Изменчивость и непостоянство в привязанностях Павел сохранил до могилы, постоянный лишь в своем непостоянстве. В этом одна из причин того, что, став императором, он имел так много врагов и так мало доброжелателей… С детских лет будущего государя отличала повышенная внушаемость, зависимость от чужих мнений. Несмотря на теплые чувства к своему воспитателю Порошину, он, чутким ухом уловив неодобрительные шепотки в его адрес, тут же изменил отношение к «милому Сенюшке», демонстрируя подчеркнутую холодность и невнимание. Точно так же поступал он и в зрелом возрасте. Но то, что извинительно для ребенка, заслуживает осуждения во взрослом мужчине. И здесь мы подошли к главному в характере Павла: его укоренившейся инфантильности, «детскости»; он так никогда и не стал взрослым, не научился обуздывать свои мимолетные порывы и капризы, страдая чисто детской нетерпеливостью. Может быть, причина этого в том, что мать, считавшая сына совершенно неспособным, не допускала его ни к каким серьезным делам, до сорока лет удерживая на положении недоросля. Искренним ли было ее убеждение, или за ним скрывалось опасение соперничества – вопрос иного порядка… Окружающие подмечали в цесаревиче странную черту: он всегда спешил, как будто боялся куда-то опоздать. Боялся до слез, до истерики. Утром – проспать, вечером – поздно лечь. Ему постоянно хотелось ускорить время: как можно раньше встать, как можно раньше позавтракать, пообедать и поужинать, чтобы поскорее лечь спать. Малейшие задержки со стороны придворных лакеев заставляли его изобретать для них какие-то сложные и пока еще умозрительные системы наказаний и штрафов. Вот характерная запись в дневнике от б апреля 1765 г.: «Встал (Павел. – Л. И.) в исходе седьмого…Считал, в которых часах прежде сего за кушаньями посылывали. Говорил перед тем все о штрафах, и я бранил его за то. Avec les meilleures intentions du mond vous vous ferez hair, monseigneur. (С самыми благими намерениями вы возбудите ненависть к себе, ваше высочество)». Эти слова оказались пророческими. Мелочными придирками и несоразмерными наказаниями за ничтожные отступления от установленных им порядков император постепенно вызвал в запуганных подданных такую ненависть, что весть о его смерти они встретили как праздник. Что может быть ужаснее для монарха, всю жизнь стремившегося быть любимым? О павловском царствовании писали многие жившие тогда очевидцы. Но пожалуй, никто не дал столь яркую и убедительную картину тех достопамятных для России лет, как А.М. Тургенев. Из рода Тургеневых Дворянский род Тургеневых ведет свое начало с XV века, однако по-настоящему знаменитых людей он дал немного: кроме писателя И.С. Тургенева да деятелей пушкинской поры – братьев Александра, Сергея и Николая Тургеневых, человеку неподготовленному трудно назвать кого-нибудь еще. Более пристальный взгляд на историю рода позволяет обнаружить в числе многих воевод и служилых людей «знатного старого воина и киевского полковника» Якова Федоровича Тургенева, обращенного в шуты (его «парсуну» можно видеть в Русском музее) и павшего в смертельной схватке с «Ивашкой Хмельницким» на потеху юному государю Петру I, а также дьяка Семена Яковлевича Тургенева, вынужденного изображать то Бахуса на свадьбе князя-папы, то Нептуна на маскараде по случаю заключения Ништадтского мира. Впрочем, вряд ли эти несчастные жертвы жестоких обычаев своего времени могли служить предметом особой гордости для грядущих поколений сородичей. Однако в том же XVIII столетии, только во второй его половине, помимо уже названных братьев Тургеневых, на свет появился еще один представитель рода, которому суждено было оставить заметный след в отечественной мемуарной литературе. Известность он приобрел в качестве автора чрезвычайно интересных воспоминаний, вдобавок написанных мастерским пером. По своему живому, образному языку они превосходят большинство произведений в этом жанре, и их можно поставить в один ряд с «Записками» Ф.Ф. Вигеля и Н.И. Греча. Александр Михайлович Тургенев (1772–1862) прожил долгую и не бесполезную жизнь, исполненную трудов и треволнений. Родился он в Москве, в старинном родовом особняке, принадлежавшем его фамилии более двух сотен лет. В 1786 году мы находим юношу, скорее даже отрока, на действительной службе, в звании унтер-офицера Конногвардейского полка. Хотя дальнейшая служба Александра Михайловича продолжалась более сорока лет и закончилась уже при Николае I, в своих воспоминаниях он чаще всего обращается к екатерининскому и павловскому царствованиям, сравнивая и оценивая их. В последнее десятилетие во многих книгах, фильмах и пьесах в сознание читателей и зрителей настойчиво внедряется мысль о необходимости полного пересмотра личности и характеристики царствования императора Павла I, и там, где прежде ставился знак минус, предлагается поставить жирный плюс. Переоценка ценностей – вещь полезная, но не в тех случаях, когда ее производят механически, провозглашая белое черным, а черное – белым, что вообще очень свойственно нашему времени. Советую всем восхваляющим этого по-детски капризного, но не по-детски жестокого тирана внимательно прочитать воспоминания человека, на собственном опыте испытавшего все прелести его четырехлетнего владычества над слишком терпеливым и покорным народом. Конечно, к тиранам и деспотам России не привыкать, однако тогда эпоха какого-никакого, но все же «просвещенного абсолютизма» Екатерины II сменилась полнейшим и грубейшим произволом. Отношение императора Павла к своей стране и народу, на мой взгляд, довольно точно определил Ф.Ф. Вигель: «Ему казалось, что по воле Высшего Владыки мир размежеван на участки между земными владетелями и что Россия, как поместье, ему досталась в удел. Он видел в себе одного из больших вассалов самого Бога, но не только народу и потомству, ниже ему самому он не обязан никакою ответственностью… Павел Первый всегда отделял себя от народа и земли, в коих просто видел собственность». Порой даже в не очень значительных, совершенно анекдотических эпизодах, как в капле воды, отражается вся суть павловского царствования. Предоставляю слово самому А.М. Тургеневу, поведавшему о нем в своих воспоминаниях: «Бригадир Афанасий Павлович Игнатьев уехал или, лучше сказать, бежал от супруги своей Анны Александровны, рожденной Волковой. В Киеве Игнатьев, где его не знали, назвал себя вдовцом и вступил во второй брак с дочерью генерал-лейтенанта Нилуса. Года чрез полтора первая супруга Игнатьева узнала о втором бракосочетании дражайшаго супруга в Киеве и подала прошение. Резолюция последовала такого содержания: бригадира Игнатьева привесть из Киева в Москву и велеть ему жить по-прежнему с первой женою, а второй его жене велеть быть по-прежнему девицей Нилус. Начало сего повеления относительно первой жены было исполнено во всей его силе, Игнатьева привезли в Москву, приказали жить вместе с первою женою, он и жил. Но заключение повеления о второй жене Игнатьева, г-же Нилус, не могло никак быть приведено в исполнение, и сама г-жа Нилус, при всей готовности и желании, не могла исполнить его. Нижегородского драгунского полка офицер был по ошибке за смертию выключен из службы. Но как он был жив, а не мертв, то и просил шефа полка снабдить его свидетельством в том, что он, хотя и выключен за смертию из службы, но жив, а не мертв. Шеф полка отказался выдать ему свидетельство, что он живой, а не мертвец, отзываясь, что за силою (помянутаго выше) приказа он не смеет утверждать, что он жив. Офицер был поставлен в такое положение, в каком никто из смертных не был от сотворения перваго человека. Ему нигде не было места в пространной России, он был лишен имени, всего имущества и кто бы стал ему верить в том, что он за смертию выключен из службы. Подал прошение, умоляя о повелении его, живого, считать живым, а не мертвым. Резолюция на прошение последовала такого содержания: исключенному поручику за смертию из службы, просившему принять его опять в службу, потому что жив, а не умер, отказывается по той же самой причине». Такова была в представлении государя сила бумажного документа и монаршей десницы: несуществующий поручик Киже мог жить на бумаге и быстро продвигаться по службе, мужняя жена по мановению властелина могла снова стать девицей, а живой человек, угодивший, опять же на бумаге, в мертвецы, уже не мог воскреснуть. Призрачный мир бюрократических фантазий! Невольно возникает ощущение, что Павел не воспринимал своих подданных в качестве одушевленных существ, обладающих собственной волей и разумом, а смотрел на них как на игрушечных солдатиков, которыми можно распоряжаться, повинуясь мимолетной прихоти. Ни за что ни про что он сажает георгиевского кавалера, наказного атамана Матвея Платова, в Петропавловскую крепость, где тот содержится в нечеловеческих условиях, потом столь же неожиданно «прощает» его и приказывает во главе Донского войска предпринять совершенно бесполезный, изнурительный поход на Индию, в результате чего бессмысленно погибло множество казаков. Лишь смерть злополучного фантазера позволила казачьему войску возвратиться назад. Что касается несправедливых, совершенно несоразмерных вине наказаний, то здесь императору Павлу нет равных. «Я, – рассказывает А.М. Тургенев, – смею сказать, ежедневно был соглядатаем бедствия, страдания, несчастия; не проходило дня, в который фельдъегеря не провозили бы кого-либо в ссылку в Сибирь, в заточение в крепость, в каторжную, в крепостную работу, в безызвестные. О безызвестных потребно объяснение: безызвестного везли в закрытой кибитке, зашитой рогожами, как тюки товарные обшивают, отправляя на ярмарку; чрез маленький прорез в рогоже в подвижной тюрьме заключенному подавали фунт хлеба и давали пить раз или два в сутки; утоление жажды несчастнаго зависело от милосердия и сострадания господина фельдъегеря, его сопровождавшаго; в средине кибитки было небольшое отверстие для необходимой естественной надобности. Сопровождавший фельдъегерь не знал, кого везет, не видал арестанта; ему сдавали его зашитаго уже в кибитке. Под смертною казнию фельдъегерю запрещалось говорить с заключенным, равно как отвечать на все его вопросы. Коменданту крепости, в которой было назначено содержать арестанта, предписывали содержать его в секретном номере; инструкциею комендантам крепостей, единожды навсегда к исполнению данной, было запрещено спрашивать таковых арестантов, кто они, было запрещено отвечать на их вопросы; их заключали в мрачный номер каземата, в который свет проходил чрез маленькое, вершка 3 в квадрате, окошко сверху. При водворении в сию могилу, на живого мертвеца надевали длинную рубашку; пищу и питье для продления его мучений подавали в прорезанное отверстие в двери; пища состояла из 2 фунтов хлеба, горшочка щей и кружки с водою; по употреблении пищи, горшок, в котором были щи, служил заключенному ватерклозетом. По наполнении его, равно как и опорожненную кружку, в которой была вода, арестанту знаками было показано ставить на полку, приделанную к отверстию; языка для арестанта в мире не было, все люди для него были немы. Если арестант оставлял принесенную пищу и воду на полке, тогда раздаватель пищи рапортовал коменданту. Комендант приходил освидетельствовать арестанта, узнать, жив ли он, но также не смел с ним разговаривать или выслушивать его прошения. Однако же о приключившейся болезни заключенному, равно и о прекращении его жизни, рапортовали по команде, означая несчастнаго цифрой номера, в котором содержался». В стране, где законов нет или они безмолвствуют, естественным образом воцаряется беззаконие. Именно об этом недвусмысленно свидетельствуют «Записки» Александра Михайловича Тургенева. Время доказало правильность его выводов. Служил России честно Среди неисчислимой массы французских эмигрантов, наводнивших после революции 1789 года пределы Российской империи, попадалось немало проходимцев и авантюристов всех мастей, выдававших себя за графов и маркизов, на самом же деле бежавших от справедливого возмездия за уголовные преступления, совершенные у себя на родине. Но наряду с этими отщепенцами встречались и подлинные аристократы, люди чести, вынужденные покинуть родину по политическим соображениям. К последним относился граф Ланжерон, чье полное имя и титулы заняли бы несколько строчек, а потому мы их опустим и в дальнейшем будем называть его просто Александром Федоровичем, как окрестили его в России. А.Ф. Ланжерон Родился он в 1763 году в Париже, а умер в 1831 году в Петербурге, во время холерной эпидемии. Более половины жизни посвятил военной службе, которую начал шестнадцатилетним юношей в должности подпоручика французской армии, а закончил генералом от инфантерии. С 1790 года Ланжерон находился на русской службе, отлично проявив себя во многих боях и сражениях, командовал полком, а позднее – корпусом. При императоре Павле он принял российское подданство. Ему довелось иметь дело со всеми выдающимися военачальниками своего времени, он знал русскую армию, так сказать, изнутри, сумел понять и оценить непревзойденные качества русского солдата, хотя отнюдь не закрывал глаза на недостатки, даже пороки отечественной военной машины. Обо всем этом он поведал в записках, опубликованных более ста лет назад в журнале «Русская старина» под названием «Русская армия в год смерти Екатерины II». К своим наблюдениям и заключениям, относившимся к 1796 году, граф позднее возвращался, дополняя их новыми замечаниями и комментариями, порой весьма отличными от прежних. Записки Ланжерона начинаются с парадоксального на первый взгляд утверждения: по своему составу и господствующим в ней злоупотреблениям русская армия должна была бы быть худшей в Европе, а между тем она является одной из лучших. Далее он логично и последовательно развивает свою мысль. Взять хотя бы систему принудительных рекрутских наборов в армию. Каждая губерния поставляла новобранцев в зависимости от численности своего населения, а каждый помещик – сообразно числу принадлежавших ему крепостных. Из этого следует первый неопровержимый вывод: так как рекрута у помещика забирали навсегда и таким образом уменьшали его доход, то вполне понятно, что владелец старался отдать самого худшего. Если среди подвластных ему крестьян или дворовых слуг встречался неисправимый вор, то он отсылал именно его, а за неимением вора отдавал пьяницу или лентяя. Наконец, если среди его крепостных – что само по себе почти невероятно – были одни лишь честные люди, то всегда выбирался самый слабосильный. «Когда полковой командир, – рассуждает далее Ланжерон, – получает человека маленькаго роста, некрасиваго и слабосильнаго, то можно надеяться, что это честный человек; но если он получает красиваго, высокаго и сильнаго, то это наверняка негодяй». Если рассмотреть нынешний порядок комплектования российской армии по так называемому «остаточному принципу», то, как говорится, есть над чем задуматься… Как и теперь, в армии процветало воровство, в особенности среди интендантских чиновников: «В России существуют две комиссии, учрежденные для снабжения войск: одна провиантом, другая обмундированием. Смею сказать, что вообще никогда не существовало и нигде не существует более наглых мошенников, чем чиновники этих комиссий, и то, что они воруют ежегодно у казны, невозможно исчислить…Быстро наживаемыя ими громадный состояния должны были бы открыть глаза правительству; но мне кажется, что оно в этом отношении ослеплено или желает быть таковым потому, что хотя я и видел многих из этих бездельников отданными под суд, но ни одного из них не видал наказанным». Другой неизлечимой болезнью, унаследованной потомками, можно смело назвать чрезмерную бюрократизацию армейского делопроизводства, как, впрочем, и гражданского: «Самый мрачный лабиринт канцелярии самаго занятаго прокурора не совмещает в себе более переписки и не скрывает в себе столько мошенничества, как канцелярия русскаго полка, где тридцать писарей заняты день и ночь. Независимо от дневных приказов, из которых ни один не отдается словесно, а записывается по приказанию полкова-го командира в книгу, откуда снимаются копии для всех рот, есть еще 13 книг, рассылаемых военною коллегиею за ее печатью и скрепленных ею по листам. Одна из этих книг предназначена для записывания жалованья, другая – провианта, третья для казначейства и пр.; в них записываются приход и расход всякаго предмета и два раза в год все офицеры подписывают их в удостоверение того, что все было доставлено и израсходовано правильно». Казалось бы, при таком строжайшем учете невозможно украсть даже копейку, однако воровали сотнями тысяч, умудряясь почти всегда выходить сухими из воды. Это также не обошел вниманием наблюдательный рассказчик, отметив, что «не существует страны, в которой было бы столько предосторожностей против злоупотреблений, как в России, и ни одной, где бы их столько совершалось». И этот накопленный многими поколениями опыт не пропал втуне и активно используется по сию пору. К числу пороков, процветавших в тогдашней военной среде, Ланжерон относит также повальное увлечение картами, считая это серьезной проблемой, подтачивавшей моральные устои всего офицерского сословия: «Карточная игра и проистекающая от нее безнравственность являются истинными недугами русских офицеров. Карты составляют их единственное времяпрепровождение, а фараон (азартная карточная игра. – Л. И.) их величайшее наслаждение; тщетно самые благоразумные начальники и самые строгие полковые командиры пытались остановить это безумие, они не имели успеха…С раздачею жалованья начинается бешеная игра; по истечении 24 часов деньги одной половины офицеров поступают в собственность другой, иногда же все жалованье переходит к кому-нибудь одному. Когда не имеют уже более денег, играют на слово: продают лошадей, посуду, экипажи, рубашки; выдают векселя, передают их за полцены, уступают даже за четверть стоимости. Все это часто совершается с такою неприличною грубостию, видеть которую можно лишь со стыдом и прискорбием». Среди распространенных в ту пору служебных злоупотреблений, процветающих и в современной армии, было использование офицерами подчиненных им солдат не по их прямому назначению, а в своих личных, корыстных целях. «Офицеры и в особенности полковые командиры подают пагубный пример, употребляя… столько солдат, сколько пожелают, на своих конюшнях, кухнях и в своих прихожих». Кроме того, командиры, как правило, в течение нескольких месяцев скрывали смерть или побег своих солдат, чтобы пользоваться их жалованьем. В результате этих и прочих безобразий в полках постоянно не хватало до четверти личного состава; чтобы покрыть недостачу, командиры прибегали к одному испытанному приему, о котором Александр Федорович также не счел нужным умолчать: «Первое сражение, даваемое русскими в какую бы то ни было войну, на бумаге и по донесениям полковых командиров бывает очень кровопролитным. Обыкновенно все люди и лошади, недостающие до комплекта, показываются в них убитыми. То же самое происходит с порохом и пулями; а так как полковым командирам возмещается все, что, по их утверждению, они выпустили, то полк, не видавший в деле даже огня, оказывается истощившим все свои заряды и потерявшим много людей». И все же, несмотря на все недостатки, которых Ланжерон называет гораздо больше, чем мы привели, русская армия, как уже было сказано, не имела равных в Европе. В чем же заключалась ее сила? На этот вопрос сам автор отвечает так: «Русский солдат приписывает сие Николаю Угоднику, а я приписываю русскому солдату!.. Воздержный как испанец, терпеливый как чех, гордый как англичанин, неустрашимый как швед, восприимчивый к порывам и вдохновению наподобие французов, валлонов и венгерцев, он совмещает в себе все качества, который образуют хорошаго солдата и героя…Его сила происходит от чувства чести, от воодушевления, от национального самолюбия, качества столь драгоценного и столь электризующего, каким ни один солдат не обладает в столь высокой степени, как русский. Покойный прусский король (имеется в виду Фридрих II. – А. И.), знавший толк в военном деле, говорил о русских: „Их гораздо легче убить, чем победить, и, когда их уже убили, их надо еще повалить"». Будем надеяться, что русская армия не растеряла и не растеряет этих драгоценных качеств, и если она унаследовала от своих предков многое дурное, то в не меньшей степени унаследовала и хорошее! Классик мемуарного жанра Во всяком литературном жанре, в том числе и мемуарном, есть классики, оставившие в нем свой неизгладимый след. Из отечественных авторов, принадлежащих к XVIII веку, это, несомненно, Андрей Болотов, а из иностранных – камер-юнкер Ф.-В. Берхгольц. Что касается первой половины XIX столетия, то здесь, на мой взгляд, при всем множестве писавших о том времени все же заметно выделяется Ф.Ф. Вигель со своими знаменитыми «Записками». Они впечатляют как солидным объемом, так и огромным охватом описываемых лиц и событий. Сотни людей уместились в необыкновенной памяти рассказчика, дающего то подробные характеристики с детальной прорисовкой мельчайших черт, то беглые портретные зарисовки всего в несколько слов, часто резкие и злые, как позорные клейма. Это своеобразная галерея современников, начиная с 1790-х и кончая 1820-ми годами. Чтобы оценить степень объективности автора, которому присуща памфлетная заостренность, даже карикатурность в изображениях, важно знать свойства его личности. По этой причине нелишним будет сказать несколько слов о Ф.Ф. Вигеле (1786–1856), чьи воспоминания после долгих лет замалчивания дождались наконец переиздания в полном, а не в урезанном виде. Отец его, из обрусевших шведов, принадлежал к высшей чиновничьей прослойке и в разное время занимал посты киевского коменданта и пензенского губернатора. Не жалея сил и средств, он постарался дать своим детям лучшее образование, какое только было для них возможно, но из всех многочисленных братьев и сестер одному Филиппу удалось добиться известности. Его жизнь не изобиловала особенными событиями. Большую ее часть он провел на государственной службе, сначала в Министерстве иностранных, а позднее внутренних дел. Из-за своего неуживчивого, тяжелого характера часто ссорился с начальством и сослуживцами, переходя с одного места на другое, но в конце концов достиг довольно высокого положения и вышел в отставку в 1840 году в чине тайного советника. Филипп Филиппович любил описывать тех, с кем сталкивался, но его самого описал, пожалуй, лишь талантливый французский писатель Ипполит Оже, познакомившийся с ним около 1815 года: «Вигелю было тогда лет тридцать. С первого взгляда он не поражал благородством осанки и тою изящною образованностью, которою отличались русские дворяне…Круглое лицо с выдающимися скулами заканчивалось острым подбородком; рот маленький, с ярко-красными губами, которые имели привычку стягиваться в улыбку и тогда становились похожи на круглую вишенку…Речь его отличалась особым характером: она обильно пересыпалась удачными выражениями, легкими стишками, анекдотами, и все это, с утонченностью выражения и щеголеватостью языка, придавало невыразимую прелесть его разговору». Ф.Ф. Вигель Обладая острым умом, поразительной памятью и особой восприимчивостью к любым, в том числе и дурным влияниям, он рано вкусил сладость запретного плода, что имело для него роковые последствия. Некий француз-эмигрант, приставленный в качестве гувернера к сыновьям князя С.Ф. Голицына, с которыми в отроческом возрасте в течение года воспитывался Филипп, судя по собственному признанию последнего, а точнее – прозрачному намеку, развратил мальчика, привив ему противоестественные вкусы. Нужно учесть, что в семье Вигеля царили строгие, пуританские нравы, не допускавшие ни малейших отклонений от общепринятой морали, поэтому сознание своей «греховности», по-видимому, постоянно терзало его, отравляя существование. Со временем это породило бесчисленные комплексы, проявлявшиеся в болезненной обидчивости и постоянно воспаленном самолюбии, чувствительном к малейшим, часто воображаемым уколам. Это превосходно подметил князь П.А. Вяземский, так отозвавшийся о Вигеле и о его произведении: «Автор имел замечательный природный и даже довольно образованный ум. Скажу более, – я убежден, что он имел даже и мягкое, доброе сердце; но раздражительный, щекотливый нрав его портил в нем дары природы…Способный любить и уважать достойных людей, он был злопамятен в безделицах и за безделицы. Он не прощал, если не отплатят ему тотчас же визита, если нарушат в нем права местничества, то есть посадят его за столом не на место, которое он считал подобающим чину его…Не претерпевший никогда особенного несчастья, он был несчастлив сам по себе и сам от себя. Можно сказать, что при обстоятельствах довольно благоприятных, он болезненно прошел жизнь свою, беспрестанно уязвляемый иглистыми терниями и булавками, которыми сам осыпал дорогу свою. Все это отражается в его „Записках"…» Вполне свободно он мог чувствовать себя лишь с очень умными, широко мыслящими людьми, способными понимать и прощать чужие слабости и даже пороки, такими как A. С. Пушкин, уже упомянутый П.А. Вяземский, друг юности Д.Н. Блудов или безмерно добрый и снисходительный B. А. Жуковский. Только они и еще очень немногие удостоились в «Записках» восторженных оценок. К прочим автор относился совсем иначе, не щадя даже изъянов внешности. Вот, к примеру, как он изобразил В.Л. Пушкина, дядю великого поэта, который и сам был известным в свое время стихотворцем: «Рыхлое, толстеющее туловище на жидких ногах, косое брюхо, кривой нос, лицо треугольником… а более всего редеющие волосы не с большим в тридцать лет его старообразили. К тому же беззубие увлажняло разговор его, и друзья внимали ему хотя с удовольствием, но в некотором от него отдалении. Вообще дурнота его не имела ничего отвратительного, а была только забавна». Это портрет человека, к которому автор, в сущности, благоволил, ничего не имея против него. Хуже обстояло дело с теми, кто по какой-либо причине досадил Филиппу Филипповичу, а это было совсем не трудно. В число таковых имел несчастье попасть даже добрейший, всеми уважаемый и любимый А.И. Тургенев. Может быть, именно последнее обстоятельство и стало причиной неприязни к нему Вигеля, излившего ее в следующих язвительных словах: «От него так и несло ученостью, до того он был весь ею вымазан, а этот дух в то время притягивал места и отличия; умеренное вольнодумство также было тогда в моде. Его легкомыслие, обдуманные его рассеянность и нескромность приняты за откровенность благородной души; филантропические изречения, с малолетства им вытверженные, названы выражениями высокой добродетели; самые телесные его недостатки пошли за целомудрие, и каплунный жир его за девственную свежесть. Ну просто совершенство человеческое, да и только!» Вигель часто бывает несправедлив, но столь же часто его характеристики бывают убийственно метки, в том числе и в отношении монархов, к которым, вообще говоря, Филипп Филиппович испытывал самые верноподданнические чувства. Привожу его слова о Павле, чье царствование он помнил очень хорошо: «Ему казалось, что по воле Высшего Владыки мир размежеван на участки между земными владетелями и что Россия, как поместье, досталась ему в удел. Он видел в себе одного из больших вассалов самого Бога, но не только народу и потомству, ниже ему самому не обязан он никакой ответственностью, ибо, будучи от него помазан, может действовать только по его внушениям…В людях видел он бесчувственных автоматов, движимых единою его волею, и как будто тешился тем, что беспрестанно может изгонять их и призывать, карать и миловать, возвышать и низвергать, мертвить и оживлять…Равнодушный, неверный супруг, дурной сын, дурной отец и друг неблагодарный, не знаю, кем и как он мог быть любим». Вот уже более ста лет многие поколения историков, литературоведов и обычных граждан черпают сведения из такого, по-видимому, неиссякаемого источника, как «Записки» Вигеля. Источника если и не кристально чистого, то, во всяком случае, способного утолить жажду, дав то, чего не встретишь на страницах других воспоминаний. Это и делает их чрезвычайно привлекательными для читателя. Орловский уроженец, петербургский старожил Из всех столичных литераторов и журналистов 1830— 1870-х годов В.П. Бурнашев являет собой, пожалуй, наиболее странную и в то же время типичную фигуру. Родился он не то в 1809, не то в 1812 году в семье орловского вице-губернатора, происходившего из старинного подьяческого рода, и, наверное, самой судьбой уготовано ему было всю жизнь заниматься истреблением писчей бумаги. С шестнадцати лет началась его служба, вначале простым писцом в канцелярии, затем – чиновником во всевозможных министерствах. Попутно он предавался сочинительству и за сорок с лишним лет опубликовал бесчисленное множество книг и статей на самые различные темы, начиная от верноподданнических славословий в честь высочайших особ и кончая сельским хозяйством и природоведением. И это притом, что, по его собственному признанию, в детстве и юности он не получил ни правильного воспитания, ни систематического образования, находясь под тягостной опекой взбалмошной, неуравновешенной матери. По иронии судьбы в молодые годы именно Бурнашеву довелось написать немало полезных книг для детей; среди них такие всеобъемлющие издания, как «Прогулка с детьми по земному шару», «Прогулка с детьми по России», «Прогулка с детьми по Санкт-Петербургу и его окрестностям», «Библиотека детских повестей и рассказов» и множество других. Он даже заслужил похвальный отзыв такого строгого критика, как В.Г. Белинский, отметившего, что «автор обещает собою хорошего писателя для детей, возбуждает в детях чистую, а не корыстную любовь к добру». В 1850— 1860-х годах он помогал своей сестре Софье редактировать издаваемые ею детские журналы. И поныне не утратили своей ценности воспоминания В.П. Бурнашева, которыми охотно пользуются и литературоведы, и историки Петербурга. Назовем хотя бы такие, как «Четверги у Н.И. Греча», «Мое знакомство с А.Ф. Воейковым в 1830 году и его пятничные литературные собрания», «Лермонтов в рассказах его гвардейских однокашников», «Воспоминания петербургского старожила»… К сожалению, Владимир Петрович унаследовал черты материнского характера, что принесло ему в дальнейшем немало огорчений, лишив уважения и даже простого человеческого сочувствия коллег-литераторов. Терзаясь муками неудовлетворенного самолюбия и приписывая недоброжелательное отношение к себе человеческой злобе и зависти, он в то же время не мог отказаться от позоривших его связей с Третьим отделением и доносил на своих ближних, мало чем отличаясь в этом отношении от Ф.В. Булгарина и ему подобных. В 1870-х годах Бурнашев, в ту пору уже далеко не молодой человек, которому в редакциях лишь из милости время от времени давали мелкую работу, оставался усердным рассказчиком литературных и окололитературных анекдотов из давно прошедших времен. Хотя достоверностью они не отличались, все же в них можно было найти немало любопытных и забавных черт, характеризующих всем известных лиц. К примеру, большой популярностью у современников пользовался его рассказ о петербургском коменданте Павле Башуцком, известном своим простодушием. Будто бы Павел Яковлевич, направляясь однажды с докладом к императору Александру I, встретил по пути известного придворного шутника А.Л. Нарышкина, и тот с самым серьезным, озабоченным видом сообщил коменданту, что минувшей ночью шведские агенты сняли с постамента памятник Петру Великому и увезли на корабле. Расстроенный Башуцкий повинился перед царем в своем недосмотре… Старик с гордостью рассказывал о знакомствах с министрами и сенаторами, некогда с радостью принимавшими его. «А теперь и на порог не пускают», – с грустью заканчивал он. О печальной участи Владимира Петровича, пробавлявшегося на старости лет случайными заработками, один из современников вспоминал: «Добрейший, но недалекий и очень наивный, он играл в собраниях писателей незавидную роль шута, которого терпели, над остротами и анекдотами которого смеялись, но которого в то же время и остерегались, зная, что Бурнашев, уходя из собрания, тотчас же записывал каждое слово, иногда немилосердно перевирая сказанное и приписывая тому или другому писателю такое мнение или суждение, какого он никогда и не высказывал». Незадолго перед смертью старым литератором вдруг овладело странное желание: научиться играть на клавесине. Чтобы осуществить эту мечту, он два года откладывал из своих скудных заработков сэкономленные копейки на покупку заветного инструмента. К величайшему огорчению и даже отчаянию, в один далеко не прекрасный для него день Бурнашев вдруг узнал, что владелец облюбованного им сокровища не хочет больше ждать и собирается продать инструмент другому покупателю. «Семнадцать рублей собрал, без обеда сидел, черным хлебом питался, и все впустую!» – со слезами на глазах жаловался Владимир Петрович всем знакомым. Клавесин стоил 43 рубля. Тронутые его неподдельным горем слушатели, по инициативе Н.С. Лескова, решили сделать ему подарок. Они немедленно объявили подписку и собрали недостающие деньги. Осчастливленный старик пришел в неописуемый восторг и в самом деле начал учиться игре на клавесине, забросив ради этого даже те немногие литературные заказы, какие имел тогда на руках. Лет за десять до того поэт Д.И. Минаев посвятил Бурнашеву следующий экспромт: Придет пора, и ты, как все, умрешь, Но смерть твоя не даст газетам пищи, И гроба твоего на городском кладбище Не окружит печально молодежь… И все же не следует забывать того полезного и заслуживающего внимания, что было написано Бурнашевым за долгие годы его литературной деятельности. После него остались целые груды ненапечатанных рукописей. Некоторые из его книг, несомненно, заслуживают переиздания, например «Прогулка с детьми по Санкт-Петербургу и его окрестностям», вышедшая в свет под псевдонимом В. Бурьянов в 1838 году, или многочисленные воспоминания, тесно связанные с Петербургом, где Владимир Петрович провел большую часть своей длинной жизни. И тогда окажется, что прожил он ее не зря. Шесть месяцев, которые не потрясли мир Весной 1826 года французский король Людовик XVIII отправил в Россию чрезвычайное посольство для принесения поздравлений вступившему на трон императору Николаю L На должность посольского секретаря был назначен известный и даже знаменитый некогда поэт и драматург Жак Ансело (1794–1854), написавший к тому времени несколько трагедий роялистского толка, а наряду с этим ряд пользовавшихся большим успехом водевилей. Пожалованный королем во дворянство и облагодетельствованный им пожизненной (как он думал тогда) пенсией, Ансело поневоле оказался вынужденным принять на себя обязанности официального «барда», подвергнувшись насмешкам либеральных газетчиков. Более приятной казалась ему миссия бытописателя незнакомого, «полуварварского народа», каким слыли тогда русские. Ж. Ансело 7 мая 1826 года французское посольство прибыло в Петербург. За три дня до этого скончалась императрица Елизавета Алексеевна, что заставило отложить коронационные торжества на несколько месяцев; они состоялись лишь в августе. Непредвиденные обстоятельства позволили Ансело провести в России больше времени, чем он рассчитывал, и французский литератор употребил его на ознакомление с жизнью в Северной столице. К весне следующего, 1827 года он успел написать и выпустить в свет книгу под названием «Шесть месяцев в России». Хотя драматическая история восшествия на престол императора Николая Павловича изложена в ней в официозном духе, в остальном записки Ансело панегирическими не назовешь: в них слышатся отдаленные раскаты того грома, который грянул шестнадцать лет спустя, после появления книги другого француза, маркиза де Кюстина. Написаны они в традиционной форме писем к другу. Поставив своей целью не просто описать обычаи и нравы совершенно чуждого ему народа, но и проникнуть в его душу, легкомысленный, как многие из его соотечественников, француз взялся за явно непосильное для себя дело, хотя кое-какие его наблюдения заслуживают внимания. Для экономии времени он прибегнул к оригинальному приему, дословно позаимствовав описания архитектурных памятников и некоторых народных обрядов из выходившего в ту пору произведения историка П.П. Свиньина «Достопамятности Петербурга и его окрестностей», – благо тот был снабжен параллельным переводом на французский язык! Книга Ансело имела успех: она моментально разошлась, вышла вторым изданием и была переведена на несколько европейских языков, вызвав многочисленные полемические отклики как в русской, так и в иностранной печати; полное их собрание могло бы составить довольно пухлую брошюру, сопоставимую по размерам с самой книгой. Одни, вроде жившего в Париже Я.Н. Толстого, негодовали на автора за искажение действительности, другие же, вроде поэта П.А. Вяземского, советовали отнестись к его запискам как к несерьезному пустячку. Предлагаю читателям самим оценить творение Ансело по ниже публикуемым выдержкам из него. «Санкт-Петербург, 18 мая 1826 года Неужели, мой дорогой Ксавье, я действительно нахожусь за семьсот лье от родины? Движимый только желанием узнавать и сравнивать, я оторвал себя от привычной жизни и от тех, кого люблю. Забравшись в такую даль, я спрашиваю себя, достанет ли мне времени и сил, чтобы изучить нравы здешнего народа? Я прибыл в Петербург несколько дней назад и сразу обратил свой взгляд на жителей этой искусственной столицы России, однако до сих пор видел только вельмож, дворцы и казармы. Говорят, русских надо искать не здесь. В самом деле, коренные жители как бы затеряны среди ливонцев, литовцев, эстонцев, финнов и прочих инородцев, населяющих эту колонию. <…> Май 1826 года Всем известно, мой дорогой Ксавье, что русский народ – самый суеверный в мире, но, когда наблюдаешь его вблизи, поражаешься, до чего доходят внешние проявления его набожности. Русский (я говорю, разумеется, о низших классах) не может пройти мимо церкви или иконы без того, чтобы не остановиться, не снять шапку и не перекреститься десяток раз. Такая набожность, однако, отнюдь не свидетельствует о высокой морали! В церкви нередко можно услышать, как кто-нибудь благодарит святого Николая за то, что не был уличен в воровстве, а один человек, в честности которого я не могу сомневаться, рассказывал следующую историю. Некий крестьянин зарезал и ограбил женщину и ее дочь; когда на суде у него спросили, соблюдает ли он религиозные предписания и не ест ли постом скоромного, убийца перекрестился и спросил судью, как тот мог заподозрить его в подобном нечестии!.. Май 1826 года Цензоры, наделенные в Петербурге инквизиторской властью, довели науку интерпретации до последней степени совершенства…Нам рассказали, среди прочих шедевров петербургской цензуры, следующую историю: в 1813 году некий русский решил опубликовать рассказ о совершенном им за год до того путешествии во Францию. В описании памятников, нравов и обычаев не найдено было ничего предосудительного. Цензура лишь заменила в названии и по всему тексту книги Францию на Англию, ибо не мог же русский человек признаваться в том, что в такое время путешествовал по враждебной державе! За исключением этого «небольшого изменения», цензура дала разрешение на публикацию книги, которым автор, как ты легко можешь вообразить, не воспользовался. (Почему-то именно этот анекдот вызвал особое возмущение критиков Ансело, хотя подлинные выходки тогдашней цензуры недалеко ушли от вымышленных. – А. И.) Июнь 1826 года <…> Нельзя не отметить, что управление этой обширной империей требует немедленных и значительных улучшений. Например, жалованье чиновников, совершенно не сопоставимое с их потребностями, делает лихоимство почти повсеместным. Как может правительство наказывать взяточников, когда оно не дает своим служащим достаточных средств к существованию? Размер жалованья был установлен для различных чинов при Екатерине и не менялся с тех пор. Однако тогда рубль стоил четыре франка, теперь же равняется одному. Таким образом, чиновник, получавший тысячу рублей в год, при том что и все необходимые предметы стоили дешевле, реально располагал доходом вчетверо большим, чем сегодня. Будем надеяться, что император Николай I, уже обнаруживший благородные намерения, обратит свой внимательный взгляд на эту важную область правления. Здесь говорят, что страшные злоупотребления заставили правительство начать серьезное расследование…» Сколько еще таких «серьезных расследований» предстоит пережить бесчисленным поколениям россиян! «<…> Но вернемся к крепостным крестьянам. Эти люди ощущают всю тяжесть своего положения, и слово „свобода" звучит подчас в их жалких деревянных хижинах. Но как же понимают они свободу? Они воображают, что, разбив цепи их рабства, государь дарует им также и участки земли, которые возделывали еще их предки и на которых они трудятся по сей день. Они привыкли считать своими эти поля, где покоятся их отцы и где родились их дети. Для них быть свободными означает обладать. Будет нелегко объяснить им, что император не может отобрать у их господ принадлежащие им наделы, хотя это нисколько не препятствует их освобождению. Если же указ монарха отнял бы у дворян абсолютную власть над крестьянами, дарованную им Борисом Годуновым, то помещики, владеющие плодородными землями, нисколько не пострадали бы от этой меры, получив батраков вместо крепостных, и доходы их, возможно, даже увеличились бы. Но те, чьи угодья плохо поддаются обработке, разорились бы, ибо, обладая землей без людей, они оказались бы лишены своего единственного состояния, так как все их богатство складывается из оброка, который принадлежащие им крестьяне платят с отхожих промыслов». Забавно, что новоиспеченный французский дворянин Ансело старается войти в положение русских помещиков, не мысливших своего существования без дарового труда. «…Русское дворянство разделено на четырнадцать классов, каждый из которых приравнен к определенному военному рангу. Четырнадцатый соответствует чину прапорщика, и так до первого, соответствующего фельдмаршалу. Это уподобление, которого не избегают даже женщины, занимающие придворные должности (фрейлины имеют, как я понимаю, чин капитана), создает довольно странную картину: все дворянство превращено как бы в огромный полк, а империя – в большую казарму». Здесь в Ансело явно дает о себе знать автор водевилей: если поверить во фрейлин-капитанов, то почему бы не поверить и в пресловутую «развесистую клюкву»? Впрочем, помимо подобных ляпсусов, в суждениях иностранных гостей о России было и много справедливого. Продолжавшее существовать рабство накладывало сильный отпечаток не только на политическую систему, но и на отношения между людьми. Боязнь искренних суждений, уже отмечавшаяся робость перед «начальством», непререкаемый авторитет власти остались теми же, что и прежде. Вот лишь одна характерная деталь, обращавшая на себя внимание иностранцев, посетивших Петербург в 1820— 1830-х годах: почти полная тишина во время самых многолюдных общественных гуляний. При желании можно было видеть в этом торжество порядка, но на людей непривычных такое тихое веселье производило довольно тягостное впечатление. Маркиз де Кюстин сравнил его с «шествием каторжников», Ансело же выразился мягче: «Они серьезны и молчаливы, и иностранца, тем более парижанина, поражает царящая на променадах тишина: кажется, что гуляющие совершают моцион, прописанный им врачом». У николаевского режима были как хулители (в основном из иноземцев), так и восторженные хвалители – почти исключительно русские подданные. К пламенным певцам «патриархального деспотизма» относился, например, небезызвестный барон М.А. Корф. По накатанной колее Из лицеистов первого выпуска наибольшей известности, помимо А.С. Пушкина, добились канцлер А.М. Горчаков и барон, впоследствии граф М.А. Корф (1800–1876). Вместе с М.М. Сперанским он работал над составлением свода законов, был государственным секретарем, позднее – членом Государственного совета, заведовал Департаментом законов, а с 1849 по 1861 год с большой пользой для дела возглавлял Публичную библиотеку. Корф оставил после себя недавно переизданные «Записки» и отрывки из «Дневника». Они производят двойственное впечатление: в них есть немало метких характеристик и интересных наблюдений, но много и такого, что современному читателю принять трудно… В одной из записей за 1838 год М.А. Корф, словно стремясь оправдать данное ему при крещении имя Модест (что по-латыни означает «скромный»), с заметным оттенком самолюбования выражает недоумение по поводу своих чрезвычайных служебных успехов: «Каким образом сделал я свою, можно сказать, блистательную карьеру?.. Это для меня вопрос неразрешимый». В подтверждение загадочности превращения невзрачной гусеницы в прекрасную бабочку Модест Андреевич указывает на довольно поверхностное образование, полученное им в Царскосельском лицее, а вдобавок почти полное отсутствие протекции и полезных знакомств. М.А. Корф «Начав службу в половине 1817 года… с обязанностей простого писца, и притом на 17-м году от роду, – продолжает Корф, – я через шесть лет был уже начальником отделения, а меньше чем через четырнадцать управляющим делами Комитета министров, камергером и в трех орденах…Теперь не минуло еще 21 года моей службы, нет мне еще 38 лет от роду, а я… при звании статс-секретаря, состою уже более года в чине тайного советника и имею две звезды… И как все это сделалось, без особых достоинств и связей?» – с затаенным торжеством опять вопрошает он. Попутно Модест Андреевич отмечает неизменное расположение к нему начальников, на что конечно же имелись веские причины. Думается, что, говоря об отсутствии «особых достоинств», Корф лукавит, кокетничает с самим собой, превосходно зная свои способности, к коим прежде всего следует отнести исполнительность и завидное трудолюбие. Однако правда и то, что обладание ими еще не гарантировало успешной карьеры. Чтобы добиться этого, нужны были и другие качества, а главное – благосклонность государя Николая Павловича. И это Модесту Андреевичу удалось в полной мере. На мой взгляд, причина необычайного возвышения барона М.А. Корфа в том, что он всегда шел в ногу со временем, не убыстряя шаг, но и не замедляя, не выбивался из строя, не пытался переделать мир, следовал установленным обычаям и устоявшимся мнениям. Эти драгоценные свойства надежно оберегали его от пресловутых «увлечений юности», помогая благополучно миновать все препятствия. Примечательный факт: в детстве Модест при отмечавшейся лицейскими воспитателями «чувствительности» и «кротости» был ядовит и саркастичен, за что даже получил от товарищей прозвище Мордан (от фр. mordant – колкий, язвительный). Но одновременно имел и другую кличку — Дьячок, за пристрастие к чтению религиозных и душеспасительных книг. К этим противоречивым чертам характера добавлялось крайнее тщеславие, находившее оправдание в несомненных природных дарованиях. Со временем оно переросло в громадное честолюбие, которое в конечном итоге и определяло все поступки барона. Интересно сравнить судьбу Корфа с судьбами его соучеников, в первую очередь Пушкина, Кюхельбекера, Пущина. Пока они, «свободою горя», увлекались благородными порывами, расплачиваясь за них дорогою ценой, Модест Андреевич скользил по гладко накатанной бюрократической колее, никогда не ссорясь с начальством и не допуская ни малейшего своеволия. Как человек умный, он, разумеется, видел многие изъяны государственной машины, но ему никогда и в голову не приходило восставать против них, публично выказывая недовольство властями. Можно касаться отдельных личностей, но нельзя подвергать сомнению устои. В этом отношении он вполне разделял взгляды чиновничьей верхушки. Другой примечательный факт: из всех лицеистов первого выпуска один Корф сделал столь блистательную карьеру в николаевское время (А.М. Горчаков выдвинулся уже при Александре II). Модест Андреевич чувствовал себя в нем как рыба в воде, он был одушевлен верноподданническим ражем! На страницах его «Записок» поминутно наталкиваешься на приторные славословия обожаемому монарху, которого автор величает «рыцарем». Здесь обычно сдержанному и хладнокровному Корфу явно изменяет чувство меры. Приведу маленький отрывок, где речь идет о манифесте Николая I в связи с революцией 1848 года во Франции. Проект этого документа ввиду важности события был написан лично императором; он содержал весьма сильные выражения и угрожал взбунтовавшимся французам войной. Сам Корф подготовил куда более умеренный вариант манифеста, но царь, даже не полюбопытствовав на него взглянуть, приступил к чтению собственного проекта. «Когда государь кончил, я бросился к его руке, но он не допустил и обнял меня. „Какое счастье, какое благословение неба, – вскричал я, – что в эти страшные минуты Россия имеет вас, государь, вас, с вашей энергией, с вашей душой, с вашей любовью к нам!“» Право же, как будто читаешь плохой роман… Впрочем, причина такого неумеренного поклонения человеку, чьи личные качества и государственные таланты, мягко говоря, весьма неоднозначны, очевидно, кроется в том простом факте, что «Записки» Корфа не являются в полном смысле слова воспоминаниями. Это лишь материалы для написания порученной ему истории царствования Николая I, и предназначались они в первую очередь для Александра II, что, естественно, наложило на них свой отпечаток. Читая их, педантично точный государь уснастил авторский текст исправлениями и примечаниями. Иногда, словно вопреки воле самого автора, в его «Записках» прорывается правда жизни, как, например, в эпизоде с отставкой А.А. Закревского с поста министра внутренних дел после так называемого холерного бунта на Сенной в 1831 году. Однако гораздо чаще встречаются поразительные по своей холопской сущности описания, хотя, по замыслу автора, они должны были вызывать сочувственный восторг. Представляю читателям некоторые перлы корфовского красноречия. Вот как выглядели в его изображении торжества по случаю бракосочетания великого князя Константина Николаевича: «Разумеется, что в огромном стечении народа и перед дворцом, и целый день на улицах, участвовало отчасти и любопытство; но все же в ту пору судорожного распадения Европы зрелище этой державы, которая одна устояла неподвижно и неизменно в своих основах, этого народа, везде, толпой, с прежними криками радости и почти богопочтения устремлявшегося на сретенье своему царю; этой иллюминации, зажженной не в честь революционных завоеваний, а на радость царственную, хотя бы то было и по приказанию полиции (наивно откровенное замечание! – Л. И.); этого дивного порядка и тишины, которых ничем и ни на минуту не нарушало стечение огромных масс; наконец посреди и над всем этим того могучего морального колосса, той единицы, которой держались миллионы, лежавшие у его ног по-прежнему, – все это не могло не действовать чрезвычайно поразительно…» Эти строки писались в 1848 году. Но живи их автор на сто лет позже, он, вероятно, столь же вдохновенно воспевал бы тогдашнего владыку России: певцы патриархального деспотизма, переименованного в иные времена в культ личности, никогда не переводились в нашем отечестве. А вот другой, почти анекдотичный эпизод, уподоблявший Николая I какому-то языческому божеству: «Однажды государь воротился с пешеходной своей прогулки без мундирных фалд. Их, в полном смысле, оборвал народ, растерзав потом на тысячи кусков, чтобы каждому сохранить, для передачи из рода в род, хоть клочок этой заветной святыни. В другой раз государю, также на пешеходной прогулке, приходилось перешагнуть лужу; за ним, вокруг него, валила, как всегда, несметная толпа, и вот из среды ее продирается какой-то купец, сбрасывает со своих плеч богатую шубу и расстилает ее перед государем, прямо в грязь, чтобы батюшке-царю не замочить своих ног; но шуба эта уже не досталась владельцу обратно: народ в ту же минуту растерзал и ее, на память, что к ней прикоснулись царские стопы». Даже не верится, что эти строки писал бывший лицеист, да и просто умный, образованный человек. К немалой досаде Модеста Андреевича (узнай он об этом), сын покойного императора, Александр II, написал против сих раболепных излияний: «Это выдумка». И наконец, еще один примечательный факт: постоянно недоброжелательное отношение Корфа к Пушкину, причину которого он старался объяснить какими-то выдуманными пороками своего бывшего товарища, хотя скрепя сердце признавал его поэтический гений. Но, кажется, это вынужденное признание объясняется все тем же подчинением общепринятому мнению. Между ними лежала нравственная пропасть: в закрепощенной душе Корфа не находила отклика живая поэзия вольнолюбивых пушкинских строк. Один жил для настоящего, другой – для будущего. Свой среди чужих, чужой среди своих Должность министра всегда была трудной, в особенности же министра внутренних дел, да еще в такой бурлящей и неспокойной стране, как пореформенная Россия. Ее следовало бы даже назвать головоломной, поскольку пребывающий на ней ежеминутно рисковал лишиться головы, в том числе и в прямом смысле слова. Он подвергался критике справа и слева, его клеймили, предавали осмеянию в стихах и прозе, а в отставку он уходил, как правило, не по своей воле, вдобавок многие погибали от рук террористов. Не спасали ни ум, ни искреннее желание быть полезным: всегда получалось так, что, стремясь угодить одним, приходилось ссориться с другими, и если от первых раздавались упреки в излишнем либерализме, то от вторых – как раз наоборот. П.А. Валуев В этом смысле типичным примером может служить судьба П.А. Валуева (1815–1890), автора опубликованного «Дневника», интересного обилием нелицеприятных характеристик современников и сослуживцев. Начало его карьеры не предвещало ничего особенного; в то время будущий министр, внук екатерининского вельможи, предпочитал проводить время не за служебными занятиями, а на шумных балах. Вот как описывает появление юного Валуева на жизненной сцене один из его сверстников: «Я помню его с 1833 или 1834 года, когда он только что поступил в Москве на службу и за красивую свою наружность вместе со Скарятиным, – другим московским львом, – переведен был еще покойным императором в 1 отделение Собственной Е. И. В. канцелярии. Два новые танцора-красавца явились в обществе, а о служебных их способностях никто и не думал! Валуева, как покрасивее, порумянее, называли даже простачком, особливо когда им овладела княжна Вяземская, дочь поэта, известная своей бойкостью, своим умом и своей привлекательной дурнотою… Можно было предсказать Валуеву и Скарятину большие успехи в роде Дон-Жуановских, а государственной будущности вначале ни тот ни другой в себе не обнаруживали». Юности свойственно увлекаться; Петруша Валуев тоже пережил увлечение вольнолюбивыми беседами, охотно посещая в 1839 году так называемый «кружок шестнадцати», куда, помимо него, входило еще несколько известных в будущем людей, и в частности М.Ю. Лермонтов. В сущности, при встречах все сводилось к довольно невинным разговорам на тогдашние злобы дня, но уже сама непринужденность и свобода выражения мыслей в ту затхлую пору могли быть сочтены чем-то предосудительным и иметь для собеседников весьма неприятные последствия. К середине 1840-х годов Петр Александрович назначается чиновником особых поручений при рижском генерал-губернаторе Е.А. Головине и на долгие годы покидает Петербург. Служба его подвигалась вполне успешно: в 1852 году он получает чин действительного статского советника, а годом позже назначается курляндским гражданским губернатором. Поражение в Крымской войне ошеломило Валуева, заставив задуматься над дальнейшей судьбой России. Он пишет неизвестно кому адресованную записку со странным, несколько громоздким названием – «Дума русского во второй половине 1855 года», где излагает свой взгляд на причины глубокого упадка Российской империи. По его мнению, всему виной недоверие правительства к собственному народу, мелочная опека над мыслью, презрение к человеческой личности. Но главное – ложь, разъедающая сверху донизу все институты власти, когда на бумаге все выглядит прекрасно, а в действительности страна близка к краху. «Отделите сущность от бумажной оболочки, – пишет он, – то, что есть, от того, что кажется, и – редко где окажется прочная плодотворная почва. Сверху – блеск, а внизу – гниль». Таков неутешительный итог его рассуждений. Заклеймив прежний режим, Валуев в заключение с пафосом восклицает: «В России так легко сеять добро! Русский ум так восприимчив, русское сердце так благородно! Россия – гладкое поле, где воля правительства не встречает преград. Не скажет ли оно народу: да будет истина меж нами и не вспомнит ли красноречивых слов, сопровождавших герб одного из древних русских родов: „Уму нужен простор"!» Документ, распространявшийся в списках, дошел до великого князя Константина Николаевича, горячо его одобрившего, и, надо думать, до самого царя. П.А. Валуев сразу получил известность и признание общества, причем каждый нашел в его записке то, что хотел, и все приняли автора за своего: реформаторам он пришелся по душе требованием простора для ума, а консерваторам – верноподданническим духом. И без того успешная карьера Петра Александровича пошла еще успешнее. В 1858 году его назначают директором 2-го департамента Министерства государственных имуществу а через несколько месяцев поручают также и 3-й департамент. В ту пору министерство возглавлял далеко не либеральный М.Н. Муравьев, прозванный после беспощадного подавления им Польского восстания 1863 года Вешателем. Тем не менее они неплохо поладили, и по ходатайству начальника Валуев, ставший его правой рукой, получил ряд весьма существенных наград, в том числе и денежных. Очевидно, в знак благодарности он помогает Муравьеву и шефу жандармов князю В.А. Долгорукову в их усиленном противодействии готовившейся отмене крепостного права, составив по их указке другой, альтернативный проект реформ. Правда, это потребовало от него некоторой душевной борьбы, о чем он поведал на страницах своего дневника в записи от 7 ноября 1860 года: «Мое положение почти нестерпимо. Я связан по рукам и ногам. Я не могу вырваться на волю. Я закабален служить. А между тем быть по службе покорным редакторским орудием князя Долгорукова и генерала Муравьева – ужасная доля». 23 апреля 1861 года П.А. Валуев назначается управляющим Министерством внутренних дел, а 9 ноября того же года – министром. За время пребывания на этом посту при его ближайшем и непосредственном участии проведены две важные реформы – земская (1864) и цензурная (1865). Первая касалась введения весьма ограниченных в своих правах и возможностях органов местного самоуправления, ведавших просвещением, здравоохранением, строительством дорог и т. п. По выражению Валуева, они были призваны «дать пищу внутренней активности общества», иными словами – выпустить пар, угрожавший взрывом. Для успокоения тех, кому даже такие умеренные нововведения могли показаться чуть ли не революционными (в первую очередь – самого царя), в своей объяснительной записке Петр Александрович нашел нужным заверить, что «земское управление есть только особый орган… государственной власти и от нее получает свои права и полномочия…». Если же говорить о цензурной реформе, то он, негодовавший когда-то по поводу «опеки над мыслью» и призывавший дать «простор уму», опутал отечественную литературу и журналистику самыми стеснительными инструкциями и циркулярами. 16 мая 1865 года А.В. Никитенко заносит в свой дневник: «Литературу нашу, кажется, ожидает лютая судьба. Валуев достиг своей цели. Он забрал ее в свои руки и сделался полным ее властелином. Худшего господина она не могла получить. Сколько я могу судить, он, кажется, замыслил огромный план – уничтожить в ней всякие нехорошие поползновения и сделать вполне благонамеренною, то есть то, чего не в состоянии был сделать Николай Павлович». Но немало было и тех, кто считал принятые в отношении печати меры недостаточными, упрекая министра внутренних дел, в чьем ведении находилась цензура, в излишней снисходительности к «смутьянам». Вообще Петра Александровича со всех сторон в чем-то обвиняли: в карьеризме, угодничестве, беспринципном лавировании между сильными мира сего. Герцен уподобил его «флюгеру, направляемому ветром придворным». Но ведь при слабом и непоследовательном властителе правительство обречено страдать теми же недостатками. Нерешительное и переменчивое поведение Валуева объяснялось в первую очередь колебаниями самого монарха, чью далеко не твердую волю приходилось исполнять его министру. Он сам ясно дает понять об этом в дневниковой записи от 20 февраля 1863 года: «Слабость орудий, неповоротливость механизма, отсутствие господствующих или руководящих личностей – вот те признаки, которые меня тревожат и смущают. Сто раз в день думаю о том, что мне делать. Отделиться – я, быть может, пожертвую некоторою пользою для дела, для государя, для России. Не отделяться – я жертвую только собой, то есть своей репутацией». В итоге Валуев не вышел в отставку, «не отделился» (его отставили пять лет спустя), сознательно пожертвовав популярностью у современников. В дальнейшем он в течение нескольких лет занимал пост министра государственных имуществ, а с 1879 по 1881 – председателя Комитета министров. Александр III, в глазах которого Валуев олицетворял собой прежний, чересчур либеральный курс, положил конец его государственной деятельности. Забытый коллегами и сослуживцами, остаток жизни бывший министр посвятил литературному творчеству, сойдясь с теми, кого некогда беспощадно преследовал. Видать, ему на роду было написано вечно оставаться чужим среди своих и своим среди чужих… Bancal идет в наступление Вряд ли русское великосветское общество 1860-х годов боялось кого-нибудь из эмигрантских публицистов больше, чем князя П.В. Долгорукова (1817–1868). С замиранием сердца ожидало оно новых печатных разоблачений жестокого мстителя за свои попранные интересы, за неудавшуюся карьеру государственного мужа. С яростной беспощадностью боролся он с теми, кто растоптал его надежды на славу и успех, пуская в ход отравленное оружие, которым, как историк и генеалог, ведавший всю подноготную русской служилой аристократии, владел в совершенстве. В 1860 году, вскоре после окончательного переселения за границу, Петр Владимирович написал знаменательные слова: «Что же касается до сволочи, составляющей в Петербурге царскую дворню, пусть эта сволочь узнает, что значит не допускать до государя людей умных и способных. Этой сволочи я задам не только соли, но и перцу». Слово свое он сдержал… Вся жизнь князя Петра Владимировича, с рождения и до смерти, сопровождалась какими-то чрезвычайными происшествиями, скандалами и бесконечными «историями», так что, по-видимому, сама судьба уготовила ему роль историка русских дворянских родов. Уже одно появление на свет единственного отпрыска у доселе бездетной супружеской четы стоило жизни его матери, хотя, разумеется, прямой вины младенца здесь нет. Менее чем через год Петруша лишился также отца, оставшись круглым сиротой. Надо сказать, что незадолго до рождения маленького князя на его ближайших родственников, в особенности на мужскую их часть, как будто напал мор: в течение нескольких лет, один за другим, умерли двое его дядей, а за ними последовал и их родитель. Покойные Петр и Михаил Петровичи, братья отца П.В. Долгорукова, были людьми известными, близкими ко двору, – первый считался другом Александра I, а второй, по преданию, едва не женился на любимой сестре императора, великой княжне Екатерине Павловне, и только смерть помешала их браку. Таким образом, племяннику было на кого равняться, а уж в честолюбии и тщеславии он никак не уступал своим родным. Правда, в отличие от них, Петр Долгоруков не мог похвалиться счастливой наружностью: невысокого роста, плохо скроенный, он вдобавок прихрамывал, что дало повод светским доброжелателям прозвать его Кривоногим, по-французски (а иным языком в высшем обществе не пользовались) – Bancal. П.В. Долгоруков Мальчик воспитывался у бабушки, а в год ее смерти, когда ему едва исполнилось десять лет, был определен в Пажеский корпус. Наделенный большими способностями, учился он превосходно, удостоился назначения камер-пажом, но дурной характер давал о себе знать, и за какую-то, надо полагать, не пустячную провинность Петруша лишился почетного звания, после чего путь к придворной карьере и службе в гвардии для него оказался навсегда закрытым. По окончании в 1833 году корпуса самолюбивому юноше пришлось довольствоваться весьма скромной должностью при Министерстве народного просвещения, не сулившей блестящей будущности и успехов в свете. Оказавшись на свободе после нескольких лет заточения в закрытом учебном заведении, Долгоруков, подобно многим молодым людям своего круга, поначалу «пустился в шалости», и, по утверждению биографа, «имя его связывалось с самыми некрасивыми поступками». Появилось даже позднее оспоренное подозрение в причастности князя к сочинению анонимного пасквиля, посланного Пушкину и его друзьям. Однако уже к концу 1830-х годов Петр Долгоруков опомнился и не дал погибнуть скрытым в нем талантам. Вмешиваться в политику он тогда и не помышлял, хорошо понимая, что это, по его собственным словам, «значило обрекать себя Сибири без всякой пользы для отечества». Довольно рано он стал посвящать много времени и сил изучению генеалогии, которая ему, потомку древнего княжеского рода, казалась особенно привлекательной. Правда, впоследствии Петр Владимирович несколько иначе объяснял свой интерес именно к этой отрасли человеческих знаний: «Занятие родословными служило нам путем к познанию документов, для других недоступных, и вместе с тем против тайной полиции ширмами, за коими мы могли трудиться по русской истории и вести наши записки». По-видимому, уже тогда Долгоруков начал исподволь вооружаться порочащими сведениями о наиболее знаменитых дворянских родах, чем не преминул воспользоваться в будущих столкновениях с их представителями, неосмотрительно открывшими перед юным исследователем свои семейные архивы. Но это будет потом, намного позже. В 1839 году он приступил к составлению генеалогических заметок на французском языке, в 1840–1841 годах выпустил в свет встреченный одобрительным вниманием публики «Российский родословник», а еще через год напечатал «Сведения о роде князей Долгоруких», книгу, укрепившую его успех в обществе. Посетив в начале 1840-х годов Париж, князь был приятно удивлен оказанным ему приемом: оказывается, его имя успело приобрести известность за границей. Многие прославленные французы, по скромному признанию самого Долгорукова, «осыпали меня… ласками, тем более для меня лестными, что ласки эти мне были изъявляемы руководителями общего мнения». В такой обстановке Петр Владимирович не удержался и стал горько сетовать на то, что в России его ум и дарования не находят достойной оценки, не скрывая притязаний на высокое положение в обществе. В ответ он услышал слова, произнесенные будто бы самим Шатобрианом: «Князь! Русскому дворянству следовало бы воздвигнуть вам памятник – до вас о нем никто ничего не знал». Эта двусмысленная похвала окончательно помутила разум нашего героя, и он разыграл Хлестакова: ни с того ни с сего ему вздумалось выдавать себя перед парижскими журналистами за выразителя дум высших правительственных сфер и чуть ли не за их полномочного представителя. Упоенный мимолетным успехом и в чаянии новых, еще больших, Долгоруков совершил первый роковой шаг, повлекший за собой весьма неприятные для него последствия. В 1842 году он издал на французском языке под псевдонимом граф Альмагро брошюру под названием «Заметка о главных фамилиях России». Там, в частности, приводились данные о сомнительной нравственности царя Петра I, об участии известных аристократических фамилий в убийстве императора Павла и в заговоре декабристов. Разразился скандал. Русскому правительству очень скоро удалось выяснить, кто являлся автором злокозненного сочинения, и ему было приказано немедленно вернуться в Россию. Петр Владимирович счел за благо подчиниться. По прибытии на родину его подвергли аресту и заключению в Третьем отделении. Тогда все кончилось сравнительно благополучно, и опальный генеалог отделался ссылкой в Вятку, где поступил под присмотр губернатора. Правда, без очередной истории не обошлось: князь отказался занять предписанную ему должность, дерзко сославшись на «права и вольности дворянства». По приказанию Николая I его освидетельствовали на предмет проверки умственных способностей, но от принудительной службы все же освободили, оставив жить в Вятке под строжайшим полицейским надзором. Впрочем, уже через год ему разрешили поселиться в тульском родовом имении, а в 1852 году, после долгих ходатайств, позволили въезд в Петербург. Годы ссылки превратили Долгорукова в отъявленного диссидента и непримиримого врага николаевского режима. Внешне это никак не проявлялось: он усидчиво занимался кабинетным трудом и в 1853 году выпустил в свет первую часть «Российской родословной книги», упрочившей за ним славу выдающегося специалиста по генеалогии, но одновременно возбудившей много негодования. Например, князья Мещерские, не найдя себя на страницах книги, объясняли это местью за отказ представительницы их рода вступить с ним в брак. Воронцовы, претендовавшие на родство с угасшей боярской фамилией, заявляли, что Долгоруков требовал с них за это деньги, из чего впоследствии выросло целое дело, увы, подтвердившее справедливость обвинения. И далее в том же духе. Отношения Петра Владимировича с дворянством безнадежно испортились… Между тем умер ненавистный Долгорукову Николай I, но надежды князя на нового императора не оправдались. Попытки играть важную роль в подготовке крестьянской реформы закончились неудачей: он не попал в состав редакционных комиссий. Неуживчивый, строптивый нрав и другие малоприятные черты характера оттолкнули от него как «либеральных бюрократов», так и влиятельных придворных, не позволивших ему занять вожделенное место вблизи престола. После долгих семейных ссор и неурядиц, к разрешению коих Петр Владимирович не стеснялся привлекать Третье отделение, окончательно разуверившийся в возможности осуществления своих честолюбивых планов, в 1859 году он навсегда покинул родину, оставив здесь жену и малолетнего сына. Заблаговременно переведенный за границу капитал обеспечил ему более чем безбедное существование. Именно в эмиграции началась самая значительная и яркая полоса в жизни князя, открывшая соотечественникам его публицистический талант и весьма основательные исторические познания. Уже в начале 1860 года П.В. Долгоруков опубликовал на французском языке свое новое сочинение «Правда о России», русский перевод которого появился несколькими месяцами позднее. Произведение вызвало небывалое возмущение в русском великосветском обществе, задетом резкими и далеко не всегда объективными характеристиками лиц, находившихся у кормила власти. Русский посол граф П.Д. Киселев потребовал изъять книгу из продажи и возвратиться в Россию под угрозой лишения гражданских прав и ссылки в Сибирь. Долгоруков ответил издевательским отказом. В итоге его приговорили к вечному изгнанию с одновременным лишением княжеского титула и прав состояния… В той же книге автор представил развернутую программу либеральных реформ, частично осуществленных лишь много лет спустя. Его идеалом была конституционная монархия наподобие той, что существовала во Франции при «короле-буржуа» Луи-Филиппе с 1830 по 1848 год. Знакомясь с положениями предлагаемого Долгоруковым государственного устройства, с удивлением обнаруживаешь их поразительное сходство с программами нынешних демократических партий: децентрализация власти, широкое самоуправление, неограниченная свобода слова, независимые суды, гарантированные права человека и т. д. Казалось бы, время осуществления этих заветных планов уже приблизилось, но почему-то не покидает ощущение, что читаешь «Утопию» Томаса Мора. Вспоминается и то, что благословенная Июльская монархия, поднявшая на щит либеральные ценности, в скором времени погрязла в коррупции, выражая лишь интересы крупного капитала, и была сметена очередной революцией. Значит, дело не в идеях, а в том, кто воплощает их в жизнь. «Князь-республиканец», как насмешливо именовал его А.И. Герцен, с постоянной иронией относившийся к своему нежданному союзнику, продолжал и в дальнейшем громить и неистово обличать своих супостатов, призывая всеми силами бороться за установление нового режима. Однако, приняв во внимание черты личности П.В. Долгорукова, трудно избавиться от мысли, что, сложись его личная судьба на родине более удачно, в России оказалось бы на одного сановника больше и на одного демократа меньше. Младший современник князя, А.А. Половцов (1832–1909), стал известен широкой публике прежде всего благодаря своему дневнику, который он вел около пятидесяти лет. Наиболее интересная его часть, охватывающая период с 1883 по 1892 год, когда Александр Александрович занимал пост государственного секретаря, была опубликована в 1966 году и долгое время не переиздавалась. Дневник, ставший памятником Родился он в небогатой и не особенно знатной дворянской семье, происходившей от некоего полковника Семена Половцова, сподвижника гетмана Богдана Хмельницкого. После окончания Училища правоведения началось постепенное восхождение молодого сенатского чиновника по ступеням бюрократической лестницы. Надо признать, что было оно довольно успешным, – в тридцать три года Половцов имел уже высокий чин действительного статского советника, а в сорок четыре – назначается сенатором. Впрочем, несмотря на весь свой ум и незаурядные административные способности, он вряд ли попал бы в так называемое «высшее общество», если бы не женитьба на воспитаннице придворного банкира барона А.Л. Штиглица – Надежде Михайловне Июневой. Девочка-сирота, в младенческом возрасте подброшенная к подъезду особняка банкира, по семейному преданию, была побочной дочерью великого князя Михаила Павловича, а посему банкиру высочайше дали понять, что он должен беречь это сокровище. Она и стала таковым для своего мужа, получив от привязавшегося к ней воспитателя огромное приданое и сделавшись после его смерти главной наследницей несметных богатств бездетного барона. Выгодный брак позволил ее супругу войти в круг придворных вельмож и богатой титулованной знати, одновременно сообщив его характеру такие малоприятные черты, как надменность и напыщенность в сочетании с необузданным честолюбием. Никто из близко знавших Александра Александровича не мог отказать ему в большом уме, но столь же полное единодушие наблюдается и в отрицательной оценке его душевных качеств. Впрочем, наблюдая бездарность и крайнее невежество многих высокопоставленных особ, включая великих князей, с которыми ему часто приходилось иметь дело, и сравнивая себя с ними, Половцов имел кое-какие основания возгордиться… А.А. Половцов В отличие от втайне презираемых им сановников он искренне желал сделать что-нибудь полезное для России, гордился отечественной историей и приложил немало усилий, чтобы вывести ее из архивных застенков на свет божий. Множество ценнейших исторических документов было опубликовано в «Сборниках Русского исторического общества», созданного в 1865 году по почину и при активном участии А.А. Половцова. В течение тридцати последних лет своей жизни он был бессменным председателем Совета общества; до него эту должность занимал престарелый князь П.А. Вяземский, а Половцов исполнял обязанности секретаря, но именно его следует назвать подлинным вдохновителем и душой всего дела. Чрезвычайно важным и памятным свершением стало издание Александром Александровичем на собственные средства многотомного «Русского биографического словаря». К сожалению, это грандиозное, растянувшееся более чем на два десятилетия (с 1896 по 1918 год) предприятие осталось незавершенным, но и в таком виде значимость его трудно переоценить. Всего удалось выпустить двадцать пять толстых томов большого формата, к помощи которых прибегали и прибегают тысячи людей разных возрастов и профессий. Таков вклад А.А. Половцова в историческую науку. Но этим он не исчерпывается: ведь его «Дневник» тоже сделался историческим документом или, если хотите, памятником истории. В нем, помимо оценок и характеристик, принадлежащих самому автору, запечатлены мнения и доверительные высказывания многих современных ему государственных деятелей, в том числе императора Александра III, а также всех тех, с кем Половцову приходилось встречаться по долгу службы или в частной жизни. Вот как он изобразил, к примеру, одно из заседаний Государственного совета, состоявшееся 12 апреля 1883 года, где ему довелось присутствовать в качестве секретаря: «Заседание начинается обыкновенно в час, и за четверть часа до назначенного времени начинают съезжаться члены. Войдя в большой подъезд, выходящий на Неву и принадлежащий к эрмитажному зданию, они проходят, поворачивая влево в комнаты, выходящие на набережную, комнаты весьма небольшие и непоместительные. Здесь они находят приготовленный от двора завтрак, к которому многие подходят весьма охотно. Так как все это делается стоя и при полном почти отсутствии прислуги, то картина выходит довольно неприглядная, особливо, когда по окончании этого занятия членами, на объедки бросается стая голодных писарей, дочиста уничтожающих все, что попадет под руку». Описав подготовительные процедуры, Половцов переходит далее к самому заседанию, а точнее – к характеристикам членов совета, что может служить превосходным дополнением к знаменитой картине И.Е. Репина, невзирая на значительно изменившийся ко времени ее создания состав участников. Вот словесный портрет министра внутренних дел графа Д.А. Толстого: «Бледный, тощий, на вид полумертвый Толстой говорит всегда очень просто, со знанием дела, никого не задевает, но язвительно огрызается, если его заденут». А вот как выглядит в описании автора министр финансов Н.Х. Бунге: «…маленький, весь съежившийся старичок с улыбкой вольтеровской статуи, скромно выступает в столь многочисленных денежных вопросах, говорит хорошо, но, к сожалению, отступает при сколько-нибудь упорном натиске…» Министр иностранных дел: «Гире, как испуганный заяц, прячется в свое кресло и даже закрывает лицо рукою. По делам внешней политики говорить не приходится, но если в том является необходимость, то Гире высказывает уклончивые мысли и самой неправильной русской речью…Морской министр Шестаков, что ни скажет – рублем подарит. Прямая, честная душа, ясный светлый ум, мужество характера, – вот отличительные черты этого замечательного человека, которому желаю возможно широкого участия в делах отечества…Министр государственных имуществ Островский (брат драматурга. – А. И.). Бледный, прищурившийся, не имеющий ничего откровенного, тоже готовый ораторствовать, если видит в этом выгоду, представляет тип самого антипатичного и опасного бюрократа, полного зависти, подобострастия, низкопоклонства…Победоносцев в речи своей достигает той простоты, которая почитается верхом совершенства. Говорит он плавно, естественно, в его речи нет ничего напыщенного… Самая же сущность весьма недальновидна и характеризует узкого моралиста, а никак не широкого политика». И так далее. Эти строки, за редким исключением, не свидетельствуют о душевной доброте и снисходительности автора, зато в них много остроты и наблюдательности. На страницах дневника мы нередко встречаем семейство председателя Государственного совета, великого князя Михаила Николаевича. Возможно, вопреки желанию самого Половцова, возникает образ суетного, недалекого человека, по воле случая вознесенного на внешне высокую, но, в сущности, малозначимую должность, женатого на женщине, отличавшейся редкой недоброжелательностью и вдобавок помешанной на сплетнях. Как человек умный, Половцов прекрасно видит ничтожность этой пары, но тщеславное желание быть причастным к «высшему свету» заставляет его с удовольствием принимать от них малейшие знаки внимания и участвовать в их незатейливых развлечениях. В этом смысле весьма показательна запись от 13 марта 1884 года: «По приезде в Петербург отправляюсь прямо к великому князю Михаилу Николаевичу, который ожидает меня нетерпеливо, и, увидав новую резолюцию государя, кричит „ура“. Узнав от меня в общих чертах о происходившем, горячо меня благодарит и, как высшую награду, предлагает чашку чая из рук великой княгини Ольги Федоровны. Вслед затем все трое усаживаемся у окна, и начинается критический разбор всех гуляющих в это время по Дворцовой набережной». Лучше бы Александр Александрович не писал этих слов. Вы только представьте: в окне роскошного великокняжеского дворца, наклонясь друг к другу головами, сидят люди, изображающие собой в некотором роде сливки общества, и, как провинциальные кумушки, судачат о прохожих. Оказывается, строгий судья человеческой суетности и глупости склонен в определенных случаях потакать и тому и другому. Но из исторического документа, как из песни, слова не выкинешь. В Гродненском тупике До 1894 года маленький тупиковый переулок в Литейной части, долго называвшийся Глухим, а позднее переименованный в Гродненский, оставался провинциально тихим и был известен лишь окрестным обывателям. Все переменилось после того, как на месте одноэтажного деревянного домика под № 6 вырос каменный особняк с броским фасадом, принадлежавший реакционному публицисту, издателю газеты «Гражданин», князю В.П. Мещерскому, пользовавшемуся огромным влиянием при дворе. С этого времени доселе пустынный тупик преобразился; то и дело сюда заворачивали богатые экипажи, занимавшие очередь перед подъездом княжеского дома: многие искали здесь протекции. Впрочем, в иные годы неуемного борца за дворянское дело постигала кратковременная опала, и тогда в переулке вновь воцарялись тишина и спокойствие. Однако, как правило, длилось это недолго, и вскоре вереница карет вновь выстраивалась до самой Знаменской улицы… Теперь пришла пора бросить беглый взгляд на прошлое хозяина особняка. Отец Владимира Петровича, подполковник П.И. Мещерский, не заслужил даже скромной известности, однако женитьба на дочери знаменитого Карамзина ввела его в круг лиц, оставивших след в русской истории. Тихо прожив незаметную жизнь, князь Петр Иванович так же незаметно сошел в могилу, предоставив шипы и тернии скандальной славы своему младшему отпрыску, появившемуся на свет в 1839 году. Восьми лет Володю отдали в Училище правоведения, где он учился одновременно с П.И. Чайковским и А.Н. Апухтиным, младше его одним годом. Удивительно, что, многократно упоминая последнего в написанных им в конце жизни объемистых «Воспоминаниях», князь ни словом не обмолвился о первом. Еще в юные годы Мещерский проникся консервативными идеями и восторженным обожанием к царствованию Николая I, чей конец успел захватить. Его живым воплощением мог служить бывший рижский полицмейстер полковник Языков, неожиданно для самого себя пожалованный в генералы и поставленный во главе училища. С одобрения высокого начальства он тотчас же завел там полицейские порядки. Описав невиданное доселе в стенах привилегированного учебного заведения незаслуженно жестокое телесное наказание одного из воспитанников, Владимир Петрович с удовлетворением отметил его благотворное воспитательное воздействие, добавив в конце, что «столь страшно наказанный… поступил в военную службу, был на войне и считался отличным офицером и порядочным человеком». В возвеличивании и безудержном восхвалении деятелей Николаевской эпохи Мещерский порой теряет всякое чувство меры и способен вызвать лишь улыбку. Вот, например, в каких тонах он описывает известного своими плутнями и злоупотреблениями при постройке железной дороги приснопамятного графа П.А. Клейнмихеля, а заодно и подчиненных ему инженеров-путейцев: «Он был до того равнодушен к вопросам материальной жизни, что если бы ему сказали жить в подвале или мансарде, он жил бы, не испытывая никакого неудобства. Обладая чудным даром, – вдохновлять подчиненных огненным усердием к службе, он вдохновлял их также своей честностью. В клейнмихельское время не было ни одного крупного инженерного имени, про которого могли бы сказать что-либо бесчестное… Может быть, наживались подрядчики… может быть, кое-где по округам брали взятки кое-какие мелкие служащие, но Клейнмихель и его главные сотрудники были чисты, как алмазы». В.П. Мещерский Желая окончательно убедить читателей в полнейшем бескорыстии графа, Владимир Петрович приводит неопровержимый, с его точки зрения, довод: «Смешно даже говорить о деньголюбии Клейнмихеля, ибо он был именно смешон не только в своей оригинальности, но в незнании даже цены деньгам: он не умел отличать бумажки и никогда денег близко не видал». Самое забавное то, что автор воспоминаний встречался с предметом своего восхищения всего несколько раз, в раннем возрасте; вероятно, по этой причине рассуждения его выглядят по-детски наивными. Незаметно текли годы. Трагическим аккордом Крымской войны завершилось царствование государя Николая Павловича, а вслед за тем настало время перемен. Сошли с жизненной сцены благородные рыцари наживы, в глаза не видавшие денег, и на смену им пришло новое поколение – нигилистов и ниспровергателей основ, как казалось князю В.П. Мещерскому. Все современные течения общественной мысли представлялись ему лишь в двух измерениях: дворянские и антидворянские. При этом в так называемом большом свете преобладали первые, а в среднем, или «интеллигентном», классе – вторые. Консерватизм Владимира Петровича выглядит немного странным. В то время как большинство его сверстников по свойственной молодым людям восприимчивости и тяге к переменам приветствовало новые веяния, он, напротив, оставался ревнителем заветов крепостной старины, не видя ни малейших причин что-либо менять в государственном устройстве. Умиляясь прежним патриархальным отношениям между помещиками и крестьянами (вы – отцы, мы – ваши дети), Мещерский возмущался неблагодарностью мужиков, которые сразу же после освобождения прекратили поздравлять их семейство с праздниками и приносить подношения в виде «конфет, сладких пирогов и фруктов»! Неприятие князем проводимых реформ становится еще менее понятным, если принять во внимание, что после окончания училища он начал службу полицейским стряпчим, затем продолжил ее в должности уездного судьи, а позднее – чиновника по особым поручениям при министре внутренних дел. Благодаря этому у него была полная возможность убедиться в необходимости коренных преобразований. Однако то ли сословный эгоизм, то ли абсолютная нравственная слепота и глухота заставляли его упорно цепляться за идеи, вроде набивших оскомину рассуждений о голубой крови, белой кости и особой исторической миссии русского дворянства. Еще в 1861 году состоялось знакомство Владимира Петровича с наследником престола, цесаревичем Николаем, и его братьями. С того момента началась близость Мещерского к царской семье. После ранней кончины великого князя Николая Александровича дружеские отношения с князем продолжил младший брат покойного, будущий император Александр III, а затем они как бы по наследству перешли к его сыну Николаю II. Правда, дружба с Александром Александровичем не единожды подвергалась довольно серьезным испытаниям. Причиной одного такого резкого, хотя и временного разрыва стали чересчур далеко зашедшие нежные чувства наследника к родственнице князя, красавице Марии Элимовне Мещерской, в ту пору фрейлине при дворе ее величества. Ради женитьбы на княжне цесаревич готов был отказаться от престола, о чем поведал ей в горячих посланиях. Желая воспрепятствовать столь радикальному намерению, Мещерский не остановился перед тем, чтобы похитить письма влюбленного юноши и представить их императрице. Узнав о неблаговидном поступке вероломного «друга», великий князь, как утверждают, собственноручно спустил его с лестницы и надолго закрыл перед ним двери своих покоев. Что же касается княжны, то ее спешно отправили за границу, где она впоследствии вышла замуж за П.П. Демидова Сан-Донато… Перефразируя известное французское выражение, можно сказать, что В.П. Мещерский был большим монархистом, чем сам царь, усматривая погибель России в гнилом либерализме вкупе с республиканскими идеями, наносимыми злыми западными ветрами, и считал своим долгом противиться им всеми силами. Парадокс в том, что возможность бороться с вредными, на его взгляд, влияниями путем издания консервативного печатного органа открылась перед ним благодаря той самой «гласности» (это слово появилось еще в те времена), против которой, как и против других нововведений, он яростно восставал! В 1872 году В.П. Мещерский, пожертвовав чиновничьей карьерой, приступил к изданию газеты «Гражданин», ставшей на многие последующие десятилетия оплотом консерватизма. Если рассматривать это понятие как некий балласт исторических преданий и нравственных заветов старины, придающих государственному кораблю должную осадку и остойчивость, то в нем нет ничего плохого. Все дело в том, что из прошлого следует хранить и оберегать, а что – выкинуть за борт как ненужный груз. Именно относительно последнего у князя Мещерского происходили постоянные споры и несогласия с подавляющим большинством общества. Результатом стала почти полная моральная изоляция газеты, несмотря на явную и тайную поддержку ее Александром III и Николаем И. Правда, «Гражданин» охотно читали, – благодаря обширным связям Владимира Петровича с придворными и министерским кругами только там можно было найти недоступные для других изданий сведения, – но делали это украдкой, как будто чего-то стыдясь. Сам государь Александр III публично открещивался от близкого знакомства с газетой Мещерского, но на деле внимательно прислушивался к публикуемым там рекомендациям относительно назначений на те или иные важные посты. «Гражданин» сделал своей целью «поставить точку» реформам Александра II и, не останавливаясь на этом, стремиться к восстановлению дореформенных порядков. Мещерский, на страницах своих печатных органов (с 1903 года он издавал также журналы «Добро» и «Дружеские речи»), вел борьбу с земством, с судом присяжных, со школой, с крестьянским самоуправлением – со всем тем, что призвано было покончить с феодальными пережитками и отсталостью. Ф.М. Достоевский как-то написал: «Я никогда не мог понять мысли, что лишь одна десятая доля людей должна получать высшее развитие, а остальные девять десятых должны лишь послужить к тому материалом и средством, а сами оставаться во мраке». Возникает вопрос: что же могло соединять князя В.П. Мещерского с его своеобразным отношением к простому народу и великого русского писателя, болевшего душой за всех «униженных и оскорбленных»? Ответ, скорее всего, таков: общая ненависть к «нигилистам», людям, не признававшим никаких нравственных устоев, полностью отрицавшим прошлое. Публицистический запал, свойственный Достоевскому, требовал выхода, и он нашел его на страницах «Гражданина». Впрочем, спустя несколько лет временные союзники, как и следовало ожидать, разошлись… В.П. Мещерский оставил по себе удивительно единодушные отрицательные отзывы: все писавшие отмечали его ханжеское лицемерие и моральную нечистоплотность. Наиболее сдержанную характеристику князю дал близко знавший его С.Ю. Витте: «Он человек неглупый, талантливый, но беспринципный и до мозга костей безнравственный». Куда более резко высказывается о нем другой деятель, причем весьма консервативных и реакционных взглядов, начальник Главного управления по делам печати Е.М. Феоктистов: «Негодяй, наглец, человек без совести и убеждений, он прикидывался ревностным патриотом – хлесткие фразы о преданности церкви и престолу не сходили у него с языка, но всех порядочных людей тошнило от его разглагольствований, искренности коих никто не хотел и не мог верить». Собственная родня стыдилась знаться с человеком, заслужившим прозвище Князь Содомский; зато он был весьма популярен в среде молодых гвардейских офицеров и розовощеких юношей, которым приискивал теплые местечки, усердно хлопоча о своих любимцах. «Сколько он в своей жизни написал изобличительных статей по адресу власть имущих только потому, что эти лица не устроили так, как этого желал князь Мещерский, его молодых людей!» – замечает тот же Витте. После смерти Владимира Петровича в 1914 году княжеский дом со всем своим добром перешел к его последнему фавориту, директору правления Общества юго-восточных железных дорог Н.Ф. Бурдукову-Студенскому, коего сам же князь и «вывел в люди». В Гродненском тупике опять воцарилась тишина, теперь уже навсегда. В расположенном неподалеку Эртелевом переулке ее постоянно нарушал несмолкаемый гул печатных станков типографии, принадлежавшей другому известному журналисту и издателю, А.С. Суворину. Когда-то политические взгляды Мещерского и Суворина были диаметрально противоположны, но позднее все изменилось. Душа горит на сотне вертелов Один молодой поэт, желая выразить свое негодование по поводу печально знаменитой газеты «Новое время», чья редакция помещалась в доме № 6 по Эртелеву переулку, написал такое, не очень складное двустишие: Душа горит на сотне вертелов, Лишь вспомню переулок Эртелев. И дом, и газета принадлежали одному лицу – А.С. Суворину (1834–1912). Если бы в молодости кто-нибудь предсказал Алексею Сергеевичу, что к пятидесяти пяти годам он станет владельцем влиятельного печатного органа, крупного издательства и богатого особняка в Петербурге, он бы, скорее всего, не поверил. Жизнь его начиналась очень трудно и не сулила особенных успехов в будущем. Выходцу из многодетной, малообеспеченной семьи пехотного капитана с трудом удалось получить образование в Воронежском кадетском корпусе. Военную службу Суворин вскоре оставил, предпочтя должность учителя в маленьком городке Боброве. В середине 1850-х годов Алексей Сергеевич обзавелся семьей и начал пописывать мелкие статейки сначала в местные, а затем и в столичные издания, будучи, в сущности, вполне довольным своей участью. Если бы не жена, постоянно ободрявшая его и подталкивавшая к более честолюбивым замыслам, он, вероятно, так и застрял бы на всю жизнь в уездном захолустье. Лишь по ее настоянию супруги через несколько лет перебрались в Воронеж, а оттуда – в Москву. В декабре 1862 года А.С. Суворин прибыл в Петербург в нетопленом вагоне 3-го класса, в пальто, одолженном ему поэтом А.Н. Плещеевым. Заняв должность секретаря редакции и сотрудника «Санкт-Петербургских ведомостей», он в поисках дополнительного заработка одновременно работал и в других изданиях. «В редакцию я отправлялся в 10 часов утра, – вспоминал Алексей Сергеевич, – приходил домой в 5 часов, обедал, в 8 приносили объявления, я их размечал… и часов в 10 уходил в редакцию, где работал до 2–3 утра, а иногда и позже». Помимо чисто газетной работы, он умудрялся писать еще и художественную прозу, постепенно завоевывая популярность среди читающей публики. В ту пору каторжных трудов и ожесточенной борьбы за существование Суворин придерживался весьма радикальных взглядов, даже прослыл крамольником, а его первая книга «Всякие: Очерки современной жизни», написанная в 1866 году, была запрещена, и ее тираж полностью уничтожен. Знакомый читателю князь В.П. Мещерский писал о тех временах: «„Санкт-Петербургские ведомости"… начали было, благодаря бойкому и хлесткому таланту А. Суворина, тогда жившего в бедности, одним только гонораром за свои воскресные фельетоны, конкурировать с „Голосом" и во всяком случае по либеральному направлению мало от него отличались, делая из Каткова, а кстати уже и из меня, мишень для своих постоянных злобных нападений». Учащаяся молодежь зачитывалась острыми, злободневными статьями за подписью «Незнакомец», которые, по мнению того же Мещерского, проповедовали «шальные нигилистические» взгляды. А.С. Суворин В 1873 году Алексей Сергеевич пережил личную трагедию: его жена Анна Ивановна, мать пятерых детей, была застрелена своим любовником, попытавшись, как предполагают, разорвать тяготившую ее связь. Случившееся так потрясло Суворина, что он оказался близок к самоубийству. Это дело получило большую общественную огласку, вызвав к нему всеобщее сочувствие, в том числе у семнадцатилетней соученицы его старшей дочери, чья пылкая любовь вернула безутешного вдовца к жизни. В 1875 году он женился на этой девушке; по странному совпадению ее также звали Анной Ивановной. В следующем году сбылась его давнишняя мечта стать издателем: взяв при посредничестве журналиста В.И. Лихачева крупный кредит в банке, он купил пришедшую в упадок газету «Новое время». В последующие двадцать лет именно она стала его единственной любовью, он пожертвовал ей всем, сумев поставить свое детище на совершенно европейский лад. За это время мировоззрение Алексея Сергеевича претерпело существенные изменения: вчерашний либерал обратился в ярого консерватора. С технической стороны в газете все обстояло наилучшим образом – в этом смысле «Новое время» можно было смело назвать печатным органом будущего. В идейном же отношении газета стояла чрезвычайно низко, проповедуя человеконенавистнические, откровенно черносотенные взгляды, замешенные на гостинодворском национализме. Именно это дало повод желчному М.Е. Салтыкову-Щедрину заявить: «Девиз „Нового времени" – неуклонно идти вперед, но через задний проход». Добившись богатства и политического влияния, А.С. Суворин, однако, не обрел обыкновенного человеческого счастья. Казалось, над ним и его семьей тяготел какой-то злой рок: в 1885 году, в возрасте двадцати семи лет, умирает дочь Александра, вслед за ней погибает четырехлетний Григорий, в 1887 году кончает самоубийством сын Владимир, а еще через год он лишается своего любимца Валериана, скончавшегося от дифтерита. Отношения с молодой женой складывались неудачно, ссоры следовали одна за другой. Старшие сыновья, особенно злобный, жестокосердый Алексей, также не радовали отцовского сердца. Единственной отрадой в эти и последующие годы стала его дружба с А.П. Чеховым. Два очень умных и очень одиноких человека находили невыразимое наслаждение в духовном общении друг с другом, поддерживаемом путем оживленной переписки и редких встреч. Так