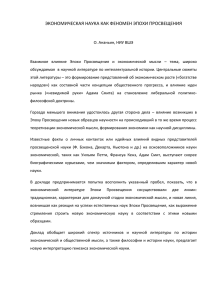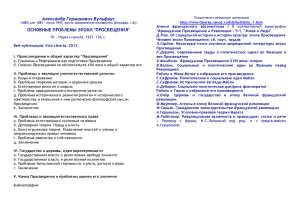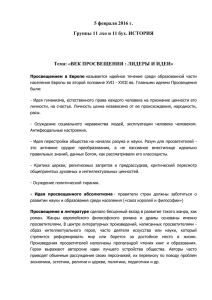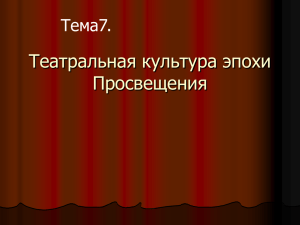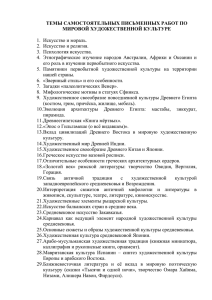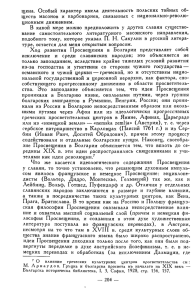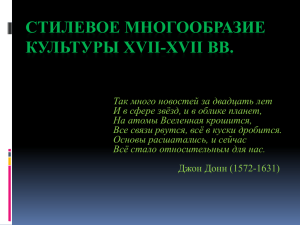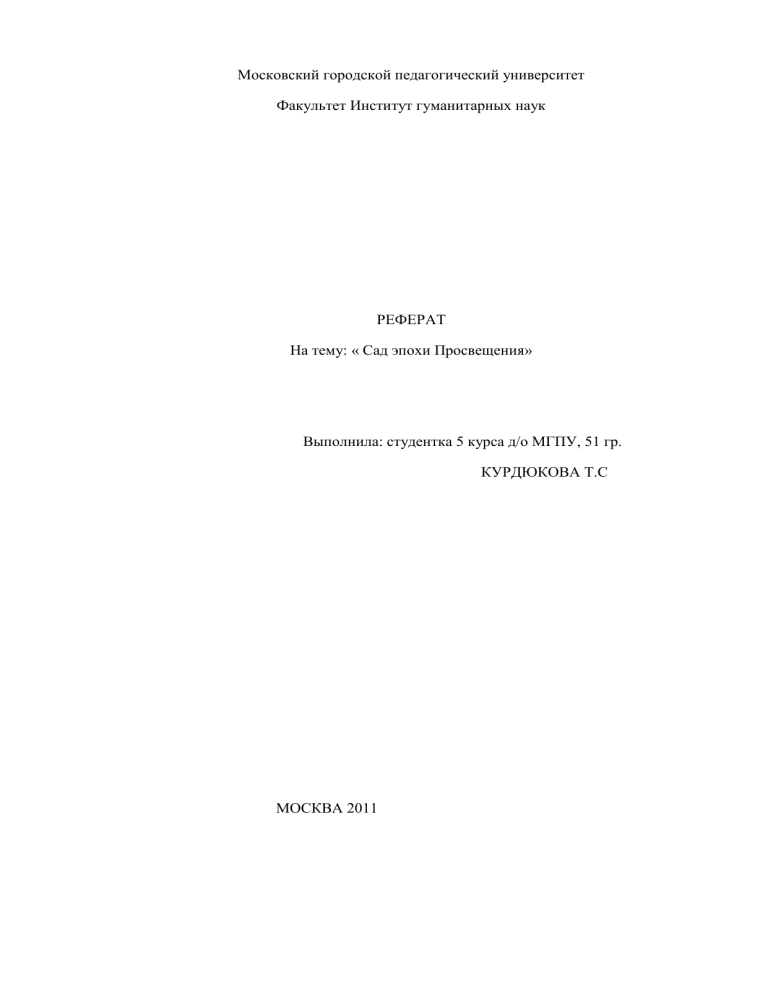
Московский городской педагогический университет Факультет Институт гуманитарных наук РЕФЕРАТ На тему: « Сад эпохи Просвещения» Выполнила: студентка 5 курса д/о МГПУ, 51 гр. КУРДЮКОВА Т.С МОСКВА 2011 Содержание Введение………………………………………………………………3 Сад эпохи Просвещения……………………………………………..4 Заключение…………………………………………………………16 Иллюстрации………………………………………………………..18 Список используемой литературы…………………………………20 Введение. Эпоха Просвещения — эпоха развития европейской культуры, содержание которой определяла вера в преобразующую силу естественнонаучных знаний и рационального мышления. Идеи Просвещения зародились во Франции в середине XVIII в. Французские философы-просветители Д’Аламбер, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо, Вольтер (Ф.-М. Аруэ), К.-А. Гельвеций считали, что знания, рациональное и атеистическое мышление способны "расшатать старый порядок", изменить этику и мораль, ускорить ход исторического процесса и социальные преобразования (см. энциклопедия). В конечном счете их идеи действительно способствовали разрушительным последствиям французской революции 1789—1804 гг. "Просвещение умов" мыслилось французскими философами прежде всего как нравственное и гражданское воспитание, при этом оно отличалось непримиримым отношением к иным формам мировоззрения: религиозному, дворянскоаристократическому. Основой эстетики эпохи Просвещения во Франции были прагматизм, критицизм, оптимизм, стремление к "естественному человеку" и природе как "естественному порядку вещей" (сравн. пантеизм). В этой эстетике можно выделить два главных положения: 1. Человек рассматривается не как индивид и уникальная личность, а как представитель определенного типа, поведение и вкусы которого предопределены географией, влиянием климата и социальными условиями жизни .Эстетика и искусство не разделяют, а объединяют людей одного социального класса и национальности (сравн. исторический тип искусства). 2. Психология, внутреннее состояние человека обязательно проявляется в его внешности. Поэтому изобразительное искусство призвано через изображение внешности раскрывать внутреннее состояние "типичного человека". Следствием просветительской эстетики стало соединение в практике изобразительного искусства обоих положений. В портрете искали проявление "типических черт общественного человека" — как правило, через внешние атрибуты. Личность отождествляли с идеальным героем, а психологию персонажа раскрывали в его внешнем облике, позе, движении. Именно тогда появился "словарь" стандартных величественных поз и шаблонных движений: воздетые руки, закатившиеся глаза, разметавшиеся волосы, развевающиеся одежды. Художники уделяли особенное внимание пластической анатомии и мимике. Именно в это время французский скульптор Жан-Антуан Гудон (1741—1828) создал знаменитую анатомическую фигуру — экорше́ (франц. écorché — "ободранный"), изображение шагающего человека с открытой мышечной структурой (1776). Экорше было выполнено в Риме и предназначалось для обучения молодых художников . Гудон также является автором прославленной мраморной статуи философа Вольтера, хранящейся в петербургском Эрмитаже (1781). Фигура сидящего философа в "вольтеровском кресле" представляет собой превосходное пособие по психологии, но неприятна натуралистичным исполнением . Под воздействием тех же натуралистических идей немецкий скульптор Ф. К. Мессершмидт (1736—1783) создавал свои "характерные головы" (нем. «Charakterköpfen") — 69 бюстов, демонстрирующих различные эмоциональные состояния: удивление, радость, брезгливость .Однако морализаторские тенденции, дидактизм, ограниченность эстетических оценок просветителей тормозили естественное развитие классицистического искусства. Ярким примером этих тенденций являются "Салоны" — критические обзоры академических выставок французского искусства за 1759—1781 гг., составленные и опубликованные Д. Дидро. В борьбе с косностью академического искусства Дидро отстаивал сентиментальные и слащавые картины Ж.-Б. Грёза, названия которых говорят сами за себя: "Разбитые яйца", "Два воспитания", "Девушка, оплакивающая мертвую птичку", "Наказанный сын", "Паралитик, или Плоды хорошего воспитания". Дидро считал "самым достойным" жанр "нравоучительной живописи", независимо от художественных качеств конкретного произведения1. Художники писали пространные письма, программы с подробными комментариями и объяснениями картин. Изображать "жестокие сюжеты" или сюжеты "с плохим концом" считалось безнравственным. Противоречие просветительской эстетики заключалось также и в том, что, не имея собственной художественной программы, в поисках "естественного человека" Дидро и его единомышленники фактически возвращались к идеям академизма. Дидро утверждал: "Естественная одежда — это кожа, чем дальше удаляются от этого принципа, тем более грешат против хорошего вкуса". В крайнем случае разрешались греческие туники или римские тоги. Поэтому картины Ж.-Л. Давида на сюжеты героической истории Древнего Рима были созвучны идеологии эпохи Просвещения . В то же время просветители поддерживали художников, находившихся в оппозиции академическому искусству, — натуралистов Ж.-Б.-С. Шардена ,М.-К. де Латура . Идеологические и художественные противоречия эпохи Просвещения проявились в творчестве французского скульптора Э.-М. Фальконе . Идеология Просвещения не смогла создать собственного художественного направления или стиля. Однако она стимулировала течение сентиментализма, которое иногда рассматривают в качестве стадии, предшествующей Романтизму.Некоторые идеи философии Просвещения совпадали с эстетикой Классицизма. Не случайно общественное движение просветителей развивалось параллельно с искусством Неоклассицизма во Франции, Англии, Германии, Италии середины и второй половины XVIII в. Просветительская эстетика этого времени затронула и Россию — с середины XVIII в. русское искусство развивалось в едином русле с западноевропейским. Уничижительную оценку эпохе Просвещения дал русский художник и историк искусства С. П. Яремич. Сад эпохи Просвещения В садовом искусстве подражание образцу всегда играло очень большую роль. До сих пор живы сравнения пышных русских усадеб — Петергофа, Кускова, Царицына — с садами Короля-Солнца. Размышляя об этом, Александр Бенуа видел своеобразие Петергофа именно в отходе от образца и в смешении стилей. «“Петергоф — русский Версаль”, “Петр пожелал у себя устроить подобие Версаля”, — эти фразы слышишь постоянно. Но если действительно Петр был в 1717 г. поражен резиденцией французского короля, если в память этого он и назвал один из павильонов в Петергофе Марли, если и другое петергофское название — Монплезир — можно принять за свидетельство его “французских симпатий”, <…> то все же в целом Петергоф никак не напоминает Францию и тем менее Версаль. То, что служит главным художественным украшением Петергофа, — фонтаны, отражает общее всей Европы увлечение садовыми затеями, однако ни в своем расположении, ни в самом своем характере эти водяные потехи не похожи на версальские. Скорее в них чувствуются влияния немецкие, итальянские, скандинавские, но и эти влияния сильно переработаны, согласно личному вкусу Петра и других русских царей, уделявших немало внимания Петергофу. <…> Дожди, туманы, пронизывающая сырость — все это характерные явления для всей петербургской округи, но в Петергофе они сказываются с особенной силой, действуя разлагающим образом на петергофские постройки, подтачивая камень, заставляя позолоту темнеть, периодически разрушая и искажая пристани, дамбы, обрамления водоемов и набережные каналов. Это одно лишает Петергоф той “отчетливости в отделке”, какой могут похваляться знаменитые западноевропейские резиденции. И все же Петергоф “сказочное место”». В садовом искусстве России восемнадцатый век прошел под знаком европейских влияний и их переработки. В таком же положении были садовые культуры многих стран. Французский регулярный стиль, олицетворенный Андре Ленотром, в течение половины столетия буквально довлел над Европой. «Французские» партеры, статуи и вазы можно видеть не только в Петергофе и Кускове, но и в английском Хемптон Корте, шведском Дроттнингхольме, голландском Хет Лоо. Начиная «пейзажную революцию», меценаты и садоводы Англии восстали против этой мономании. Искусство «английского» парка действительно революционно: оно не просто меняет стиль, но и ломает правила, прежде считавшиеся незыблемыми. В саду эпохи Просвещения поселяется целый мир стилей и культур — китайская, турецкая, голландская, даже кельтская и норманнская. В этом саду господствуют не готовые планы и схемы, а философские, духовные принципы создания «натурального» пейзажа. Достижения английской садовой культуры прекрасно понимала Екатерина II, которая полушутя писала барону Гримму: «в моей плантомании преобладает англомания». Заимствования становятся все более творческими, а роль автора все более выраженной. В Петергофе можно найти не слившиеся, существующие обособленно черты французского, голландского, итальянского, шведского сада, о которых писал Бенуа. В садах, созданных по замыслу Екатерины, переплавка образца создает единый и цельный образ. В английском парке Стоу, который в эпоху Просвещения был знаменит не меньше, чем Версаль, на берегу запруженной речки стоит скромная ростральная колонна, посвященная памяти капитана Гренвиля. Во французском имении Меревиль была создана ее увеличенная копия, напоминающая о семейной трагедии — гибели сыновей владельца в морской экспедиции. А Екатерина, понявшая красоту идеи — ростральная колонна и образ моря, — задумывает в Царском Селе Чесменскую колонну, триумфальный памятник, посвященный победе русского оружия и стоящий в волнах Большого озера. Для садовой истории России в эпохи Просвещения и романтизма особенно важным оказался опыт Франции и Германии. С одной стороны, английские трактаты в подлиннике читали буквально единицы и Екатерина II штудировала и переписывала книгу Томаса Вейтли «Замечания о современном садоводстве» (1770), открывшую целую эпоху в истории пейзажного садоводства, во французском переводе Франсуа де Поля Латапи. С другой стороны, именно на континенте сложилась систематика и стройная идеология «английского» стиля. В последние годы восемнадцатого столетия, когда британская теория пейзажа увязла в тонкостях рассуждений о «прекрасном» и «возвышенном», появляются простые по форме, интересно написанные книги французских художников, архитекторов, меценатов. Латапи, более влюбленный в усадьбу Стоу, чем сам Вейтли, прибавляет к «Замечаниям...» ее обширное описание и карту — именно они послужили пищей для ландшафтных размышлений русской императрицы и оказали влияние на устройство парка в Царском Селе. И вот уже Хиршфельд впервые открывает европейскому читателю мир русского пейзажного парка. В приложении к пятому тому «Теории садового искусства» описаны сады Петербурга, Петергофа, Ораниенбаума, Царского Села, Павловска, усадьба Демидова и Анненгоф в Москве, а также Ярополец Чернышевых и дачи Л.А.Нарышкина по петергофской дороге, носившие названия Баба и Гага. «Лучший вкус в садоводстве привился в России с началом счастливого правления императрицы Екатерины II, — сообщает Хиршфельд. — Сия императрица, которой было суждено усовершенствовать вкусы и изящные искусства этой обширной страны, сделала в Ораниенбауме, еще в бытность великой княгиней, попытку создать английский сад на лесистом участке напротив ее дворца и произвела эту пробу с изяществом и пониманием красоты, предвещавшим искусству садов весьма лестное будущее». В начале XIX века садовая культура княжеств и королевств Германии стремительно выходит на передний край пейзажного творчества. Систематизм мышления, возможность осмыслить и улучшить открытые в Англии художественные приемы, тяготение к теории и педагогике, высокая культура садоводства составили славу «немецкого сада», особенно распространившуюся в России. Германия еще в эпоху Просвещения создала выдающиеся образцы пейзажного ансамбля — Вёрлиц и «садовое царство» княжества Анхальт-Дессау, парки Касселя, Пфальца, Потсдама. Она воспитала и сотни садовых мастеров, многие из которых сделали свою карьеру в Российской империи. Среди них — «английский» садовник Царского Села Иоганн Буш. В Александрии, украинском имении Браницких, сохраняется чугунная колонна с немецкой надписью «Господину Августу Йенсу, садовому художнику Александрии, в честь пятидесятилетнего юбилея его служения, воздвигнута его друзьями в сентябре 1855 года». «Садовым художником» романтического Петергофа был Петр Иванович Эрлер, надгробие которого можно видеть в созданном им парке Александрия. Взаимосвязи с немецкой культурой стали особенно важными для России в эпоху романтизма. История садового искусства также показывает, насколько глубока предыстория этих отношений. Германия была не только ближайшим западноевропейским соседом, но и источником учености, философской и эзотерической культуры, жизненно необходимой для интеллигенции русского Просвещения. Известный московский масон Иван Владимирович Лопухин украсил свое имение Саввинское множеством монументов, отмечающих признательность немецким философам, мыслителям и подвижникам. Среди них был памятник Якобу Бёме, книги которого стали основой мистической натурфилософии: «Крест, поставленный на холмике и окруженный сосновым кустарником, есть первое зрелище, представляющееся при входе на сей благословенный остров. Он прост; но в простоте его то величие, коего чужды и самые великолепнейшие обелиски. На Кресте изображены мистические фигуры; и вот уже для сердца внутреннего человека источник сладких размышлений!». Столб с урной был посвящен «Памяти мудрого» — теософа Эккартсхаузена, а камень с надписью «Остановись, прохожий, и вздохни о страдальце» представлял собой мемориал Квирину Кульману — странствующему немецкому проповеднику конца семнадцатого столетия, который пытался обращать в христианство турок, а затем явился в Москву с учением об «эпохе прохлады» и погиб на костре 4 октября 1689 года5. Заметим, что судьба Кульмана, едва ли не первого узника и мученика совести, пришедшего в Россию с Запада, казалась символической и позже: В.О.Ключевский посвятил ему особый раздел в своих лекциях по русской истории, а современный орден розенкрейцеров отсчитывает историю «гнозиса в России» от его появления в Немецкой слободе. Долгой оказалась и связь русской ландшафтной культуры с немецкой теорией и практикой садоводства. Подытоживая опыт современного ландшафтного дела, русский садовый инженер швейцарского происхождения Арнольд Эдуардович Регель в книге «Изящное садоводство и художественные сады» (1896) называет пейзажную традицию «англо-германской» и утверждает, что садовый стиль Британии конца восемнадцатого столетия «следует считать национально-английским, в противоположность к другому, еще высшему, который создался в Германии». Регель признается в своем почти религиозном отношении к личности и теории немецкого садовода Германа фон Пюклер-Мускау (1785– 1871). «Величайший художник и стилист в области изящного садоводства», князь Пюклер был автором нескольких садовых ансамблей в Восточной Германии и создателем трактата «Размышления о пейзажном садоводстве» (1834). Книга-альбом, содержащая многочисленные таблицы, схемы рассадки деревьев и кустарников, переводила философию пейзажа (еще Хиршфельд называл теорию Вейтли «метафизикой парка») на язык практического руководства. Связанная с историей «Русской Пруссии» и «Прусской России», история романтизма в нашей стране начиналась с политических и духовных связей особого рода — династических. Они начинались с дружбы Фридриха Вильгельма III и Александра I. Романтизм был временем ярких театральных поступков. В 1805 году российский император приезжает в Берлин, чтобы заключить с Пруссией военный союз против Наполеона. Переговоры завершаются необычным событием: перед расставанием, в ночь на 25 октября, Александр, Фридрих Вильгельм и королева Луиза спускаются в крипту Гарнизонной церкви Потсдама и клянутся в нерушимости своего союза перед гробницей Фридриха Великого. Гравюры с изображением этой тайной, но судьбоносной встречи широко распространялись в Германии. Война политических жестов продолжилась через год, когда Наполеон, вынудивший прусского короля встать на его сторону, выбрал для себя те же покои, что и русский царь, и совершил такой же визит к гробнице Фридриха II. Несмотря на официальное военное противостояние, прусские симпатии оставались на стороне России. В 1810 году патриотически настроенные офицеры начали формирование Русско-германского легиона, который в 1815 году влился в состав королевских войск Пруссии. Лояльность прусских войск, состоявших на службе Наполеона, по отношению к бывшим союзникам проявилась и в поступке, открывшем историю «Русской Пруссии»: прусский генерал Ханс Давид фон Йорк, взявший в 1812 году в Курляндии пятьсот русских военнопленных, отсылает часть солдат в Потсдам, где из них по желанию Фридриха Вильгельма создается военный хор численностью в двадцать один человек. Это были солдаты-песенники, всегда игравшие важную роль в русских походных маршах. По-видимому, прусский король хотел показать свою приверженность к русскому через «нестроевую», культурную ипостась военного дела. На самом же деле песенники были настоящими воинами, и награды многих из них хранятся в Потсдаме и сегодня. Российско-прусская дружба и чувство культурного родства вновь становятся явными во время освободительных походов 1813–1815 годов. 7 марта 1813 года армии двух стран объединяются. Не забыты и пленные песенники — Александр оставляет их на королевской службе, они поступают в Первый гренадерский пехотный полк и в его составе входят в Париж. В 1815 году, на волне общего триумфа, принято решение поселить тринадцать русских песенников-ветеранов в Потсдаме. Еще одна символическая подробность — двое из них вскоре женятся на жительницах Потсдама, а двое на француженках. 4 ноября 1815 года Санкт-Петербургский гренадерский полк со своим шефом Фридрихом Вильгельмом вступает в Берлин. «В русском мундире ехал он перед первым взводом и салютовал Государю. Офицеры обедали во дворце за королевским столом, а солдат угощала прусская гвардия. Примечательнее всего, что в тот день караулы были заняты в Берлине русскими солдатами. Людовик XIV, возведя своего внука на испанский престол, сказал: “Пиренейские горы более не существуют!”» Русским можно было, в подражание ему, но с бoльшим правом сказать, что при Александре I Россия и Германия составляли одно семейство». Череда символических событий продолжается: в этот же день состоялась помолвка дочери прусского короля и брата русского императора. 24 июня 1817 года, уже в Петербурге, принцесса Шарлотта принимает православное крещение и новое имя, а 1 июля происходит венчание Александры Федоровны и Николая Павловича. В мае 1818 года Фридрих Вильгельм приезжает в Россию по случаю рождения внука, великого князя Александра Николаевича. Король и наследный принц, будущий Фридрих Вильгельм IV, ходят по Москве в русских мундирах с лентой ордена Андрея Первозванного. Посещение Москвы, древней столицы, принесенной в жертву ради общей победы, венчается романтическим поступком: поднявшись на бельведер Пашкова дома, Фридрих Вильгельм опускается на колени со словами «вот наша спасительница». Как и клятва при гробе Фридриха Великого, это событие стало достоянием общественной жизни. Во время визита король осматривал строящиеся военные поселения в Новгородской губернии — скорее всего, среди них было и Грузино графа Аракчеева. Его адъютант вспоминал: «Мы видели недавно устроенные военные поселения: приветливо и чистенько выглядывающие деревни с желто выкрашенными домами и хорошо содержимыми садами»8. Видимо, в Петербурге прусскому королю показывали и удивительный план деревни Глазовой, созданный Карло Росси для окраинной части Павловского парка. Большие, красивые двухэтажные избы располагались там по кругу, а само поселение представляло живописный вид для посетителей павильона и Руин в Красной долине. Желание создать деревню-круг объясняется несколькими причинами. Первая из них — пришедшая из Просвещения манера соединять парковые виды со сценами сельской жизни. Экзотический вид этих деревень постепенно сменяется «местным колоритом». На фоне китайских или турецких «деревень» группа павильонов в Шантийи, построенная в 1774 году и выглядящая как простое крестьянское поселение, произвела настоящую революцию. Такой же декоративный «хутор» строят для Марии Антуанетты в Версале, образцовые деревни известны и в масонском Авдотьине у Новикова, и в хлебосольном Кускове у Шереметева. Новая романтичская эпоха требует реальных форм жизни, и парковые деревни из павильонов-обманок превращаются в участки облагороженного крестьянского мира. Именно таким местом стала Глазова, предназначенная для переселения финских крестьян с места, занятого парком Мариенталь. Для эпохи ампира характерно использование идеальных форм — Круговая улица диаметром 230 метров, центральный круглый пруд, сектора, равномерное распределение бытовых построек — баня, рига, общий огород на каждые три двора. Но круговое, точнее, многогранное и секторальное построение характерно и для общей системы планировки Павловска. Парки Большая звезда и Белая береза образуют два «солнца», лучи которых выходят в центральную, протяженную часть резиденции. На севере их поддерживала окружность деревни Глазовой. Проектирование деревни относится к 1815 году, и постройка ее к визиту Фридриха Вильгельма была в полном разгаре. Помимо плана и видового значения Глазовой, новым был и русский стиль, предложенный Росси. Двухэтажные бревенчатые избы с подклетом были украшены верандой, двумя ярусами балконов, причелинами и шпилем, оформленными ажурной пропильной резьбой. Это не городской особняк, стилизованный под сельский дом, а настоящая изба, какой она должна была бы быть для удобного и просторного крестьянского житья. Именно такой образ русской деревни — благоустроенной, подчиненной строгой геометрии и включенной в живописный пейзаж, прусский король увез с собой в Потсдам. В 1819 году, через год после поездки в Россию, Фридрих Вильгельм распоряжается о постройке в окрестностях Потсдама деревни Никольское. На самом деле в селении был и остается всего один дом (его официальное название — Blockhaus Nikolskoje, «Изба Никольское»), но это очень заметная бревенчатая постройка в три этажа, высящаяся над крутым берегом реки Хафель. Предположительным автором проекта считают Карло Росси, создателя Глазовой. В Никольском проживал русский кучер короля, бородач Евлампий Бархатов (немцы называли его Иван Боков), прошедший с Фридрихом наполеоновские войны. И хотя основное помещение избы служило чайным салоном короля, здесь строго соблюдался «русский стиль», а немецкой супруге «Ивана» предписывалось ходить в русском сарафане и кокошнике. К этому времени политическая ситуация теряет свою остроту, и романтические символы переходят в сферу культуры, парковых сюрпризов и видовых параллелей. Никольское расположено напротив интереснейшей из резиденций Фридриха Вильгельма III, — Павлиньего острова, украшенного дворцом-руиной и населенного этими «райскими» птицами. Здесь прошли лучшие летние дни юной Шарлотты, и в напоминание о них была создана модель замка-руины из слоновой кости, — сувенир, который и сегодня можно видеть в петергофском дворце Коттедж. Романтический пейзаж, напоминающий о блаженных Борромейских островах на итальянском Лаго Маджоре, был дополнен «русской» постройкой — катальной горкой длиною около сорока метров, которая напоминала о диковинных для немецкого взгляда «русских горах» в Ораниенбауме и Царском Селе. В 1837 году русско-немецкий пейзаж вокруг Павлиньего острова был украшен высокой краснокирпичной церковью Петра и Павла. Этот протестантский храм в нижней своей части похож на немецкие церкви романского стиля. Однако авторы проекта, потсдамские архитекторы Шадов и Штюлер, увенчали здание стройной граненой башней с луковичным куполом, хорошо видными с острова. Храм является зримым символом «Русской Пруссии». Современники отмечали атмосферу романтической глуши, созданную в этом тщательно ухоженном уголке. «Петропавловская церковь построена на вершине лесистой горы, под которою широко разливается река Гавель. Домик для органиста, украшенный резьбою в русском стиле, и русский домик для седобородого русского старика Ивана, у которого все пилигримы находят гостеприимное пристанище, — вот два здания, какие только оживляют уединенные лесистые окрестности церкви. Русский дом своею необыкновенною архитектурою останавливает внимание всех посетителей Петропавловской церкви, которые не упускают случая осмотреть все принадлежности». В 1820 году Александра Федоровна совершает поездку в родные места. Подъехав к только что построенному Никольскому, Фридрих Вильгельм сказал дочери: «Смотри, русский сельский дом! Он — точная копия той избы, которая так тебе понравилась и в которой мы так радовались, когда я посетил тебя в Петербурге. Ты хотела тогда такой дом и сказала, что в нем можно было бы проводить время так же приятно, как и в королевском дворце. Я запомнил твои слова и в воспоминание о них распорядился построить здесь такую же. Нынче ее открытие, и в честь дорогого тебе имени ей следует называться Никольское». Никольское стало отправной точкой в создании «бревенчатого» Потсдама. Почти одновременно Огюст Монферран проектирует деревенские избы для петербургского Екатерингофа, который возник в Петровскую эпоху, но в 1824 году был превращен в общественный пейзажный парк. Избы, занятые рестораном и кафе, произвели большое впечатление на публику, архитекторов и литераторов, а упрощенный по сравнению с глазовскими постройками Росси фасад избы с крупными окнами в двух этажах стал эталоном «русского стиля». Настоящая деревня с коровами, навозом и шумным семейным бытом не слишком уместна в императорской резиденции. Слияние с народной стихией в романтическую эпоху обеспечивали инвалиды — отставные бессемейные солдаты, не годные к строевой службе, но вполне способные следить за порядком в саду, преданные и дисциплинированные люди, вышедшие из деревни и так в нее не возвратившиеся. В первом русском садовом путеводителе (впрочем, написанном по-немецки и принадлежащем перу члена Санкт-Петербургской Академии наук Андрея Карловича Шторха) отставной солдат, надзиратель Павловска, предстает в качестве сельского философа. В Старом Шале автор встречает ветерана, живущего в добровольном затворничестве, в обществе кошки и пастушьего рожка. «Тому, у кого столько дела, как у меня, никакая не ведома скука. Рано утром будят меня лесные странники, чтобы я принимался за мою веселую ежедневную работу. Летом я занят своим садом. Зимой до обеда собираю дрова и хворост. ...Ближе к вечеру я рассматриваю свои награды, чищу их и рассказываю тем временем о днях сражений, которые дали мне возможность их заслужить. ...Вот так, уважаемый господин, прошло уже десять лет, как я не видел России. Но прожитые здесь многие недели мне кажутся очень радостными». «Письма о саде в Павловске» изданы в 1804 году, в начале периода, когда парком владела вдовствующая императрица Мария Федоровна. В «Письмах» Федора Михайловича Глинки, относящихся к времени создания Глазовой и Никольского, ветераны становятся символом Павловска и благотворительных устремлений императрицы. «Как они услужливы, приветливы, добрые раненые солдаты! как ласково всякаго встречают, с каким удовольствием отворяют домики, храмы, беседки! как проворно перевозят чрез речки на паромах и плотах! — Вся их должность состоит в этом. — А сколько, ты думаешь, здесь раненых солдат. — 2000! Этаго недовольно: милосердая ГОСУДАРЫНЯ берет еще третью тысячу на собственное Свое попечение. Они все сыты, одеты, обласканы и получают хорошее жалованье». Глинка подчеркивает душевную привязанность инвалидов к своей хозяйке. «Надобно видеть, как они стараются угодить своей ГОСУДАРЫНЕ, с каким усердием стерегут вверенное им и с каким веселым лицом и с каким простосердечным восторгом говорят о милостях и щедротах Ея. А знаешь, как они (все инвалиды сии) называют ГОСУДАРЫНЮ?.. Матушкою… Они говорят: “сегодни Матушка гуляла там-то; а завтра сюда придет”. Вчера, говорил мне один инвалид: “Матушка горько плакала, отпуская солдат с молебном и с хлебом и солью в поход!” Они все, как сговорились, иначе не называют Ее как Матушкою»14. Напомним, что речь идет о бывшей Вюртембергской принцессе Софии Доротее Августе Луизе. Через много лет путеводитель по Павловску сообщает: «Из казенных зданий, вне сада, замечательно Монтмартр, как заведение, открытое покойною Императрицею Марией Федоровной в 1815 году 29 Июня, для заслуженных воинов, участвовавших в делах при взятии Парижа». Соединением военного мемориала, пристанища для ветеранов, сельского колорита и «московской» символики стал проект размещения солдат-певцов в особом месте на краю Потсдама. Идея русской деревни принадлежала самому Фридриху Вильгельму, и ее воплощение в жизнь ускорила внезапная кончина Александра. В указе от 10 апреля 1826 года прусский король объявил о намерении создать деревню для русских «солдатпевцов»: «Мое желание состоит в том, чтобы в память дружеских уз между Мною и великодушным Императором Российским Александром основать возле Потсдама поселение, в котором я желаю поместить в качестве жителей врученных Мне Его Величеством с 1812 до 1815 года <…> русских певцов и которое желаю назвать Александровка». В оригинале стоит слово Colonie, которое приобрело особый, «немецкий» оттенок в России с восемнадцатого века. «Колонисты» в России — это немецкие переселенцы, живущие обособленной общиной. Русские «колонисты» в Потсдаме тоже образовали особый мирок, связанный с жизнью королевского двора. Уникальный облик Александровки определяют две главные ее черты — архитектура зданий и планировка территории. Здесь тоже сложился компромисс между русским и прусским началами. Фасады изб очень похожи на те, что уже существовали в деревне Глазовой. Однако капитан Адольф Снетлаге, выполнявший архитектурную часть проекта, бывал в России и мог использовать свои собственные впечатления. Что касается планировки, она была поручена «директору садового устройства» Потсдама, гениальному ландшафтному архитектору Петеру Йозефу Ленне. Король хотел создать мемориальный ансамбль как можно скорее: Александр скончался 1 декабря 1825 года, Ленне получает место для поселения и проектное задание 10 февраля 1826 года, а в середине того же месяца Фридрих Вильгельм обсуждает с ним три варианта плана. В отличие от Павловска с его «большими кругами», планировочными элементами Потсдама эпохи Ленне служат античные формы, среди которых архитектор особенно любил удлиненный амфитеатр. Этому способствовало и знаменитое описание античной виллы в Этрурии, составленное Плинием Младшим. Зеленые амфитеатры и цветочные круги Ленне устраивал в новой части парка Сан-Суси, окружающей дворец Шарлоттенхоф. Александровка должна была расположиться на самом краю ровной городской территории, под высоким Троицыным холмом (Pfingstberg), где впоследствии построили колоссальный Бельведер. Первый вариант плана Александровки представлял собой зеленый клин, в центре которого располагалась деревенская улица, а в конце ее, на склоне — площадь с предусмотренным в проекте православным храмом. Во втором варианте участок имеет форму прямоугольника, ориентированного на церковь — она отделена от деревни и возвышается на склоне Троицына холма. Третий вариант, по всей видимости, отражает планировочную идею короля. Прямоугольный участок закруглен по узким сторонам и образует амфитеатр, но главное новшество заключается во внутренней его разбивке: продольную осевую улицу пересекают диагональные аллеи. Так в планировку мемориальной деревни входит военный символ — знак ордена Андрея Первозванного. Однако, судя по всему, король указал Ленне на два недостатка проекта — спор осевой и диагональных дорог и слишком жесткое, не связанное с пейзажным вкусом эпохи, размещение храма по этой осевой дороге. Четвертый, осуществленный вариант плана поистине замечателен: вместо оси его разрезают две диагонали, усадебные участки разделены на сектора, а храм высится над деревней и городом среди пейзажного парка и извивающихся по склону широких дорожек. Упоминавшийся указ был издан по готовым проектным материалам. Проект Ленне утвержден около 17 февраля, через десять дней поступило распоряжение о начале работ, 22 марта Ленне и Снетлаге представляют смету строительства. В отличие от Глазовой и Никольского, бревенчатая кладка в Александровке не настоящая. Дома построены в технике фахверка — деревянные балки с заполнением из кирпича, а половины бревен прикреплены ко всем четырем фасадам. Для русских колонистов предназначались двенадцать изб, в центре же размещен дом немецкого надзирателя. Поскольку среди песенников были фельдфебель и унтер-офицеры, четыре дома, предназначенные для них, были сделаны двухэтажными. Строительство завершилось в течение года, чуть позже сооружен большой дом на холме, возле не построенной еще «капеллы». Формально являясь домом настоятеля храма, он служил также местом для визитов Фридриха Вильгельма. При этом создавали не просто дома, а настоящие усадьбы, снабжая их мебелью, посудой, постельным бельем, сельскохозяйственными орудиями. Король позаботился о том, чтобы население Александровки было домовитым, а семейная преемственность ветеранов строго соблюдалась. Согласно составленным им правилам, дома нельзя было перестраивать или сдавать внаем, все колонисты должны были иметь семью, дом переходил по наследству старшему сыну при условии, что он исповедует православную или протестантскую — то есть принятую либо в России, либо в Пруссии — веру. Благодаря этим распоряжениям в трех из двенадцати домов до сих пор живут потомки первопоселенцев — Григорьева, Шишкова и Анисимова. 2 апреля 1827 года состоялась передача усадеб ее первым обитателям. Судя по возрасту, большинство русских песенников действительно были ветеранами. Сведения о них сохранились благодаря надзирателю и летописцу колонии фельдфебелю Карлу Вильгельму Риге. Вот имена первых александровцев — в скобках приведен их возраст на время открытия деревни: Фельдфебель Иван Вавилов (50); Унтер-офицер Степан Волгин (49); Унтер-офицер Иван Тимофеев (32); Унтер-офицер Иван Яблоков (48); Петр Алексеев (41); Петр Анисимов (52); Ефим Гавриленко (42); Иван Григорьев (51); Дмитрий Сергеев (39); Петр Ушаков (41); Федор Фокин (41); Василий Шишков (41). Жалованье было небольшим, поэтому они зарабатывали подсобными занятиями: Яблоков вел торговлю, Волгин и Тимофеев шили перчатки, Фокин сапоги, Алексеев изготавливал шляпы, а Гавриленко стал преуспевающим садоводом. Ветеранам были выданы коровы, но эта черта просвещенческой утопии оказалась в Потсдаме совершенно не к месту. Пасти их было негде, поэтому от скотины старались избавиться. В хозяйственный облик Александровки внес свою лепту и садовый архитектор Ленне: в лучшие годы здесь насчитывалось до шестисот сортов яблонь. Поскольку дом церковного старосты Кондратия Ермолаевича Тарновского находился на живописном склоне горы, король устраивал здесь придворные чаепития с участием русских певцов. Федор Фокин вспоминал и о праздниках во дворце Сан-Суси: «Бывало король созовет гостей в Сансасею, да во время кушанья и заставит нас петь русские песни. А я был запевала. Вот я и запою: “Ну-ка русские солдаты! Пойдем немцев выручать. Хоть они на нас сердиты, мы пойдем за них страдать”. А король и засмеется этой песне. А гости-то, разные принцы, и спрашивают: что-де они там такое веселое поют? ...Король очень хорошо знал по-русски и с нами-де все по-русски говорил»18. Православный храм на холме, который во время строительства Александровки получил название Александерберг, был предметом государственной политики. Его проект создал петербургский архитектор Василий Петрович Стасов, уменьшив и изменив «византийские» формы Десятинной церкви, которую он в это время проектировал для Киева. Закладка постройки происходила 11 сентября 1826 года, в день Александра Невского, патрона потсдамского храма. На закладном камне на двух языках было написано: «...В знак незабвенной памяти яко вечный монумент искренней приверженности и дружбы во блаженной памяти ко представившемуся 1 декабря / 19 ноября 1825 года всероссийскому Императору Александру Павловичу. Сей камень положен на воздвижение Храма восточной Апостольской и соборно-кафолической Веры во имя Святого благоверного великого Князя Александра Невского, в учрежденном Его Величеством из русских песельников хора 1-го Гвардейского пехотного полка приходе, называемом Александровка...». .Строительство вел Карл Фридрих Шинкель, придворный архитектор короля, и интерьер церкви выдержан в духе привычного для него классицизма. Освящение храма состоялось ровно через три года после его закладки. Храм не только хорошо сохранился: здесь постоянно идут православные богослужения, а в его ограде возникло небольшое русское кладбище. Под иконой Георгия Победоносца находится доска с надписью «Памятные медали умерших русских певцов из Колонии Александровка». По ней видно, что у Гавриленко и Волгина было по четыре награды. По истории Александро-Невского храма можно проследить и историю всей колонии. В 1838 году умирает первый настоятель, долгое время богослужения совершаются лишь батюшкой, приезжающим из Берлина, и уже в 1837 году он пишет в Петербург о необходимости вести службы на немецком языке... В 1857 году священник сообщает в Синод, что община из русской стала немецкой. В 1861 году умирает последний из первопоселенцев, а во втором поколении лишь сын Ивана Яблокова Александр крестит своих детей в православную веру. В течение многих лет православная культура в Потсдаме тлеет, словно огонь под пеплом. В «русском законе» пребывает семья Яблоковых, в 1894 году немец Антон Фердинад Гёкен, помощник посольского батюшки, становится православным настоятелем храма. Образуется небольшая немецкая община. В надгробной речи над могилой одной из прихожанок, Паулиной Негенданк, священник говорил: «Живя поблизости, как бы под самою стеною православного храма на Kapellenberg, она радовалась достигавшему до нее звону колоколов, и когда она была здорова, — она усердно спешила в этот храм на молитву. Познакомившись с содержанием и характером нашего богослужения, ...она несколько лет назад и сама захотела сделаться членом нашей Потсдамской церковной общины». Эта речь произнесена в 1914 году, за несколько месяцев до момента, когда слова «Веселись солдат с солдатом, / Русский с храбрым Пруссаком» станут казаться невероятным историческим курьезом. В архитектуре России «рыцарские» устремления и политические взгляды Николая I сыграли не меньшую роль, чем решительный поворот от рококо к классицизму, совершившийся по воле Екатерины II в эпоху Просвещения. Новшества появлялись в императорских загородных резиденциях, потом распространялись на столичные дворцы, а уже затем шли в массовое проектирование. В отходе от строгих правил классицизма, начавшемся в 1830-е годы, можно различить два импульса, две общественные темы — свобода творческой фантазии и государственная «строгость». Поручая Адаму Менеласу украсить бастион бывшего Зверинца в Царском Селе Белой башней — воображаемым фрагментом европейского замка, Николай дополнял мир греческих, египетских, китайских, турецких форм образом романтического средневековья. Во времена и географию романов Вальтера Скотта вводили посетителей Арсенал, построенный по образцу бельведера в английском имении Шрабс-хилл, огромная Шапель, представлявшая собой руину французского аббатства. Первым грандиозным опытом создания нового ландшафта стал парк Александрия на окраине петергофского ансамбля. Работы, начатые в 1825 году, производились с большим размахом — за пять лет высажено тридцать пять тысяч деревьев. Сердцем нового парка стал Коттедж — «сельский дворец», как его называет историк Петергофа. Его причудливые формы, чугунные решетки, готические интерьеры переносят посетителя в средневековую Англию. Но дворец и парк становятся также местом рыцарских игр и ритуалов, проводимых для детей императорского семейства, местом культа Белой Розы, который одновременно является уроком сыновней почтительности. Никогда ранее императорская резиденция не была украшена таким количеством маленьких домиков и детских сооружений. Для великого князя Константина Николаевича возле берега был построен «Дом адмирала», близлежащая Ферма после перестройки превратилась в огромный дворцовый комплекс, возле нее находился крошечный «Детский домик», на ручье стояла Детская мельница, рядом пожарное заведение с игрушечным снаряжением, в центре парка находился Сельский домик хорошо нам знакомой «русской сельской архитектуры». Именно в этом новом мире, который хочется назвать не дворцовым, а усадебным, император начинает эксперимент по созданию «Прусской России». Во время пребывания в Берлине он встречается с Шинкелем и заказывает ему проект сельской церкви для Александрии. Перекличка с только что построенным потсдамским храмом на Александровой горе очевидна, и петергофская церковь также посвящена Александру Невскому. Великолепный готический облик Капеллы был бы чужеродным в парке Царского Села или Павловска. Но в романтической обстановке Александрии, над склоном, уходящим к морю, Капелла стала частью живой картины, напоминающей пейзажные полотна Каспара Давида Фридриха. Именно в эти годы для Коттеджа приобретено несколько картин немецкого художника22. Знакомясь с работами и проектами Карла Фридриха Шинкеля, российский император видел, что в его творчестве сосуществуют романтическая готика и классический, «греческий» стиль, отличающийся необычными чертами. В 1826 году, одновременно с работами по Коттеджу, в Потсдаме начинается строительство дворца (немцы предпочитали название «замок») Шарлоттенхоф. Этот комплекс, с одной стороны, чрезвычайно античен — портик, атриум, пергола, сад-театр, с другой — создан по вольным законам романтической фантазии, с третьей — своими упрощенными лаконичными формами производит необычно стройное и строгое впечатление. Николаю I нравился «неогреческий» стиль, в котором соединялись романтика, классика и имперская представительность. Об этом свидетельствует и привлечение Лео фон Кленце, еще одного выдающегося мастера «неогрека», к проектированию Нового Эрмитажа. Однако российскому императору нужен был свой архитектор. В начале 1830-х годов Александр Христофорович Бенкендорф приглашает Николая I в усадебный дом, построенный в его эстляндском имении Фалль молодым помощником Монферрана Андреем Штакеншнейдером. Дом, который современники в один голос именуют «замком», напоминал новый императорский дворец: «…западный фасад замка похож своими готическими рамами, ступенями и расположением цветов на одну из сторон Александрийского Дворца в Петергофе»23. И в то же время его облик оказался острее, «западнее», а композиция объемов — мощнее, упорядоченнее, монументальнее, нежели в ажурном, прихотливо составленном из отдельных частей здании Коттеджа. В 1834 году Николай I поручает Штакеншнейдеру работу над интерьерами дачи принца Ольденбургского на Каменном острове, в тот же год архитектор получает звание академика, а в следующем выполняет очень личное поручение Николая I — строительство Никольского домика в Петергофе. Этому неожиданному успеху зодчий был обязан новой архитектурной манере. Его творческая жизнь начиналась в трудных обстоятельствах. Сын мельника из окрестностей Гатчины, Генрих Штакеншнейдер не имел никаких связей с художественной средой немецкого Петербурга. Не закончив Академию художеств из-за материальных трудностей семьи, получивший в 1829 году отказ императора по поводу производства в первый, самый низший, чин, молодой архитектур мог рассчитывать только на поддержку знавшего его талант Огюста Монферрана. В 1830 году он почти на полтора года уезжает в Европу для лечения. Поездка дала ему и необходимые впечатления от старинной и современной архитектуры. По возвращении Монферран рекомендует его Бенкендорфу, и замок в Фалле становится одним из образцов русского архитектурного романтизма. Обстоятельства создания Никольского домика на берегу Запасного пруда в Петергофе возвращают нас к истории «избы Никольское» в Потсдаме. Также поставленный у воды, он представлял собой большую избу, и открытие его также было сюрпризом для дочери Фридриха Вильгельма. Однажды Николай уехал из дворца в Петергофе, пригласив императрицу встретиться у нового павильона. Это событие подробно описал историк Петергофа Александр Федорович Гейрот. «Приехав к месту любимых своих прогулок, к крайнему удивлению, государыня увидела щеголеватую русскую избу, с крылечка которой сошел отставной солдат, в форменном сертуке с золотым галуном на воротнике, и нашивками на левом рукаве. Он подошел к коляске и с глубоким почтением просил государыню сделать ему честь отдохнуть в его избе. Государыня тотчас же узнала в ветеране своего мужа, который, однако, продолжал сохранять принятую на себя роль. Государыня вошла в избу, где ее ожидали, выстроенные в ряд, все ее сыновья и дочери. “Позвольте мне”, говорил ветеран, “представить Вашему Величеству по имени всех моих детей, и поручить их могущественному покровительству матушки-царицы. Старший мой сын уже флигель-адъютант, хотя ему едва минуло девятнадцать лет, об нем я и не прошу, но за трех остальных моих сыновей и трех дочерей, я должен обратиться к Вашему Величеству с просьбою. Десятилетнего Константина я назначаю во флот, семилетнего Николая — в инженерный корпус, меньшого Михаила — в артиллерию. Старшую дочь мою, Марию, я бы желал пристроить в Смольный; вторую, Ольгу, — в Екатерининский, а младшую, Александру, — в Патриотический институты”». В 1837 году Штакеншнейдер вновь едет за границу — на этот раз за казенный счет и для совершенствования архитектурных знаний. Побывав в Италии и Франции, он подробно изучает и новейшую архитектуру Англии и Германии. Его планы тесно связаны с начинающимся созданием «Русской Пруссии». В этом же году Николай I распоряжается о начале земляных работ и создании живописного пруда с двумя островами рядом с Никольским домиком. В 1842–1844 годах на бульшем из островов строится «помпеянская вилла», удивительно схожая с неогреческими постройками Шинкеля в Потсдаме — Шарлоттенхофом, Римскими банями, Казино в Глинике. 6 августа 1844 года вилла представлена и подарена императрице, а остров и пруд Николай повелевает называть Царицыными. И.О.Пащинская, хранитель ансамбля, указывает на черту, роднящую петергофские и потсдамские постройки, — мечту об Италии. И Павлиний, и Царицын острова сравнивали с островом-садом Изола Белла. Английская посетительница Петергофа решила, что Царицын и Ольгин острова прямо изображают два знаменитых острова на Лаго Маджоре: «…Мы видели два острова Isola Madre и Isola Belle, два острова на искусственном озере, где два итальянских павильона построены для императрицы: это прекрасные домики; оба острова полны садами, цветами и статуями…» Но мечта о южном рае принимает под пером Шинкеля и Штакеншнейдера четкие и строгие архитектурные формы. Павильоны и перголы сформированы из простых объемов и чистых плоскостей, фрески и статуи не закрывают широких светлых стен, цветочным клумбам придана правильная круглая или прямоугольная форма. В споре геометрии линий с живой стихией цветущих, благоухающих растений также проявляется общая идея: романтический настрой, классическая красота, государственная значительность. Традицию садовых подарков продолжил брат Александры Федоровны, ставший королем Фридрихом Вильгельмом IV. В 1850-е годы он заказывает три одинаковые «хрустальные» колонны, голубые и белые каннелюры которых напоминают о флаге Баварии, родины его супруги. Официальность замысла смягчалась скульптурой, венчающей каждую из колонн — девочка, кормящая попугая. Одна колонна была подарена супруге короля и находится в потсдамском саду Марли. Другую Фридрих Вильгельм подарил кузине, ставшей баварской королевой. Крошечный Розовый остров на Штарнбергском озере был превращен в сад по проекту все того же Ленне. А третья колонна отправилась в Россию, на Царицын остров, «прусский» облик которого уже создали Штакеншнейдер и Эрлер. Хрупкие колонны погибли в перипетиях двадцатого века, но недавно Дирекция садов Пруссии возобновила и вновь подарила их садампобратимам. Штакеншнейдер становится главным садовым архитектором Николая I. Он внедряет суровую темную колоннаду Львиного каскада (1853) в барочное буйство Нижнего парка в Петергофе, создает вокруг Царицына пруда череду спокойных, похожих друг на друга башен — Царицын и Ольгин павильоны, Озерки (1845), отмечает начало пути вдоль Самсоновского водовода лаконичным, распластанным зданием Мельницы (1847). В 1852 году утвержден проект дворца Бельведер, поднятого на огромную высоту Бабигонского холма и позволяющего разглядеть вдали купола Петербурга. Периптер, поставленный на высокий каменный цоколь и окруженный колоннадой серого гранита, производит двойственное впечатление — его облик суховат и торжествен. Именно это сочетание отвечало архитектурному вкусу императора. В отличие от пластичного, насыщенного разнообразием решений творчества Шинкеля, российский архитектор создает романтическое единообразие, государственную пейзажную архитектуру. Штакеншнейдера приглашали в тех случаях, когда был необходим имперский стиль. После польского восстания 1831 года Софиевка, знаменитая романтическая усадьба Потоцких, поступила в казну и была подарена Александре Федоровне. Для внесения должных архитектурных акцентов в имение, которое теперь называют Царицыным садом, зодчий дополняет его всего двумя постройками. Одна из них — павильон-многогранник на острове посреди верхнего пруда («Сладкого моря»), она организует мягкие линии пейзажа и придает ему структурную определенность. Другая — павильон-пропилеи при подходе к нижнему пруду, которым заменили прежнюю легкую беседку. Его объемистые формы, горизонтальная лента колонн, мощная простая лепка объема сообщают фантастическому скальному пейзажу новое, строгое звучание. И наконец наступает момент, когда учитель и ученик «неогреческого» направления должны померяться силами. Вслед за удачным преображением петергофского пейзажа (сюда входят и многочисленные усадьбы по «петергофской перспективе», в том числе еща одна «помпеянская» вилла, созданная Штакеншнейдером в Сергиевке) император переносит новую архитектурную политику на берега Крыма. В древнем урочище Ореанда, неподалеку от Ялты, решено построить «античную» резиденцию. Место для дворца было выбрано еще Александром, но план строительства оформился только во время визита царской семьи в Крым в сентябре 1837 года. Император делает еще один сюрприз своей супруге. «Приехав к воротам, ведущим в Ореандский парк, император остановил лошадь и подошед к императрице, объявил, что он дарит ей Ореанду». Александра Федоровна через своего брата, кронпринца Фридриха Вильгельма, обращается к Шинкелю за проектом дворца — она полагала, что это будет уютная постройка, подобная Шарлоттенхофу. К этому времени архитектор захвачен утопическим духом «мечты о Греции» — в 1834 году проектирует для баварского принца Отто огромный дворец на афинском Акрополе. Проект «замка Ореанда», присланный в Россию в 1838 году, поразил заказчиков своим размахом и историзмом. Квадратный в плане дворец должен был венчать горную гряду и состоял из платформы с садами и прудами, на которой размещалось подобие Парфенона. В галерее дворца, оформленной, как коридор античного склепа, Шинкель разместил Таврический музей. Соединение Акрополя, садов Семирамиды и Золотого дома вызвало у Александры Федоровны недоумение и досаду. Она пишет брату в Берлин: «Почему было ему не создать более скромную возможность вместо этой невозможности, которая сулит славу наследников Митридата, но в которой никакой нет радости жить, и мы должны состариться, прежде чем завершим постройку»28. В итоге Шинкель получил гонорар и перстень с бриллиантом, но проект остался в копилке европейских архитектурных фантазий, подносимых российскому двору в расчете на его безграничные амбиции и ресурсы. Переработку проекта поручают Штакеншнейдеру, который уменьшает размеры дворца в несколько раз и придает ему строгие классические формы, знакомые нам по петергофскому Бельведеру. Центром фасада, как и на Бабигонском холме, становится портик с кариатидами. Примечательно, что архитектура Штакеншнейдера к этому времени воспринимается как «шинкелевская»: «Дворец на Южном берегу Крымского полуострова известен всем по великолепию, описанному многими в разных газетах и изданиях. Он построен в греческом, шинкелевском стиле. Постройка в натуре представляет величественный вид, напоминающий древнюю Тавриду с ее богатыми сооружениями греческих колоний»29. Для тех, кто видел ландшафты Петергофа и Потсдама в реальности, сходство «Прусской России» и «Русской Пруссии» не ограничивается архитектурным стилем. В парке Глинике находится копия царскосельской Молочницы, тоже размещенная на большом гранитном камне. Мощный сумрачный облик памятника Супругу Благодетелю в Павловске (проект Ж. Тома де Томона выполнен в 1803 году), видимо, повлиял на архитектурное решение Мавзолея в тихом уголке берлинского парка Шарлоттенбург — портик создан по проекту Генриха Гентца в 1810 году и был изменен Шинкелем в 1841-м. Широкие, пересеченные оврагами и склонами ландшафты парка Александрия близки многим сценам парка Бабельсберг. «Помпеянский» дворец в Сергиевке легкостью своих форм и связью с водной гладью напоминает изящное Казино в Глинике. Удивительно схожи аккуратные, компактные и декоративные группы руин в Глинике и на Царицыном острове. Они передают не разрушительную стихию времени, а его прирученное, введенное в рамки течение. Для обеих ландшафтных культур характерно желание поднять колоссальные постройки на эффектную высоту. Расположение петергофского Бельведера, с террасы которого виден Исаакиевский собор, и Бельведера на Троицыной горе, с которого виден Берлин, созвучны, а жесткие, угловатые формы двух построек имеют много общего. Можно предположить, что наполовину утраченный ландшафт николаевского Петергофа, над ровными лугами и озерами которого высились прямоугольные башенки дворцов, стал в глазах императора развитием композиций Шинкеля и Ленне, создавших пейзаж Потсдама и его окрестностей. Дворец в Ореанде был закончен в 1852 году, а Бельведер — через год после смерти Николая I. Завершается эпоха, однако жизнь романтических парков продолжается. Ореанда стала имением Константина Николаевича, а дворец после разрушительного пожара 1881 года сохранен в виде живописных руин, обвитых розами. Здесь рождается несколько лучших стихотворений русского символизма. В 1884 году Константин Николаевич решил выстроить из остатков дворца храм в память Александры Федоровны: «От Матушки я получил прелестный дворец, его более нет. ...Пусть же из остатков его созиждется Храм Божий. Мне кажется, эта мысль очень прилична, мила и достойна памяти Матушки». Деревня Глазова сгорела во время Отечественной войны, и только Круговая улица напоминает о ее существовании. Никольский домик в разобранном виде хранится в запасниках Петергофского музея — возможно, мы увидим его вновь. А Александровка живет и поныне. Трамваи объезжают зеленые сады по Пушкинской аллее, в одной из изб живет бургомистр Потсдама, а бывший дом Степана Волгина в 2000 году стал музеем. Иллюстрация. 1. Петергоф. 2. Царское село 3. Александровский сад Заключение. XVIII столетие — одна из самых блестящих эпох в истории человеческой культуры. Этот период европейской истории, находящийся, условно говоря, между двумя революциями — так называемой «славной революцией» в Англии (1688—1689) и Великой французской революцией 1789—1795 гг.,— именуют эпохой Просвещения. Действительно, центральным явлением культурной и идеологической жизни XVIII в. явилось движение Просвещения. Оно включало в себя политические, общественные идеи — прогресса, свободы, справедливого и разумного социального устройства, развития научного знания, религиозной терпимости. Но оно не было узкоидеологическим движением буржуазии, направленным против феодализма — и только, как это иногда утверждают. Знаменитый философ XVIII столетия, тот, кто первым подводил итоги этой эпохи, И. Кант, в 1784 г. посвятил Просвещению специальную статью «Что такое Просвещение?» и назвал его «выходом человека из состояния несовершеннолетия». Основные идеи Просвещения носили общечеловеческий характер. Одной из важных задач просветителей была широкая популяризация идей: недаром важнейшим актом их интеллектуальной и гражданской деятельности был выпуск в 1750-х гг. Энциклопедии, пересматривающей прежнюю систему человеческих знаний, отвергающей убеждения, основанные на невежестве и предрассудках. Просветители прежде всего были убеждены в том, что, рационально изменяя, совершенствуя общественные формы жизни, возможно изменять к лучшему каждого человека. С другой стороны, человек, обладающий разумом, способен к нравственному совершенствованию и образование и воспитание каждого человека улучшит общество в целом. Так, в Просвещении выходит на первый план идея воспитания человека. Вера в воспитание укреплялась авторитетом английского мыслителя Локка: философ утверждал, что человек рождается «чистым листом», на котором могут быть начертаны любые нравственные, социальные «письмена», важно лишь руководствоваться при этом разумом. «Век разума» — таково распространенное наименование XVIII в. Но отличие от ренессансного жизнерадостно-оптимистического убеждения в безграничных возможностях человеческого ума, в отличие от рационализма XVII столетия, считающего единственно достоверным рассудочное познание мира, мировоззрение эпохи Просвещения включает в себя понимание того, что разум ограничен опытом, ощущением, чувством. Просветительский оптимизм порой совмещался с иронией и скепсисом, а рационализм сплетался с сенсуализмом. Вот почему в эту эпоху одинаково часто встречаются и «чувствительные души» и «просвещенные умы». Вначале они сосуществуют в гармонии, дополняя друг друга. «Чем разум человека становится просвещеннее, тем сердце его — чувствительнее», — утверждают французские энциклопедисты. По мере движения века к его последней трети развиваются «руссоистские» идеи, противопоставляющие «природу» и «цивилизацию», «сердце» и «ум», «естественного» человека и человека «культурного», значит — неискреннего, «искусственного». Точно так же меняется на протяжении века характер и степень просветительского оптимизма, веры в разумное и гармоничное устройство мира. Поначалу успехи научной революции, особенно открытие Ньютоном закона всемирного тяготения, сформировали представление о вселенной как о едином и гармоничном целом, где все в конечном счете направлено к добру и благу. Этапным событием, которое внесло значительные сомнения в эти убеждения, было землетрясение в Лиссабоне в 1755 г.: город был разрушен на 2/3, 60 тысяч жителей его погибло. Беспощадность стихии стала предметом горьких размышлений многих просветителей, в частности Вольтера, посвятившего печальному событию, изменившему его представление о вселенной, «Поэму о Лиссабоне». Уже по одному этому примеру видно, что XVIII в. был эпохой, когда сложные философские идеи обсуждались не только в ученых трактатах, но и в художественных произведениях — поэтических, прозаических. Человек эпохи Просвещения, чем бы он ни занимался в жизни, был еще и философом в широком смысле слова: он настойчиво и постоянно стремился к размышлению, опирался в своих суждениях не на авторитет или веру, а на собственное критическое суждение. Недаром XVIII в. называют еще и веком критики. Критические настроения усиливают светский характер литературы, ее интерес к актуальным проблемам современного общества, а не к возвышенно-мистическим, идеальным вопросам. В этот «философский», как его справедливо называют, век философия расходится с религией, происходит процесс «секуляризации мысли». Получает распространение своеобразная светская форма религии — деизм: ее сторонники убеждены, что, хотя Бог и является источником всего существующего, он не вмешивается непосредственно в земную жизнь. Эта жизнь развивается по твердым, раз и навсегда установленным законам, познать которые могут здравый смысл и наука. Но не стоит думать, что эпоха Просвещения была скучным, сухим «ученым» веком: люди этого времени умели, по словам О. Мандельштама, «ходить по морскому дну идей, как по паркету», ценили увлекательность и остроумие, любили, когда смешивается «глас рассудка с блеском легкой болтовни» (Бомарше), а с другой стороны, высоко ставили чувствительность, эмоциональность, не стеснялись слез. Разнообразие идей, представлений, настроений эпохи отразилось в ее основных стилях и направлениях. Главным из них являются классицизм, рококо и сентиментализм. Список используемой литературы. 1. Культура эпохи Просвещения. М., 1993 2. Зарубежная литература эпохи классицизма и Просвещения. М., 1994 3.Аверинцев С. С. Два рождения европейского рационализма // Он же. Риторика и истоки европейской литературной традиции; Человек эпохи Просвещения. М., 1999 4. Кривушина Е.С. Французская литература XVII–XX вв. Поэтика текста. Иваново, 2002 5.С. М. Каверина «История маровой культуры» Киев 1999