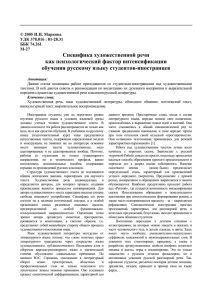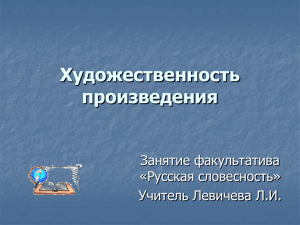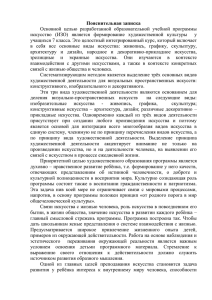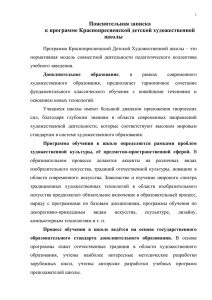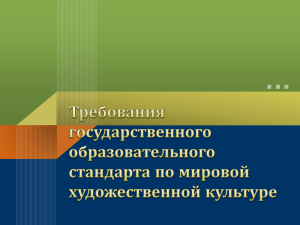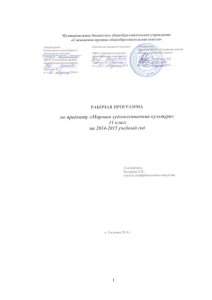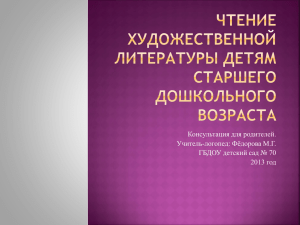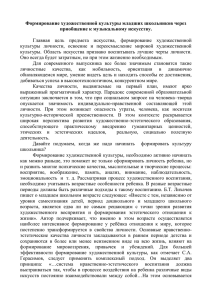I
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ
О.И. Федотов
ОСНОВЫ ТЕОРИИ
ЛИТЕРАТУРЫ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
И ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
Владос ГУМАНИТАРНЫЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ
О.И. Федотов
ОСНОВЫ ТЕОРИИ
ЛИТЕРАТУРЫ
В двух частях
Часть 1
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
И ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
Допущено Министерством образования
Российской Федерации в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальности 032900 «Русский язык и литература»
Москва
2003
УДК 821.0(075.8)
ББК 83я73
Ф34
Федотов О.И.
Ф34
Основы теории литературы: Учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведений: В 2 ч. — M.: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2003. — Ч. 1: Литературное творчество и литературное произведение. — 272 с.
ISBN 5-691-01138-3.
ISBN 5-691-01139-1(1).
Цель учебного пособия — помочь студентам усвоить основы
теории литературы: ознакомиться с основными и вспомогательными литературоведческими дисциплинами, овладеть соответствующими понятиями в их системной взаимосвязи.
Адресовано студентам высших учебных заведений, обучающимся по специальности 032900 «Русский язык и литература».
УДК 821.0(075.8)
ББК 83я73
ISBN 5-691-01138-3
ISBN 5-691-01139-1(1)
© Федотов О.И., 2003
© ООО «Гуманитарный издательский
центр «ВЛАДОС*, 2003
© Серия « Учебное пособие для вузов *
и серийное оформление. ООО «Гуманитарный издательский центр
«ВЛАДОС*, 2003
© Макет. ООО «Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС*, 2003
Предисловие
Книга предназначена для студентов и аспирантов филологических
факультетов, учителей и учащихся педагогических училищ, лицеев и
школ с гуманитарным уклоном как теоретическое обеспечение всех дисциплин литературоведческого цикла. Она может служить основным пособием по введению в литературоведение, теоретической и исторической
поэтике, а также теории литературы. Ее цель — подготовить начинающего филолога к профессиональной деятельности: чтению, устным выступлениям и письменным работам в области литературоведения; помочь
усвоить сложный категориальный аппарат теории литературы, истории
литературы и литературной критики; ознакомиться с основными и вспомогательными литературоведческими дисциплинами; овладеть соответствующими понятиями в их системной взаимосвязи.
Из трех основных литературоведческих дисциплин преимущественное внимание уделяется, естественно, теории литературы; из трех основных литературоведческих учений — учению о литературном творчестве
и литературном произведении; из многочисленных составляющих художественного произведения — стихосложению.
Одна из главных задач, которые ставил перед собой автор, — преодоление пережитков вульгарного социологизма и чрезмерной идеологизации литературы. Таково веление времени. Возвращая художественной литературе своевольно узурпированный марксистско-ленинской методологией эстетический суверенитет, целесообразно опереться на
традиции курса «Теории словесности», ныне упраздненного, занимавшего почетное место в учебных программах классической русской дореволюциионной гимназии, и на несомненные достижения современной теоретической и методической мысли, настаивающей на представлении о
литературе как специфической форме духовной деятельности человека.
Только решительный отказ от ложного представления, согласно которому художественное творчество лишь иллюстрирует идеи, добытые за его
пределами, директивно спущенные сверху и потому напрямую зависящие от господствующей политической доктрины, позволяет рассчитывать на то, что высшая школа, а с ней и средняя сумеют, наконец, вернуть утраченный интерес (и любовь!) к отечественной и зарубежной литературе.
С давних пор существует предубеждение против теоретического
разъятия тончайшей субстанции художественного текста, против поверки алгеброй гармонии, как будто «лишнее знание» может повредить
свежести восприятия. Опасения такого рода, конечно, неосновательны.
3
Во-первых, эмоциональный и интеллектуальный способы восприятия
текста не заменяют, а дополняют друг друга. Во-вторых, изучение литературного творчества, литературно-художественного произведения и литературного процесса протекает тем успешнее, чем более оно погружается в
разнообразные виды первичного научного анализа, когда каждое литературное явление обнаруживает свою специфику, классифицируется,
сопоставляется с другими явлениями и находит свое место в системе.
Процесс познания, таким образом, выходит за рамки простого репродуцирования, в него привносится нечто новое, пусть и на самом элементарном уровне. Это новое, самостоятельно добытое знание ценно и привлекательно само по себе, но, бесспорно, еще важнее его роль как мощного
стимулятора осознанного и целеустремленного изучения программного
и сверхпрограммного материала.
В предлагаемом пособии, если сравнивать его с традиционными учебниками по теории литературы, меньше места отводится категориям и
закономерностям литературного процесса, интересующим по большому
счету только литературоведов-профессионалов. Наоборот, повышенное
внимание уделяется учениям о специфике литературного творчества и
структуре литературного произведения как системного единства составляющих его элементов.
Читателя ожидает увлекательное путешествие в мир литературных
образов, типов, характеров, родов, видов и жанров; ему предстоит убедиться в том, что поэтический язык, внешне похожий на язык литературный и даже разговорный, имеет свои собственные законы, без знания
которых невозможно адекватно понять ни что такое литературное творчество, ни что такое литературно-художественное произведение.
Значительный по объему раздел книги посвящен стиховедению, которое по праву считается одной из самых развитых, престижных и преуспевающих отраслей современной литературоведческой науки. В то же
время стиховедческая подготовка, даже самая элементарная, требует
значительных временных затрат и специализированной методики обучения, приблизительно так же, как музыкальная грамота. Ни высшая
школа, ни лицеи, ни школы с гуманитарным уклоном, ни тем более общеобразовательная школа с этой трудоемкой задачей пока не справляются. Между тем добрая половина произведений, изучаемых на уроках
литературы, представляет собой стихи — речевую структуру, по сути
своей отличную от прозы и нехудожественной речевой практики.
Помимо системного освещения учений о литературном творчестве,
литературном произведении и литературном процессе в пособии содержатся обильные иллюстрации в виде анализа художественных текстов
классических произведений русской и зарубежной литературы.
Автор не склонен навязывать начинающему филологу собственную
точку зрения на литературоведение в целом и на отдельные его подразделения, предлагая целый спектр научных концепций по одной и той же
проблеме и тем самым предоставляя возможность самостоятельного оптимального выбора.
в ш ш
ЛИТЕРАТУРА
И
ЛИТ1РАТУРОВВДВНИВ
1
ЛИТЕРАТУР*
КАК НАУКА
НИВ
Многообразие литературных явлений
и понятие системности
Литературоведение — наука, изучающая специфику, генезис и развитие словесно-художественного творчества, исследующая идейно-эстетическую ценность и структуру литературных произведений, а также социально-исторические закономерности литературного процесса прошлого и настоящего.
Литературоведение прошло сложный и многотрудный
путь развития, прежде чем определилось как особая область
знания, сопредельная с эстетикой, искусствоведением, историей, культурологией, психологией, лингвистикой, фольклористикой и другими гуманитарными науками, обладающая
специфическим понятийным аппаратом, методологией и методикой.
Предмет литературоведения есть не что иное, как иерархически сложная совокупность литературных явлений. Литературными явлениями мы называем все, что имеет прямое или косвенное отношение к художественной литературе
во всех ее ипостасях: литературные произведения, жизнь и
творчество писателей, литературных критиков, теоретиков
и историков литературы, обстоятельства литературного процесса, перипетии литературной борьбы, прототипы литературных героев, закономерности читательского восприятия,
всякого рода документы и др. Рассматривать литературные
явления как хаотическое нагромождение, вроде кучи разнообразного хлама, которая предстала взору изумленного
Чичикова в горнице Плюшкина, неплодотворно; их многообразие может быть осмыслено и упорядочено с помощью
понятия системности.
6
Системой, применительно к искусству и
л и т е р а т у р е , принято называть художественно целесообразное объединение элементов, каждый из которых занимает
свое строго определенное место в иерархии образующих некое
гармоническое целое уровней.
Наглядной моделью системы технического свойства может служить, например, телевизор или радиоприемник. Если
мы снимем заднюю стенку, перед нами предстанет удивительно стройная комбинация панелей, плат и узлов, состоящих, в свою очередь, из конденсаторов, сопротивлений, диодов, триодов и пр. Любая деталь, лампа или полупроводниковая плата, извлеченная из системы, нарушает нормальную
работу всего устройства, а сама вне системы может быть
использована как угодно, только не по своему прямому назначению. Приблизительно так же устроена система и в сфере
искусства. Если мы попытаемся вычленить из произведения,
допустим, его главную мысль — идею, мы совершим некий
акт насилия, непозволительно сузив значение частного элемента.
В свое время Л.Н. Толстой на просьбу Николая Страхова
сформулировать идею «Анны Карениной» одной фразой ответил, что если бы он захотел «сказать словами все то, что имел
в виду выразить романом», ему пришлось бы заново написать
тот же самый роман. Художественное произведение для Толстого —/«собрание мыслей, сцепленных между собой, для выражения себя»; «каждая мысль, выраженная словами особо,
теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна
из того сцепления, в котором о^а находится» У Толстой с иронией отзывался о критиках, извлекающих из произведения
отдельные мысли, чтобы «выразить их словами»: «они знают
об этом больше, чем я». «Для критики искусства, — утверждал писатель, — нужны люди, которые показали бы бессмыслицу отыскивания мыслей в художественном произведении и постоянно водили бы читателей в том бесконечном
лабиринте сцеплений, в котором и состоит сущность искусства, и к тем законам, которые служат основанием этих
сцеплений» (Толстой JI.H. Письма Н.Н. Страхову от 23 и
26 апреля 1876 г . / / П о л н собр. соч.: В 90 т. M., 1953.
Т. 62. С. 268—269).
Художники всех времен и народов неустанно гармонизируют мир, пребывающий в хаосе, преобразуя его в космос
(порядок); каждое произведение есть частица этого гармонического целого и, в свою очередь, самодостаточное целое,
7
с художественно целесообразным соотношением составляющих его элементов. Понять эту зависимость — значит прикоснуться к тем законам, которые служат основанием для
«бесконечного лабиринта сцеплений», о котором говорил
JI. Толстой.
Возьмем в качестве иллюстрации знаменитую сцену охоты в Отрадном из «Войны и мира», блестяще проанализированную С.Г. Бочаровым (Бочаров С.Г. «Война и мир»
JI.Н. Толстого I/Бочаров С.Г., Кожинов В.В., Николаев ПЛ.
Три шедевра русской классики. M., 1971). Исследователь
ставит перед собой и перед нами отнюдь не праздные вопросы: какое место занимает сцена в «общей экономии»
толстовского романа? Как она соотносится с реальными
историческими лицами и событиями, описанными
JI.H. Толстым? С какими произведениями художественной литературы она так или иначе взаимодействует, обнаруживая в
этом взаимодействии дополнительные наращения смысла?
Чтобы ответить на поставленные вопросы, необходимо выявить внутреннюю структуру самой сцены.
С изумительным мастерством Толстой живописует («словами»!) серое осеннее утро. Герои, участники охоты, и, кажется, даже сам автор-повествователь переполнены ощущением
бодрой здоровой силы, полноты жизни, радости борьбы, неотвратимости предстоящего действа, которого все давно ждали, и теперь пришло понимание: «Нельзя не ехать!» (как обычно, Толстой вкладывает эти слова, выражающие общее мнение, в уста своей любимой героини Наташи Ростовой). Люди,
собравшиеся во дворе молодого барина Николая Ростова, относятся к охоте не как к развлечению или пустому баловству,
но как к чему-то подлинному, важному и серьезному (увидев
Наташу и Петю, дядюшка, было, нахмурился, поскольку, замечает Толстой, «не любил соединять баловство с серьезным
делом охоты»).
Другую художественную доминанту, организующую сцену, можно назвать р о к и р о в к о й л ю д е й и ж и в о т н ы х ,
р о д о в о й з н а т и и к р е п о с т н ы х к р е с т ь я н . В самом
начале сцены, когда Николай обсуждает детали охоты с егерем Данилой, тот смотрит на барина презрительно, как обычно смотрят профессионалы на любителей, дилетантов, «чайников». Николай понимает это и даже утешает себя мыслью,
что лишь во время охоты Данила смеет так на него смотреть;
вообще же, в обычное время, он «его человек», крепостной, как
и все остальные крестьяне. В дальнейшем Данила позволит
Я
себе и вовсе из ряда вон выходящее — замахнется арапником
на старого графа и оскорбит его нецензурным словом, потому
что чувствует себя, и не без оснований, полновластным Хозяином Охоты.
В изображении Толстого, лошади, собаки и волк последовательно очеловечиваются, меняются с охотниками местами, наделяются человеческими атрибутами и повадками.
Ср.: «Волк приостановил бег, неловко, как больной жабой,
повернул свою лобастую голову к собакам... В ту же минуту ... с ревом, похожим на плач,растерянно выскочила одна,
другая, третья гончая». Исход борьбы писатель описывает
через восприятие всех участников охоты, подводя общий
знаменатель под охотников, собак и волка. Все они уравниваются по крайней мере в понимании главного: «Очевидно
было и для охотников, и для собак, и для волка, что теперь
все кончено».
Идейный смысл рокировки людей и животных наиболее рельефно обнаруживается в эпизоде импровизированного соревнования собак, когда Николай соединяетчзвою охоту с охотой
богатого соседа Илагина, с которым Ростовы с незапамятных
времен были в ссоре. Желая выказать свою подчеркнутую приязнь по отношению друг к другу, вчерашние соперники взаимно хвалят собак: Николай — красавицу Ерзу, за которую Илагин отдал... три семьи дворовых крестьян (!), Илагин — Милку
Ростова, которая стоила тоже немалых денег. В травле зайца
участвует еще один соперник — красный горбатый кобель Ругай, принадлежащий дядюшке. Конечно, в соревновании собак
мы видим соперничество трех ветвей российского дворянства.
JI. H. Толстой не может отказать себе в удовольствии даровать
победу демократической ветви в лице дядюшки, живущего патриархальной роевой жизнью вместе со своими крестьянами.
С тонким психологическим проникновением писатель изображает поведение каждого из косвенных участников и свидетелей
этого символического соперничества: «Один счастливый дядюшка слез и отпазанчил. Потряхивая зайца, чтобы стекала
кровь, он тревожно оглядывался, бегая глазами, не находя положения рукам и ногам, и говорил, сам не зная с кем и что. «Вот
это дело марш... вот собак... вот вытянул всех, и тысячных и
рублевых — чистое дело марш!» — говорил он, задыхаясь и
злобно оглядываясь, как будто ругая кого-то, как будто все
были его враги, все его обижали и только теперь, наконец, ему
удалось оправдаться. «Вот вам и тысячные — чистое дело
марш!»
9
— Ругай, на пазанку! — говорил он, кидая отрезанную
лапку с налипшей землей. — Заслужил, чистое дело марш!
— Она вымахалась, три угонки дала одна, — говорил Николай, тоже не слушая никого и не заботясь о том, слушают
его или нет.
— Да это же впоперечь! — говорил илагинский стремянной.
— Да как осеклась, так с угонки всякая дворняжка поймает, — говорил в то же время Илагин, красный, насилу
переводивший дух от скачки и волнения. В то же время
Наташа, не переводя духа, радостно и восторженно визжала так пронзительно, что в ушах звенело. Она этим визгом
выражала все то, что выражали и другие охотники своим
единовременным разговором. И визг этот был так странен,
что она сама должна бы была удивиться ему, ежели бы это
было в другое время».
Наконец, возвращаясь от дядюшки поздно ночью, Наташа и Николай по старой детской привычке спрашивают друг
друга о чем они думают. Николай признаётся: «Вот видишь
ли, сначала я думал, что Ругай, красный кобель, похож на
дядюшку, и что ежели бы он был человек, то он дядюшку
бы держал у себя ежели не за скачку, так за лады все бы
держал. Как он ладен, дядюшка! Не правда ли?» (Т. II, ч. 4,
гл. VII).
Итак, мы видим: время охоты — особое время, когда возможны самые удивительные метаморфозы. Так же и время войны, когда в экстремальных условиях безусловным неформальным лидером нации становится народ со всеми вытекающими
из этого последствиями. В черновиках Толстого есть прямое
указание на то, что сцена охоты непосредственно рифмовалась
у него с батальными сценами: «Одинаково важны!» Соотносясь
по принципу «то и не то», они проясняют друг друга, взаимно
углубляют значение отдельных деталей. Например, в облике и
поведении волка парадоксальным образом просвечивают черты Наполеона, а егеря Данилы — Кутузова, что отчасти обеспечивается текстом-посредником — басней И.А. Крылова «Волк
на псарне». Известен исторический жест Кутузова, пригладившего свои серебряные седины при словах « Ты сер, а я, приятель,
сед...».
Понятие системности, как мы могли убедиться, универсально. Любое литературное явление можно рассматривать и
как системное единство составляющих его элементов, и как
элемент системы более высокого порядка.
10
Литература в целом, к примеру, есть элемент суперсистемы, в контексте которой литературное явление взаимосвязано с действительностью, писателем и воспринимающим (рецептером). Как работает эта система? Литература отражает
действительность, выражает писателя и через реципиента преображает действительность (У.Р. Фохт).
Таким образом, любое литературное явление есть
элемент системы, связанный со всеми остальными элементами и утрачивающий свою специфику в изолированном
виде.
Три основных рода литературных явлений
Выделяются три основных рода литературных явлений:
1) л и т е р а т у р н о е т в о р ч е с т в о как особый вид духовной деятельности человека;
2 ) л и т е р а т у р н о е п р о и з в е д е н и е как сложное
единство формы и содержания, модель реальной действительности в словесно-образном выражении;
3) л и т е р а т у р н ы й п р о ц е с с как последовательность
литературных явлений, подчиняющаяся закономерностям литературного развития.
Соответственно в основе литературоведческой науки лежат
три системно взаимосвязанных учения: учение о литературном творчестве, учение о литературном произведении и учение о литературном процессе.
Вопросы для самостоятельного изложения
1. Что такое литературное явление? Перечислите некоторые из них.
2. Что такое система применительно к литературоведению?
3. В чем состоит специфика литературно-художественного отражения действительности по сравнению с другими видами искусства?
11
4. Определите основные признаки и структуру литературно-художественного произведения.
5. Какова специфика литературного творчества как особого вида духовной деятельности человека?
6. Что такое литературный процесс? Перечислите составляющие его элементы.
ГЛАВА
2
ЛИТКРАТУРОВ1Д1НИЯ
Основные и вспомогательные
литературоведческие дисциплины,
их системное единство и взаимодействие
Основные литературоведческие дисциплины: теория литературы, история литературы и литературная критика, из
которых каждая имеет свою специфику и взаимодействует с
двумя остальными.
Теория литературы изучает социальную природу, специфику, закономерности развития и общественую роль художественной литературы, а также устанавливает принципы рассмотрения и оценки литературного материала (Г.JI. Абрамович); ее предметом являются наиболее общие категории
литературного творчества, структурные элементы литературно-художественного произведения и закономерности литературного процесса, т.е. сама сущность литературных явлений. Теория литературы отвечает на вопрос: что такое явления А и Б и из каких элементов они состоят?
П о э т и к а — составная ча!сть теории литературы, наука
о системе поэтических средств, о формах словесно-образного
выражения. Различают: общую (теоретическую), частные и историческую поэтики.
О б щ а я ( т е о р е т и ч е с к а я ) п о э т и к а изучает звуковое, словесное и образное строение текста.
Ч а с т н ы е п о э т и к и изучают всю совокупность индивидуальных средств художественного изображения и выражения в их системном взаимодействии.
И с т о р и ч е с к а я п о э т и к а изучает происхождение и
эволюцию отдельных изобразительно-выразительных средств
13
и поэтических форм, а также их совокупности относительно
национальных традиций, иноземных влияний, тех или иных
художественных систем, творчества крупных творческих индивидуальностей, выявляет их общий источник и устанавливает их типологию.
Поэтика — одна из самых древних дисциплин литературоведения, возникшая и сформировавшаяся еще в античной
Греции как теоретическое обобщение практического опыта
поэзии. Значительную часть поэтики составляет с т и х о в е д е н и е , включающее в себя теорию и историю стихотворной речи.
В связи с обострившимся интересом к проблеме ритма прозы, синкретических и смешанных стихо-прозаических форм
в современной литературоведческой науке отпочковалась особая дисциплина, получившая по аналогии со стиховедением
наименование — п р о з о в е д е н и е .
Столь же почтенный возраст, как и поэтика, имеет р и т о р и к а — наука о красноречии. В современной трактовке
она получила необоснованно расширенное истолкование (см.:
Дюбуа Ж., Эделин Ф., Клинкенберг Ж.-М., и др. Общая риторика. M., 1986; Историческая поэтика: Литературные эпохи
и типы художественного сознания. M., 1994).
Некоторые ученые наряду с теорией литературы выделяют еще одну теоретическую дисциплину — методологию литературоведения, разрабатывающую методологические принципы изучения литературных явлений; другие же считают ее
составной частью теории литературы. Вряд ли этот чисто схоластический спор заслуживает внимания.
История литературы исследует самый процесс литературного развития в его конкретных проявлениях, систематизирует факты, дает им оценку, определяет значение того или
иного произведения, писателя, течения, направления. История литературы изучает художественную литературу в ее исторически последовательном развитии от фольклора до наших
дней на фоне национальной или — шире — региональной истории. Как отмечал А.Н. Веселовский, «история литературы
в широком смысле этого слова — это история общественной
мысли, на сколько она выразилась в движении философском,
религиозном и поэтическом, и закреплена словом» (Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Л., 1940. С. 52).
Литературная критика призвана подвергнуть анализу современный литературный процесс, дать немедленную, оперативную оценку фактам живой литературной действительно14
сти. Литературная критика живо участвует в общественно-политической борьбе своей эпохи, сливается с публицистикой ц
в значительной мере сама является литературой о литературе
и обществе. Вот почему произведения литературных критиков имеют не столько научное, сколько эстетическое значение.
Большей частью они демонстративно субъективны, эмоциональны и образны.
К вспомогательным литературоведческим дисциплинам
относятся и с т о р и о г р а ф и я , б и б л и о г р а ф и я , э в р и стика, текстология, палеография, атрибуция
авторства, библиотековедение, музееведение
и пр.
И с т о р и о г р а ф и я призвана дать описание истории развития всех основных литературоведческих дисциплин: теории
литературы, истории литературы и литературной критики;
свою историографию имеют и вспомогательные дисциплины,
в том числе и сама историография.
Б и б л и о г р а ф и я — вспомогательная литературоведческая дисциплина, учитывающая и систематизирующая
как художественную литературу, так и разнообразные литературоведческие исследования. Библиографией приходится заниматься каждому литературоведу. Прежде чем приниматься за то или иное исследование, он должен выяснить,
где, когда и как издавался текст исследуемого произведения, выбрать оптимальное для своих нужд издание и составить как можно более полный список литературоведческих
работ, посвященных избранной теме. Поиск облегчают библиографы-профессионалы, составители всевозможных справочников, пособий, указателей, периодически издаваемых
библиографий, библиографы-консультанты, обслуживающие
все более или менее крупные библиотеки, а также их электронные заместители — мощные библиотечные терминалы
и Интернет.
Особый раздел библиографии составляет библиографическая эвристика — наука о путях разыскания нужных изданий и составления библиографических списков.
Целый куст взаимосвязанных дисциплин имеет своим
предметом его величество Текст; основные из них: т е к с т о л о г и я , исследующая динамику сменяющих друг друга редакций и становление окончательного, так называемого «канонического текста», п а л е о г р а ф и я , наука об индивидуальных почерках, особенно актуальная для древних
литератур, когда книги существовали в рукописном виде, и
15
а т р и б у ц и я а в т о р с т в а , разрешающая сомнения в случаях, если автор анонимен, псевдонимен либо авторство спорно (гомеровский вопрос, шекспировский вопрос, авторство
«Слова о полку Игореве», «Песен Оссиана», продолжения
пушкинской «Русалки», «Тихого Дона» и пр.).
Б и б л и о т е к о в е д е н и е и м у з е е в е д е н и е , в полном согласии со своими весьма прозрачными наименованиями, «ведают» фондами библиотек и литературных музеев.
Литературоведение сохраняет оживленные плодотворные
связи со смежными гуманитарными науками; в первую очередь, конечно, с лингвистикой, а также с историей, философией, эстетикой, этикой, психологией и пр.
Литературоведению не чужды и естественные науки: математика, кибернетика, астрономия и др. В 1960—1970 гг.
весьма популярными были симпозиумы под общим лозунгом»
«Содружество наук и тайны творчества», организатором которых был Б.С. Мейлах.
Вопросы для самостоятельного изложения
1. В чем сходство и различие основных литературоведческих дисциплин?
2. Какое место в системе литературоведческих дисциплин
занимает поэтика? Определите ее задачи и перечислите ее разновидности (с краткой характеристикой каждой).
3. Назовите ведущие вспомогательные дисциплины. Дайте им краткую характеристику.
Р
А
З
Д
Е
Л
2
УЧЕНИ1
О ЛИТЕРАТУРНОМ
ТВОРЧЕСТВ!
1
АИТВРАТУРА И ЖИЗНЬ
Художественная литература
в кругу других искусств
Термин «литература» (от лат. Iiteratura) буквально означает «письменность, все, написанное буквами». Однако обычно под ним подразумевается х у д о ж е с т в е н н а я л и т е р а т у р а к а к в и д и с к у с с т в а , основным материалом которого служит слово. Привычное словосочетание «литература и
искусство» не вполне корректно, поскольку литература также
является частью искусства. Как элемент системы она взаимодействует с живописью, музыкой, архитектурой, хореографией,
кинематографом и пр. Что-то берет от них и что-то, в свою очередь, отдает. В разные исторические эпохи лидирующую роль
исполняет попеременно то один, то другой вид искусства.
В античные времена, например, таким искусством-лидером
была скульптура как самый пластический вид искусства.
В средние века тон задает архитектура, в эпоху Возрождения
— живопись, XVII—XVIII вв. — эпоха безраздельного господства театра. В XIX в. также безусловно превалирует литература. Наконец, в XX в. настоящими триумфаторами стали кинематограф и телевидение.
Соответственно а н т и ч н ы й поэтический образ отличался скульптурностью, с р е д н е в е к о в ы й — монументальностью, р е н е с с а н с н ы й — тонкостью психологической
нюансировки, к л а с с и ц и с т и ч е с к и й — театральностью , п р о с в е т и т е л ь с к и й — публицистичностью и дидактизмом, м о д е р н и с т с к и й и п о с т м о д е р н и с т с к и й — динамикой стремительно меняющихся планов, их
18
прихотливым «монтажом». Р е а л и с т и ч е с к а я литература XIX в., напротив, кардинально олитературила живопись
(передвижники), музыку («Могучая кучка») и даже появившийся к концу столетия кинематограф, в котором видеоряд
органически дополнялся титрами.
С древнейших времен предпринимались попытки систематизировать разнообразные виды искусства в рамках единой классификации. Сложность, однако, состояла в том, что
первоначально, как неопровержимо доказал А.Н. Веселовский, все они находились в синкретически слитном, нерасчлененном состоянии. В дальнейшем, развиваясь из единого корня, они постепенно обособились, дифференцировались,
хотя и сохранили некоторые элементы общности и взаимодействия.
Наиболее принятая классификация делит искусства на
п р о с т р а н с т в е н н ы е (скульптура, архитектура, живопись), в р е м е н н ы е (музыка) и с и н т е т и ч е с к и е (театр, литература, кинематограф). Опровергая утвердившуюся с античных времен формулу «Живопись есть молчащая
поэзия, а поэзия говорящая живопись», Г.Э. Лессинг в трактате «Лаокоон» показал, что поэзия — искусство наиболее
широкое, которому доступны такие красоты, каких никогда не достигнуть живописи. Синтетическая природа искусства слова позволяет ему вторгаться на территорию «соседей», используя пространственные, пластические и колористические завоевания живописи и скульптуры, а также
динамические и мелодические свойства музыки; для создания литературной образности она нередко апеллирует к интеллекту или таким нетрадиционным в эстетическом отношении чувствам и ощущениям, как осязание и обоняние.
Поэтому для художественной литературы нет запретных тем.
Художественная литература изображает жизнь в целом, не
считаясь с разрешающей способностью своего языка. Именно по этой причине Фридрих Энгельс, прочитав «Человеческую комедию» Бальзака, «...узнал даже в смысле экономических деталей больше, чем из книг всех профессиональных
историков, экономистов, статистиков этого периода, вместе
взятых». Иными словами, писатель, как Господь Бог, моделирует, творит вторую действительность во всем ее многообразии как системное единство бесчисленных реалий,
свойств и особенностей.
19
§5
Сфера художественной литературы
Специфика художественной литературы, по сравнению с другими видами искусства, в том, что она о т р а ж а е т д е й с т в и т е л ь н о с т ь и выражает писателя п о с р е д с т в о м с л о в а .
Сфера художественной литературы беспрецедентна по широте и всеохватности. Литература может выразить все, что
может выразить слово, а слово может выразить все!
Многообразие сферы художественной литературы структурируется и дифференцируется интегрирующей идеей человекоцентризма. Главный объект литературного изображения,
субъект выражения (писатель) и одновременно адресат эстетического воздействия (читатель) — частный человек. Художественная литература изображает все, что интересно человеку. Этим она коренным образом отличается от науки.
Предмет художественной литературы
Предмет художественной литературы — весь мир и отдельный человек. В центре художественного космоса «человек в его
отношениях к природе, обществу и самому себе» (Н.Г. Чернышевский). Может ли литературно-художественное произведение обойтись без человека? Внешним образом, да. В так называемой пейзажной лирике бывает изображение «чистой природы». Но кому придет в голову воспринимать лермонтовское
стихотворение «Парус» как описание морского пейзажа с одиноким парусом без видимого присутствия живого человека?
Или пушкинский «Кавказ» как простую фиксацию горного
ландшафта? «Описание красот природы, — писал В.Г. Белинский, — создается, а не списывается, поэт из души своей воспроизводит картину природы или воссоздает виденную им; в том и
другом случае эта красота выводится из души поэта, потому что
картины природы не могут иметь красоты абсолютной; эта красота скрывается в душе, творящей или созерцающей их».
Человеческое содержание несет в себе и в е щ н ы й м и р ,
воссоздаваемый художественной литературой. Вещи, как
правило, хранят на себе отпечаток их владельца. Таковы
20
предметы домашнего обихода Собакевича; все они как бы
кричат наперебой: «Я — Собакевич! Я — Собакевич!» А разве мало информации о Плюшкине дает нам куча хлама, которую обозревает в его горнице Чичиков? Не менее выразителен клинок кинжала, изображенный в лермонтовском
стихотворении «Поэт», где предмет лирической медитации
символически переосмысляется в развернутом сравнении.
Но самая эффектная рокировка, уходящая своими корнями в архаичные мифологические представления о племенных
тотемах, происходит между л ю д ь м и и ж и в о т н ы м и . Мы
уже имели случай убедиться в этом, анализируя вслед за
С.Г. Бочаровым сцену охоты из «Войны и мира». Еще разительнее проявляет себя человеческая ипостась в таких хрестоматийно известных образах животных, как «Белый
клык» Джека Лондона, «Каштанка» и «Белолобый» А. Чехова, «Царь-рыба» В. Астафьева и Меч-рыба из рассказа
Э. Хэмингуэя «Старик и море», «Моби-Дик» Г. Мелвилла и
многочисленные персонажи-животные в романах и повестях Чингиза Айтматова «Пес, бегущий по краю моря», «Белый пароход», «Буранный полустанок», «Плаха».
Показателен в этом смысле случай с повестью Л.Н.Толстого «Холстомер». Прочитавший ее И.С. Тургенев написал автору: «Лев Николаевич, теперь я вполне убедился, что Вы были
когда-то... лошадью...» Если не понимать пословицу
«В каждой шутке есть доля истины» слишком буквально, придется спокойно, не вдаваясь в мистику, констатировать: один писатель признал право другого перевоплотиться не только в инобытие совершенно чуждого ему человека, но и в символический образ животного. Подобно Холстомеру, Толстой был вечно и во всем
«пегим», выбивающимся из ряда: как аристократ, отказывающийся от своих сословных привилегий и видящий идеал в патриархальном укладе трудовой жизни вместе с простым народом, как
христианин, восставший против официальной церкви, отлученный ею и преданный анафеме, как писатель, не признающий авторитетов и призывающий своих коллег учиться писать у крестьянских детей, как семьянин, отрицающий институт брака... Но,
изображая действительность, особенно ее социальные аспекты,
через восприятие лошади, естественного существа, напрочь лишенного предрассудков, Толстой добивается ошеломляющего
эффекта остранения, усиливающего художественную выразительность и сатирический пафос произведения.
Предмет художественной литературы — человек в центре
окружающего его мира — явление исторически изменчивое,
21
эволюционирующее. Развитие предмета художественной литературы осуществляется как неуклонный процесс постепенного его «очеловечивания». Изображаемая действительность все
более и более насыщается человеческим содержанием. Так, в
архаический период античной литературы поэтический мир
населен богами и героями (полубогами, детьми так называемых
смешанных браков, когда один из родителей — божество, а
другой — смертный). Затем им на смену приходят базилевсы,
местные цари, жизнь которых не слишком отличается от жизни их подданных (вспомним царя феаков Алкиноя, его дочь
Навсикаю, стирающую вместе со своими рабынями белье, или
итакийского властителя, пользующегося гостеприимством свинопаса Эвмея, в гомеровской «Одиссее»). Далее социальный
статус главных героев закономерно понижается: полководцы,
представители дворянства, буржуазии, разночинцы, крестьяне, пролетарии... Чем ближе к нашему времени, тем больше
внимания привлекает человек как личность, а не его место на
иерархической лестнице общества.
Человек организует вокруг себя художественный мир по
крайней мере в трех ипостасях: как о б ъ е к т , как с у б ъ е к т
творчества и как а д р е с а т его результатов ( р е ц и п и е н т ) .
Все они также образуют системное единство дополняющих и
обогащающих друг друга компонентов.
Художественное моделирование реальной действительности образует пространственно-временной континуум поэтического мира, который М.М. Бахтин очень удачно назвал хронотопом. Его параметры и структура сообразуются с человеческим фактором, т.е. характером мировосприятия действующих
лиц или лирического героя, авторского и воспринимающего сознания, с родовой и жанрово-видовой спецификой произведения, с художественным методом и стилем писателя, с диалектикой объективного и субъективного начал в творческом акте.
в
Основные функции
художественной литературы
Каковы же цели художественной литературы? Что заставляет писателя мучиться над чистым листом бумаги, а читателя тратить драгоценное время на, казалось бы, вполне беспо22
лезную, никак не вознаграждаемую работу ума и сердца? Уклонившись от непрофессионально облегченных ответов на этот
вопрос (художественная литература как специфический род
производства и потребления; художественное произведение
как продукт этого производства и предмет купли-продажи и
пр.), согласимся с аксиомой: цели художественной литературы определяются ее функциями как одного из самых социально значимых и активных видов искусства.
Основные функции художественной литературы суть следующие: с о ц и а л ь н о - э с т е т и ч е с к а я , п р е о б р а з у ю щая, п о з н а в а т е л ь н а я , в о с п и т а т е л ь н а я и я з ы котворческая.
Художественная литература играет исключительно важную роль как в жизни отдельного человека, так и в жизни
различных общественных объединений. Наряду с другими
видами искусства, но гораздо активнее их она целенаправленно создает летопись исторической жизни нации, продуцирует и оформляет идеологию, осуществляет феноменальный разговор с предками, современниками и потомками.
Художественная литература — самый гибкий инструмент
духовной коммуникации между личностью и обществом,
между поколениями, между нациями и социальными слоями общества. Недаром Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин называл ее «очагом общественной мысли», в котором
определяется «будущая физиономия» общества, вынашиваются и подготавливаются к осуществлению идеалы, утверждаются нравственные ценности, обычаи, традиции — словом, все, что относится к сфере нашей духовной жизни.
Будучи наиболее объективным отражением социальной борьбы, художественная литература служит действенным рычагом материализации бытия человеческого духа, реализации
выработанных идеалов, коррекции (иной раз и радикйльнореволюционной) общественного устройства.
Соприкасаясь с политикой, идеологией как таковой, художественная литература, однако, сохраняет свою относительную независимость и самостоятельность, поскольку всегда
остается искусством по преимуществу, воздействуя на процесс
социального усовершенствования э с т е т и ч е с к и . Как справедливо утверждает современный исследователь, искусство и
художественная литература в первую очередь — «как раз та
область, где сама структура вещей влечет созерцателя к Абсолюту, поскольку именно в искусстве человек моделирует
23
божественный опыт» (Пурин Алексей. Набоков и Евтерпа//
Новый мир. 1993. №2. С. 235). Решая эстетические проблемы, писатель исследует реальное положение вещей и, обнаружив его несоответствие идее прекрасного, внушает каждому
читателю в отдельности и обществу в целом тоску по идеалу
вместе с готовностью предпринять необходимые усилия для
его реального воплощения. Мир переустраивают эстетически
ангажированные читатели.
Но гармонизация предмета искусства и самого произведения, которое также строится по законам красоты, имеет
намаловажные эстетические потенции. Писатель-творец и
читатель-потребитель испытывают пусть и не одинаковое,
но имеющее общую природу удовлетворение от общения с
прекрасным.
С социально-эстетической функцией художественной литературы смыкается и ее п р е о б р а з у ю щ а я функция.
Конечно, мельницы «Дон Кихота», с которыми сражается
отважный Рыцарь Печального Образа, не смелют зерно и
не дадут муки для реального хлеба насущного, но они вращают свои крылья не вхолостую! Они вырабатывают незримый воочию хлеб духовный. Сколько уже поколений
читателей разных эпох и разных народов мира получили
мощный нравственный импульс от высокого образа мыслей и чувств сервантесовского героя! Преобразующее действие художественной литературы, как видим, осуществляется не прямыми, а окольными, сложно опосредованными путями.
Не менее привлекательным стимулом к творчеству и чтению является п о з н а в а т е л ь н а я функция художественной литературы. Большую часть информации об окружающем
нас мире мы получаем из книг — не столько научных, сколько беллетристических. М. Горький, не имевший, как известно, систематического образования, но самостоятельно овладевший необычайно широким кругом знаний, не уставал повторять: «Чтение — вот лучшее учение!» Однако знание, которое
писатель передает своим читателям, добывается им не до творчества, не за его пределами, а в процессе творчества. Писатель
садится за чистый лист бумаги не потому, что он уже что-то
знает, а потому, что, создавая художественную модель действительности, надеется обрести истину и вовлечь в процесс
ее обретения нас с вами.
Немецкий драматург и теоретик литературы Г.Э. JIecсинг говорил, что если бы ему был предоставлен выбор меж24
ду обладанием уже готовой, но неподвижной, мертвой истиной и живым, творческим стремлением к истине, он выбрал
бы последнее. Так может сказать о себе любой настоящий
художник.
Писатели творят, конечно, не только за письменным столом. Для некоторых из них кабинетная форма творчества неприемлема в принципе. Например, О. Мандельштам очень
удивился, узнав, что Б. Пастернак имел обыкновение запираться в своем кабинете и работать. Сам Мандельштам сочинял свои стихи «на ходу», воспринимая и осознавая творчество как органичную форму жизни. А. Гайдару, по свидетельству К. Паустовского, необходимо было «вышагивать» и
«проговаривать» свою прозу вслух: он «писал» ее устно, как
стихи... А. Чехов призывал начинающего писателя непременно выработать в себе зоркого, неугомонного наблюдателя, настолько, чтобы это вошло в привычку, сделалось как бы второй натурой.
Литературное творчество на всех своих стадиях обладает незаурядными эвристическими потенциями. В этом смысле заслуживает самого пристального внимания эффект предвосхищения, который психологи называют «антиципацией».
Его механизм во многом загадочен: комбинация «далековатых» идей, понятий и свойств по законам художественной
логики приводит порой к парадоксальным, неожиданным и
не очевидным для современной научной мысли открытиям.
Так, к примеру, в начале XIV века великий итальянский
поэт Данте Алигьери силой поэтического прозрения угадал и
адекватно описал ощущения, которые испытывают сегодняшние космонавты в состоянии невесомости. Спускаясь с Вергилием по кругам Ада, автор-повествователь достигает центра
Земли, после чего, цепляясь за шерсть Люцифера, путешественники поднимаются к Чистилищу. На переломе от спуска к подъему их и подстерегает предвосхищенное поэтом ощущение невесомости, которое стало эмпирически возможным
только много веков спустя.
Столь же эффективно, как и познавательную, художественная литература осуществляет свою в о с п и т а т е л ь н у ю
функцию. Ее действие при этом также двунаправлено. С одной стороны, она учит реципиента любить добро и ненавидеть
зло (впрочем, возможно — как исключение из правила — и
обратное соотношение), пробуждает в нем «чувства добрые»,
прививает ему инстинкт прекрасного, вселяет тоску по идеа25
лу, по гармоничной жизни в дисгармоничном мире и неуемное стремление его гармонизировать.
Литературное творчество определенным образом воспитывает, облагораживает и самого художника. По свидетельству
Ивана Бунина, у Чехова каждый год менялось лицо. Сам Чехов признавался в том, что от природы он был вспыльчивым,
трудным в быту человеком, обладал желчным, неуживчивым
характером, но писательство, постоянное творческое напряжение помогли ему «выдавить из себя по капле раба» и, добавим мы, стать поистине эталонным образцом русского интеллигента в самом высоком и определенном смысле этого понятия. На вопрос «Над чем вы теперь работаете?» Иосиф
Бродский всерьез отвечал: «Над собой!»
Наконец, художественная литература по праву считается основным инструментом, формирующим р а з г о в о р н ы й , л и т е р а т у р н ы й и п о э т и ч е с к и й я з ы к нации. Собственно язык художественной литературы принято называть п о э т и ч е с к и м , его основная функция —
эстетическая. Правильный, нормированный язык как средство общественной коммуникации именуется л и т е р а т у р н ы м . Язык р а з г о в о р н ы й , естественно, предназначен
для свободного интимного общения между людьми, поэтому отличается относительной вольностью в слово- и формоупотреблении, хотя и не исключает искусного, порой
виртуозного владения речевыми средствами. Несмотря на
то, что художественная литература создает и вырабатывает в первую очередь язык поэтический, через него она влияет и на сопредельные сферы языка своего народа и сама
подвергается влиянию с его стороны.
Писатели обогащают лексику национального языка и ревниво следят за сохранением традиционной речевой культуры,
оберегая национальный язык от засорения иностранной лексикой, канцеляризмами, так называемым «новоязом». Хрестоматийный пример — слово «промышленность»у которое
впервые было употреблено М. Поповым, подкреплено мощным
авторитетом Н. Карамзина и с его легкой руки стало общеупотребительным сначала в образованных кругах русского общества, а затем и повсеместно.
Еще пример. В начале 60-х гг. XX в. Институт русского
языка опубликовал проект орфографической реформы. Первыми на защиту освященных прежде всего опытом великой
26
русской литературы традиций встали писатели. Восставая,
в частности, против предложения унифицировать правописание «и» после шипящих (допустим: «щипци», «огурци»),
Леонид Леонов в статье, опубликованной в «Литературной
газете», экспансивно воскликнул: «Не буду есть я этих огурцей!» К счастью, усилиями общественности, и в основном
писательской, не в меру радикальная реформа была приостановлена, и к ней пока не вернулись...
Вопросы для самостоятельного изложения
1. Что такое первобытный синкретизм по А.Н. Веселовскому?
2. Объясните смысл образного выражения О. Мандельштама:
Останься пеной, Афродита,
И слово, в музыку вернись!
3. Как соотносится художественная литература с другими видами искусства, в частности, с живописью, музыкой, кинематографом?
4. Благодаря чему сфера литературно-художественного
творчества беспредельна?
5. Что такое хронотоп? Кто ввел это понятие в литературоведение?
6. Соотносятся ли хронотоп и слово как первоэлемент художественной литературы?
7. Какая часть сферы художественной литературы становится ее предметом?
8. Что составляет интегрирующий центр предмета художественной литературы?
9. Каковы основные этапы исторической эволюции предмета художественной литературы?
10. Какие функции художественной литературы представляются вам главными? Почему?
27
11. В чем заключается двоякая направленность познавательной и воспитательной функций художественной литературы?
12. Составляют ли основные функции художественной литературы системное единство?
Р
А
З
Д
Е
Л
3
УЧЕНИЕ
О ЛИТЕРАТУРНОМ
ПРОИЗВЕДЕНИИ
4
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЕ
КАК ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ЦЕЛОЕ
Содержание и форма
литературно-художественного произведения
Литературно-художественное произведение — результат
творческих усилий писателя, идейно-эстетический транслятор, уникальный посредник между художником и реципиентом, главный герой литературоведческой науки во всех трех
ее основных и во всех вспомогательных дисциплинах.
Литературно-художественное произведение — исключительная по сложности система, в которой значимо всё — и элементы, из которых она состоит, и элементы, которые в ней
значимо отсутствуют, и, что всего важнее, соотношение тех и
других, их взаимодействие, взаимосвязи, взаимоотталкивания — то, что Л. Толстой замечательно точно и образно назвал «бесконечным лабиринтом сцеплений».
Проблема содержания и формы имеет универсально философский и общеэстетический характер.
Рассмотрим эти категории последовательно, вовсе не подразумевая, что содержание «главнее», чем форма. Ни о каком
«примате», иерархическом первенстве не может быть и речи,
если рассматривать эти две категории как «план содержания»
и «план выражения» (форма).
Что есть содержание? Это одно из самых употребительных
литературоведческих понятий наиболее актуально применительно к учению о литературном произведении. Оно обозначает самую его суть, материю, плоть, так как непосредственно
связано с предметом искусства, хотя и не тождественно ему.
В основе содержания литературно-художественного произведения лежит отраженная действительность, вернее, та ее
30
часть, которая отобраца, обобщена, оценена и возведена писателем в «перл создания», т.е. воплощена. Реальный мир входит в произведение обогащенным и преображенным творческим сознанием художника. Писатель любой эстетической ориентации не фотографирует жизнь, а как бы создает ее заново:
По высям творенья, как Бог, я шагал,
И мир подо мною недвижно сиял...
(Ф. Тютчев)
Недоволен стою и тих,
Я, создатель миров моих...
(О. Мандельштам )
В статье «Глуповатость поэзии» Ходасевич раскрыл механизм чуда творения новой второй реальности с замечательной полнотой и точностью: «...поэт, не искажая, но преображая, создает новый, собственный мир, новую реальность,
в которой незримое стало зримым, неслышимое слышимым.
Чтобы новое бытие не осталось мертво, поэт придает ему
движение... Попадая в поэзию, вещи приобретают четвертое, символическое измерение, ст£шовятся не только тем, чем
были в действительности. То же надо сказать о самом поэте.
Преобразуется и он. В написанном от первого лица стихотворении, как бы оно ни было «автобиографично», субъект
стихотворения не равняется автору, ибо события пьесы протекают не в том мире, где вращается автор» (Ходасевич Владислав. Собр. соч. Т. 1. Ann Arbor, Michigan; Ardis, 1983.
С. 342).
Художественное творчество менее всего напоминает бесстрастное зеркальное отражение, даже если автор намеренно демонстрирует свою незаинтересованность в изменении
пропорций реального мира. Его главной движущей силой
традиционно считается так называемый пафос, под которым
Г. Гегель понимал «оправданную в самой себе силу души,
существенное содержание разумности и свободной воли»
СГегель Г. Эстетика: В 4-х т. M., 1968. Т. 1. С. 240), а В.Г.
Белинский «идею-страсть», созерцаемую поэтом «не разумом, не рассудком, не чувством и не какою-либо одной способностью... души, но всею полнотою и целостью» его нравственного «бытия» (Белинский В.Г. Собр. соч.: В 13 т. Т. 7.
M., 1955. С. 312).
Итак, что же такое содержание литературно-художественного произведения? Художественный мир, созданный на основе мира реального и преображенный творческим сознанием
писателя. В соотношении объективной и субъективной его
сферы соблюдается крен в ту или иную сторону в зависимости
31
от целого ряда моментов: родовой и жаырово-видовой принадлежности, метода и стиля.
Пожалуй, резче всего колебания между субъектом и объектом дают о себе знать в зависимости от родовой природы произведения: содержание эпоса и драмы, как правило, заведомо
объективно, содержание лирики, как правило, заведомо
субъективно.
Если мы попытаемся реконструировать содержание пушкинского стихотворения «К морю», 1824, нам придется вычленить из текста прежде всего приметы реального мира, к которому обращается поэт. Их немного: «волны голубые», «гордая
краса», «грустный...», «призывный» «шум», «глухиезвуки»,
« бездны глас », « смиренный парус рыбарей », « стая » « тонущих
кораблей», «непогода», «торжественнаякраса», «скучныйнеподвижный брег», «хребты» волн, «скала», «гул в вечерние
часы»... Что и говорить, набор деталей слишком скуп, чтобы
увидеть в нем полнокровную картину моря. Не забудем к тому
же, что Пушкин пишет это стихотворение не с натуры, а находясь в ссылке в Михайловском, перенося в своем воображении
воспоминания о Черном море в псковскую деревню:
В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.
Итак, образ воображаемого, а потому не наделенного реальной конкретикой моря составляет объективное ядро содержания данного стихотворения; несравненно более значимой
для него, однако, оказалась субъективная его разработка.
Отсюда — обилие парафрастических уподоблений:
свободная стихия...
Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час...
Моей души предел желанный...
Он был, о море, твой певец...
Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен,
Как ты, ничем не укротим...
Океан...
32
Отсюда — парадоксальное обращение к морю как живому существу неопределенного пола («свободная стихия» —
женского рода, «океан» — мужского и, наконец, собственно «море» — среднего!).
Отсюда же — непропорциональное тематическое членение
текста на пять неравных частей, обусловленное лиризмом, свободным полетом поэтической фантазии: I часть (1—5-я строфы) —
воспоминание о море как символе свободной стихии, где свобода
понимается как абсолютная ценность; П часть (6—8-я строфы) —
воспоминание о могучем порыве к личной свободе, о давно замышляемом поэтическом побеге, где неожиданно возникает
тема любви как несвободы, стихии плена (не случайно в рифме встречаются «я был окован» и «могучей страстью очарован»); III часть (8—12-я строфы) — воспоминание о трагической участи титанов, романтических борцов за свободу; IV
часть (13-я строфа) — разработка кощунственной для обыденного сознания, но привычной для просветительства и возросшего на его идеалах романтизма идеи о том, что просвещение,
как и тирания, — сдерживающее свободу начало; V часть (14—
15-я строфы) — замыкающее рамочную композицию прощальное обращение к морю с обещанием сохранить его образ как
символ общественной и личной свободы.
Р а с ш и р е н и е с о д е р ж а н и я как запечатленной действительности, таким образом, происходит за с ч е т а к т и в н о с т и л и р и ч е с к о й д о м и н а н т ы , в результате
чего объективная его часть умножается на субъективную. Возможны и другие способы приращения содержания, например,
путем апелляции к традиционному культурному опыту реципиента (мифологическому, историческому, литературному).
Так происходило, например, в пьесах античных драматургов
на мифологические сюжеты: зрители знали мифы о богах и
героях, как свою собственную биографию, поэтому им хватало легкого намека, чтобы за счет этого знания восстановить
сюжетные купюры. Подобным же образом мифологизируются истинные или легендарные события из жизни выдающихся исторических деятелей или знаменитых литературных героев (так называемые «вечные образы»). Но, пожалуй, самый
распространенный источник внетекстового накопления содержания литературно-художественных произведений представляет Библия.
Наконец, р а з д в и ж е н и е г р а н и ц л и р и ч е с к о г о
с о д е р ж а н и я напрямую связано с таким сущностным свойством лирики, как тенденция к ц и к л и з а ц и и . К одним и
2—3039
33
тем же темам, мотивам, образам поэт обращается на протяжении всей своей творческой жизни. Поэтому, фиксируя содержание того или иного произведения, мы не можем не учитывать содержательных приращений со стороны тематически
связанных с ним других текстов. Точно так же взаимодействуют тексты, принадлежащие разным авторам. Их содержания «взаимовыгодно» накладываются друг на друга, становясь
слагаемыми единого «интертекста». В таких дополняющих
друг друга отношениях находятся, например, «Пророки»
Пушкина и Лермонтова, разумеется, вместе с породившими
их библейскими мифами, «Памятники» Горация, Державина
и Пушкина вместе со Вступлением к поэме Маяковского «Во
весь голос»...
Итак, мы пришли к выводу, что л и р и ч е с к и й р о д
л и т е р а т у р ы в целом и каждое его произведение в отдельности обладают специфическим содержанием, где с у б ъ е к т и в н ы й ф а к т о р совершенно очевидно и естественно г о с п о д с т в у е т над о б ъ е к т и в н ы м .
Принципиально иначе обстоит дело с эпосом и драмой.
Здесь обнаруживается столь же естественный крен в сторону объекта. Автор эпического склада, сохраняя свое явное
или скрытое присутствие в созидаемом им художественном
мире, озабочен не самовыражением, а воссозданием внешней, объективной реальности.
Последовательнее всего в этом отношении произведения
народного героического эпоса, где изображаются события, герои и обстоятельства, имеющие самодовлеющий интерес. Читая или слушая русские былины, мы следим прежде всего за
сюжетными перипетиями, любуемся мощью и доблестью богатырей, цельностью их характеров, внимаем, наконец, спокойному эпическому тону повествования. При этом меньше
всего нас занимает взгляд на происходящее их коллективного
автора, о существовании которого мы даже не вспоминаем.
Приблизительно то же самое мы видим в эпических поэмах
Гомера, в русских реалистических романах, например, в романе-эпопее JI.Н. Толстого «Война и мир», где наиболее ярко
проявляется такая особенность творческой индивидуальности
великого писателя, как склонность к тщательнейшему описанию отдельных сцен, эпизодов; собственно из них и состоит
сюжетный каркас произведения: сцена в салоне мадам HIeрер, батальные сцены, сцена охоты, сцена ночи в Отрадном,
сцена первого Наташиного бала, сцена пожара Москвы
и т.д. Это и есть выражение крайней эпической объектив34
ности, опять же не исключающей известной толики лирической субъективности.
Абсолютная объективность столь же невозможна, как и
абсолютная субъективность. К тому же лирические и эпические жанры издавна приобрели способность к синтезу. Своеобразный жанрово-родовой кентавр, сохраняющий относительное равновесие объективного и субъективного начал,
представляла собой лиро-эпическая поэма, получившая исключительную популярность в начале XIX века. Классическую форму она приобрела в творчестве английского романтика Джорджа Гордона Байрона.
Соотношение объективного и субъективн о г о в содержании литературно-художественных произведений зависит не только от родовых, но и от жанровых и от
видовых характеристик. Так, внутри эпического рода к числу наиболее объективных по своему содержанию относятся
крупные формы: роман, эпопея, повесть, а также самый документальный, предельно точно воспроизводящий действительность жанр — очерк; наоборот, наиболее субъективны
малые формы эпоса: рассказ и новелла, где пространственновременные координаты художественного мира по необходимости сконцентрированы, сжаты.
Столь же важна, с точки зрения примата объекта или
субъекта в содержании литературного произведения, его
с т р у к т у р н а я п р и н а д л е ж н о с т ь : прозаическая форма
обслуживает по преимуществу более объективные эпические
и драматургические жанры, стихотворная — более субъективную лирику. Правда, первые романы в средние века были
стихотворными произведениями. Но затем традиция закрепила именно это соотношение: лирика — стих, эпос и драма —
проза. В переломные эпохи, когда происходят ломка и смена
художественных форм, указанное соотношение «перекрещивается» .
И наконец, последний фактор, оказывающий воздействие
на первенствующее положение объекта или субъекта в содержании, — х у д о ж е с т в е н н ы й м е т о д и с т и л ь . Здесь
самая контрастная пара — реализм и романтизм. Писателиромантики, в отличие от реалистов, предметом художественного осмысления мира полагают не внешние его проявления,
т.е. не объект, а сугубо субъективные о нем представления, не
действительность как таковую, а идеальное преломление ее в
своем созании, не то, что есть на самом деле, а то, что должно
быть. Придавая громадное значение субъективному фактору
35
в организации художественного мира, романтики самым энергичным образом проявляют свое авторское «Я» и строят свое
произведение с расчетом на предельную активность его восприятия.
Таким образом, содержание как литературоведческая категория складывается не только из тех реалий объективного
мира, которые подразумевает семантика слов в составе текста,
но и из субъективного осмысления его писателем и реципиентом. Емкая формула М.Е. Салтыкова-Щедрина «Литература
есть сокращенная Вселенная» может быть интерпретирована
как определение ее содержания.
Но говоря о содержании, мы всякий раз имеем в виду и
форму, поскольку содержание обретает существование, только будучи воплощенным, так или иначе выраженным, т.е.
оформленным. Категории содержание и форма, таким образом, — неразлучная пара. Это две стороны одного целого, не
существующие поврозь.
Что есть форма художественной литературы вообще и форма литературно-художественного произведения в частности?
Формой художественной литературы в самом широком значении этого понятия является образность. Художественная литература отражает действительность, не абстрагируя ее через понятие, а моделируя в образах. Этим она в корне отличается от
сопредельной сферы духовной деятельности человека — науки.
Предмет или явление не манифестируются понятием, термином, а показываются, изображаются, хотя литература, как и
наука, пользуется для своих целей прежде всего словом. А слово в принципе терминологично. Писатель, однако, использует
его эстетически, создавая посредством его образ реального
мира, ту или иную картину живой жизни. Посредством словесного образа созидается самая совершенная иллюзия бытия.
Литературный образ «живет» во времени и пространстве,
движется и пребывает в покое, видим и слышим, осязаем и
обоняем, т.е., по точному слову Н.Г. Чернышевского, представляет «форму самой жизни». Этим он отличается от образов иных искусств, ограниченных материалом: пространственных (живопись, скульптура) и временных (музыка). Образность всех прочих, невербальных, видов искусства
демонстративно условна. Попытки преодолеть эту условность
ничего, кроме инстинктивного отвращения, не вызывают (раскрашенная или движущаяся скульптура, восковые фигуры,
звукоподражательная, «предметная» музыка, вспомним «Необыкновенный концерт» С. Образцова!).
36
Литературная образность есть парадоксальный синтез предельной условности и столь же предельной безусловности.
С одной стороны, она самая условная, поскольку словрсный
образ делается из лишенного материальности материала. Как
говорил Пастернак, книга — только «кубический кусок горячей, дымящейся совести — и больше ничего». Построенный в
ней художественный мир иллюзорен, реализуется не наяву, а
только в воображении. Его невозможно постигнуть при помощи пяти привычных чувств, необходимо шестое, то, о котором прекрасные стихи «Шестое чувство» были написаны Николаем Гумилевым:
Прекрасно в нас влюбленное вино
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,
И женщина, которою дано,
Сперва измучившись, нам насладиться.
Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой,
Что делать нам с бессмертными стихами?
Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать —
Мгновение бежит неудержимо,
И мы ломаем руки, но опять
Обречены идти все мимо, мимо.
Как мальчик, игры позабыв свои,
Порой следит за девичьим купаньем,
И ничего не зная о любви,
Все ж мучится таинственным желаньем,
Как некогда в разросшихся хвощах
Ревела от сознания бессилья
Тварь скользкая, почуяв на плечах
Еще не появившиеся крылья.
"V
Так век от века — скоро ли, Господь? —
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.
Но это «шестое чувство» заменяет и синтезирует все пять
остальных, поэтому литературно-художественная образность
37
оказывается самой безусловной; будучи «формой самой жизни», она стремится в принципе создать картины, сцены, портреты, адекватные предмету искусства. Наконец мы настолько привыкли к слову, с помощью которого мыслим, общаемся, действуем и живем, что уже не ощущаем его абстрактной
нематериальности. Мы говорим «слово и дело», уравнивая их,
мы с волнением вслушиваемся в первую фразу Евангелия от
Иоанна: «В начале было Слово» и соглашаемся с поправкой
Фауста: «В начале было Дело». Слово — самый универсаль-'
ный, эффективный и гибкий инструмент творчества, особенно если им пользуется высокий мастер. Вот почему так пластичны, зримы и осязаемы сцены Толстого в «Войне и мире», в
«Казаках», в «Анне Карениной», вот почему кружится у нас
голова и захватывает дух от изображений Кавказа Пушкиным
и Лермонтовым, вот почему вместе с шолоховским Григорием
Мелеховым мы видим черное солнце на черном небе в сцене
смерти Аксиньи и прощания с ней. Литературный, словесный
образ создает совершеннейшую — в меру таланта писателя —
иллюзию бытия.
Чистая, с в о б о д н а я от с о д е р ж а н и я форма —
такой же н о н с е н с , как улыбка чеширского кота. Соотношение формы и содержания издавна пытались уподобить соотношению сосуда и содержимого, скажем, стакана и вина.
Уподобление такого рода не совсем корректно. Вино можно перелить или выпить. Останется пустой стакан — «чистая» форма, а «бесформенное» вино, перелитое в другой сосуд или выпитое, изменит свою форму. Получается: одно и то же содержание может существовать в разных формах. «Между тем, —
писал размышлявший над этой важной эстетической проблемой Б.В. Томашевский, — если отнять у мысли ту форму выражения, в которую эта мысль облекается, то вообще может
получиться нечто совсем иное. В поисках эквивалентной формы для одного содержания люди весьма ограничены в средствах (например, в практике переводов с одного языка на другой). Так, если одну и ту же идею (например, изобличение какого-нибудь общественного явления или порока) воплотить в
статью, драму или картину, то получатся произведения, существенно различные и не по одной форме» (Томашевский Б&.
Стилистика и стихосложение. Л.. 1959. С. 7).
Еще нагляднее справедливость закона о единстве формы и
содержания обнаруживается в переводах с языка одного вида
искусства на язык другого. Оперы П. Чайковского «Евгений
Онегин» и «Пиковая дама» не только формально, но и содер38
жательно весьма далеки от одноименных пушкинских произведений, точно так же, как инсценировки или экранизации
«Войны и мира» и «Воскресения» от породивших их романов
Толстого.
Диалектику взаимодействия формы и содержания впервые с афористической четкостью зафиксировал Г. Гегель: «Содержание есть не что иное, как переход формы в содержание,
а форма есть не что иное, как переход содержания в форму»
(Гегель Г. Соч. Т. I. M.; Л., 1930. С. 223—224).
Как бы развивая эту классическую формулу, современные
теоретики Г. Гачев и В. Кожинов в любой художественной
форме усматривают «не что иное, как отвердевшее художественное содержание» (Гачев Г Д. и Кожинов В.В. Содержательность литературных форм//Теория литературы: Основные
проблемы в историческом освещении. Кн. 2. M., 1964. С. 19).
Имеется в виду, конечно, сам процесс образования традиционных форм: много раз повторившись, определенный содержательный комплекс кристаллизуется, окостеневает как устойчивый стереотип, прием, троп, жанр и др.
Вместе с тем, подчиняясь некой негласной традиции, к
содержанию нередко относят уровни художественной структуры, тяготеющие к центру системы, а к форме — располагающиеся на ее периферии. Отсюда — привычное словосочетание «идейно-тематическое содержание», выражаемое в
той или иной «художественной форме». Конечно, такая дифференциация не только упрощает, но и искажает истинную
картину.
«Содержание не просто воплощается в форме, — утверждает В. Кожинов, — оно рождается в ней и только и может
родиться в ней. До формы оно вообще не существует. До формы в сознании поэта существует лишь замысел будущего стихотворения, который вернее всего определить как намерение,
как стремление написать определенные стихи, но не как стадию, пусть хотя бы первоначальную, бытия стихотворения и
даже не как его «зародыш». Следуя замечанию Фета, мы можем утверждать, что стихотворение (точнее — его «зародыш»)
действительно начинает существовать лишь тогда, когда уже
возник какой-то элемент формы — скажем, рифма или ритмическая фраза» (Кожинов В.В. Как пишут стихи. M.,1970.
С. 50). Иными словами, содержание не тождественно замыслу, поэтому не следует путать вполне естественное противоречие между замыслом и его реализацией с принципиально невозможным противоречием между содержанием и формой.
39
Для писателей форма — предмет особой заботы, ибо, работая над формой, они тем самым совершенствуют содержание
своих произведений, уточняют и углубляют их смысл. Именно это имел в виду Эрнст Неизвестный, когда говорил: «Форма — не то, что сверху, а то, что выпирает изнутри».
Судьба вызревающего содержания в процессе становления
текста зависит порой от вполне случайной игры каких-то
внешних формальных элементов. Классический пример такого рода представляет эпизод из текстологических изысканий
С. Бонди. Исследуя историю создания стихотворения Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», ученый обратил внимание на то, что в начальном варианте первая строка
выглядела иначе: «Все тихо. На Кавказ ночная тень легла».
Но Пушкин написал слово «легла» торопливым, беглым почерком, и в букве «е» не получилась закругленная часть, «петелька». На основе тщательного анализа черновой рукописи
С. Бонди убедительно доказал, что это невольное написание,
эта совершенно посторонняя материальная причина вмешалась в процесс творчества, и Пушкин изменил строку в соответствии со случайно появившимся в ней словом «мгла». Поэт
зачеркнул слова «ночная тень» и, надписав над ними «идет
ночная», оставил без изменения небрежно написанное слово
«легла»; оно просто обозначало теперь «мгла».
Таким образом, форма и содержание применительно к литературе — совершенно равноправные, но отнюдь не суверенные (не существующие раздельно) грани одного целого, а их
органическое единство, интеграция обеспечиваются художественно целесообразным взаимодействием всех элементов системы, имеем ли мы дело с литературным творчеством, с литературным произведением или с литературным процессом.
Вопросы для самостоятельного изложения
1. Объясните теоретический смысл толстовского сравнения литературно-художественного произведения с «бесконечным лабиринтом сцеплений».
2. Гегель определил содержание как переход формы в содержание, а форму как переход содержания в форму.
Как вы понимаете эту формулировку?
3. Сюжет: содержание или форма? Обоснуйте ваше решение.
ГЛАВА
5
ТЕМА И ИДЕЯ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Тема — объективная основа произведения
В «бесконечном лабиринте сцеплений», в многоуровневом
поэтическом космосе художественного целого все образующие
его элементы подчинены друг другу, иерархически упорядочены. Как и любая система, литературное произведение имеет
свой центр (один или несколько) и свою периферию. Ядром художественной системы, ее признанным «руководящим центром» принято считать так называемое и д е й н о - т е м а т и ч е с к о е с о д е р ж а н и е . Неразрывное единство темы и идеи
составляет экстракт объекта и субъекта творчества, предмета
искусства и его авторского осознания, распространяющий свое
влияние на все остальные элементы системы.
Художественный космос литературного произведения
сродни государственному устройству. Он может напоминать
и монархию (чаще всего), как абсолютную, так и конституционную, и олигархию, и демократию, и партократию, и охлократию, и федерацию, и конфедерацию... Наверное, только не
анархию, ибо основным цементирующим принципом построения произведения является принцип художественной целесообразности, т.е. строгий порядок.
Обрусевшее древнегреческое слово thema обозначает буквально «то, что положено» (в основу чего-либо). Тема —
объективная основа произведения, понятие, указывающее в
самых общих чертах на преимущественное внимание писателя к определенной стороне действительности и отвечающее на
вопрос «Что изображено? ». Внешним образом тема — это т о,
о ч е м произведение, ч е м у о н о п о с в я щ е н о , что прежде всего бросается нам в глаза.
41
Писатель не может и не должен замахиваться на отображение всей реальной действительности, которая его окружает. Он сосредоточивается на некой ее части, совершив первый
этап своего творческого акта — художественный отбор. Категория темы, следовательно, помогает определить то, что непосредственно изображено в произведении, сориентироваться в его содержании, очертить круг жизненных явлений, отобранных, отображенных и воспроизведенных автором.
Иногда приходится сталкиваться с весьма распространенным о т о ж д е с т в л е н и е м т е м ы и п р о б л е м ы , вернее — с подменой одного понятия другим. Именно так трактовал тему в своем популярном учебнике по введению в литературоведение Г. JI. Абрамович. Предложенное им определение
«Тема — проблема, поставленная писателем в произведении»
вызывает сомнение по крайней мере в двух аспектах.
Во-первых, т е м а и п р о б л е м а с о в п а д а ю т т о л ь ко ч а с т и ч н о . Понятие темы значительно шире понятия
проблемы. Та или иная проблема (нравственная, социальнополитическая, философская, религиозная) может стать темой
лишь в произведениях соответствующего масштаба и предназначения (в романах, повестях, трагедиях, комедиях, драмах,
поэмах). Отыскивать проблему в произведениях пейзажной
лирики или, скажем, в стихотворениях «на случай», экспромтах, эпиграммах — занятие, прямо скажем, несерьезное.
Так, в экспромте юного Пушкина «Надпись на стене больницы», который обнаружил над своей койкой в лицейском
лазарете Иван Пущин:
Вот здесь лежит больной студент —
Его судьба неумолима!
Несите прочь медикамент:
Болезнь любви неизлечима!
— никакой «проблемы», разумеется, нет, зато тема, обозначенная в условном заголовке, прочитывается вполне определенно.
Еще очевиднее отсутствие проблемы при наличии темы в
коллективном стихотворении А. Куприна, И. Бунина и А. Чехова, написанном в гостях у начальницы Ялтинской женской
гимназии Варвары Константиновны Харкевич, восторженной
почитательницы писателей.
Дело было весной 1901 года за пасхальным столом. Писатели пили, закусывали, веселились. Вдруг Куприну пришла в
голову озорная мысль:
— Давайте напишем и оставим ей на столе стихи!
Стали, хохоча, сочинять, и Бунин написал на скатерти (хозяйка потом вышила):
42
В столовой у Варвары Константиновны
Накрыт был стол отменно-длинный,
Была тут ветчина, индейка, сыр, сардинки —
И вдруг ото всего ни крошки, ни соринки:
Все думали, что это крокодил,
А это Бунин в гости приходил!
Во-вторых, п о н я т и е п р о б л е м ы н е д о л ж н о п о д м е н я т ь с о б о й п о н я т и е т е м ы , поскольку в нем нередко содержится, кроме объективной констатации того или иного жизненного факта, и субъективно, личностно окрашенное
отношение к нему писателя, т.е. некоторый отблеск идеи
(таковыпроблемы «лишних людей» и «маленькогочеловека»,
популярные в русской литературе XIX века). Как говорил
М.Е. Салтыков-Щедрин, «даже выбор темы далеко не индифферентен» . В целом же понятие темы — более широкое, универсальное — поглощает понятие проблемы — более узкое, частное.
Итак, тема есть проблема, явление или предмет, отобранный, осмысленный, домысленный и воспроизведенный определенными художественными средствами; часть действительности или ее аналог, уже преображенные в перл создания. Тема
характеризует одновременно предмет искусства и его содержание, соединяет их в процессе творчества: от стадии художественного отбора до стадии художественного воплощения.
Описывая то, чему посвящено произведение, какую частичку бытия писатель в нем отобразил, понятие темы отделяет одно
произведение от другого, указывает на его своеобразие и в то же
время намечает сходство с другими, близкими ему в этом отношении произведениями. Вот почему при формулировке темы
необходимо искать оптимальную дозу обобщения и конкретности. Лучше начинать, конечно, с широкого определения, чтобы затем, по мере надобности, конкретизировать его, постепенно сужая — подробностями сюжета, места и времени действия,
способом обрисовки характеров и пр.
Возьмем для примера три классических произведения о
гражданской войне — романы Д. Фурманова «Чапаев», А. Серафимовича «Железный поток» и А. Фадеева «Разгром». Их
тематическое единство очевидно; предельно обобщенно его
могла бы передать формула «изображение героизма в условиях гражданской войны». В первом случае мы имеем «изображение героизма в условиях гражданской войны на примере
отдельной выдающейся личности». Не случайно роман получил и соответствующее название по имени легендарного ком43
дива, монументальный образ которого, как исполинский памятник, высится над всеми остальными персонажами, играющими откровенно второстепенные, подсобные роли. Во втором романе изображается массовый героизм: вместо отдельной выдающейся личности на авансцену истории выходит
одушевленная пафосом коллективизма народная масса, для
которой найден удивительно емкий символ-метафора, также
вынесенный в заголовок. Наконец, в третьем случае речь должна идти о судьбе отдельных членов коллектива (отряда),
представляющих разные социальные группы; их героизм проявляется в парадоксальных условиях поражения — «разгрома», поэтому писатель заставляет их не столько действовать,
совершать «героические поступки», сколько принимать ответственные — на грани жизни и смерти — решения, рефлектировать, преодолевая в напряженной внутренней борьбе свою
душевную слабость, мелкие эгоистические расчеты, инстинкт
самосохранения.
Как мы только что могли убедиться, рассматривая три знаменитых романа о гражданской войне, тема в свернутом виде
зачастую с о д е р ж и т с я в з а г о л о в к е . Это и прямое обозначение предмета повествования, чаще всего конкретного события, лежащего в основе сюжета. Например, «Слово о полку
Игореве» (в значении «Слово о походе Игоря»: как известно, в
древнерусском языке слово «плъкъ» имело два значения:
1) «поход» и 2) «войско», «ополчение»; здесь в большей мере
актуализируется первое), «Сказка о том, как один мужик двух
генералов прокормил» М. Салтыкова-Щедрина, «Преступление и наказание» Ф. Достоевского, «Дело Артамоновых»
М. Горького. Это указание на место действия, связанного
с тем или иным историческим событием: «Илиада» Гомера
(буквально «Песнь об Илионе»; Илион — второе название
Трои), «Задонщина», лирический цикл А. Блока «На поле Куликовом», стихотворения М. Лермонтова «Бородино», «Валерик», «Тихий Дон» М. Шолохова. Это может быть имя заглавного героя. Заглавным в отличие от главного принято называть героя, чье имя, например «Евгений Онегин», или
заменяющее его обозначение, например, «Идиот», вынесено в
заголовок произведения, фокусирующий все основные противоречия конфликта: «Одиссея» Гомера, «Орестея» Эсхила,
«Энеида» Вергилия, «Гамлет», «Король Лир», «Макбет»
У. Шекспира, «Фауст» И. В. Гёте, «Евгений Онегин» А. Пушкина, «Обломов» И. Гончарова, «Старуха Изергиль», «Фома
Гордеев» М. Горького. Поэтика заглавий, сложная и увлека44
тельная отрасль науки, заслуживает специального исследования (см., например: Кржижановский С Д. Поэтика заглавий.
M., 1931; Блисковский ЗД. Муки заголовка. M., 1972; ЛамзиnaAJB. Заглавие литературного произведения//Русская словесность, 1997. №3).
Т е м а обнаруживает себя так или иначе и в других элементах художественной структуры произведения: в с ю ж е те, о б р а з н о м с т р о е и я з ы к е .
Наряду с понятием тема литературоведение охотно
пользуется понятием тематика, имея в виду не одну, а совокупность тем, составляющих некое системное иерархически организованное целое. Обычно главная тема «подпирается» несколькими второстепенными, подчиненными ей.
Например, тематика «Слова о полку Игореве», кроме главной темы, манифестированной названием (неважно в данном
случае, оригинальным, авторским или благоприобретенным
памятником в течение его многовекового исторического бытия), включает в себя тему родины, тему русской природы,
тему воинской доблести, тему любви, тему братской и женской верности, тему семейного счастья, тему свободы и др.
Художественное произведение подчиняется з а к о н у т е м а т и ч е с к о й ц е л о с т н о с т и , согласно которому вся номенклатура тем должна знать свое место в системе: доминирующая тема сквозит во всех образах, эпизодах и сценах, а
побочные второстепенные темы, которым заказано суверенное
независимое развитие, дополняют и усиливают ее. В результате обеспечивается то, что классицисты называли единством
действия, а Н. Чернышевский считал наипервейшим критерием художественности.
Т е м а т и ч е с к о е с в о е о б р а з и е т в о р ч е с т в а того
или иного писателя определяется, как правило, его социальной принадлежностью, профессией, обстановкой, бытовыми условиями, в которых он приобрел свой неповторимый жизненный опыт. Так, А.Н. Островский доскональнейше воссоздал в своей драматургии купеческое Замоскворечье,
почетным гражданином которого он себя ощущал. Равным
образом в художественном мире И.С. Тургенева отразились
привычные ему как помещику «дворянские гнезда» российского Черноземья. Профессиональный опыт врачей А.П. Чехова и М.А. Булгакова, конечно, сказался на тематике таких
произведений этих писателей, как «Хирургия», «Лошадиная
фамилия», «Попрыгунья» и «Дядя Ваня»; «Записки
молодого врача», «Собачье сердце», «Мастер и Маргари45
та». А.И. Куприн, обладавший, по его собственному признанию, двумя с лишним десятками профессий (действительно, чем он только не занимался!), и тематически чрезвычайно разнообразен.
Разумеется, литературное творчество менее всего напоминает работу фотографа: что вижу, то и описываю! Здесь важное место принадлежит типу художественного мышления,
методу и стилю писателя. Тематические предпочтения реалиста, конечно, базируются на событиях действительного плана, так сказать, реально, объективно сущих. Романтик, напротив, с энтузиазмом строит воображаемые миры, фантазирует,
домысливает, пересоздает, сталкивает действительность с идеалом. Любопытную контрастную пару в этом смысле представляют два таких непохожих писателя, как A.M. Горький и
А. Грин. Примерно аналогичный жизненный опыт, приобретенный ими в юные годы, вылился у первого в реалистические полотна рассказов босяцкого цикла, а у второго в фантастический мираж, в некую полуидеальную, полуреальную вымышленную страну, которой литературоведы присвоили
остроумное название «Гринландия».
Еще один мощный источник тематики составляет сама же
литература. Существуют так называемые « в е ч н ы е т е м ы » ,
наряду с « в е ч н ы м и о б р а з а м и » , « б р о д я ч и м и с ю ж е та м и» и др. Темы из произведений второстепенных забытых
писателей время от времени извлекаются из небытия, заимствуются и тем самым воскрешаются для полнокровной художественной жизни звездами первой величины (такова, как
известно, судьба большинства творений У. Шекспира). Существуют, наконец, т е м ы , которые одни писатели совершенно
добровольно у с т у п а ю т д р у г и м (например, Пушкин Гоголю).
Тематика литературных произведений нередко задается
научно-исследовательскими разысканиями их авторов. Так,
работа Пушкина-историографа над «Историей Пугачевского
бунта» вдохновила его на обращение к той же теме и как беллетриста, в результате появилась «Капитанская дочка». Подобный симбиоз научного и художественного творчества можно наблюдать и в освоении им петровской темы: «Полтава»,
«История Петра», «Арап Петра Великого», «Медный всадник», «Петр I говаривал», «Пир Петра Первого» и т.д. Тематический диапазон творчества Ю.Н. Тынянова почти полностью предопределен его научными интересами как историка
русской литературы XVIII—XIX вв. и пушкиниста: «Воско46
ваяперсона», «ПодпоручикКиже», «СмертьВазир-Мухтара»,
«Кюхля», «Пушкин»...
Как и любой другой элемент художественной системы,
тема возникает не сама по себе (в изолированном виде она
просто не существует!), а в органическом единстве с другими сопредельными ей структурными элементами, прежде
всего с идеей и сюжетом.
Идея как выражение авторской тенденции
в художественном освещении темы
Устойчивое выражение «идейно-тематическое содержание» настолько привычно и естественно вошло в литературоведческий лексикон, что составляющие его компоненты, как
две половинки одного неразрывного целого, одна без другой
воспринимаются с большим трудом. Отчасти они сосуществуют и в понятии «идейно-тематический замысел», подразумевающем первоначальное ядро, из которого в результате творческого акта развивается феномен литературно-художественного произведения.
Идея — от греческого слова «idea» — то, что видно. По
В.И. Далю — «понятие о вещи; умопонятие, представленье,
воображенье предмета; умственное изображенье; мысль, выдумка, изобретенье, вымысел; намеренье, замысел». Применительно к учению о литературном произведении идея —
это его первоначальный образ, намек, зародыш или, когда
произведение стало уже свершившимся фактом, главная
мысль, основополагающий пафос, т.е. категория, выражающая авторскую тенденцию в художественном освещении
данной темы.
Изображая, писатель производит интенсивнейшую духовную работу — отбирает, анализирует, обобщает, осмысляет,
переживает, соотносит реальное положение вещей с определенным эстетическим идеалом, пропитывает изображение своей личностью. Художественная и д е я , следовательно,
с у б ъ е к т и в н а п о о п р е д е л е н и ю . Изображая Наташу
Ростову, Толстой не может, как ни старается, сдержать любовной улыбки, которая сопровождает героиню на протяжении всего романа.
47
Другое определяющее свойство х у д о ж е с т в е н н о й
и д е и — ее о б р а з н о с т ь . Здесь проходит граница между
художественной и научной идеями. Уже В.Г. Белинский видел принципиальную разницу результатов научного и художественного мышления в том, что ученый, философ мыслит
силлогизмами, а художник, поэт — образами, один доказывает, другой показывает, т.е. оба идут к постижению истины
разными путями.
Художественная идея, как правило, не имеет своего определенного места в произведении. Погруженная в образы, она
пронизывает его насквозь, подобно тому, как влага равномерно
пропитывает губку, а сок — яблоко. «Я держусь мнения, — утверждал М.Е. Салтыков-Щедрин,—что идея есть душа художественного произведения». Именно так — душа, оживляющая все тело,
а не какой-нибудь особый, пусть даже и самый важный («руководящий») его орган, допустим, сердце или мозг.
Иначе обстоит дело с и д е е й в н а у ч н о м т р а к т а т е ,
которая формулируется непосредственно как некий и т о г ,
п р о м е ж у т о ч н ы й и л и к о н е ч н ы й в ы в о д в длинной
цепи рассуждений, аргументов и умозаключений. Поэтому мы
привычно ищем ее и находим где-нибудь в конце произведения или его разделов. Конечно, речь идет не о железном правиле, требующем неукоснительного исполнения, а о доминирующей тенденции. Поэтому возможны и «рокировки» (перестановки), и «миксты» (смешанныеслучаи). Например, басня
и притча зачастую имеют прямо сформулированный идейный
итог, так называемую «мораль». Иногда в виде «посылки», общего нравственного суждения она может предварять развитие
аллегорического действия:
Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна; но только все не в прок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.
Вороне где-то Бог послал кусочек сыру...
(И,С. Крылов. «Ворона и Лисица»)
Классическим примером мирного, паритетного сосуществования художественных и научных идей может служить
роман-эпопея JI.Н. Толстого «Война и мир». Писатель долго
колебался: растворить ли ему историософские главы в общем
корпусе беллетристики или выделить в самостоятельный том.
В конце концов он доверился читателю, склонившись в пользу
первого варианта, и тем самым заставил работать художествен48
ные и научные идеи в режиме со-противопоставления. Их разумно дозированный диссонанс не только исключил эклектику и хаотичность, но вдобавок придал аналитической мысли
Толстого поистине диалектическую глубину. Внутренний диалог Толстого-художника и Толстого-мыслителя (историософа), который развертывается перед нашим мысленным взором
на страницах романа, поражает своим драматизмом, бескомпромиссностью и, вместе с тем, обезоруживающей готовностью
темпераментного полемиста «влезть в чужое сознание» ради уточнения собственной точки зрения и постижения «мысли народной» как высшего и окончательного критерия истины.
Особенно наглядно дополняющий эффект «ножниц» между идеей научной и идеей художественной прослеживается в
трактовке проблемы движущих сил истории.
Фундаментальный камень историософской концепции Толстого — яростное отрицание роли отдельной «выдающейся»
личности в развитии исторического процесса. «Для изучения
законов истории, — пишет он, — мы должны совершенно изменить предмет наблюдения, оставить в покое царей, министров и генералов, а изучать однородные, бесконечно малые
элементы, которые руководят массами» (III, 3,1). Все, что ни
происходит в мире, считает Толстой, зависит не от сознательных усилий так называемых великих людей, каждое движение
которых, «кажущееся им произвольным для самих себя, в историческом смысле не произвольно, а находится в связи со всем
ходом истории и определено предвечно» (III, 1,1).
Так думает Толстой-мыслитель. Свои историософские
идеи он облекает в органичные для них логические построения, стремясь отлить афористические, публицистически однозначные формулы: «Человек сознательно живет для себя,
но служит бессознательным орудием для достижения исторических, общечеловеческих целей... Царь есть раб истории.
История, т.е. бессознательная, общая, роевая жизнь человечества, всякой минутой жизни царей пользуется для себя как
орудием для своих целей» (там же).
Но оставаясь писателем по преимуществу, мастером художественного слова, Толстой прибегает к помощи исключительно выразительных образных средств. В частности, необычайно точная метафора, которую Толстой нашел для обозначения общественной жизни, — «роевая жизнь человечества»
получает затем дальнейшее развитие в сцене, где разоренная
Москва отождествляется с ульем, который покидает пчелиный рой.
49
Еще выразительнее набор сравнений, разоблачающих претензии «великого человека» Наполеона: «И он опять перенесся в свой прежний искусственный мир призраков какого-то
величия, и опять (как та лошадь, ходящая на покатом колесе
привода, воображает себе, что она что-то делает для себя) он
покорно стал исполнять ту жестокую, печальную и тяжелую,
нечеловеческую роль, которая ему была предназначена» (III,
1, XXXVIII). «Наполеон, представляющийся нам руководителем всего этого движения (как диким представлялась фигура,
вырезанная на носу корабля, силою, руководящею корабль),
Наполеон во все это время своей деятельности был подобен
ребенку, который, держась за тесемочки, привязанные внутри кареты, воображает, что он правит» (IV, 2, X).
В последнем случае можно даже усмотреть, развивая толстовский образ, пушкинскую аллюзию из «Телеги жизни»: на
самом деле каретой управляет Провидение, некая надличностная «мировая сила», напоминающая античный фатум, в обличье сидящего на облучке ямщика:
Хоть тяжело подчас в ней бремя,
Телега на ходу легка;
Ямщик лихой, седое время,
Везет, не слезет с облучка...
Несмотря на эпизодические возвращения в лоно поэтического мышления, научная идея Толстого сохраняет логическую стройность и характерную для публицистического стиля
декларативность.
Толстой-художник менее категоричен. Используя всю систему изобразительно-выразительных средств романа-эпопеи,
развернув перед читателем грандиозную панораму исторической жизни России накануне и во время Отечественной войны 1812 года, исследовав «бесконечно малые элементы, которые руководят массами», т.е. душевное состояние и поведение представителей различных социальных групп и сословий,
писатель-реалист пришел в результате к гениальному открытию, не подтверждающему, однако, и не опровергающему его
историософские идеи, а поглощающему и уточняющему их:
«...благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие в подобных
случаях, с простотою и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменяется презрением и жалостью» (IV, 3,1). Таким образом, движущей силой истории оказывается воля объединенного общей идеей народа и воля тех
50
его представителей, которые яснее других осознали эту идею
(поэтому «великий агрессор» Наполеон и проигрывает «великому пацифисту» Кутузову).
Рокировка (взаимозамещение) художественной и научной
идеи происходит и при литературоведческой интепретации
идейного смысла произведения. Вернее будет сказать, литературовед должен перевести художественную идею на язык
научной логики, произвести ту «страшно понижающую» искомый результат операцию, от которой Толстой предостерегал Н. Страхова, столь опрометчиво попросившего его кратко
сформулировать главную мысль «Анны Карениной».
Литературное произведение как художественный феномен
представляет собой, таким образом, иерархически организованную с и с т е м у ч а с т н ы х и д е й , подчиненных г л а в н о й и д е е . Исследуя произведение, мы должны первым делом определить его и д е й н о е с о д е р ж а н и е — комплекс
идей, непосредственно выражающих авторское отношение к
изображаемому. Конечно, центральное положение в нем занимает главная идея как конечный итог всего творческого
процесса, как некая точка в конце пути от идейного замысла
до завершения произведения.
Вычленить из целостного художественного организма
главную идею, выявить круг идей, составляющих его идейное содержание или, иначе, идейный смысл, — задача не из
самых простых. Для этого необходимо прочитать произведение
профессионально, т.е. произвести определенную исследовательскую работу, совместив в едином фокусе авторское видение проблемы, как оно отразилось в тексте, и свое собственное — не столько читательское, сколько литературоведческое восприятие. Два добытых таким образом субъективных
мнения, наложившись друг на друга, синтезируют в результате некий общий объективный итог.
При определении идейного содержания того или иного
произведения необходимо в ряду всего прочего отделить главную идею от второстепенных и по возможности точно перевести ее на язык логических понятий, т.е. подыскать ей адекватную формулировку. После этого или одновременно идентифицируются частные идеи, расширяющие и уточняющие
главную.
Возьмем для примера «Слово о полку Игореве». Классическое определение его главной идеи было сформулировано «сс
стороны», а именно немецким философом и экономистом
К. Марксом, который в письме к Ф. Энгельсу выразился сле52
дующим образом: «Суть поэмы — призыв русских князей к
единению как раз перед нашествием собственно монгольских
полчищ» (Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 29. С. 16).
Но главная идея «Слова...» — идея единства Руси — не
существует сама по себе; она лишь венчает собой идейное содержание гениальной поэмы, в которое наряду с ней входят и
такие частные идеи, как идея патриотизма, осуждение княжеской междоусобицы, прославление воинской доблести,
скорбь по поводу поражения русских князей, восхищение красотой родной земли и неприятие «земли незнаемой», чужой,
преклонение перед всепобеждающей силой женской и братской любви...
Далеко не праздный интерес вызывают вопросы о том,
к а к в о з н и к а е т х у д о ж е с т в е н н а я и д е я , как соотносится она с идейным замыслом, на каком этапе творческого
процесса появляется и окончательно вызревает? И.А. Гончаров делил писателей в этом смысле на две группы: сознательного и бессознательного творчества.
Представители первой группы создают свои произведения
в полном соответствии с исходным идейным замыслом, т.е.
видят, вернее, предвидят конечный результат художественного исследования уже в самом его начале. Такие писатели отличаются крайним ригоризмом в отстаивании первичности
идеи. Вот два характерных высказывания: «Идея прежде
всего, кто забывает это правило, превращается в презренного
паразита» (Д.И. Писарев). «Без ясно означенной идеи художественное произведение является сбродом случайностей, в
котором даже искусно начертанные образы теряют значительную долю своей цены, потому что не существует органической
связи, которая бы объяснила их участие в общей экономии
произведения» (М.Е. Салтыков-Щедрин).
Самого себя И. Гончаров относил к противоположной группе, рекомендуясь без всякого комплекса неполноценности
писателем бессознательного творчества: «Пишу вяло, скучно,
пока вдруг не хлынет свет и не осветит дороги, куда мне идти.
Тогда я работаю живо, бодро...» Для Гончарова и писателей
его плана поначалу драгоценна сама возможность мыслить
или, точнее, по его же выражению, «рисовать образами»,
пусть, казалось бы, и без ясно осознаной цели.
Компромиссную и, следовательно, универсальную формулу вынашивания художественной идеи, подчеркивающую к
тому же ее неразрывную связь с категорией темы, предложил
Н. Добролюбов: «Художественное произведение может быть
52
выражением известной идеи не потому, что автор задался этой
идеей, а потому, что автора его поразили такие факты действительности, из которых эта идея вытекает сама собой».
Много различных способов вызревания художественной
идеи, по сути дела, столько же, сколько самих произведений.
Пути творческого освоения мира неисповедимы. Конечно,
нельзя исключить и такой вариант, когда произведение пишется именно потому, что автор «задался определенной идеей», выполняя, например, пресловутый «социальныйзаказ».
Такой вид «творчества» заведомо носит вторичный неполноценный характер, поскольку не предполагает художественного открытия, предлагая читателю взамен бедную радость узнавания («так бывает», «это похоже на жизнь», «произведение подтверждает непреложную истину»). Если же мы имеем
дело с творчеством в истинном и самом высоком смысле этого
слова, идея до творчества в принципе не существует, она рождается в процессе творчества и не может жить вне произведения, как душа отдельно от тела:
Глаз отдыхает. Слух не слышит.
И небом невозбранно дышит
Жизнь сокровенно хороша.
Почти свободная душа.
(Вл. Ходасевич. «Когда б я долго жил на свете...»)
Равным образом и произведение не может жить без идеи,
как тело без души. Один из главных критериев его художественности — наличие ясной непротиворечивой, четко выраженной идеи. Однако о н а не д о л ж н а в ы п и р а т ь н а р у ж у , бесцеремонно и крикливо напоминать о себе. Кто-то
остроумно сравнил ее с пружиной в диване: если она слаба или
ее нет вовсе, на диване невозможно сидеть, но и если она торчит — тоже не сядешь...
Но в то же время и д е я д о л ж н а в ы т е к а т ь из х у д о ж е с т в е н н о й л о г и к и произведения, а не притягиваться «зауши» под диктовку мировоззрения. Разумеется, оба
указанных фактора сосуществуют. Идеальное их сочетание —
гармоническое единство. Однако бывают, и довольно часто,
случаи нестыковки. Когда в античном театре драматург не мог
разрешить конфликт в соответствии с мифологической традицией, собственными или общественными идеалами, он прибегал к искусственному приему насильственной идейной коррекции, получившему наименование «deus ex machina» («Бог с
машины»): при помощи специального, довольно сложного и
громоздкого механизма к месту действия спускалось Божество
53
и «наводило порядок». Впоследствии эту неблаговидную роль
стали играть всякого рода вестники от королевских особ (например, в пьесах JIone де Bera «Овечий источник», Мольера
«Тартюф») или у романтиков могущественные потусторонние
силы («КрошкаЦахес» Гофмана, «Морская царевна» Лермонтова).
Активность выражения художественной
и д е и зависит от метода и стиля писателя, а также от родовой и жанрово-видовой принадлежности его произведений.
Реалист скорее поступится своим мировоззренческим
credo, чем принципом достоверности. Поэтому-то у него персонажи обыкновенно обнаруживают склонность к своеволию,
бунту против авторского диктата. Без всякого сожаления, скорее даже с плохо скрываемым удовлетворением А. Пушкин
и Л. Толстой признавались в том, что их герои повели себя
не так, как они ожидали (у первого Татьяна Ларина «удрала шутку» и вышла замуж, у второго Вронский стал стреляться).
Романтику наоборот, ставя, как правило, исключительного героя в исключительные обстоятельства, властно заставляет его действовать в согласии со своим идейным замыслом.
Ни закономерности реальной жизни, ни логика саморазвивающихся характеров, ни стереотипы читательского восприятия — ничто не является для него непреодолимым препятствием для художественного воплощения тех идей, которые
отвечают его концептуальным установкам.
Примерно такое же соотношение можно проследить в жанрах эпического и драматургического родов, где преобладание
объективного фактора творчества больше располагает к принципу «идея идет к писателю» (от жизни), и в жанрах лирики9
где примат субъективного фактора оказывает поддержку противоположному принципу — «писатель идет к идее» (от мировоззрения, идеала). Не случайно и то, что первые тяготеют
к прозе — художественной структуре, имитирующей естественную разговорную речь, а вторые — к стиху, построению
заведомо искусственному, демонстративно условному, но обладающему зато богатыми эвристическими потенциями.
К о н ф л и к т м е ж д у и д е е й , в ы т е к а ю щ е й непосредственно из фактов действительности, поразивших автора,
и и д е е й , которую он х о т е л бы и з в л е ч ь из них в соответствии со своими убеждениями, нередко возникает в более
или менее острой форме по тем или иным причинам. Обратимся лишь к двум общеизвестным примерам.
54
Французский писатель XIX века Оноре де Бальзак, несмотря на свое буржуазное происхождение и воспитание, был непримиримым легитимистом, т.е. сторонником «законной»
власти короля, аристократических привилегий и пр. В своей
грандиозной «Человеческой комедии» писатель-реалист пытался, как мог, пропагандировать эту, скажем так, весьма сомнительную в условиях посленаполеоновской реакции идею.
Крепкая реалистическая закваска, однако, не позволила ему
изменить правде в угоду ложной идее. Любезные его сердцу
аристократы вопреки авторской воле приобретали в его произведениях весьма непривлекательные черты и, конечно, никак не могли внушить симпатии читателям.
Неоднозначная оценка, которую получил у современников один из самых знаменитых романов И.С. Тургенева
«Отцы и дети», также была продиктована глубоко затаившимся в нем мировоззренческим диссонансом. Читатели и
критики восприняли его идейную направленность не просто по-разному, с естественными нюансами, разумеется,
присущими каждому индивидууму, но диаметрально противоположным образом. Одним казалось, что роман осуждает нигилизм как общественное явление, другие в образе
его главного носителя Евгения Базарова увидели авторское
сочувствие и даже стремление героизировать его трагическую кончину. Правы были в принципе и те, и другие. Субъективный замысел Тургенева — развенчать мировоззренчески враждебный ему нигилизм — не получил убедительного
подтверждения в идейном итоге предпринятого художественного исследования. Как личность, как мужественный борец
за свои идеалы, как человек, способный к самопожертвованию, Базаров берет реванш в глазах преждевременно осудившего его писателя. Поэтому некоторые исследователи
романа различают в нем идею субъективную и идею объективную — иными словами, две идеи, не совпадающие вполне, но дополняющие одна другую.
Итак, идея — исключительно важный элемент литературно-художественного произведения, одухотворяющий и освещающий его светом авторского неравнодушия, приглашающий читателя к сотворчеству, сочувствию и сопереживанию.
Благодаря идее искусство осуществляет свое высокое предназначение, воспроизводит жизнь, «чтобы объяснить ее значение и вынести свой приговор» (Н.Г. Чернышевский). В составе идейно-тематического содержания она связана со всеми элементами художественной системы, объединяет их в
55
художественно целесообразное целое, которое служит для него
адекватной формой воплощения.
Вопросы для самостоятельного изложения
1. Как вы думаете, почему тема — первое, что приходит
на ум при характеристике произведения, творчества
писателя или группы писателей?
2. Что вы понимаете под тематической целостностью художественного произведения?
3. Как соотносятся тема и тематика? Попытайтесь выявить зависимость темы произведения от его родовой
принадлежности.
4. Какое место занимает идея в творческом акте и в его результате (литературно-художественном произведении)?
5. Может ли идея не совпадать с первоначальным художественным замыслом? Приведите примеры.
6. Растолкуйте определение пафоса, данное Гегелем и Белинским.
1
СЮЖЕТ И ФАБУЛА
ЛИТЕРАТУРНО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Действие, процессусмьность —
факторы, определяющие своеобразие
поэтического мира
Содержание литературного произведения и литературы в
целом предстает перед нами как взаимодействие характеров
и обстоятельств. «Художественное мышление писателя воплощается в созидаемых им человеческих образах, включенных в образ определенного общественного и природного
«мира» — мира «Илиады», «Божественной комедии», «Гамлета», «Анны Карениной», «Доктора Фаустуса», «Тихого
Дона» (Кожинов В.В. Сюжет, фабула, композиция//Теория
литературы. Основные проблемы в историческом освещении.
M., 1965. Вып. 2. С. 408).
Современная литературоведческая наука широко пользуется понятием художественного (поэтического) мира как
субъективной модели объективной действительности. Это необычайно емкое и гибкое понятие, дающее максимально адекватное представление о неповторимости того или иного произведения, совокупности циклизующихся произведений, о
творческой индивидуальности того или иного писателя, сформировалось как своего рода реакция на вульгарно-социологический подход к проблеме соотношения объективного и
субъективного факторов в искусстве, пережитки которого
дают о себе знать и сегодня.
Пространственно-временные
координаты
(хронотоп), система персонажей, характеров
и обстоятельств, образный строй, динамика
развития действия, принципы построения
57
с ю ж е т а , р е ч е в ы е х а р а к т е р и с т и к и — таков далеко
не полный перечень примет, по которым можно довольно точно описать поэтический мир «Песни о вещем Олеге», «Руслана и Людмилы», «ЕвгенияОнегина», «Пиковойдамы», «Медного всадника», «Маленькихтрагедий»,сказок, «Песензападных славян» или творчества Пушкина в целом.
Богаче, подробнее и обстоятельнее поэтический мир отдельного произведения, причем его наполненность конкретными реалиями напрямую зависит от преобладания объективного начала над субъективным. В циклизующихся произведениях и тем более в творчестве писателя он предстает перед
нами в интегрированном, разреженном виде.
Поэтический мир отдельного произведения столь же уникален, как факты действительности, поразившие воображение автора, как неповторимый момент в общественной, художнической и частной жизни писателя, совпавший с обстоятельствами его создания.
Поэтический мир того или иного художника есть сложно опосредованное отражение его темперамента, мировоззрения, социального опыта, политических симпатий и антипатий, методологической и стилистической ориентации — всех
граней его человеческой личности и творческой индивидуальности.
Вот почему совершенно невозможно представить того же
Евгения Онегина в художественном мире «Героя нашего времени» и, наоборот, Печорина в художественном мире пушкинского романа. Эту же несовместимость можно наблюдать и в
рамках творчества одного того же художника. Никогда, например, не могут «встретиться под одним небом» Печорин и
Мцыри, Анна Каренина и Наташа Ростова. Так называемые
«сквозные персонажи» типа бальзаковского Растиньяка возможны лишь в произведениях циклического характера, имеющих относительно единый в наиболее общих моментах художественный мир.
Чтобы определить сущностные свойства основополагающих категорий поэтики литературного произведения, в частности, сюжета, необходимо ясно представлять, как устроен его
поэтический мир, какова его «механика», чем он принципиально отличается от художественного мира других видов искусства. Простейшим путем достижения этой цели с античных времен считалось с р а в н е н и е . С легкой руки Симонида, художественная литература отождествлялась с
живописью: «Поэзия есть говорящая живопись, а живо68
пись — молчащая поэзия ». За этой красивой лапидарной формулой, однако, скрывалась вольная или невольная подмена
специфики одного вида искусства спецификой совершенно
другого. Первым, кто усомнился в ее истинности, был немецкий поэт, драматург и эстетик XVIII века Готхольд Эфраим
Лессинг. В трактате «Лаокоон, или О границах живописи и
поэзии» он подверг сравнительному анализу один и тот же эпизод древнегреческого мифа о гибели троянского жреца Лаокоона и двух его малолетних сыновей, отраженный в известной
скульптурной группе, и в поэме Вергилия «Энеида». Вывод, к
которому пришел исследователь, оказался весьма неожиданным и, с точки зрения теории, в высшей степени перспективным: «Живопись изображает тела и опосредованно, при помощи тел, движения. Поэзия изображает движения и опосредованно, при помощи движений, тела. Ряд движений,
направленных к единой конечной цели, называется действием » (Лессинг Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии.
M., 1957. С. 423).
Таким образом, живопись (в данном случае ваяние, скульптура) отошла к пространственным видам искусства, а поэзия — к временным. Поэтический мир, созидаемый посредством слова, есть мир движущийся, наполненный действием.
Чтобы изобразить одежды Агамемнона, Гомер заставляет его,
воспрявшего ото сна, одеваться. Знаменитое описание щита
Ахиллеса также динамично, потому что щит описывается в
процессе его изготовления божественным кузнецом Гефестом.
В свою очередь, картины мирной и военной жизни, изображаемые мастером, в словесном описании оживают, наполняются движением. В самом начале «Тараса Бульбы» Гоголя заглавный герой сперва насмехается над своими сыновьями, а
потом просит их «поворотиться», что они и делают не только
перед отцом, но и перед читателем, демонстрируя свои нелепые бурсацкие свитки.
Если с п е ц и ф и к у л и т е р а т у р н о й и з о б р а з и т е л ь н о с т и составляет д в и ж е н и е , а наиболее адекватной формой его выражения в языке служит глагол, сам собою
напрашивается вывод: «Движение и его выражение — глагол — являются основой языка... В художественной речи
главное — это глагол. Всегда нужно прежде всего искать и находить правильный глагол...» Так писал автор теории словесного жеста А.Н. Толстой (Алексей Толстой о литературе. M.,
1956. С. 168, 393). Отмеченную писателем закономерность
можно было бы признать абсолютной, если бы глагол был един60
ственной формой выражения движения. Но в знаменитых бло
ковских строчках
Ветер, ветер —
На всем Божьем свете!
отсутствие глаголов не исключает, а только усиливает мотив вселенской бури. Как тут не вспомнить не менее знаменитое стихотворение Афанасия Фета, в котором глаголы
отсутствуют вообще, но динамика лирической темы от
этого ничуть не страдает:
Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,
Ё дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря!..
Итак, действие как развертывающееся во времени и пространстве событие или лирическое переживание — вот что составляет основу поэтического мира. Оно может быть более
или менее д и н а м и ч н ы м , р а з в е р н у т ы м или с в е р нутым, физическим, интеллектуальным, эмоц и о н а л ь н ы м , п с и х и ч е с к и м , п р я м ы м или о п о с р е д о в а н н ы м , но его наличие обязательно. Давно замечено, например, насколько динамично, стремительно
развивается действие в «Слове о полку Игореве», поэтический
мир которого согласно идейному замыслу безымянного патриотически настроенного автора смоделирован как центрально-периферийная художественная система: в центре, на возвышении восседает на киевском престоле великий князь Святослав — живой символ единства русской земли,' на периферии
— смутные, едва различимые, чужие враждебные пространства «земли незнаемой», покрываемые перемещающимися
персонажами или авторской мыслью с фантастической скоростью. Отсюда — бросающаяся в глаза н а с ы щ е н н о с т ь
т е к с т а г л а г о л а м и (каждое третье-четвертое слово!):
«Тогда вступи Игорь князь в злат стремень и поеха по чистому полю. Солнце ему тьмою путь заступаше; ночь стону щи
грозою птичь убуди, свист зверин вста: збися Див, кличет
връху древа: велит послушати земли незнаеме... А половци
60
неготовами дорогами побегоша к Дону великому; крычат полунощи, рцы — лебеди роспужени. Игорь к Дону вой ведет...»
«Кадры» мелькают один за другим с калейдоскопической быстротой, ускоряя действие, как в замедленной киносъемке:
«Игорь спит, Игорь бдит, Игорь мыслью поля мерит...»
Если «проницаемость» художественного пространства
(Д.С. Лихачев) и скоротечность художественного времени в
д р е в н е р у с с к о й л и т е р а т у р е можно отнести за счет взаимодействия с поэтикой фольклора, где герои, не склонные к
рефлексии, предпочитают действовать, руководствуясь универсальным принципом «сказано — сделано»,в л и т е р а т у р е
н о в о г о в р е м е н и многое зависит от влияния других видов искусств.
Замедленное течение времени, неторопливая обстоятельность экстерьеров и интерьеров, взаимный детерминизм характеров и обстоятельств в р е а л и с т и ч е с к о м р о м а н е
X I X в е к а (Бальзак, Диккенс, Гоголь, Тургенев, Толстой,
Достоевский) находили поддержку в художественных завоеваниях п р о с т р а н с т в е н н ы х в и д о в и с к у с с т в а ,
прежде всего станковой живописи.
«Теоретически, — писал Марсель Пруст, — мы знаем, что
земля вертится, но на практике мы этого не замечаем; почва,
по которой мы ступаем, представляется нам неподвижной, и
мы чувствуем себя уверенно. Так же обстоит и со Временем.
И чтобы дать почувствовать его бег, романисты, бешено ускоряя движение часовой стрелки, заставляют читателя в течение двух минут перескакивать через десять, через двадцать,
через тридцать лет. В начале страницы мы расстаемся с полным надежд любовником, а в конце следующей мы вновь встречаемся с ним, когда он, восьмидесятилетний, все позабывший
старик, через силу совершает свою ежедневную прогулку по
двору богадельни и плохо понимает, о чем его спрашивают»
(Пруст Марсель. Под сенью девушек в цвету (В поисках утраченного времени). M., 1976. С. 68).
Педалированный динамизм событийного плана в л и т е р а т у р е XX в е к а опирался на экспансию временных видов искусства, прежде всего музыки. Исключительно яркой
иллюстрацией такого взаимодействия могут служить роман
В. Катаева «Время, вперед!» (1932) и созданная по его мотивам гениальная музыка Г. Свиридова. Композитор почувствовал мощный музыкальный импульс, легший в основу литературного произведения, и с необычайной выразительностью
воссоздал его на своем языке. Кстати, совершенно иного рода
61
мелодия легла в основу его же музыкальной иллюстрации к
повести Пушкина «Метель». Бешеная экспрессия XX века уступила место лирически одушевленной изобразительности
XIX в.
Контрастное сочетание стремительного мелькания «кадров» и томительного их замедления, почти остановки —
следствие тесного сотрудничества с кинемат о г р а ф о м , свободно монтирующим эпическое и драматическое изображение с лирическим и публицистическим выражением («В поисках утраченного времени» М. Пруста, «Улисс»
Дж. Джойса, «Чевенгур» А. Платонова, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Тихий Дон» М. Шолохова, «Доктор Живаго» Б. Пастернака, «Красное колесо» А. Солженицына).
Поскольку главным предметом, а также творцом и потребителем художественной литературы является человек, релевантную (сущностную) форму жизни которого составляет движение, движущаяся картина мира строится в соответствии с
человеческим фактором. «Мне кажется, — писал JI. Толстой, — что описать человека собственно нельзя; но можно
описать, как он на меня подействовал» (Толстой JI.H. Полн.
собр. соч.: В 90 т. Т. 46. M., 1937. С. 67).
Таким образом, мы должны различать действие и воздействие. Человек в литературном произведении может действовать сам по себе либо воздействовать на других персонажей и
на автора. В результате он воздействует и на реципиента, т.е.
обретает свое полнокровное художественное бытие.
Конфликт — основная движущая сила
произведения
Поэтический мир во всей его полноте: с пространственно-временными параметрами, народонаселением, стихиями
природы и общественными явлениями, действиями, высказываниями и переживаниями персонажей, авторским сознанием, существует не как беспорядочное нагромождение составляющих элементов, а как стройный художественно целесообразный космос, в котором можно и должно выделить
некий организующий стержень. Таким универсальным стержнем, если любое системное явление вслед за античными
мыслителями рассматривать как диалектическое единство
62
(борьбу) противоположностей, принято считать коллизию
или конфликт.
Оба функционирующих в литературоведении термина происходят от латинских слов «collisio, confIictus» — столкновение, противоречие. Разница в их значении и назначении малоощутима и трактуется исследователями по-разному. Одни
считают первое понятие более широким, поглощающим второе, имеющее открытый, откровенно антагонистический и,
следовательно, эстетически менее специфический характер,
а потому пригодное скорее для обозначения реальных политических, социальных, идеологических противоречий, отразившихся в художественном произведении; другие — наоборот. В последнее время, хотя значение обоих понятий практически нивелировалось, в терминологическом плане
предпочтительнее все же считается слово «конфликт».
Конфликт есть противоборство, противоречие либо между
характерами, либо между характерами и обстоятельствами,
либо внутри характера, лежащее в основе действия. В обобщенном, широком виде конфликт всегда наличествует в произведении, хотя проявляет себя по-разному, в зависимости от рода,
вида, жанра, идейных, художественных установок писателя...
Такому жанру, например, как идиллия (от греч. eidyllion —
картинка), конфликт, как многие думают, не свойствен вообще. Это не совсем так. Отсутствие конфликта в идиллии художественно значимо, подчеркнуто и даже является ее жанровой
доминантой. Но это не нулевая, а отрицательная величина,
минус-прием: отсутствует то, без чего произведения не бывает,
без чего оно выглядит так же вызывающе, как человек без тени
у Адельберта фон Шамиссо («Необычайная история Петера
Шлемиля») или человек без носа у Гоголя («Нос»).
Отсутствующий — временно, обычно в экспозиции, до завязки, или постоянно, как в идиллии, — к о н ф л и к т з а м е н я е т с я с и т у а ц и е й , предполагающей «мирное сосуществование», «симбиоз» не обнаруживающих разнонаправленных интересов и стремлений людей или явлений. Такова
пространная экспозиция «Тихого Дона», где в мирных сценах
домашнего быта, рыбной ловли, жизни станицы, проводов
казаков в военные лагеря исподволь, постепенно накапливается взрывчатая энергия любовной страсти Григория к Аксинье, которая в конце концов разовьется в трагически неразрешимый конфликт. Но это будет потом, много позже. Пока же
герой не ощутил себя отщепенцем, изгоем, затравленным со всех
сторон волком; конфликта еще нет, есть ситуация.
63
Конфликт, в его классической гегелевской интерпретации,
трактуется как «противоположность, содержащаяся в ситуации», как «нарушение, которое не может сохраняться в качестве нарушения, а должно быть устранено» в процессе действия, в «акциях и реакциях» противоборствующих субстанциональных сил; как правило, он требует своего полного
«разрешения, следующего за борьбой противоположностей»,
которые, в свою очередь, стремятся к слиянию в гармоническом идеале (Гегель Г. Эстетика: В 4 т. Т. 1. С. 213). Именно
конфликт обычно составляет ядро темы, а его разрешение —
определяющий момент идеи.
Каждая эпоха в истории мировой литературы соответственно имеет свои доминирующие виды конфликта. А н т и ч н а я п о э з и я , особенно трагедия, чаще всего обращалась к противоборству мощного человеческого характера с
неумолимой и неотвратимой силой рока, судьбы, которой
подвластны не только люди, но и боги («Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Орестея» Эсхила, «Эдип-царь» Софокла, «Медея», «Ипполит», «Ифигения в Авлиде» Еврипида).
В произведениях с р е д н е в е к о в о й литературы конфликтовали в основном божественное и дьявольское начала,
Небо и Преисподняя, возвышенная духовность и низменная
материальность («Видение о Петре Пахаре» У. Ленгленда,
«Исповедь» Августина Блаженного, «Тристан и Изольда»,
«Новая жизнь» и «Божественная комедия» Данте, «Слово о
законе и благодати» Илариона, «Слово о полку Игореве», «Моление Даниила Заточника»).
В э п о х у В о з р о ж д е н и я изображаемые в литературных произведениях противоречия переместились на грешную
землю: узурпировавший божественные функции человек противостоит либо пережиткам средневекового мира («Ромео и
Джульетта», «Гамлет», «Макбет» Шекспира, «Дон Кихот»
Сервантеса), либо эгоистическому своеволию хищнических
инстинктов уже нарождающейся буржуазности («Декамерон »
Боккаччо, «Утопия» Т. Мора, «Отелло» и «Венецианский купец» Шекспира).
Классические конфликтные схемы к л а с с и ц и з м а
X V I I — X V I I I вв. основывались на противоречиях между
личностью и государством, частным и общественным, чувством и долгом, страстями и разумом («Сид» Корнеля, «Ифигения», «Федра» Расина, «Тартюф», «Дон Жуан», «Мизантроп» Мольера, «Димитрий Самозванец» Сумарокова, «Россиада» Хераскова, «Недоросль» Фонвизина).
64
Идеология п р о с в е т и т е л ь с т в а , использовавшего для
своего художественного воплощения жанровые и стилистические формы классицизма, специфического стихийного реализма, а также некий синтез публицистики, философии и педагогики с беллетристикой, актуализировала те же конфликтные
схемы, что и классицизм, но решала их диаметрально противоположным способом («Робинзон Крузо» Дефо, «Путешествие
Гулливера» Свифта, «Кандид», «Простодушный» Вольтера,
«Эмиль, или О воспитании» Руссо, «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, «Горе от ума» Грибоедова).
В некоторых произведениях с е н т и м е н т а л и з м а характерные для него излияния чувствительного сердца и идеализация «простого человека» осуществлялись и воспринимались на фоне идиллически бесконфликтной природы или благостных общественных отношений («Сентиментальное
путешествие» Стерна, «Юлия, или Новая Элоиза» Руссо, «Письма русского путешественника» и «Бедная Лиза» Карамзина).
Видимое отсутствие острых социальных, политических или
нравственных коллизий было столь же значимо, как в уже упомянутом жанре идиллии, кстати, также весьма привечаемом
сентименталистами (Жуковский и переводимые им поэты).
Эталонным набором конфликтов р о м а н т и з м а принято считать противостояние исключительной творческой личности (гения) и филистерствующей, не понимающей его толпы, несоответствие мечты и действительности, идеализированного прошлого (вариант: будущего) и прозаического
настоящего, фантастического мира грез и пошлой повседневной реальности («Золотой горшок» и «КрошкаЦахес» Гофмана, «Собор Парижской Богоматери» Гюго, «Паломничество
Чайльд-Гарольда» Байрона, «Гражина» и «Конрад Валленрод»
Мицкевича, баллады Жуковского, «Кавказский пленник» и
«Цыганы» Пушкина, «Мцыри» и «Демон» Лермонтова).
Р е а л и з м , м о д е р н и з м и п о с т м о д е р н и з м уже
не имеют видимых предпочтений в выборе доминирующих
конфликтов, если не считать известного крена к социальному
детерминизму в первом случае и к внутриструктурным противоречиям плана изображения и плана выражения как главной движущей силы в развитии действия — во втором и третьем.
Имеет ли произведение один-единственный равный себе
на входе и на выходе конфликт? Дать однозначный ответ на
этот вопрос не представляется возможным. Все зависит от масштаба произведения, от его жанровых, стилистических и
структурных характеристик. Если мы имеем дело с м а л о й
3—3039
65
э п и ч е с к о й ф о р м о й , рассказом или новеллой, его действие, как правило, развивается на основе единого и постоянного конфликта. В эпических или драматургических п р о и з в е д е н и я х б о л ь ш о г о ф о р м а т а ( в эпопее, романе,
пьесе), в которых параллельно или последовательно проходит
несколько сюжетных линий, причем на весьма значительном
временном промежутке, соответственно умножается и число
конфликтов, каждый из которых может изменяться от начала
к концу действия. В таком случае мы должны выделять основной конфликт и подчиненные ему второстепенные.
Новеллы Чехова «Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», «Хамелеон» на разном жизненном материале разрабатывают, в сущности, один и тот же конфликт — противоречие
между власть имущими чиновниками и их подчиненными,
который разрешается трагически, комически или трагикомически. А вот, скажем, в романе Толстого «Анна Каренина»,
представляющем собой целую систему взаимосвязанных сюжетных линий (Анна — Каренин, Анна — Вронский, Китти — Вронский, Китти — Левин, Долли — Облонский...),
можно выделить ровно столько же «однокоренных », но не тождественных конфликтов, интегрируемых общим или главным
конфликтом произведения — неизбежным противоречием
между свободой и необходимостью в семейных отношениях
дворянской России сразу после реформы, «когда все переворотилось, но еще не уложилось». От одной сюжетной линии к
другой и во всей их целокупности общий главный конфликт
модифицируется, уточняется, приобретает все более и более
универсальный в своей фатальной неразрешимости характер.
Далеко не все литературоведы признают наличие конфликта в лирических произведениях. Несмотря на отсутствие в
большинстве из них событийного плана, закономерности развития лирической темы не исключают, а предполагают то или
иное противоречие. Например, в вольном переводе Лермонтова из Гёте:
Горные вершины
Спят во тьме ночной,
Тихие долины
Полны свежей мглой.
Не пылит дорога,
Не дрожат листы.
Подожди немного,
Отдохнешь и ты,
— неожиданная концовка мотивируется пантеистической
идеей слияния человека с природой, которое ожидает его после смерти. Но пока человек жив, его удел — борьба, преодоле66
ние, постоянное напряжение физических и нравственных сил.
Развитие лирической темы, таким образом, направленное от
констатации вечного покоя в природном мире к парадоксальному «отдохнешь» по отношению к лирическому герою (в первую очередь поэт обращается к самому себе, и уже во вторую —
ко всем остальным людям), предопределено конфликтным напряжением между статикой и движением, умиротворением и
борьбой. Такому распределению силовых линий текста соответствуют и другие уровни его художественной структуры (образные, языковые, стихотворные).
Но столь расширенная трактовка конфликта как универсального рычага в развертывании любого художественного
текста нивелирует его разновидности и скрадывает основную
специфику. Главное призвание конфликта — с т р у к т у р и р о в а т ь с ю ж е т , вычленять его элементы, т.е. в конечном
итоге так или иначе р е г у л и р о в а т ь с о б ы т и й н ы й
план действия.
Сюжет и фабула
Термин «сюжет» происходит от французского слова
«sujet», обозначающего «предмет», и употребляется как в
широком и точном смысле — «предмет изображения», так и в
узко терминологическом, в трактовке которого литературоведы далеко не единодушны. Вот несколько самых популярных
определений. Сюжет — «связи, противоречия, симпатии, антипатии и вообще взаимоотношения людей, истории роста и
организации того или иного характера» (Горький AM. Собр.
соч.: В 30 т. M., 1953. Т. 27. С. 215); «Художественно построенное распределение событий в произведении...» (Томашевский Б. Теория литературы. Поэтика. Изд. 5-е, испр. M.: JI.,
1930. С. 136); «Повествовательная структура пьесы, сказки
или романа...» (Уэллек Р. и Уоррен О. Теория литературы: Пер.
с англ. M., 1978. С. 233—234); «Последовательность внешних
и внутренних движений людей и вещей... Определенный пласт
произведения, одна из его оболочек» (Кожинов В.В. Сюжет,
фабула, композиция//Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. M., 1964. Кн. 2. С. 421); «Цепь
событий, воссозданная в литературном произведении, т.е.
жизнь персонажей в ее пространственно-временных измене67
ниях, в сменяющих друг друга положениях и обстоятельствах» (Хализев В.Е. Теория литературы. M., 1999. С. 214).
Общим интегрирующим центром всего этого разнообразия
может служить следующая лапидарная формула: сюжет есть
художественно целесообразная система событий, определяющая вместе с фабулой (от лат. fabula — рассказ, повествование) закономерности организации действия в эпических, драматургических, лироэпических и, отчасти, лирических произведениях.
Сюжет и фабула — понятия соотносительные, в з а и м н о
д о п о л н я ю щ и е д р у г д р у г а . В литературоведении существуют разные точки зрения на их природу и соотношение:
1)».. .под сюжетом разумеется уже совсем готовое содержание,
т.е. сценариум со всеми подробностями, а фабула есть краткий рассказ, лишенный всяких красок» (А.Н. Островский);
2) наоборот, фабула — целостная система событий, во всей их
исчерпывающей полноте («как в жизни»), а сюжет — краткое
схематическое изложение, обозначающее лишь основной конфликт (Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. M., 1963.
С. 151; Квятковский А.П. Поэтический словарь. M., 1966.
С. 293); 3) сюжет — художественно целесообразная система
событий, а фабула — выпрямленный сюжет, т.е. те же самые
события, но в их естественном, хронологическом порядке, так,
как они происходили или могли бы происходить в действительности; при этом направление событийного плана в сюжете может совпадать с фабульным, а может и отличаться от него;
в первом случае мы имеем прямую, во втором фигурную сюжетную композицию (например, в «Илиаде» Гомера сюжетная композиция прямая, а в «Одиссее» — фигурная, «рамочная»); 4) представители формальной школы в литературоведении (В. Шкловский, Б. Томашевский, JI. Выготский)
именовали фабулой так называемый «практический ряд », т.е.
отобранную писателем и подлежащую преобразованию в «поэтический ряд» реальную действительность, а сюжетом — совокупность необходимых для этого художественных приемов;
5) наконец, согласно так называемой негативной точке зрения,
понятие фабулы избыточно или, по крайней мере, синонимично. Наиболее продуктивной представляется третья концепция,
дающая возможность сопоставить объект художественного
изображения с его результатом и, в конечном итоге, реконструировать идейный замысел писателя. Ее в настоящее время
разделяет большинство отечественных и зарубежных литературоведов.
68
Сюжет — это цепь цепляющихся друг за друга событий,
которые автор располагает в оптимальной для него последовательности, обнаруживая тем самым свое активное присутствие в поэтическом мире созидаемого произведения. Как писал еще в 30-х гг. XX в. талантливый марксистский литературовед Иван Виноградов, «... писатель выбирает и соединяет
события так, чтобы обрисовать людей в их отношении с нужной ему стороны и в нужном ему освещении» (Виноградов
Иван. Борьба за стиль. JI., 1937. С. 191).
В этом рассуждении легко можно было усмотреть далеко
небезобидную, с точки зрения господствововавшего в ту пору
вульгарно-социологического метода, полемику с общепринятой аксиомой, согласно которой писатель выступает не сам по
себе, но исключительно как рупор породившего его класса.
Подобное вольномыслие скорее всего и привело к репрессиям,
которым ученый был впоследствии подвергнут.
Весьма поучительный интерес для современного читателя
представляет предложенный в данной работе И. Виноградова
яркий нетривиальный анализ сюжета «Отцов и детей». «...Сюжет «Отцов и детей» распадается на две группы событий. Это,
во-первых, история взаимоотношений Базарова с Павлом
Петровичем. Другой ряд событий — это отношения Базарова
(и Аркадия) с Одинцовой. Обе группы имеют своей целью показать несостоятельность взглядов Базарова. Сюжетная линия
Базарова, как она развернута в романе, — это линия крушения
базаровского нигилизма даже в том ограниченном содержании,
какое в него вложил Тургенев. Базаров, отрицая любовь, сам
влюбляется в Одинцову и, насмехаясь над дуэлью, сам дерется на
дуэли. Тургенев это практическое крушение идей Базарова делает кульминационным пунктом и в той, и в другой группе событий.
Автор как бы говорит своим романом: за Базаровым нельзя идти,
потому что он сам за собой не идет» (там же. С. 198).
В свете приведенных исследователем доводов особенную
убедительность и логичность приобретает финальная фраза
романа: «Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна? О, нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрывалось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами. Не об одном
вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии равнодушной природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной».
«Тургенев, — заключает свои размышления И. Виноградов, — в последний раз излагает здесь от себя то, что самой
69
образной системой доказывал на протяжении романа: незыблемость «вечных» идеалов, с которыми пытался бороться Базаров... Роман, в сущности, и является борьбой «головных»
отрицательных теорий с могучей силой любви, с неизъяснимой красотой природы, со всем сплетением хотя и «старых»,
но живых и теплых человеческих чувств, — борьбой, кончающейся победой «человечности», «природы», «красоты» над
«нигилизмом» (там же. С. 199).
Р а б о т а н а д с ю ж е т о м и ф а б у л о й , как правило,
н а ч и н а е т с я с т е м ы , в известной мере предопределенной замыслом произведения. Каждый писатель имеет свои тематические предпочтения благодаря обстоятельствам его частной и творческой жизни. С темой приходит фабула или, чаще
всего, ее основные моменты (фабульная схема), костяк, который
постепенно обрастает «мясом» сюжетного материала. Фабульные
схемы, наметки будущих полнокровных сюжетов писатели нередко заготавливают впрок, загодя именуя сюжетами. По воспоминаниям Бунина, Чехов любил вынимать из стола свою записную книжку и, подняв лицо и блестя стеклами пенсне, мотать ею в воздухе: «—Ровно сто сюжетов! Да-а, милсдарь! Не вам,
молодым, чета! Работники! Хотите, парочку продам!»
Источники обретения сюжетного материала разнообразны, как сама жизнь. Это может быть, прежде всего, личный
опыт писателя, который не только сидит за письменным столом, но и живет в окружающем его пестром мире.
Самым автобиографичным родом литературы по праву
считается л и р и к а , применительно к которой, в связи с неразвитостью событийного плана, иной раз пользуются малопродуктивным понятием «точечного» (неразвернутого во времени) сюжета. Тем не менее сюжет в лирике встречается и
в собственном смысле, особенно в произведениях иносказательного характера, повествуется в них о неких умозрительных
символах («Тучи», «Дубовый листок оторвался от ветки родимой. ..», «Кинжал» и многие другие стихотворения стремящегося к объективной манере письма одного из самых субъективных
русских поэтов Лермонтова) или о случаях, приключившихся
с автором лично (его же «Нищий» и «1-го сентября»).
Столь же автобиографично фабульное зерно лермонтовской «Тамани», «Первой любви» и «Вешнихвод» И. Тургенева, «Крейцеровой сонаты» и «Дьявола» Л. Толстого. Ставший
бестселлером XVIII века автобиографический роман Гёте
«Страдания молодого Вертера» воспроизвел перипетии из личной любовной драмы писателя с такой безоглядной откровен70
ностью, что выведенным в нем Альберту и Шарлотте Кестнерам, атакуемым фанатичными паломниками, ринувшимися
после прочтения романа к месту описанных в нем событий,
пришлось сменить фамилию!
Повышенным писательским спросом как источники лихо
закрученных самой жизнью фабул заслуженно пользуются
анекдотические происшествия, ставшие достоянием широкой огласки или рассказанные конфиденциально. Так, бывший на слуху у всех «канцелярский анекдот о бедном чиновнике» спровоцировал гоголевскую «Шинель». Гоголь же, работая над сюжетом «Ревизора», сконтаминировал подаренного
ему Пушкиным «Криспина» с бытовым анекдотом о мнимом
ревизоре. Щедрости своего великого друга Гоголь был обязан
и уникальным сюжетом «Мертвых душ»: рассказанный както поэтом анекдот о предприимчивом помещике напомнил ему
давно забытую историю о его же собственном хитроумном родственнике, закладывавшем мертвых крепостных.
Писатели, тяготеющие к захватывающим д е т е к т и в н ы м и н т р и г а м , драматическим жизненным коллизиям и
перипетиям, не оставляют без внимания публикуемые в газетах судебные хроники и репортажи. Даниэль Дефо, как известно, использовал в своем «Робинзоне Крузо» сенсационный
газетный очерк о четырех годах жизни на необитаемом острове английского моряка Александра Селькирка, кардинально
сместив при этом фактические акценты: если прототип литературного героя к концу своей «робинзонады» мало напоминал цивилизованного человека, почти разучившись говорить
по-английски, персонаж Дефо, прожив на острове в семь раз дольше, в полном согласии с просветительской доктриной своего создателя проходит все стадии развития человечества и «под занавес» вместе с Пятницей посредством «общественного договора»
создает цивилизованное общество в миниатюре.
Сюжеты знаменитых романов Ф. Стендаля «Красное и черное» и Ф. Достоевского «Братья Карамазовы» стали художественным отражением нашумевших судебных дел, подробно
освещавшихся в газетах. Прототипом Жюльена Сореля, таким
образом, стал некий Антуан Берте, а интрига «Братьев Карамазовых» во многом повторяет разбирательство обстоятельств
преступления поручика Ильинского, которому инкриминировалось отцеубийство.
Неиссякаемый запас «новых старых» сюжетов составляет
сама х у д о ж е с т в е н н а я л и т е р а т у р а . Это, во-первых,
хорошо забытые сюжеты второстепенных и третьестепенных
71
писателей, к которым как к своим собственным обращаются гении (значительная часть произведений У. Шекспира, «Фауст»
Гёте, сюжет которого, основанный на народной легенде о продавшем дьяволу душу чернокнижнике, был использован в анонимной «народной книге» 1587 года и— скорее всего параллельно с ней — в трагедии Кристофера Марло «Трагическая история
доктора Фауста» в 1588—1589 или 1592 г.). И это, во-вторых,
так называемые «вечные сюжеты» — самого разного происхождения: мифологического, в том числе и библейского (о Прометее-огненосце, Иосифе и его братьях, о блудном сыне), фольклорного и легендарного (к легенде о Дон Жуане, осложненной мифологической историей об оскорбившем мертвеца
грешнике, обращались Тирсо де Молина, Мольер, Байрон, Пушкин, А.К. Толстой, Блок, Гумилев, Ахматова, Цветаева,
P.M. Рильке, Б. Шоу, М. Фриш и многие другие; к сказочно-мифологическому мотиву о путешествии в загробный мир, «тридевятое царство, тридесятое государство» — Гомер, Вергилий, Данте, Твардовский).
Не менее щедрым источником сюжетообразования считается прошлое человечества, запечатленное в исторических документах и материалах. Так, «Сравнительные жизнеописания» Плутарха породили шекспировского «Юлия Цезаря», а
в дальнейшем «Цезаря и Клеопатру» Дж.Б. Шоу и «Мартовские иды» Т. У ай л дера, древняя ирландская сага об Am лете —
шекспировского «Гамлета», который, в свою очередь, тянет
за собой целый шлейф сюжетообразующих мотивов; русские
летописи и «История государства Российского» Карамзина —
«Димитрия Самозванца» Сумарокова, «Песнь о вещем Олеге»
и «Бориса Годунова» Пушкина, «Смерть Иоанна Грозного»,
«Царя Федора Иоанновича» и «Царя Бориса» А.К. Толстого.
Примеров великое множество.
Элементы сюжета
Интегрирующим стержнем, вокруг которого группируются события, характеры и обстоятельства, является, как мы
могли убедиться, к о н ф л и к т — основная пружина, источник энергии, ведущая ось динамического напряжения в литературном произведении, его главная движущая сила, обеспечивающая развитие действия и сюжета.
72
Сюжет менее всего напоминает сплошную, непрерывную
линию, соединяющую начало и конец событийного ряда,
или, допустим, цепь, состоящую из ровненьких, безупречно
одинаковых звеньев; он распадается на разнообразные элементы — основные (канонические) и факультативные, группирующиеся не как попало, а в строго определенном, выверенном порядке для оптимального выражения идейно-тематического содержания.
К каноническим элементам относятся: э к с п о з и ц и я ,
завязка, развитие действия, перипетии, кульм и н а ц и о н н ы й м о м е н т , р а з в я з к а . К факультативным— з а г л а в и е , э п и г р а ф , о т с т у п л е н и я , к о н ц о в к а ( ф и н а л ) , п р о л о г и э п и л о г . Впрочем, существует и довольно авторитетное мнение, что сюжет включает
в себя лишь те события, которые располагаются между завязкой и развязкой, все остальные события объявляются внесюжетными элементами образного мира. С такой постановкой
вопроса можно было бы согласиться, если бы, зо-первых, не
было множества переходных случаев и, во-вторых, отстраненность от главного конфликта не переживалась бы как значимое его отсутствие, как минус-прием. Рассматривая сюжет как
художественно целесообразную систему всех событий (а не
только основных), расстановка которых составляет с ю ж е т н у ю к о м п о з и ц и ю , более целесообразной представляется
его расширенная трактовка, учитывающая наряду с каноническими и факультативные, не имеющие прямой связи с конфликтом элементы.
Рассмотрим последовательно каждый из них.
Э к с п о з и ц и я (отлат.expositio — изложение,объяснение) представляет собой о п и с а н и е с о б ы т и й , п р е д ш е с т в у ю щ и х з а в я з к е . Ее основные функции: 1) первое знакомство читателя с поэтическим миром произведения, 2) ориентация во времени и пространстве, 3) представление
действующих лиц, 4) изображение ситуации до конфликта.
Как отмечал Константин Федин, «...в экспозиционной части
обычно заложено несколько мотивов главной темы, дано много образов, представлена связь уже происшедших за пределами романа событий. Все это необходимо в интересах напряжения интриги: пружина сюжета должна быть сжата в экспозиции настолько, чтобы последующего ее «разжимания»
хватило надолго».
Вхождение в незнакомый художественный мир, созданный посредством словесных образов, по сравнению с миром
73
реальным, видимым воочию, психологически затруднено.
Этот мир не охватишь единым взором. Его приходится вбирать в себя постепенно, последовательно декодировать, штрих
за штрихом, кадр за кадром. Читатель должен проделать определенную умственную работу, напрячь все свое воображение, чтобы получить более или менее адекватный образ того,
что предлагает ему автор.
Организуя экспозиционную часть произведения, писатель
вынужден считаться с тем, что всегда найдется читатель, у которого просто не хватит терпения преодолеть этот психологический барьер, и книга вернется на полку непрочитанной.
Поэтому экспозиции надлежит быть предельно л а к о н и ч н о й , я р к о й , в ы р а з и т е л ь н о й и в то же время информационно емкой. Вместе с тем, решаясь на тот или иной вариант, писатель сообразуется с целым веером дополнительных
обстоятельств: или отдает дань привычным стереотипам, соответствующим его темпераменту, идиостилю, или круто меняет стратегию, столкнувшись с мало знакомым ему жизненным материалом, или подчиняется законам некой экстраординарной жанровой формы, например, детектива, или,
наконец, стремится сохранить верность художественным канонам определенного метода.
Легкий, стремительный Пушкин с его летящей, насыщенной глаголами движения фразой, спартанским лаконизмом и
аскетической скупостью в описаниях отличался ярко выраженной склонностью к энергичным, кратким экспозициям.
«Воздушная громада» «Онегина», спрессованная в «магический кристалл» романа в стихах, довольствуется в качестве
экспозиционной части воспроизведением «внутреннего монолога» едущего к богатому дяде племянника, заранее досадующего на предстоящую «скуку / С больным сидеть и день и ночь,
/ Не отходя ни шагу прочь...». Однако по приезде героя выясняется, что дядя «приказал долго жить»; Онегину ничего не
остается, как принять наследство и обживать свалившееся на
него имение. Некоторое время новоявленный помещик избегает соседей; наконец, знакомится сначала с Ленским, а затем с Лариными. Не успели мы как следует осмотреться — завязывается конфликт...
Совершенно иной тип экспозиции предпочитает в своих
пьесах А.Н. Островский. Главное для него — характеры: типические характеры в типических обстоятельствах. И то, и
другое у писателя-реалиста должно быть доскональнейшим
образом детерминировано, а значит воссоздано с предельной
74
степенью достоверности, подробно, в деталях. Поэтому первый
акт целиком, а то и начало второго драматург отводит под экспозицию, щедро дополняя ее и после завязки, на протяжение практически всей пьесы. Такова экспозиционная часть
«Грозы»: с томительной медлительностью разворачиваются
перед нами картины, на первый взгляд, спящего мертвым сном
«темного царства». Зритель получает возможность окинуть
внимательным взором окрестности захолустного Калинова,
познакомиться с жизнью его обитателей, с их нравами, характерами. Каждая сцена, каждое явление, каждое произнесенное персонажем слово увеличивают количество художественных аргументов в пользу очевидной реальности, несомненной
истинности происходящего.
Примерно теми же соображениями руководствовался
И.А. Гончаров, распространив едва ли не на треть романа гигантскую экспозицию «Обломова». Вопреки аксиоматическому мнению Лессинга о динамической природе литературной
образности заглавный герой произведения упорно бездействует . Если его былинный тезка Илья Муромец « просидел сиднем »
тридцать лет и три года, то Илья Ильич Обломов, похоже, готов столько же времени пролежать, не вставая с постели! Наивный хитрец просит каждого посетителя не подходить к нему
близко, чтобы не простудить хозяина («Вы с мороза!»). Читатель уже давно догадался: если Обломов подпустит гостя к себе,
придется здороваться с ним за руку, а значит — встать с постели, умыться, одеться и... зажить совершенно несвойственной
ему деятельной жизнью. Но, согласно идейному замыслу романа Илья Ильич в отличие от Штольца отстраняется от практической деятельности, а неустанная нравственная работа его
души, которую не замечает никто, для проницательного читателя несомненна.
Чего стоят, к примеру, его удивительные «полеты во сне и
наяву»! В мгновение ока преодолевая пространство и время,
безнадежно инертный герой оказывается в любезной его сердцу Обломовке безгрешным, полным надежд и энергии (!) ребенком, соприкасается с идиллическим миром добрых простодушных людей, тянется к беззаветной нежности покойной
матушки. Совершив это путешествие вместе с Об ломовым, мы
понимаем, что его гиперболизированная, сделавшая его имя
нарицательным леность — на самом деле активный протест
против бессердечия и бездушия окружающей его жизни. Обломов — не комический, а трагический герой. Недаром он
умирает от разрыва сердца!
75
Напрашивается вывод: беспрецедентно пространная экспозиция произведения, мотивированная прежде всего доминирующим свойством личности центрального персонажа, естественным и незаметным образом переходит в завязку основного конфликта — неразрешимого противоречия между
мечтой и делом, сердцем и рассудком, идеалом и действительностью.
Но обратимся к следующему каноническому элементу сюжета — з а в я з к е , т.е. с о б ы т и ю и л и г р у п п е с о б ы тий, н е п о с р е д с т в е н н о в е д у щ и х к к о н ф л и к т н о й с и т у а ц и и . В сущности, это отправной момент в развертывании сюжета, своеобразный стартовый выстрел,
отправляющий бегунов на дистанцию. Завязка может присутствовать в произведении явно, обособленно, как суверенный,
самостоятельный элемент сюжета, а может сливаться с экспозицией или, вернее, вырастать из нее без видимого сигнала.
Разумеется, если в произведении не одна, а несколько сюжетных линий, каждая имеет свою завязку, что не исключает наличия общей завязки.
Например, в рассказе Тургенева «Муму», конфликт которого составляет противоборство свободной воли природного
человека Герасима, символически обобщающего весь русский
народ, и косной силы парализующего эту волю крепостничества в лице безымянной старухи-помещицы, последовательно выстраиваются одна за другой две сходные, напоминающие
однородные члены предложения, сюжетные линии: «Герасим+Татьяна» и «Герасим+Муму». Каждая имеет свою завязку (барыня принимает решение — в первом случае выдать Татьяну замуж за Капитона, во втором случае — избавиться от
Муму); им обеим, однако, предшествует общая завязка произведения (Герасима, не считаясь с его волей и желаниями, изымают из родной деревенской среды и водворяют в чуждую ему
атмосферу города).
Особое художественное значение приобретает способ введения завязки, которая может явиться вдруг, сразу, без предварительной подготовки, за счет сокращения экспозиции
(«Мцыри» Лермонтова) или путем внедрения в нее («Муму»
Тургенева, «Медный всадник» Пушкина), либо мы будем
иметь дело с завязкой противоположного типа — задержанной, тщательно подготовленной; таковы большей частью завязки в пьесах Островского. Островский, как уже отмечалось,
скрупулезнейшим образом обосновывает достоверность всех
действующих лиц, исподволь нагнетая доминирующее конф76
ликтное противостояние и последовательно доводя его до разрешения. Так в пьесе «Гроза» упомянутый в I акте громоотвод косвенным образом свидетельствует о накапливающемся
в атмосфере произведения напряжении. «Мертвое царство»,
оказывается, вовсе не спит, люди, общаясь друг с другом, едва
не искрят — так много недоброго, грЬзного тока накопилось в
них. Крутой волжский берег, на котором раскинулся Калинов, также на поверку таит в себе смертельную опасность.
В знаменитом монологе Катерины «Отчего люди не летают так,
как птицы?.. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь...»
в общей предгрозовой атмосфере экспозиции слышится не
только косвенное сравнение героини с птицей, подчеркивающее ее нравственную и религиозную духовность, но и мотив
гибельности полета, который она-таки совершит в V акте.
Многозначность символа, вынесенного в заголовок пьесы,
обусловила ее двойную завязку: «Осуждающие слова Кулигина в I акте — завязка социальной борьбы, последние слова
Катерины во II акте окончательно завязали линию индивидуальной борьбы. Слившись уже в I действии, социальная и индивидуальная линии, постепенно обостряясь, определили единый сюжетный узел пьесы» (Ревякин А.И. Искусство драматургии А.Н. Островского. M., 1974). Впрочем, возможна и
другая, менее социологизированная трактовка: «Если драма
называется «Гроза», то особое место в ней должны занимать
эпизоды, связанные с грозой. Действительно, первый такой
эпизод — в восьмом-девятом явлениях первого действия —
является завязкой драмы, а второй в четвертом действии —
ее кульминацией» (Свердлов Михаил. Самоубийство Катерины — сила или слабость?// Я иду на урок литературы.
10-й класс: Книга для учителя. M., 2000. С. 41).
Общеизвестно, как долго искал Толстой окончательный вариант зачина в экспозиции «Анны Карениной». Косвенно он
был «подсказан»... Пушкиным. Перечитывая томик пушкинской прозы, Толстой наткнулся на начальную фразу отрывка
«Гости съезжались на дачу...». «Так надо писать!» —воскликнул он, после чего появилось знаменитое «Все смешалось в
доме Облонских».
Энергичная (по принципу «взять быка за рога!») экспозиция потребовала столь же решительной и четкой завязки.
В первоначальных вариантах она была более традиционной
и менее выразительной. Анна знакомилась с Вронским в Петербурге, в салоне княгини Бетси. В каноническом тексте знакомство переносится на вокзал (при этом глухо упоминается
77
то старое знакомство, оставшееся без последствий). Что, казалось бы, изменилось? А разница кардинальнейшая: «светское»,
почти ритуальное, ни к чему не обязывающее знакомство в
Петербурге и действительно роковое знакомство на вокзале в
Москве да еще на фоне трагической гибели железнодорожного кондуктора под колесами поезда! Толстой с нарочитой многозначительностью задерживает наше внимание на том, как
эмоционально, близко к сердцу, но каждый по-своему восприняли это происшествие оба участника будущей любовной драмы: Анна побледнела, почти лишилась чувств, а Вронский,
как бы заранее откупаясь за свой невольный грех, отыскал
начальника вокзала и передал ему деньги для вдовы погибшего. В окончательном варианте завязки, таким образом, просвечивает трагическая развязка («Будь счастлив. Я сумасшедшая». Через день нашли под рельсами тело»). Сам JI. Толстой
настойчиво подчеркивал: «Это одно из мест, на которых стоит
весь роман. Если оно ложно, то все ложно».
Бесспорно, завязка романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание» — изложение теории Раскольникова. Первоначально свое «наполеоновское credo» главный герой излагал сам на вечеринке у Разумихина. Но затем Достоевский
вкладывает его в уста Порфирия Петровича, вспомнившего
прочитанную им некогда журнальную статью, написанную
студентом юридического факультета Родионом Раскольниковым, как нарочно оказавшимся за общим столом. Следовательправовед реферирует содержание «статейки» ядовитым, ёрническим тоном, не скупясь на насмешливые комментарии, явно
провоцируя автора, вызывая на спор, и легко добивается своего! Конечно, такая завязка имеет особый художественный
эффект.
Наиболее значительным по объему каноническим элементом (или точнее сказать, совокупностью элементов) сюжета
является р а з в и т и е д е й с т в и я , под которым подразумевается вся система последовательного развертывания той части событийного плана, от завязки до развязки, которая контролируется конфликтом.
Развитие действия может быть эпически спокойным и драматически бурным, с неожиданными поворотами — п е р и п е т и я м и (от греч. peripeteia — внезапный поворот, перелом) в
описании событийного плана или судьбы персонажей, когда
та или иная ситуация обращается в свою противоположность
(Аристотель). Перипетии, как правило, характеризуют развитие действия в драматургии, в трагедии («Гамлет», «Макбет»
78
У. Шекспира) и в комедии («Сон в летнюю ночь», «Двенадцатая ночь» У. Шекспира), а также в тех эпических жанрах —
авантюрных, приключенческих, детективных и др., где они
составляют о с н о в у к о н ф л и к т н о г о н а п р я ж е н и я .
Выражение «эпическое спокойствие» своим происхождением обязано народному эпосу, героическим поэмам и эпопеям типа «Илиады» действие которых при всем драматизме
изображаемых событий разворачивается постепенно, неторопливо, в полном соответствии с замедленным темпом протекания исторического времени, развертывания изобразительного ряда, величавым тоном повествования, интонационной
уравновешенностью, образным и синтаксическим параллелизмом, длинными гекзаметрическими стихами с цезурой.
Момент наивысшего напряжения конфликт а, имеющий решающее значение для его разрешения, после
чего развитие действия поворачивается к р а з в я з к е , называется к у л ь м и н а ц и е й (отлат.culmen — вершина).Кульминацию часто путают с самым эффектным местом повествования, не уделяя должного внимания анализу перипетий основного конфликтного противостояния. Так, отвечая на
вопрос, какой эпизод в развитии действия «Преступления и
наказания» кульминационный, большинство читателей, не
задумываясь, ответят: сцена убийства! Сам Достоевский, однако, придерживался иного мнения: «...капитальнейшее.
Порфирий его навещает. Разговор уединенный». Выделенный
писателем эпизод сразу в глаза не бросается, но имеет, действительно, «капитальнейшее» значение: противоборство
двух главных антагонистов романа, стоящих по разные стороны обсуждаемой идеи, — Раскольникова и Порфирия Петровича достигает здесь своего апогея. Нащупавший «момент
истины» следователь идет «ва-банк»: является к обессиленному болезнью и муками растревоженной совести преступнику и, не утруждая себя аргументами, предъявляет ему обвинение: «Ты убил. Лучше сознайся. Приди с повинной. Легче
будет». Как всегда, слова Порфирия Петровича таят в себе скрытый смысл. Он обещает Раскольникову не столько юридическое,
сколько нравственное облегчение. Не об этом ли, но другими словами толковала ему накануне Сонечка Мармеладова!
При наличии в произведении нескольких сюжетных линий соответственно умножается и число кульминационных моментов.
Последний из канонических элементов сюжета — р а з в я з к а обычно трактуется как с о б ы т и е , р а з р е ш а ю 79
щ е е к о н ф л и к т , и рассматривается вкупе с ф и н а л о м
(от лат. finis — конец) эпического или драматического произведения. Чаще всего они совпадают, особенно в драме, но в случае открытого финала развязка может и отсутствовать (« Преступление и наказание» Достоевского, «Воскресение» JI. Толстого).
Важность заключительного финального аккорда сознают
все писатели. «Сила удара (художественного) приходится на
конец», — утверждал Д. Фурманов. «Конец — труднейшая
из задач, — солидаризировался с ним А.Н. Толстой. — Почти столь же трудно назвать книгу».
Развязка, как правило, сополагается с завязкой, вторит
ей образным параллелизмом, завершая некий композиционный круг. Если в общей завязке «Муму» Герасим не по своей
воле вырван из естественной для него деревенской среды, что
подчеркнуто целой системой природных сравнений («как дерево», «как молодой и здоровый бык», «пойманный зверь»,
«степенный гусак»), и оказывается в городе, то в общей развязке, которая, как уже было сказано, совпадает с кульминационным моментом, он совершает тот же путь, но в прямо противоположном направлении и, что самое главное — своевольно, протестуя, бросая вызов несправедливому порядку вещей.
Гармоничное сочетание начального и конечного элементов
сюжета во многом зависит от четкости идейного замысла и
«прописанности» первоначального плана. Одни писатели, в основном те, которых И. Гончаров относил к группе «сознательного творчества», твердо знают финал заранее. Пожалуй, самый разительный пример в этом роде — «Фауст», над которым
Гёте работал практически всю свою более чем 60-летнюю творческую жизнь. Однако с первых набросков собственной интерпретации традиционного сюжета писатель ни на минуту не сомневался, что Фауст будет спасен (у Кристофера Марло полную
победу одерживает Мефистофель). Тщательная работа Толстого над завязкой «Анны Карениной» также красноречиво свидетельствует о том, что гибель Анны под колесами поезда не
была для него неожиданностью. Тем более обходятся без непредусмотренных сюрпризов авторы произведений детективного
жанра, обычно с развязки свое повествование и начинающие.
Блистательный пример использования детективной схемы в
серьезнейшем художественном исследовании являют собой
«Братья Карамазовы», в которых криминальная интрига в сопровождении неожиданных психологических перипетий закручена столь лихо, что, читая роман не в первый раз, теряешься в догадках, кто же на самом деле был убийцей.
80
Другие писатели долго и мучительно ищут художественно мотивированную, полную, смелую и в то же время типичную, не противоречащую логике жизни развязку не до творческого акта, а на всем его протяжении. Весьма показательна
в этом смысле развязка «Евгения Онегина». Пушкин проявил
настоящую художественную дерзость, оборвав поэтическое
повествование самым что ни на есть прозаическим образом:
героя, стоящего на коленях после любовного объяснения с чужой женой, застает ее муж!
И тут героя моего
В минуту злую для него,
Читатель, мы теперь оставим.
Надолго... навсегда. За ним
Довольно мы путем одним
Бродили по свету. Поздравим
Друг друга с берегом. Ура!
Давно б (не правда ли?) пора!
Мог ли Пушкин, последовательно и уже вполне осознанно
утверждавший принципы нового, реалистического художественного мышления, найти аргументы более убедительные!
Впрочем, иной раз в поисках оптимальной, жизненно и художественно достоверной развязки писатель может попасть в
идеологическую или конъюнктурную западню. Тогда ему волей-неволей приходится прибегать к экстраординарным мерам,
чаще всего к помощи пресловутого « бога с машины ». Так поступил JIone де Bera в «Овечьем источнике» («Фуэнте Овехуна»),
разрубив гордиев узел неразрешимых противоречий явлением
королевского посланника, огласившего «соломоново решение»
в пользу жителей, восставших против алькальда, точно так же
поступил Мольер в «Тартюфе», наказав королевской волей бессовестного лицемера.
Конечно, далеко не всегда писательские мучения приводят
к равноприемлемому, всех удовлетворяющему результату. Развязки, полученные компромиссным путем, в большинстве случаев не удовлетворяют всех, в том числе и самого автора. «Мне
тоже не нравится конец, — заявил автор «Двенадцати» Александр Блок. — Но, к сожалению... Христос».
История литературы знает немало случаев полной писательской беспринципности по отношению к судьбам героев
(Илья Ильф и Евгений Петров, прежде чем «умертвить» Остапа Бендера, бросили жребий: выпала бумажка с черепом) и
настоящего писательского деспотизма, а иной раз и небезопасной стойкости в отстаивании своего абсолютного непререкаемого права на окончательное и бесповоротное решение. Когда
во второй части «Поднятой целины» почти все главные герои
81
романа — коммунисты — погибли, критика предъявила Шолохову тяжкие обвинения в пессимизме, в неких далеко идущих намеках на нежизнеспособность самой коммунистической идеи, писатель мужественно остался верен каноническому тексту.
Набор так называемых факультативных элементов сюжета, как и произведение в целом, открывает з а г л а в и е . Естественно оно далеко не всегда имеет прямое или хотя бы косвенное отношение к системе событий, организующих сюжет,
поэтому и считается факультативным. Чаще всего в заглавии
так или иначе к о д и р у е т с я о с н о в н о й к о н ф л и к т :
«Отцы и дети», «Живые и мертвые», «Гроза», «Хамелеон»,
«Попрыгунья», «Толстый и тонкий». Конечно, правильно
сформулировать его только по названию, не прочитав произведения, невозможно. Однако в процессе чтения, по мере того,
как мы знакомимся с обстановкой в природе и обществе, главными и второстепенными персонажами, оцениваем расстановку противоборствующих сил, следим за развитием действия,
заглавие, данное произведению, как имя ребенку, не выходит из светлого поля нашего сознания, постоянно соотносится с развертывающейся у нас на глазах системой событий и незаметно подводит в конце концов к четкому представлению об основных противоречиях, приводящих весь
этот мир в движение.
Для адекватного авторскому замыслу понимания конфликтной ситуации исключительное значение порой получает
даже такая малость, как тот или иной вариант акцентуации
вынесенного в заглавие слова. Так, Чехов в спешном порядке,
перед самой премьерой просил Станиславского обновить афиши «Вишнёвого сада» с непременными точками над «ё». «Вишневый сад», как было в первой редакции, акцентировал внимание на породе деревьев, т.е. нес информацию о ценности сада
как товара. «Вишнёвый сад», в измененной по настоятельному требованию драматурга редакции, стал многозначным поэтическим символом уходящей дворянской культуры, гибнущей под ударами «топора» тогдашних «новых русских» в лице
Лопахина.
По свидетельству Бунина, окончательный вариант заглавия пьесы «На дне» принадлежит Леониду Андрееву. Первоначальный авторский вариант был хуже: «На дне жизни».
«Однажды, выпивши, Андреев говорил мне, усмехаясь, как
всегда в подобных случаях, гордо, весело и мрачно, ставя точки между короткими фразами твердо и настойчиво:
82
Заглавие — всё. Понимаешь? Публику надо бить в лоб и без
промаху. Вот написал человек пьесу. Показывает мне. Вижу:
«На дне жизни». Глупо, говорю. Плоско. Пиши просто: «На
дне». И всё. Понимаешь? Спас человека. Заглавие — штука
тонкая. Что было бы, например, если бы я вместо «Жизнь человека» брякнул: «Человеческая жизнь»? Ерунда была бы. Пошлость. А я написал: «Жизнь человека». Что, неправду я говорю? Я люблю, когда ты мне говоришь, что я «хитрый на голову». Конечно, хитрый. А вот то, что ты похвалил мою самую
элементарную вещь «Дни нашей жизни», никогда тебе не прощу. Почему похвалил? Хотел унизить мои прочие вещи. Но и
тут: плохо разве придумано заглавие? На пять с плюсом» (Бунин ИЛ. Собр. соч.: В 9 т. M., 1967. Т. 9. С. 294).
Также к факультативным элементам сюжета относится и
э п и г р а ф (от греч. epigraphe — надпись), который может
стоять в начале произведения, сразу после заглавия или предшествовать его отдельным частям, главам... Как правило, в
эпиграфе цитируются широко известные произведения других авторов, знаменитые изречения исторических личностей,
библейские стихи, пословицы, поговорки, нравственные максимы, афоризмы, подкрепляющие тот или иной уровень художественной структуры произведения, в том числе и сюжет.
Так, например, Некрасов предваряет свое стихотворение «Железная дорога» небольшой сценкой, озаглавленной «Разговор
в вагоне», которая одновременно выполняет функции эпиграфа и экспозиции. Значительно чаще эпиграф аккомпанирует
идейному замыслу писателя, и потому соотносится с главным
конфликтом произведения. Первый вариант эпиграфа, пред ^
посланного «Анне Карениной»: «Женитьба для одних — труднейшее дело, для других — легкое увеселение» — Толстой заменил цитатой из Библии «Мне отмщение, и Аз воздам», устранившей плоско бытовую трактовку изображаемыхв романе
нравственных коллизий и переключившей ее в философскомировоззренческий план.
Эпиграф, представляющий собой цитату, извлеченную из
другого произведения, устанавливает с ним сложные интертекстуальные отношения, напоминающие отношения между
больным и донором, отдавшим ему часть своей крови. Получивший вливание организм учится жить и функционировать
отчасти по правилам своего благодетеля. В ауру вновь образовавшихся «родственных связей» могут войти и некоторые
сюжетные ходы: параллелизм элементов сюжета, их последовательность и пр.
83
Лирические, публицистические, философские, историософские о т с т у п л е н и я , более чем какие-либо другие из факультативных фрагментов текста, могут быть квалифицированы как элементы сюжета с отрицательным знаком. Они используются в качестве эффективного средства замедления,
торможения развития действия, фиксации остановки, паузы,
переключения от одной сюжетной линии к другой, реализации права автора на активное вмешательство, комментирование или прямую оперативную оценку изображаемой жизни.
Так поступают Гомер в «Илиаде», Вергилий в «Энеиде», Данте в «Божественной комедии», Байрон в «Паломничестве
Чайльд-Гарольда», Пушкин в «Евгении Онегине», Лермонтов
в «Герое нашего времени», Гоголь в «Мертвых душах», Л. Толстой в «Войне и мире», Голсуорси в «Саге о Форсайтах», Твардовский в «Василии Теркине».
Сходную роль играют так называемые в н у т р е н н и е
м о н о л о г и — обращенные к самому себе, к читателю или
«в сторону» (ни к кому) рассуждения автора или персонажей
эпических и драматических произведений (Гамлета, Чацкого, Шолохова в «Тихом Доне» и «Поднятой целине», Булгакова в «Мастере и Маргарите»); вставные номера (например,
песня девушек в «Евгении Онегине» приводится, казалось бы,
в самый неподходящий момент: Татьяна дождалась, наконец,
медлящего с ответом на ее любовное послание Онегина, он после ее стремительного бега является, «сверкая взорами», в сад,
где она его ждет, затаившись; эмоциональное напряжение героини и читателя на пределе, а лукавый автор целиком цитирует песню, которую поют дворовые девушки, чтобы «барской
ягоды тайком уста лукавые не ели» («затея сельской простоты!» — с улыбкой комментирует Пушкин); вставные повести,
рассказы, новеллы, имеющие косвенное отношение или совсем
не связанные с основным сюжетом произведения («Повесть о
капитане Копейкине» в гоголевских «Мертвых душах», многочисленные вставные новеллы в «Дон Кихоте» Сервантеса, подобно дополнительным экранам расширяющие панораму художественного мира романа).
Также к факультативным элементам сюжета приходится
причислить уже упоминавшийся в связи с разговором о развязке ф и н а л . Как правило, они совпадают, и тем знаменательнее случаи их раздельного существования. Финал, завершающий произведение после уже состоявшейся развязки или
заменяющий ее, если она значимо отсутствует, можно сравнить с ударом молотка после того, как гвоздь уже заколочен
84
(так сказать, для пущего эффекта). В чеховском «Вишнёвом
саде» развязкой служат продажа и вырубка вишневого сада,
тогда как финальный аккорд приходится на символическую
сцену смерти всеми забытого и покинутого Фирса. Трагическая развязка «Тихого Дона» — эпизод смерти и похорон Аксиньи уравновешивается дающим проблеск надежды финалом, отмеченным фигурой Григория, стоящего у порога родного дома с сыном на руках.
Произведения с открытым финалом обходятся без развязки. Но ее отсутствие не абсолютно и не бесцельно — оно
активно работает на идею, дополняя и уточняя ее. Русская
литература, сравнительно с западной, отличается приверженностью к открытым финалам. Нет ярко выраженной
развязки в таких великих творениях, как «Война и мир»,
«Воскресение» Толстого, «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова (и не потому, кстати, что произведение осталось
неоконченным), «Преступлении и наказании» Достоевского. Тем более продуманным и эффектным финалом завершается каждое из них.
К факультативным — по причине их необязательности —
элементам сюжета относятся п р о л о г и э п и л о г (отгреч.
prologos и epilogos — букв, перед сказанным и после сказанного), в которых изображаются события, произошедшие до либо
после конфликта, не имеющие прямого отношения к действию. Как правило, пролог отделяется от экспозиции, а эпилог от финала или маркированным промежутком времени, или
отличным от основного текста протокольно-информативным
стилем и ускоренным темпом повествования, или с помощью
графических средств обособления (пробел, отступ, горизонтальная черта, звездочки, собственно рубрики «Пролог» и
«Эпилог» в функции заголовков), или, наконец, какими-либо
модальными конструкциями (как в «Капитанской дочке» или
«Отцах и детях»).
Но иногда пролог и эпилог могут вклиниваться и в основной текст. Например, рассказ о счастливой жизни Герасима
в деревне помещается в ряду первичных сведений общей экспозиционной части. Уверенность в том, что мы имеем дело с
вмонтированным в экспозицию прологом, подкрепляется тем,
что он кольцеобразно взаимодействует с законно маркированным эпилогом.
Все ли произведения сюжетны? В полной мере с ю ж е т н ы лишь э п о с и д р а м а ; л и р и ч е с к и е п р о и з в е д е н и я с ослабленным или отсутствующим событийным планом
85
обходятся б е з с ю ж е т а . Понятие « т о ч е ч н о г о » с ю ж е та (В.В. Кожинов) применительно к ним представляется малопродуктивным. Возьмем для примера лирическое стихотворение А. Пушкина «Желание»:
Медлительно влекутся дни мои,
И каждый миг в унылом сердце множит
Все горести несчастливой любви
И все мечты безумия тревожит.
Но я молчу; не слышен ропот мой;
Я слезы лью; мне слезы утешенье;
Моя душа, плененная тоской,
В них горькое находит наслажденье.
О жизни час! лети, не жаль тебя,
Исчезни в тьме, пустое привиденье;
Мне дорого любви моей мученье —
Пуская умру, но пусть умру любя!
Событийный план в этой элегии напрочь отсутствует, так
как пространственные и временные передвижения лирического героя не входят в сферу авторского сознания. В сущности здесь ничего не происходит, кроме неопределенно длящегося переживания «все горести несчастивой любви» «в унылом сердце множит» «каждый миг». Лирический герой
практически бездействует, не совершает никаких поступков,
а только пассивно реагирует на обуревающие его чувства: молчит, льет слезы и легко прощается в финале с жизнью во имя
любви. Художественный мир лирического стихотворения тем
не менее, подчиняясь общим литературным закономерностям,
наполнен движением, действием. Но движение это связано не
столько с планом содержания, сколько с планом выражения.
Конфликтное напряжение разрешается не через сюжет, а через развитие лирической темы.
В данном случае, как мы видим, тематический материал
вводится без внятной ориентации на причинно-временные связи. Стихотворный текст распадается на две неравновеликие
части: 1) восемь первых стихов, сопряженные в четверостишия перекрестной рифмовки, представляют собой образное
описание чувства неразделенной любви; 2) заключительное
четверостишие охватной рифмовки, резко меняющее интонацию, — прощальное обращение к опостылевшему «часу» (т.е.
времени) жизни и блистательная формула вечного уравнения
любви и смерти. Налицо очевидное противоречие: лирическо86
му герою «дорого мученье его любви», поэтому он готов умереть, но умереть любя.
Таков внутренний конфликт, форсированно динамизирующий лирическую тему, стимулирующий ее развертывание согласно не формальной, а поэтической логике.
Любопытный с и м б и о з э п и ч е с к о й с ю ж е т н о с т и
и размывающих ее л и р и ч е с к и х о т с т у п л е н и й при
полном релятивизме в отсчете реального времени можно наблюдать в лироэпических жанровых образованиях. Таковы
прежде всего романтические поэмы Байрона, Шелли, Лермонтова, особенно «Мцыри», «южные поэмы» Пушкина.
Посмотрим, как взаимодействуют два противоположных
способа развития действия в «Кавказском пленнике».
Познакомив нас с заглавным действующим лицом и довольно смутными обстоятельствами его пленения, автор
внезапно обрывает повествование на многоточии: «И пленника младого грудь / Тяжелой взволновалась думой...»,
после чего действие обращается вспять. Следует воспоминание о прежней жизни невольника: «В Россию дальний путь
ведет...», завершающееся возвращением к исходной точке
повествования: «Сверши л ось.../...Он раб».
Действие развивается, но мы отчетливо видим, как оно деформируется романтической иронией, контрастом сжатого
времени и растянутого пространства, сюжетным мостиком
между этой и той жизнью. Далее происходит знакомство с черкешенкой, сближение молодых людей. Теперь уже растягивается временной план. Появляется первое лирическое отступление в виде выделенного графически восьмистишия «Не
вдруг увянет наша младость...», которое воспринимается как
вполне самостоятельное стихотворение, и, конечно, тоже существенно прерывает действие.
Пространное описание жизни пленника, картины природы,
этнографические подробности как бы возвращают нас к экспозиции, дополняют ее. Действие вследствие этого чрезвычайно замедляется, пробуксовывает, почти останавливается. Возникает
как бы побочная сюжетная линия, и не одна, а целых пять — перебираются характерные эпизоды из жизни черкесов...
Но русский равнодушно зрел
Сии кровавые забавы.
Любил он прежде игры славы
И жаждой гибели горел...
Опять переброс в прошлое и тут же возвращение к настоящему знаменует окончание I части.
87
II часть открывается обращением к «деве гор», которое незаметным образом переходит в разговор — герои обмениваются монологами (таков романтический «диалог»). В тираде
пленника обращает на себя внимание лирическое отступление
«Как тяжко мертвыми устами... Как тяжко мыслить о другой!..», которое производит двойственное впечатление: герой
не мог этого сказать своей собеседнице, но он мог подумать об
этом или озвучить свои мысли «в сторону», как на сцене.
Развитие действия возобновляется. Сценой «разговора»
исчерпывается конкретный эпизод со сжатым временем. Затем оно вновь «разжижается»: «Однажды слышит русский
пленный, / В горах раздался клик военный...». Аул готовится к набегу. Конкретизация действия, однако, не осуществляется в полной мере. Диссонирующим затормаживающим фактором звучит черкесская песнь, приведенная полностью, от
первого до последнего стиха. «Так пели девы...» — указание
на реальность ее исполнения в описываемых обстоятельствах:
«...Сев на бреге, / Мечтает русский о побеге...».
Вот тут действие вновь приобретает конкретный сиюминутно совершающийся характер. Дева приходит к пленнику с
пилой и кинжалом. Стремительно мелькают «кадры»: освобождение — бегство — гибель черкешенки — свои! Развязка — и эпилог, имеющий к теме весьма косвенное отношение:
1) о музе, которая «...для венка себе срывала / Кавказа дикие
цветы...», 2) о Кавказе, 3) о прошлом (Мстислав и Редедя),
4) о настоящем: «...Смирись, Кавказ: идет Ермолов!.. И смолкнул ярый крик войны...» до самого конца. О судьбе героя ни
слова!
Если мы попробуем теперь реконструировать сюжет, отличающийся отрывочностью, фрагментарностью, сдвинутостью хронотопа, это будет крайне затруднительно. Полнокровный сюжет «Кавказского пленника» как типично романтической поэмы в значительной мере вытесняется,
нейтрализуется лирическим элементом.
Х у д о ж е с т в е н н а я ф у н к ц и я с ю ж е т а может проявляться с большей или меньшей активностью в зависимости
также от стилистической установки писателя.
Обратимся в этой связи к крайне актуальным и концептуальным наблюдениям А.В. Чичерина: «Известно, что Флобер
мечтал о произведении совершенно бессюжетном. «В поисках
утраченного времени» — роман Пруста, в котором сюжет почти разрушен. Кучер не вовсе выбросил вожжи, но до того их
ослабил, что лошади бегут или идут почти шагом, останавли88
ваются надолго, разбредаются, щиплют траву, все по своему
произволу. В антиромане мечта Флобера осуществилась вполне. Антироман?
Теперь стало особенно ясным и особенно существенным,
что в «Мадам Бовари» сюжет играет главную роль в раскрытии философии романа. Без сюжета остались бы картины нравов, силуэты людей, немного грусти, все бы расплылось и распалось. Сюжет разгадывает внутреннюю логику бытия, связи, обнаруживает причины и следствия. Разве обязательно все
мадам Бовари, которые плакали и тосковали здесь и там, которые мечтали и лгали, разве обязательно они кончали жизнь
катастрофой и самоубийством? Нет, не обязательно. И даже
чаще дело кончалось иначе.
Разве обязательно страстные искатели быстрой удачи, как
Германн, сходят с ума?
В сюжете — не наиболее распространенное, а крайнее, дошедшее до своего логического конца. Сюжет раскрывается
перед романистом в его умении видеть цельность жизни, закономерность и взаимообусловленность» (Чичерин А.В. Идеи
и стиль. M., 1963. С. 11).
Таким образом, сюжет, будучи одновременно не только
формальным, но и содержательным уровнем произведения,
связан и с идеей, и с темой, и с образным строем, и с языком.
В отдельных ситуациях, как показал А.В. Чичерин, он может
брать на себя роль структурного лидера, эпицентра, фокусирующего в себе силовые векторы всех остальных элементов художественного целого.
Вопросы для сомостоятельного изложения
1. Что такое художественный (поэтический) мир и как он
соотносится с миром реальным?
2. На сравнении каких произведений Г.Э. Лессинг доказал противоположность художественного мира пространственных и временных видов искусства? Предложите свою пару таких произведений и попытайтесь на
их примере показать специфику поэтического мира.
3. Приведите примеры статических и динамических описаний в классической литературе. Возможна ли абсо89
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
лютная статика (отсутствие действия) в поэтическом
мире?
Конфликт и коллизия: синонимы или нет? Какая точка зрения на этот счет кажется вам предпочтительнее?
Как взаимодействует конфликт с темой и идеей? Покажите это на конкретном примере (желательно из классики).
Определите своеобразие конфликта в эпосе, лирике и
драме. Постарайтесь подобрать свои, нетривиальные
примеры.
Какое определение сюжета представляется вам оптимальным?
Если понятие фабулы не избыточно, какое соотношение его с понятием сюжета предпочтительнее?
Приведите примеры совпадения и несовпадения фабулы и сюжета в произведениях классической литературы.
По какому принципу сюжет распадается на элементы?
Чем принципиально отличаются основные элементы
сюжета от факультативных? Можно ли считать экспозицию и финал, пролог и эпилог и другие элементы,
прямо не связанные с конфликтом, внесюжетными?
Возможна ли перестановка (инверсия) элементов сюжета? В каких жанрах она практикуется? Какой художественный эффект при этом достигается? Приведите примеры.
7
О Б Р А З Н Ы Й СТРОЙ
ЛИТЕРАТУРНОХУДОЖКСТВЕН НОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Образ как форма выражения содержания
в художественной литературе
Х у д о ж е с т в е н н ы й о б р а з — одно из самых широких и многозначных понятий. Оно употребляется теоретиками и практиками всех видов искусства без исключения, в том
числе и литературы. Мы говорим: образ Онегина, образ Татьяны Лариной, образ Родины или удачный поэтический образ,
имея в виду категории поэтического языка (эпитет, метафору, сравнение...). Но есть еще одно, может быть, самое главное значение, самое широкое и универсальное: о б р а з в о о б щ е как форма выражения содержания в художественной
литературе, как первоэлемент искусства в целом.
О б р а з в о о б щ е — э т о а б с т р а к ц и я , которая приобретает конкретные очертания лишь как элементарное слагаемое художественной системы в целом. Образно все художественное произведение, образны и все его составляющие.
Если мы обратимся к любому произведению, допустим, к
пушкинским «Бесам», зачину «Руслана и Людмилы» или
«К морю», прочитаем его и зададимся вопросом: «Где образ? » — правильный ответ будет: «Везде!», потому что образность есть форма существования художественного произведения, единственный способ его бытия, своего рода «материя»,
из которой оно состоит, и которая, в свою очередь, распадается на «молекулы» и «атомы».
Привычное словосочетание «образный характер мышления» подразумевает столь же привычное убеждение, что художник в отличие от ученого мыслит преимущественно не понятиями и категориями, но образами. Речь не идет, конечно,
91
о его абсолютной привилегии на образное мышление. Как справедливо отмечал Д.С. Лихачёв, «...обычное противопоставление образности литературного творчества безобразности науки
неверно. ...Дело в том, что любая точная наука пользуется образами, исходит из образов и в последнее время все более
прибегает к образам как к существу научного познания мира.
То, что в науке называется моделью, это и есть образ. Создавая то или иное объяснение явления, ученый строит модель —
образ. Модель атома, модель молекулы, модель позитрона и
др. — всё это образы, в которых ученый воплощает свои догадки, гипотезы, а затем и точные выводы. Значению образов
в современной физике посвящены многочисленные теоретические исследования» (Лихачёв Д.С. О точности литературоведения//Литературные направления и стили: Сб. статей,
поев. 75-летию проф. Г.Н. Поспелова. M., 1976. С. 16—17).
Противоположную сторону отмеченного двуединства имел
в виду Пушкин, утверждая, что «вдохновение нужно в поэзии,
как и в геометрии», и что «единый план <Дантова> Ада есть
уже плод высокого гения», полагая, очевидно, что план —
продукт научного (геометрического) компонента художественного мышления.
Принципиальная разница, следовательно, не в наличииотсутствии образности, а в мере и конечной цели ее применения в науке и искусстве: в первом случае она эффективное,
хотя и эпизодическое средство моделирования сложных реальных явлений, во втором — универсальный и релевантный способ построения художественного мира, «другой реальности».
Художественный мир — это прежде всего образный мир.
Художественное произведение — сложный единый образ, а
каждый его элемент — относительно самостоятельная неповторимая частица этого целого, взаимодействующая с ним и
со всеми остальными частицами. Всё и вся в поэтическом мире
пропитано образностью, даже если в тексте не содержится ни
одного эпитета, сравнения или метафоры:
Я вас любил. Любовь еще, быть может,
В груди моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит:
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.
92
В приведенном стихотворении Пушкина, действительно,
нет ни одного из традиционных»украшений», т.е. тропов, привычно именуемых «образами» (погасшая языковая метафора
«любовь... угасла» не в счет), поэтому его нередко определяют
как «безобразное», что в корне неверно. Как великолепно показал в своей знаменитой статье «Поэзия грамматики и грамматика поэзии» Р. Якобсон, пользуясь исключительно средствами поэтического языка, одним только искусным со-противопоставлением грамматических форм, Пушкин создал
поражающий своей благородной простотой и естественностью
волнующий образ переживаний влюбленного, обожествляющего предмет своей любви и жертвующего ради него своим счастьем. Составляющими этого сложного образного целого служат
частные образы чисто речевого выражения, вскрытые проницательным исследователем (Якобсон P.O. Поэзия грамматики и
грамматика поэзии//Семиотика. M.: Радуга, 1983).
В эстетике существуют две соперничающие концепции художественного образа как такового (Кожинов В,В. Художественный образ и действительность//Теория литературы: Основные проблемы в историческом освещении. Образ, метод,
характер. M., 1962. С. 58). Согласно первой о б р а з — с п е цифический продукт труда, призванный «опредметить», материализовать определенное
д у х о в н о е с о д е р ж а н и е . Такое представление об образе
имеет право на жизнь, но оно удобно в большей мере для пространственных видов искусства, особенно для тех, которые
имеют прикладное значение (скульптура и архитектура). Согласно второй концепции образ как о с о б а я ф о р м а т е о р е т и ч е с к о г о о с в о е н и я м и р а рассматривается в сопоставлении с представлениями и понятиями как категориями научного мышления.
Вторая концепция нам ближе и понятнее, но, в принципе,
обе страдают односторонностью. В самом деле, имеем ли мы
право отождествлять литературное творчество с неким производством, обычным рутинным трудом, имеющим вполне определенные прагматические цели? Что и говорить, искусство — это тяжкая изнурительная работа (вспомним выразительную метафору Маяковского: «Поэзия — та же добыча
радия: / В год добычи — в грамм труды. / Изводишь единого
слова ради / Тысячи тонн словесной руды»), которая не прекращается ни днем, ни ночью. Писатель творит иногда буквально даже во сне (будто бы так явилась Вольтеру вторая редакция «Генриады»). Досуга нет. Личной частной жизни нет
93
тоже (как превосходно изобразил ОТенри в рассказе «Исповедь юмориста»).
Труд ли художественное творчество? Да, несомненно, однако не только труд. Оно и мука, и ни с чем не сравнимое наслаждение, и вдумчивое, аналитическое исследование, и безудержный полет вольной фантазии, и тяжкая, изматывающая работа, и увлекательная игра. Одним словом — оно
искусство.
Но что есть продукт литературного труда? Как и чем его
можно измерить? Ведь не литрами же чернил и не килограммами изведенной бумаги, не заложенными в Интернет сайтами с текстами существующих теперь в чисто виртуальном пространстве произведений! Книга, пока еще традиционный способ фиксации, хранения и потребления результатов
писательского труда, — сугубо внешняя, и, как выяснилось,
совсем не обязательная оболочка для созданного в его процессе образного мира. Этот мир как творится в сознании и воображении писателя, так и транслируется соответственно в поле
сознания и воображения читателей. Получается, что сознание
творится посредством сознания, почти как в остроумной сказке Андерсена «Новое платье короля».
Итак, художественный образ в литературе — отнюдь не
прямое «опредмечивание» духовного содержания, какой-либо
идеи, мечты, идеала, как легко и наглядно представляется это,
скажем, в той же скульптуре (Пигмалиону, «опредметившему» свою мечту в слоновой кости, осталось только упросить
богиню любви Афродиту вдохнуть в статую жизнь, чтобы жениться на ней!). Литературный труд не несет в себе прямых
материализованных результатов, осязаемых практических последствий.
Значит ли это, что более верна вторая концепция, настаивающая на том, что художественный образ — форма исключительно теоретического освоения мира? Нет, и здесь
есть известная однобокость. Образное мышление в художественной литературе, конечно, противостоит теоретическому, научному, хотя вовсе не исключает его. Словесно-образное мышление можно представить как синтез философского
или, скорее, эстетического осмысления жизни и предметночувственного его оформления, воспроизведения в специфически присущем ему материале. Однако четкой определенности, канонической очередности, последовательности того
и другого нет и быть не может, если, разумеется, иметь в
виду настоящее искусство.
94
Осмысление и воспроизведение, взаимопроникая, дополняют друг друга. Осмысление осуществляется в конкретночувственной форме, а воспроизведение проясняет и уточняет
идею.
Познание и творчество — единый целостный акт. Теория и практика в искусстве неразделимы. Конечно, они не
тождественны, но едины. В теории художник утверждает
себя практически, в практике — теоретически. У каждой
творческой индивидуальности единство этих двух строи одного целого проявляется по-своему.
Так, В. Шукшин, «исследуя», как он выражался, жизнь,
видел ее, узнавал наметанным взглядом художника, а А. Вознесенский, апеллирующий в познании к «наитию» («Ищешь
Индию — найдешь Америку!»), — аналитическим взглядом
архитектора (не могло не сказаться образование). Разница
отразилась и в плане образного выражения (наивные мудрецы, «чудики», одушевленные березки у Шукшина и «атомные менестрели», культуртрегеры HTP, «треугольная груша» и «плод трапециевидный» у Вознесенского).
Теория в отношении ее к объективному миру есть «отражение», а практика — «творение» (или вернее — «претворение») этого объективного мира. Скульптор и «отражает» человека — допустим, натурщика, и творит новый предмет —
«статую». Но произведения материальных видов искусства
очевидны в самом прямом значении этого слова, поэтому так
легко проследить на их примере самые сложные эстетические
закономерности. В художественной литературе, в искусстве
слова — все сложнее.
Познавая мир в образах, художник погружается в глубь
предмета, как естествоиспытатель в подземелье.
Он познает его субстанцию, первооснову, сущность, извлекает из него самый корень. Секрет того, как создаются сатирические образы, замечательно раскрыл персонаж романа Генриха Бёлля «Глазами клоуна» Ганс Шнир: «Я беру кусок жизни, возвожу его в степень, а затем извлекаю из него корень, но
с другим числом».
В этом смысле можно всерьез согласиться с остроумной
шуткой М. Горького: «Действительность он знает так, как будто сам ее делал!..» и с определением Микеланджело: «Это произведение человека, который знал больше, чем сама природа»,
которые приводит в своей статье В. Кожинов.
Творение образа менее всего напоминает подыскивание
красивой одежды для готовой изначально первичной идеи;
95
планы содержания и выражения рождаются и вызревают в нем
в полном согласии, вместе, одновременно. Пушкинское выражение «поэт думает стихами» и практически та же версия
Белинского в его 5-й статье о Пушкине: «Поэт мыслит образами», «Под стихом разумеем первоначальную, непосредственную форму поэтической мысли» авторитетно подтверждают
эту диалектику.
Внутренняя структура образа
Какова внутренняя структура образа — элементарной
клетки художественного организма? Попробуем заглянуть
внутрь этого маленького чуда. Попробуем разобрать на составные части игрушку, моделирующую мир, чтобы посмотреть,
как она устроена. Поскольку о б р а з есть д и а л е к т и ч е с к о е е д и н с т в о ф о р м ы и с о д е р ж а н и я , о н может
быть адекватно идентифицирован как х у д о ж е с т в е н н а я
м ы с л ь. В свою очередь, художественная мысль применительно к литературе неотделима от слова в его эстетической функции. Согласно гипотезе, выдвинутой и развитой выдающимся
русским филологом А.А. Потебней, о б р а з ж и в е т в с а м о м с л о в е , состоящем из содержания (значения), внешней
(звучание и начертание) и внутренней формы (образное представление). Каждое слово, по мнению ученого, возникало в древности как естественный образ того или иного явления, предмета, свойства... Одни слова сохранили свою «внутреннюю образную форму»: защитить (т.е. буквально заслонить щитом),
ошеломить (ударить по шелому), медведь (ведающий, знающий
мед), преступление (переступить что-то, например, закон,
или кого-то); у других она за давностью времени утратилась,
стерлась и филология призвана ее восстановить, реконструировать. Лингвисты называют это явление, равно как и занимающуюся им дисциплину, э т и м о л о г и е й .
Идея Потебни была подхвачена затем другими учеными,
но объяснить внутреннюю структуру образа в полной мере, во
всех его разновидностях она не смогла.
Другая теория, также претендующая на универсальное
объяснение тайны внутреннего устройства образа, может быть
названа теорией сравнения. Она исходит из постулата, что в
96
образной структуре литературно-художественного произведения все сравнивается со всем. Все образы, от мала до велика,
построена как сравнение, или самое элементарное (тот же
«медведь»), или очень сложное («Русь-тройка» в «Мертвых
душах» или распространенное сравнение смерти куренного
атамана Кукубенки в «Тарасе Бульбе» у Гоголя, сопряженное
с аналогичными сравнениями расставания с жизнью еще целого ряда запорожцев, вплоть до заглавного героя).
Элементарная форма сравнения, по мнению П.В. Палиевского, автора превосходной статьи, прямо посвященной занимающей нас проблеме (Палиевский П.В. Внутренняя структура образа//Теория литературы: Основные проблемы в историческом освещении. Кн. 1. M., 1962. С. 72 —114),
подчиняется формуле:
А как В.
Далее ученый приводит классический и необычайно эффектный пример — знаменитое толстовское сравнение черных
глаз Катюши Масловой с мокрой смородиной, передающее и
цвет, и блеск, и свежесть, и даже — совершенно непонятно
каким колдовским способом — запах и вкус, ассоциирующиеся с молодостью, наивностью, очарованием героини... Мы
называем это сравнение элементарным, потому что оно сугубо
односторонне. Можно сравнить глаза со смородиной, но сравнивать смородину с глазами — мудрёно.
Наконец, третья теория интерпретирует наиболее развитые и сложные образы Kait систему ^ ( п р о т и в о п о с т а в л е н и я. То, что сравнивается, и то, с чем сравнивается, уравниваются в правах, оказываются в отношениях взаимоотражения, по формуле:
А есть Б
А не есть Б.
П.В. Палиевский вскрывает суть образного построения
такой конструкции: «Это богатая система взаимоотражений.
Предметы в нем освещают друг друга, как хорошо расставленные зеркала; действительность — солнце — подает в них свет,
а они собирают его среди причудливых фокусов в новый вид
художесвенной энергии» (Палиевский 7Т.Б. Внутренняя
структура образа//Теория литературы. Основные проблемы в
историческом освещении. Кн. 1. M., 1962. С. 80) и иллюстрирует его на примере повести Толстого «Хаджи-Мурат»: найденный автором-повествователем в прологе цветок татарина
(репья) живо напоминает ему историю гибели Хаджи-Мурата, изложение которой и составляет сюжет произведения.
4—3039
97
После развязки автор вновь возвращает нас на луг, к исходному образу. Жилистость, неуступчивая сила жизни (раздавленный колесом телеги, татарин упорно сопротивляется попытке
вырвать его из земли для букета), даже сам внешний вид (красная, будто окровавленная головка) незаметно, исподволь, но
достаточно внятно сопрягают судьбу цветка с судьбой воинагорца, безжалостно раздавленного колесом Истории, оказавшегося между равновеликими жерновами двух деспотических
режимов (Николая I и Шамиля), но не склонившего головы,
принявшего смерть с достоинством и гордым презрением к
врагу, как и подобает свободному человеку.
Конечно, между цветком татарина и Хаджи-Муратом нет
полного тождества. Взаимоотражаясь, как члены рифмующегося созвучия, по принципу со-противопоставления: «то
и не то», они обнаруживают одновременно и общие, присущие тому и другому, и специфические, подчеркивающие
неповторимость каждого, черты.
Одно системно организованное сравнение тянет за собой
другое, аналогичное: тут же вырисовывается еще одна пара
столь же отчетливо со(противо)поставленных персон: Шамиль и Николай I.
Конечно, последняя концепция наиболее универсальна.
С ее помощью можно интерпретировать практически любую
образную систему. Каждая из пяти великих трагедий Шекспира дает нам превосходные, прямо-таки рафинированные
примеры со-противопоставленных образов: целокупно семейства Монтекки и Капулетти, отцы обоих семейств, Ромео и
Парис, Тибальд и Меркуцио в «Ромео и Джульетте»; Гамлет,
Лаэрт и Фортинбрас, отец Гамлета и Клавдий, королева Гертруда и Офелия в «Гамлете»; Отелло и Яго, Дездемона и Эмилия в «Отелло»; король Лир и граф Глостер, три дочери Лира,
их трое мужей, два сына Глостера в «Короле Лире»; Макбет и
Дункан, Макбет и Банко, Макбет и Макдуф, три ведьмы и леди
Макбет («четвертая ведьма») в «Макбете».
С неменьшим мастерством и с той же степенью осознанности применял «рифмовку» персонажей, их психологических состояний, сцен и отдельных образов Лев Толстой.
В «Войне и мире» это со(противо)поставление вынесенных
в заглавие двух основных способов общественного бытия, а
также соответствующие им сцены, которые впору печатать
разными красками, это целая вереница батальных сцен и,
как мы уже видели, в их ряду сцена охоты, это женские
образы Наташи, княжны Марьи Болконской и Элен Kypa98
гиной, и мужские — Андрея Болконского и Пьера Безухова, Наполеона и Кутузова, Наполеона и волка (его аллегорического заместителя), Данилы и Кутузова, Николая Ростова, Илагина и дядюшки, это и три их собаки, участвующие в аллегорической травле зайца, это, наконец, перемены
в облике старого дуба и в настроении князя Андрея...
В «Анне Карениной», конечно же, не случайно три женщины оказываются в аналогичной ситуации супружеской неверности: заглавная героиня, баронесса Шильтон и княгиня
Бетси, но каждая избирает свою линию поведения; точно также в сходных конфликтных ситуациях мы видим несколько
супружеских пар, но каждая, как и в начальной фразе романа
с жесткой категоричностью заключает не склонный к апологии брака Толстой, «несчастлива по-своему»; два портретиста
запечатлевают Анну — художник Михайлов и Вронский, но
как по-разному увидели они эту счастливую и одновременно
несчастную женщину, как саморазоблачился при этом Вронский, обнаруживший полнейшее непонимание глубинной сути
своей возлюбленной!
Нередкосо(противо)поставляемые о б р а з ы с л и в а ю т с я, как в метафоре, в е д и н о е с у щ е с т в о — своего рода
«образный кентавр». В принципе сам образ кентавра (торс человека на лошадином крупе), персонифицирующего растительно-анимистскую потомственную ветвь соперничавшего с
богами племени титанов в древнегреческой мифологии, представляет собой весьма характерный продукт архаического сознания — синкретическое единство того, кто сравнивается, и того,
с кем сравнивается; причем и то, и другое с равным успехом замещается как человеком, так и конем. Правда, в оригинальных
античных мифах «доза» человеческого и звериного дифференцируется в зависимости от иерархии по праву первородства.
Первородные кентавры-титаны, такие, как Хирон, сын
Кроноса и океаниды Филиры («Липы»), воспитатель Тезея,
Язона и Диоскуров, мудрые и миролюбивые, скорее являли
собой людей с конскими рудиментами; стада кентавров, потомков Иксиона и тучи, которой Зевс придал облик своей жены
Геры, расплодившиеся в поздние времена, дикие и необузданные, которых уничтожал своими стрелами Геракл, напротив,
несли в себе больше звериного, чем человеческого.
Известны, впрочем, и другие довольно причудливые мифические существа, синкретически совмещающие объект и
предикат сравнения: гамадриады (нимфы, рождавшиеся вместе с деревьями), нимфы источников, рек, озер и морей, пре99
вратившиеся потом в русалок (женщин с рыбьими хвостами),
гарпии и сирены (полуженщины-полуптицы), Минотавр Астерий (полубык-получеловек), Сфинкс (существо с лицом и
грудью женщины, телом льва и крыльями птицы) и т.д.
В этот же разряд можно смело занести и наиболее популярный продукт религиозной фантазии — ангелов, архангелов, серафимов, в том числе и знаменитого демона Люцифера-Денницу, с их крыльями, способностью летать и довольно четкими очертаниями молодых мужчин без
утрированных, однако, признаков пола. Ближайшим аналогом среди представителей пернатого мира они несомненно имеют голубя, а следовательно и несут в себе скрытое
сравнение с ним.
Выразительные потенции сравнений подобного рода не остались без внимания и в художественной литературе: «Метаморфозы» Овидия; легендарный роман псевдо-Калисфена о
подвигах и приключениях Александра Македонского, ставший в средние века достоянием едва ли не всех европейских
литератур («Александрии»), в котором главный герой встречает, в частности, людей с песьими головами и девушек, вырастающих весной из земли, а осенью уходящих под землю;
«Божественная комедия» Данте Алигьери (лес самоубийц,
проходя сквозь который, Данте обломил сучок и с ужасом увидел, как из него полилась кровь, а также крылатый Герион,
чудовище, олицетворяющее обман и ложь: спереди человеческое лицо с приветливым ласковым взглядом, сзади ядовитый
хвост скорпиона, которым оно попыталось ужалить поэта);
древнерусский переводной апокриф XV в. «Сказания о Соломоне и Китаврасе»; «Путешествие Гулливера» Дефо (парные
«рокированные» образы одичавших, утративших человеческий облик людей «иеху» и умных цивилизованных лошадей
«гуингнмов»); еще один, уже встречавшийся нам пример почеловечески мыслящего существа — толстовский «Холстомер»; и, наконец, такие всемирно известные вещи, как «Кентавр» Джона Anдайка и «Превращение» Франца Кафки.
Как с о з и д а е т с я х у д о ж е с т в е н н ы й образ?
Конечно, основным наиболее подходящим строительным
материалом для него является универсальный предмет искусства — сама жизнь, но не как таковая, а пропущенная через
субъективное восприятие и идеальные представления о ней
художника-творца. Создавая художественный образ, писатель
не только отражает, но и преображает жизнь, домысливает ее
с помощью фантазии, своего творческого воображения, апел100
лиру я к сотворческому воображению читателя. Какими бы,
однако, фантастическими существами, небывалыми происшествиями ни насыщал он поэтический мир своих произведений,
мы воспринимаем его как реальный или возможный по аналогии с действительностью. «Художники вымышляют правду по аналогии», — писал Бальзак (Бальзак об искусстве. M.,
1943. С. 183). Разве не напоминает, допустим, сказочная избушка на курьих ножках терема на сваях, которые строили в
болотистой местности наши предки? А кого могут удивить теперь, в эпоху авиации и ракет, ковер-самолет или полеты
Бабы-Яги в ступе? Каким архаичным выглядит в наши дни
пресловутое наливное яблочко на серебряном блюдечке, показывающее картинки, — ни дать, ни взять телевизор KBH с
его крохотным экранчиком! Самые смелые проекты писателей-фантастов давным-давно реализованы. Фантастика действительности оказалась покруче фантастики человека.
К а ж д ы й о б р а з в отдельности и в с я о б р а з н а я
с и с т е м а произведения в целом п р о д у ц и р у ю т с я на
п р о т я ж е н и и в с е х с т а д и й т в о р ч е с к о г о а к т а : отбора, оценки, обобщения и художественного воплощения, а
не только, хотя и по преимуществу на последней.
Анализируя действительность, выделяя в ней объекты
приложения своей творческой энергии, писатель останавливает внимание лишь на эстетически перспективных явлениях
(отнюдь, например, не на перистальтике кишечного тракта!),
загодя прикидывая и в общих чертах проектируя образную
картину будущего произведения. Так, скорее всего, действовал А.Н. Островский, отбирая жизненный материал для «Грозы», группируя его вокруг центрального, несомненно возникшего изначально, манифестированного в заголовке образа:
необузданные, «грозные» купцы-самодуры Дикой и, под стать
ему, Кабаниха, вынужденные до поры до времени покорствовать им люди типа Катерины, Тихона, Варвары, Бориса, в которых накапливается готовое разрядиться, как удар шальной
молнии, нравственное напряжение; захолустный приволжский городок с условным названием Калинов, где нет места
научно ясному взгляду на мир, где источником информации о
нездешнем житье-бытье служит странница Феклуша с ее апокрифическими росказнями о людях с песьими головами и турецком салтане, где изобретатель-самоучка с говорящей (чуть
измененной) фамилией Кулигин воспринимается как городской дурачок, а его предложение поставить на колокольню громоотвод расценивается как покушение на самые устои обще101
ственного бытия; стихии природного мира: Волга, крутой берег, предгрозовая атмосфера — все это факты, которые могли
быть и были в реальной жизни России, отобранные драматургом и оцененные с точки зрения их соответствия идейно-художественному, т.е. образному замыслу.
Автор, как уже отмечалось, строит образный мир своего
произведения не как пассивный копиист, а как активный творец. Оценивая отобранные им факты действительности, он существенно дополняет их «от себя», подправляет, корректирует, приводит к общему знаменателю. Отбор и оценка, таким
образом, незаметно и органично переходят в третью и четвертую стадию творческого акта — обобщение и художественное
воплощение.
Одно из аксиоматических положений современной эстетики и теоретической поэтики гласит: художественный образ,
будучи диалектическим единством объективного и субъективного факторов творчества, практического и теоретического
способов познания мира, типического и индивидуального, не
только отражает, но и обобщает действительность. Следовательно типизация — процесс создания типических образов
есть не что иное, как основополагающий механизм художественного обобщения.
Что такое т и п и ч е с к о е ? Можно ли его считать простым
антонимом индивидуального? В основе типического лежит релевантное ему, корневое понятие «тип» (от греч. typos, т.е.
отпечаток, форма, образец), под которым обычно подразумевается обобщенный образ человеческой индивидуальности,
наиболее ярко проявляющий себя в данном обществе в данный момент. Обладающие соответствующими свойствами реальные явления или отражающие их художественные образы
называются типическими.
В полной мере понять диалектику типического и индивидуального в построении художественного образа можно, лишь
разобравшись в принципиальной разнице между типическим
в жизни и типическим в искусстве.
Т и п и ч е с к о е в ж и з н и — это самое распространенное, общезначимое, среднеарифметическое — как, например,
пресловутый «средний американец»: такого-то возраста, такого-то роста, такого-то веса, приверженец таких-то политических, эстетических и философских воззрений, выпивающий
в год столько-то литров виски, пива, кока-колы, съедающий
столько-то сэндвичей, сосисок, хот-догов и пр., т.е. человек в
личностном плане совершенно неопределенный.
102
Т и п и ч е с к о е в и с к у с с т в е — нечто совершеннно
иное. Это, возьмем наудачу, Том Сойер, или какой-нибудь обитатель фолкнеровского Йокнапатофа, тот же Баярд Сарторис,
либо Эйб Сноупс, лирический герой Уолта Уитмена или Мартин
Иден Джека Лондона, такие непохожие друг на друга американцы, ничего общего не имеющие с этим «средним», ибо каждый
являет собой личность, которую не спутаешь ни с кем.
Представим себе две параллельные ситуации. Нам нужно
пойти в лес и выбрать самое типичное дерево. Как мы поступим?
Сначала мы выясним, какой перед нами лес: хвойный, лиственный или смешанный. Если лес смешанный, необходимо узнать,
какая порода деревьев преобладает. Допустим, березы. Самое
типичное дерево мы, разумеется, будем искать в березняке.
И это будет береза не самая высокая, но и не самая низкая, не
самая толстая, но и не самая тонкая, не самая прямая, но и не
самая кривая — одним словом, средняя, такая, каких большинство. Но вот в этот же лес идет художник, живописец с намерением запечатлеть на холсте то же самое типичное дерево, символически замещающее собой целый лес. Конечно, действия его
будут иными; он постарается отыскать экземпляр выдающийся в своем роде да еще и внесет несколько дополнительных
штрихов от себя, чтобы усилить впечатление.
Примерно так же поступил Толстой в «Войне и мире», описывая старый дуб, который встретил князь Андрей по дороге в Отрадное.
Другая особенность соотношения типического и индивидуального в искусстве определяется ц е л о с т н о с т ь ю х у д о ж е с т в е н н о г о о б р а з а , представляющего собой применительно, например, к человеку не случайный набор «характерных черт», не схематический ассортимент его
антропонимических измерений, добродетелей и пороков,
склонностей и привычек, симпатий и антипатий, а живой полнокровный характер, в котором все общее проявляется только в конкретном. Среднестатистический американец описывается с гораздо большей подробностью и полнотой, но мы не
видим за ним целостной личности, потому что он получен в
процессе поголовной сублимации ста пятидесяти миллионов
американцев.
Наконец, художественный тип, если понимать его как
«проявление общего в индивидуальном, характерном, особенном» (Кормилов С.И. Тип//Современный словарь-справочник
по литературе. M., 1999. С. 535) в отличие от абстрагированного усредненного стандарта, который мы получаем в резуль103
гоны оно не более чем информация, а в устах исполняющего
на суде пьесу автора — не более чем красноречивое свидетельство его горячего патриотизма, неувядающего поэтического
вдохновения и... вменяемости.
Л и т е р а т у р н ы й п е й з а ж как таковой в о з н и к а ет в л и т е р а т у р е XVIII в е к а , одухотворенной великими открытиями в области естественных наук и сопутствующими им натурфилософскими изысканиями просветителей.
От элементарных описаний природы пейзаж в литературе отличает не только его эстетическая самодостаточность, но и относительная художественная самостоятельность.
Пейзаж, будь то пейзажные сцены в романе или пейзажное стихотворение, ни в коем случае не самоцелей; он всегда
соотнесен с человеком, даже если тот не является предметом
непосредственного изображения. Применительно к романтическому пейзажу, например, в элегиях Жуковского, Г. Гуковский предпочитал говорить о «пейзаже души». Приблизительно ту же картину полного слияния пантеистически настроенного субъекта с природой мы наблюдаем в лирике Б.
Пастернака. Р е а л и с т и ч е с к и й п е й з а ж , напротив, предельно объективен, но и его многоаспектные связи с человеком очевидны: он может соответствовать или противоречить
настроению персонажа, автора-повествователя, лирического
героя, внушать ему определенные чувства и мысли, быть, наконец, прямым или косвенным соучастником действия.
Образы природного мира, необязательно в форме пейзажа,
нередко занимают в произведении командные высоты, выполняя, скажем, роль заглавного символа («Гроза», «Лес»
А.Н. Островского, «Вишневый сад», «Степь», «В овраге»
А. Чехова, «Соловьиный сад» А. Блока).
Будучи центром поэтической вселенной прежде всего в качестве основного объекта изображения, персонажа в экстерьере и интерьере окружающей его действительности, человек
вместе с тем составляет и другой ее центр в качестве субъектатворца, знаменуя собой в содержании литературного произведения сферу авторского сознания.
Автор (от лат. auctor — виновник, основатель, сочинитель) — понятие, по крайней мере, двойственное. Во-первых,
это непосредственный сочинитель произведения, имя либо
псевдоним которого значится на обложке книги или в любой
другой форме публикации. Во-вторых, он присутствует в созданном им художественном мире как образ его творца. Полного совпадения между ними не может быть в принципе, даже
118
если речь идет об абсолютно автобиографических жанрах:
мемуарах, исповеди, дневниках. И наоборот, они не могут существовать изолированно, один без другого. Произведения
устного народного творчества, конечно же, не исключение. Их
безымянный коллективный автор — народ — сохраняет свой
неперсонифицированный диктат точно так же, как индивидуальный автор в произведениях литературы, хотя и не в столь
выраженных формах.
Чувство авторства, индивидуальной ответственности за
план содержания и план выражения произведения в равной
мере з а в о е в а н и е л и т е р а т у р ы н о в о г о в р е м е н и .
Архаическим формам художественного сознания, по крайней
мере в эпосе и драме, оно было чуждо. Поскольку мифология,
как мы знаем, «арсенал и почва» древнегреческой, а впоследствии под ее влиянием и древнеримской литературы, такие
поэты, как Гомер, Гесиод, Вергилий, Эсхил, Софокл, Еврипид,
Аристофан и др., разрабатывая традиционные, всем хорошо
известные сюжеты, свою авторскую инициативу ощущали
только в их нюансировке и стилистическом оформлении.
Единственное исключение, может быть, являет собой трагедия Эсхила «Персы», посвященная реальному историческому событию — громкой победе греков в битве при Саламине
(480 г. до н.э.), в которой, кстати, участвовал сам автор. Но
весь антураж пьесы, избранное драматургом место действия
(дворец персидского царя Дария) и не столько драматический,
сколько эпический способ художественного отображения главного события (битву не показывают, о ней рассказывают сначала Вестник, а затем сам Дарий), — все это веские аргументы в
пользу того, что на наших глазах творится новый миф, в трактовку которого другие участники знаменитого сражения и другие авторы, скорее всего, будут вносить свои коррективы.
« П р е д с т а в л е н и е об а в т о р с т в е , — как справедливо утверждает И. Б. Роднянская, — исторически ранее всего
возникает п р и в о с п р и я т и и л и р и к и ; в письменной литературе именно лирика впервые стала заниматься не воспроизведением известного от других (будь то миф, эпическое сказание или полуанекдотическая «новость» — новелла), а созиданием еще не бывшего, являющегося на свет вместе с личным
авторским опытом» (РоднянскаяИ£. Автора образ//КЛЭ. С. 13).
Не забудем, однако, при этом о существовании так называемой хоровой лирики, имевшей широкое распространение
в античности, но не исчерпавшей себя и в последующие эпохи. Излияние коллективного чувства восторга в дифирамбах,
119
одах, эпиталамах, кантатах и пр. менее всего предполагало
ориетацию на конкретную, биографически узнаваемую персону их создателей, несмотря на традиционную верность личному местоимению единственного числа.
Другим конструктивным фактором, препятствующим полному отождествлению образа автора в лирическом произведении с личностью его сочинителя-поэта, можно считать феномен л и р и ч е с к о г о г е р о я . Впервые это понятие теоретически обосновал Ю.Н. Тынянов, исследуя творчество А. Блока,
одного из самых субъективных поэтов в мировой литературе.
Однако так хорошо знакомое нам лирическое «Я» Александра Блока значительно шире его как биографической личности, это «Я» «уже сотворенное» (М.М. Пришвин), впитавшее в
себя и реальных современников поэта, и его идеальные представления о живущем в этом «страшном мире» человеке вообще:
Мы дети страшных лет России
Забыть не можем ничего.
Короче, в образе лирического героя А. Блока заложено необычайно емкое художественное обобщение, благодаря чему
практически любой человек может при желании самоотождествиться с ним или, вернее, перевоплотиться в него.
Еще парадоксальнее о б р а з а в т о р а переживается в
произведениях
драматургического
рода.
В принципе художественный мир пьесы не предполагает его
прямого присутствия. В перечне действующих (как бы самостоятельно!) лиц автор обыкновенно не значится. Если же
драматург позволит себе нарушить эту традиционную условность, например, тот же Блок в своем «Балаганчике», мы будем
иметь дело с демонстративным нарушением родовых границ,
устранением рампы, диверсией против специфики драматургии.
Эксперименты такого рода успеха не имели и лишь подтверждали правило: образ автора в пьесе — величина отрицательная,
значимо отсутствующая: он проявляет себя до тех пор, пока произведение не завершено и не обнародовано в виде текста или спектакля. Его косвенное, «предварительное» присутствие проявляется только в ремарках, предисловиях, рекомендациях режиссеру, декоратору и актерам (Гоголь в «Ревизоре»).
Правда, еще в античные времена были попытки преодолеть эту несправедливость. Направив свою знаменитую комедию «Всадники» против всесильного демагога Клеона, Арис120
тофан не мог найти актера, который бы согласился выступить
в этой роли, и мастера, который бы изготовил соответствующую маску, и тогда драматург сам сыграл Пафлагонца, загримировав лицо суриком.
Кроме того, авторы остро злободневных комедий могли
выступить в так называемых п а р а б а с а х — своеобразных
антрактах между действиями, в которых от себя лично, без
посредников они высказывались по злободневным вопросам
политики или искусства.
Наконец, уникальным с п л а в о м к о л л е к т и в н о г о
лирического героя с образом деперсонифицир о в а н н о г о а в т о р а представляется
античный
х о р — органический компонент древнегреческой трагедии
и комедии. Чаще всего, конечно, он не был примитивным рупором автора, а искусно возводил его мнение в ранг «мнения
народного». Модернизированные модификации этого приема
практиковались в драматургии нового времени («Оптимистическая трагедия» Be. Вишневского и «Иркутская история»
Н. Арбузова). Кстати, безмолвствующая народная масса в «Ричарде III» У. Шекспира и «Борисе Годунове» Пушкина — это
парадоксально молчащий хор, выражающий «глас народный»
как «глас Божий». Это грозное безмолвие, уходящее своими
корнями к приему «трагического молчания», который столь
блистательно применил в «Прометее прикованном» Эсхил,
нельзя воспринимать как простое отсутствие звука, поскольку оно таило в себе, красноречиво предвещало «бунтарский
вопль» в недалеком будущем.
Итак, наиболее естественной и органичной сферой бытования образа автора в художественной литературе является
э п о с . Формы авторского присутствия в эпических произведениях исключительно разнообразны. Образ автора вводится
в произведение двояким способом: п е р с о н и ф и ц и р о в а н но и д е п е р с о н и ф и ц и р о в а н н о . В первом случае автор
может отождествлять себя с каким-либо одним, не обязательно главным действующим лицом, может быть сторонним наблюдателем, «летописцем», носить свое собственное или вымышленное имя. Во втором случае он присутствует в произведении косвенно, духовно, поселяясь в сознании одного или
нескольких персонажей (обычно главных) или занимая тотально-господствующую позицию всевидящего и всеведающего творца. Такой лишенный внешних признаков человеческого бытия автор художественно реализуется в «индивидуальной словесно-речевой структуре» (В.В. Виноградов).
121
Не менее значим в образном мире литературно-художественного произведения также незримо присутствующий в нем
образ его адресата — читателя. Конечно, произведение может
быть адресовано совершенно конкретному, даже хорошо известному человеку (эпиграммы, дружеские послания, посвящения), но это скорее отступления от правила. А правило,
сформулированное в статье О. Мандельштама, опубликованной в февральском номере «Аполлона» за 1913 г.,— «О собеседнике», гласит: «Вкус сообщительности обратно пропорционален нашему реальному знанию о собеседнике и прямо пропорционален стремлению заинтересовать его собой. Не об
акустике следует заботиться: она придет сама. Скорее о расстоянии. Скучно перешептываться с соседом. Бесконечно нудно буравить собственную душу (Надсон). Но обменяться сигналами с Марсом, конечно, не фантазируя, — задача, достойная лирического поэта. ...Поэзия как целое всегда
направляется к более или меннее далекому, неизвестному адресату, в существовании которого поэт не может сомневаться,
не усомнившись в себе» (Мандельштам Осип. О собеседнике
//Аполлон, февраль 1913. №2. С. 53—54).
Другой представитель акмеизма, один из «синдиков» поэтического цеха — Н. Гумилев, также отличавшийся склонностью к теоретической рефлексии, много и плодотворно размышлявший над проблемой взаимотношений писателя и читателя,
утверждал: «Выражая себя в слове, поэт всегда обращается к
кому-то, к какому-то слушателю. Часто этот слушатель он сам,
и здесь мы имеем дело с естественным раздвоением личности. Иногда некий мистический собеседник, еще не явившийся друг, или
возлюбленная, иногда это Бог, природа, народ...» (Гумилев Н.С.
Читатель// Письма о русской поэзии. M., 1990. С. 61).
Образ читателя, слушателя или зрителя, конечно, менее
всего подвержен персонификации, единичные прецеденты
которой можно привести как раритетные исключения: «Фауст» Гете («Пролог в театре»), образ»проницательного читателя» в «Что делать?» Н. Чернышевского. В основном же это так называемые лирические «разговоры», где собеседники
индивидуализируются с помощью языковых средств и взаимных характеристик.
Здесь возможно несколько вариантов.
В ломоносовском «Разговоре с Анакреонтом», где вольный
перевод четырех од древнегреческого лирика Ломоносов перемежает своими «ответами», представлен элементарный случай поэтического диалога, обмена противоположными концептуальны122
ми установками. Оба собеседника выступают, по сути дела, «на
равных», попеременно меняясь ролями: адресанта и адресата.
В жанре тенсоны (песни-спора ), изобретенном провансальскими трубадурами, были представлены произведения, написанные действительно двумя разными поэтами, и «мнимые диалоги», написанные одним поэтом, вступавшим в полемику с
самим собой или с воображаемым оппонентом, в том числе и
Господом Богом. Ломоносов, как мы видели, создал промежуточный вариант, авторизировав реплики своего собеседника.
В двух взаимосвязанных стихотворениях Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом» и «Поэт и толпа» реплики, как
в пьесе, распределены «по ролям», обозначенным соответствующими рубриками. Здесь роль читателя четко закреплена за
книгопродавцем и чернью. Что касается роли автора, она, конечно же, не совпадает с заявленным лирическим персонажем
под именем Поэт.
Аналогичную ситуацию мы видим в «публицистической
дискуссии в стихах» Некрасова «Поэт и гражданин», опирающейся на только что упомянутое стихотворение Пушкина,
откуда не совсем точно цитируются заключительные строки:
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
Можно предположить, что интерес к этой жанровой форме
и связанному с ней идейно-тематическому комплексу был возбужден выходом в 1855 году издания Анненковым сочинений
Пушкина. Об идейной полемике с пушкинским четверостишием
косвенно свидетельствует и формальная перекличка: используются тот же размер и тот же принцип членения реплик. Вместе с тем
Некрасов изгоняет «сладкозвучие», намеренно огрубляя лексику, пренебрегая гармоническим распределением звуков.
В начале стихотворения короткие реплики в полстроки создают интонацию оживленного разговора (даже перебранки).
Эмфатическое усиление достигается вопросами, восклицаниями и переносом (enjambement):
П о э т
Так что же?
Г р а ж д а н и н
Да глядеть обидно.
Поэт
Г р а ж д а н и н
Послушай: стыдно!
Пора вставать! Т ы знаешь сам,
Какое время наступило...
Ну так уйди.
123
Затем следуют обширные тирады, где астрофический
4-стопный ямб звучит иначе, а именно в пафосногораторской
тональности. Внутреннее членение сменяющих друг друга
тирад определяется тематическими переключениями. Но
«куски» достаточно протяженны, чтобы сформировалась указанная интонационная доминанта. Как правило, тирада завершается наиболее ударной, семантически и экспрессивно, строкой или парой строк:
.. .И бури грохот заглушать?..
...Умрешь не даром: дело прочно,
Когда под ним струится кровь...
Образы автора и читателя не только не существуют один
без другого, но еще и контрастно соотносятся друг с другом: в
первом явно преобладает индивидуальное начало, во втором — типическое, массовое. Попытки снять это коренное
противоречие успеха не имели (пафос коллективизма в поэзии
Пролеткульта, где лирическое «Я» уступало место отнюдь не
метафорическому лирическому «Мы», а также поэма Вл. Маяковского «150000000», где автор, читатель и действующее
лицо — стопятидесятимиллионный народ).
Имеет ли о б р а з н а я м ы с л ь какие-либо п р е и м у щ е с т в а п е р е д м ы с л ь ю обычной,логической?Безусловно. Их множество, назовем лишь некоторые, наиболее заметные: неисчерпаемость, пластичность, наглядность, общедоступность и многозначность.
Литературно-художественное произведение никогда не
может быть осмыслено и понято воспринимающим сознанием до конца. С этой горькой истиной необходимо примириться изначально. Такова природа искусства вообще и художественной литературы в частности. Такова природа образного мышления, не поддающегося точному исчислению и
логически четкому определению. Перевод образов на язык
логики заведомо неадекватен. Литературоведение, однако,
не должно по этому поводу ламентировать и тем более поддаваться комплексу неполноценности. Напротив, уникальная неисчерпаемость образной мысли, с которой ему постоянно приходится иметь дело, следует воспринимать как вдохновляющий стимул совершенствовать и оттачивать методы
и приемы ее декодирования, неуклонно приближаясь к максимальному совпадению авторского замысла и исследовательского прочтения.
124
Мысль х у д о ж н и к а в отличие от мысли учен о г о пластична и наглядна, потому что в основе ее лежит
образ, т.е. жизнь, воплощенная, по Чернышевскому, «в формах самой жизни». Наше воспринимающее сознание легко
справляется с неизбежной условностью образного мышления с помощью накопленного эстетического опыта каждого индивида в отдельности и всего человечества
в делом. Благодаря наглядности образная мысль входит в
светлое поле нашего сознания без видимого напряжения,
так сказать, под аккомпанемент эстетического удовольствия'.
Если снять налет демагогической агрессии с известного
пропагандистского трюизма «Искусство принадлежит народу», в нем обнаружится спокойная констатация общедоступности языка художественных образов, их подлинной демократичности. Понятно, специалисты увидят и прочитают в художественном произведении неизмеримо больше, чем
домашние хозяйки, простодушно млеющие над бразильскими сериалами. Конечно, устоять против соблазна «просто отдохнуть», помечтать о красивой беззаботной жизни заокеанских красавиц и красавцев с их вулканическими страстями,
не имея врожденного вкуса, инстинкта, отличить подлинно
прекрасное от пошлости довольно трудно. Тем не менее сериалы, несмотря на их фантастическую протяженность, приходят и уходят, а классическая литература продолжает жить в
душах и сердцах все новых и новых поколений. Пастернаковское «Душа обязана трудиться / И день и ночь, и день и ночь!»
еще и еще раз напоминает нам о необходимости некого нравственного усилия для восприятия любой даже не самой сложной образной мысли, которая пребудет с человеком не один
вечер, а всю оставшуюся жизнь.
И неисчерпаемость, и наглядность, и общед о с т у п н о с т ь художественного образа можно рассматривать
как частные слагаемые его самого релевантного свойства —
многозначности. На фоне принципиально однозначной научной истины, имеющей один-единственный объективный
смысл, равный самому себе и исчерпывающему тем самым свое
содержание, образная мысль имеет широчайший, подчас необозримый комплекс значений. Даже классицистический образ, известный не только своей логической определенностью,
но и сосредоточенностью на чем-то одном, главном, абсолютно не однотонен. Кстати, с Пушкиным можно и поспорить: у
Мольера Скупой, конечно, по многогранности своей натуры
125
сильно уступает шекспировскому Шейлоку, но и его гипертрофированная скупость в значительной мере разбавлена,
уравновешена дополнительными штрихами: он изобретателен, подозрителен, коварен, инициативен...
Многозначность художественного образа
обеспечивает и феномен м н о г о з н а ч н о с т и е г о в о с п р и я т и я . Пушкин менял свое мнение о художественных
образах Сумарокова, Белинский — о грибоедовском «Горе
от ума». Каждый из нас по мере взросления, изменения
жизненного и эстетического опыта или даже всего-навсего
под влиянием изменившегося настроения совершенно поразному воспринимает образы и произведения, знакомые с
детских лет.
Создавая тот или иной художественный образ, писатель,
конечно, не довольствуется тем, что он успел о нем сообщить
непосредственно в тексте, он рассчитывает также и на реакцию дорисовывания, на ассоциирующие, с о т в о р ч е с к и е
с п о с о б н о с т и в о с п р и н и м а ю щ е г о , постоянно апеллирует к его воображению. Какая непосильная задача стояла
перед Гомером, которому было необходимо убедить слушателя в абсолютной красоте Елены! Что ему оставалось делать:
сравнивать ее прелести с красотой богинь, описывать последовательно ее волосы, глаза, нос, губы? И в том, и в другом
случае поэту не хватило бы красок. Как же он вышел из положения? Гениально просто: Гомер заставил восхититься красотой Елены троянских старцев, наблюдавших за ходом битвы со стены осажденного города. Проводив восхищенным
взглядом проходившую мимо спартанскую красавицу, они в
один голос воскликнули: «Да, из-за такой женщины стоило
воевать десять лет!» В устах престарелых мужчин, в жилах
которых кровь давным-давно охладела, подобный комплимент дорогого стоит!
Нередко писатели сознательно «не договаривают», оставляя образ как бы незавершенным, давая тем самым пищу уму
и воображению читателя. Когда Вяземский попенял Пушкину: зачем не изобразил он, как пленник горюет о погибшей
черкешенке, автор «Кавказского пленника» резонно ему возразил: не надобно все высказывать, от этого страдает занимательность.
126
Вопросы для самостоятельного изложения
1. В чем коренное отличие художественного отражения
действительности от научного? В чем вы видите специфику словесного образа?
2. Приведите несколько определений художественного образа. Кратко прокомментируйте их.
3. Чем отличается тип от характера? Покажите на конкретных примерах.
4. Попробуйте развернуть мысль Гесиода о том, что музы
говорят ложь, которая похожа на истину, с точки зрения внутреннего устройства художественного образа.
5. Какая из трех теорий, объясняющих внутреннюю
структуру образа, кажется вам наиболее универсальной?
6. Приведите 2—3 запомнившихся вам образа и проанализируйте их, опираясь на ту или иную теорию.
7. Внимательно изучите классификацию литературных
образов, предложенную М. Эпштейном (ЛЭС), и попытайтесь представить ее графически (в виде идеограммы).
8. Что такое художественная деталь? Приведите несколько своих примеров из классики, объясните их назначение.
9. Что такое вечные образы? Перечислите некоторые из
них.
8
ЯЗЫК ЛИТЕРАТУРНО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Язык разговорный, литературный
и поэтический
В незапамятные времена, еще за четыре века до нашей эры,
если верить преданиям, жил в Элладе знаменитый баснописец и острослов по имени Эзоп. Некоторые историки считают
его скифом по происхождению, т.е. в некотором роде нашим
соотечественником. Судьба мало позаботилась о его социальном благополучии и определила ему жалкую участь раба. За
свою долгую жизнь Эзоп поменял не одного хозяина. Каждый
его очередной владелец считал за великую честь быть собственником человека, чьи басни буквально с быстротой молнии разлетались по всей Элладе. Но сколько яда, направленного порой и против хозяина, содержалось в них! И от него старались
поскорее избавиться.
Однажды, когда Эзопа в который уже раз был перекуплен
и жил на подворье у богатого афинянина по имени Ксанф, с
ним произошла такая история. Подвыпивший хозяин решил
похвастать своим новым рабом и призвал Эзопа к пиршественному ложу: «Верный мой раб Эзоп! — заплетающимся языком
произнес он. — Отправляйся на рынок и купи для меня и моего гостя самое лучшее, что только есть на свете!» Спустя некоторое время Эзоп вернулся и вручил пирующим блюдо с вареным языком. «Как! — воскликнул Ксанф. — Ты считаешь, что
принес нам самое лучшее на свете?» — «Конечно! — ответил
ему Эзоп. — Посредством языка мы говорим правду, произносим слова хвалы и любви, клянемся в дружбе, подписываем
мирные договоры, общаемся друг с другом и объединяемся в
союзы. Поистине, нет ничего лучше, чем язык!..» Пиршество
128
продолжалось еще некоторое время, пока Ксанф снова не призвал своего раба: «Эзоп! Тебе придется еще раз сходить на рынок, но теперь ты принесешь нам самое худшее, что только есть
на свете». Понятно, Эзоп не стал баловать хозяина и его знатного гостя разнообразием и опять поставил перед ними блюдо
с вареным языком. «Почему, — в отчаянии всплеснул руками
Ксанф, — ты, который час назад говорил, что язык — самое
лучшее на всем белом свете, утверждаешь теперь прямо противоположное?!» Не моргнув глазом, Эзоп ответил: «Да, о хозяин, язык лжет, язык клевещет, при помощи языка мы произносим слова ненависти и хулы, объявляем войну, отказываемся понимать друг друга и разъединяемся. Что может быть
хуже языка?!»
Эту древнюю притчу изложил в своей пьесе «Лиса и виноград» бразильский драматург Гильермо Фигейреду. Очевидно, она же послужила исходной моделью для шутки замечательного русского актера, брата Антона Чехова — Михаила,
попросившего как-то в трактире принести ему «главного мастера клеветы и злословия с пюре». Оторопевший официант,
подумав, принес порцию языка.
Язык как универсальная система, моделирующая действительность, для художественной литературы составляет всё и
вся. С одной стороны, он может рассматриваться как о б р а з н а я ф о р м а и с к у с с т в а в о о б щ е, с другой стороны, он
есть с о б с т в е н н о с л о в е с н о - р е ч е в а я ф о р м а л и т е р а т у р н о - х у д о ж е с т в е н н о г о п р о и з в е д е н и я . В первом, широком значении он уже рассматривался. Обратимся
ко второму — узкому, конкретному значению.
Эстетический эффект в художественной литературе достигается исключительно посредством слова, равно как и других
элементов речи, воплощающих образный ряд. «Литература, —
утверждал В.Г. Белинский, — есть последнее и высшее выражение мысли народа, проявляющейся в слове» (Белинский ВТ.
Собр. соч.: В 13-ти т. M., 1956. Т. 5. С 623.). Слово — исключительно гибкий и, в принципе, самодостаточный инструмент
построения литературного образа. Именно этим, как мы уже не
раз имели случай убедиться, художественная литература отличается от других видов искусства. «Основным материалом литературы, — писал М. Горький, — является слово, оформляющее все наши впечатления, чувства, мысли. Литература — это
искусство пластического изображения посредством слова»
(Горький А.М. Собр.соч.: В 30-ти т. M., 1954. Т. 27. С. 5). Он же
определил слово как первоэлемент литературы.
5—3039
129
Но природа слова не ограничивается его эстетической функцией, Оно есть достояние всего народа, а не только привилегия художников, мастеров.
Важнейшая функция языка — к о м м у н и к а т и в н а я
(связующая). Посредством слова мы общаемся и, общаясь,
объединяемся друг с другом. Человеческие сообщества существуют благодаря нашей способности передавать друг другу
мысли и чувства. «В начале было Слово, и Слово было у Бога,
и Слово было Бог», — гласит Библия. Ей вторят вдохновенные строки Николая Гумилева («Слово»):
В оный день, когда над миром новым
Бог склонил лицо Свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.
Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на земле чертил число.
И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались с ужасом к луне,
Если точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.
Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных
тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что слово — это Бог.
А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передает.
Мы ему поставили пределом
Узкие пределы естества,
И как пчелы, в улье опустелом
Дурно пахнут мертвые слова.
Первый стих Евангелия от Иоанна можно, конечно, истолковать и не идеалистически: слово, кодифицируя практически все явления действительности и тем самым оставаясь единственным способом передачи опыта одного поколения другому, лежит в фундаменте человеческой цивилизации. Так
размышлял и Фауст Гёте, но все же он поправил Библию:
«В начале было дело», т.е. труд выпрямил человека, поднял
его с четверенек и научил говорить. Так появилось слово, окончательно превратившее обезьяну в человека, если, конечно,
теория Дарвина верна.
Попробуем только на миг представить, что человечество
разучилось говорить и наступила глобальная немота. Столь
фантастическая ситуация обернулась бы вполне реальной вселенской катастрофой. Если верить все той же Библии, такой
эксперимент уже был и даже получил название Вавилонского
130
столпотворения. После потопа люди, возгордившись, стали
строить в Вавилоне башню до небес. Разгневанное Божество
смешало языки и рассеяло людей по всем концам Земли. Башня, разумеется, разрушилась, так как строители перестали
понимать друг друга. А ведь это была полумера! Бог мог и совсем лишить людей средства общения — слова! И тогда бы не
было у нас ни литературы, ни грамоты, ни преемственности
поколений, ни ноосферы, как назвал В.И. Вернадский вселенную разума, ни вообще человечества на Земле.
Человеческий разум, если вдуматься, стал возможен, всесилен и бессмертен только благодаря языку. Вдохновенные
слова по этому поводу произнес еще в XVIII веке М.В. Ломоносов: «По благороднейшем даровании, которым человек прочих животных превосходит, т.е. правителе наших действий —
разуме, первейшее есть слово, данное ему для сообщения с
другими своих мыслей. Польза его толь велика, коль далече
ныне простираются происшедшие от него в обществе человеком знания, которые весьма бы тесно ограничены были, если
бы каждый человек воображенные себе способом чувств понятия только в собственном уме содержал сокровенны. ...Блаженство рода человеческого коль много от слова зависит, всяк
довольно усмотреть может: собраться рассеянным народам в
общежития, созидать грады, строить храмы и корабли, ополчаться против неприятеля и другие нужные, союзных дел требующие дела производить как бы возможно было, если бы они
способа не имели сообщать свои мысли друг другу?» (Русские
писатели о языке: В 4-х т. M., 1954. Т.1. С. 9—10).
Антагонизм слова и мысли, слова и дела всегда был и остается актуальнейшей проблемой как в художественной литературе, так и в философии. И.-В. Гёте говорил: «Людям нечего делать с мыслями и воззрениями. Они довольствуются
тем, что есть слова. Это знал еще мой Мефистофель:
Коль скоро надобность в понятиях случится,
Их можно словом заменить...»
Примерно так же саркастически не доверял слову шекспировский Гамлет: «Слова. Слова. Слова!»
Наконец, по мнению Шопенгауэра, большинство людей
выдают слова за мысли, а большинство писателей мыслят
только ради писания.
Тем не менее без слова нет ни мысли, ни дела, ни литературы, ни цивилизации.
131
Е д и н ы й н а ц и о н а л ь н ы й я з ы к возникает в результате длительной интеграции не только сословных, но и
территориальных диалектов, в процессе, если можно так выразиться, прямо противоположном Вавилонскому столпотворению. Замкнутое, натуральное хозяйство обособляет людей,
консервирует их местные словечки, языковые клише... Стоит ли удивляться, что жители одной и той же страны с трудом
понимают своих соотечественников-соседей. Пожалуй, самый
яркий пример такого рода представляла Германия XVIII века,
на территории которой было приблизительно столько же разных княжеств (каждое со своим диалектом!), сколько насчитывается дней в году. Д и а л е к т н о е р а с с л о е н и е как
следствие былой феодальной раздробленности даже в современном немецком языке общеизвестно. Образование единого
централизованного государства способствует и образованию
единого национального языка.
Любой национальный язык представляет собой системное
единство трех его основных слагаемых, которые частично совпадают, приблизительно как олимпийские кольца: я з ы к
разговорный, язык литературный и язык поэтический.
Я з ы к р а з г о в о р н ы й существует на диалектной основе и служит для бытового, интимного, непроизвольного общения. Основная и единственная его функция — коммуникативная. Это язык принципиально не обработанный, импровизационный, допускающий вольности и шероховатости.
Разговорный язык свободен в употреблении ненормативной
лексики: индивидуальных неологизмов, диалектизмов, провинциализмов, профессионализмов, жаргонизмов, просторечий и даже в определенных ситуациях вульгаризмов, пользуется рискованными словосочетаниями и раскованными синтаксическими конструкциями, не отличается выдержанным
стилистическим полем, откровенно эклектичен. Но его свобода под влиянием литературного и поэтического языка не выливается в полный произвол. К тому же несомненно есть много людей, наделенных даром устного слова, разговорная речь
которых не уступает ни литературным, ни поэтическим образцам.
Л и т е р а т у р н ы й я з ы к не следует смешивать с языком художественной литературы. Свое наименование он получил благодаря тому, что письменная литература сыграла
основную роль в его образовании, становлении и развитии.
Литературный язык есть язык правильный, нормированный,
132
принятый в официальном обращении. Это язык прессы, радио, телевидения, публичных выступлений, не допускающий
аномальных отклонений ни в лексике, ни в синтаксисе, ни в
стилистике. Он возникает на определенном этапе исторического развития представляющего его народа, как правило, в
эпоху ликвидации феодальной раздробленности, национальной консолидации и политического объединения на основе лидерства наиболее продвинутой в политическом, экономическом
и культурном отношении части страны. Напрцмер, русский
литературный язык базировался на московском диалекте.
Унификация языковых норм на первых порах достигается благодаря торговле, а также деятельности странствующих певцов
и актеров. Позднее, с появлением больших городов и учреждением столиц, сказывается влияние университетов, театров,
семинарий и школ и, конечно, общенациональной художественной литературы и публицистики. Окончательную отделку образцового литературного языка берут на себя средства
массовой информации, хотя они же нередко действуют и в деструктивном плане. Нормирование литературного языка осуществляется обычно в письменной форме. Поэтому письмо
справедливо называют второй формой существования литературного языка.
П о э т и ч е с к й я з ы к — язык собственно художественной литературы. Будучи основой национального литературного языка, он имеет свои специфические особенности. Наряду с коммуникативной функцией, которая, как мы могли
убедиться, простирается далеко за пределы одного поколения, поэтический язык в еще большей степени наделен функцией эстетической. Усредненному клишированному языку в его разговорной и литературной форме он решительно
противостоит как неповторимое выражение индивидуального личностного начала. В литературоведческой и лингвистической стилистике (лингвопоэтике) сформировалось понятие
так называемого «индивидуально-стилевого контекста» —
репрезентативного отрезка текста, по которому можно установить его авторскую принадлежность. Так, вполне реально и осязаемо существуют «индивидуально-стилевые контексты»: «Слово о полку Игореве», «Даниил Заточник»,
«Протопоп Аввакум», «Пушкин», «Лермонтов», «Тургенев»,
«Достоевский», «Толстой», «Лесков», «Бунин», «Набоков»,
«Солженицын» и так до бесконечности. Иногда двух-трех
фраз досточно, чтобы реконструировать индивидуальные
приметы почерка того или иного мастера.
133
Возьмем, для примера, индивидуально-стилевой контекст «Андрей Платонов» в виде отрывка из рассказа писателя «Третий сын»: «Если бы мать могла, она бы жила всегда, чтобы ее сыновья не тратили своего сердца, оплакивая
ее. Но мать не вытерпела жить долго». Конечно, так мог написать только автор «Чевенгура» и «Котлована». Неожиданное и сильное слово «не вытерпела» по отношению к способности жить, мучительная экспрессия самого содержания,
самого терпения жить сопоставимы, как считает С.Г. Бочаров, только с хрестоматийными строками Пушкина:
Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел...
«Оба контекста связаны друг с другом. Они коррелируют... Трудное выражение есть внутренняя характеристика
платоновского языка и всего его художественного мира» (Бочаров С.Г. «Вещество существования». Выражение в прозе/
/Проблемы художественной формы социалистического реализма. Сб ст.: В 2-х тт. M., 1971. Т. 2. С. 311). Центральное
слово всей фразы, согласимся с исследователем, прогибается под чрезмерной смысловой нагрузкой и ведет себя столь
же активно, как в поэзии. Не забудем при этом, что начинал замечательный прозаик именно с поэтического поприща, издав в воронежском Пролеткульте свой первый стихотворный сборник.
Незавершенный роман Льва Толстого «Декабристы» начинается синтаксическим периодом в 698 слов! Это не только бросающееся в глаза коренное свойство художественного
мышления писателя, его стилистики, но и характерная особенность его, толстовского, видения мира, которую он властно навязывает читателю: мы обозреваем его вместе с Толстым длинным пристальным взглядом, анализирующим и
оценивающим одновременно.
Итак, каждый писатель вольно или невольно вырабатывает свой неповторимый вариант поэтического языка, релевантные свойства которого представляет индивидуально-стилевой контекст его творчества, который внутри себя, однако,
также не однороден. Язык даже одного и того же автора меняется подобно почерку на разных этапах его творческого пути,
в зависимости от объекта приложения его творческой энергии,
родовой, жанрово-видовой, структурной специфики его произведений и т.д.
134
Между частными и общими контекстами поэтического
языка существует сложная взаимосвязь, без учета которой
невозможно адекватным образом оценить не только специфику идиостиля того или иного писателя, но даже значение того
или иного слова в конкретном его произведении. Зависимость
семантики слова от его погруженности в тот или иной художественный контекст особенно велика в лирике:
«Художественный контекст, определяющий значение слова, имеет самые разные объемы, и он может выходить далеко
за пределы одного произведения. И целым литературным направлениям и отдельным поэтическим системам присущи разные типы контекста. Поэзия Блока, например, не может быть
понята вне его больших циклов, в конечном счете сливающихся в единый контекст «трилогии вочеловечения», как Блок сам
назвал три тома своих стихов. У раннего Пастернака стихи несутся стремительно, переступая через свои границы и образуя
единый лирический поток. Мандельштам, напротив того, поэт
контекстов разграниченных (хотя и взаимосвязанных)...
Решающее эстетическое воздействие контекста, интенсивность смысловых взаимодействий неотъемлемо свойственны
любому виду словесного искусства, не говоря уже о лирической поэзии, где взаимодействия особенно динамичны...
Поэзия — особый способ художественного познания вещей
в их неповторимых аспектах, обобщенных и одновременно единичных, тем самым недоступных познанию научно-логическому. Эта неповторимость, единичность концепции для лирической поэзии нового времени еще более обязательны, чем
подчеркнутая индивидуальность автора или героя. Вот почему поэтическое слово — всегда слово, преображенное контекстом (формы этого преображения многообразны), качественно отличающееся от своего прозаического двойника» (Гинзбург Лидия. Поэтика Осипа Манделыптама//ИАН СССР. ОЛЯ.
1972. Т. XXXI. Вып. 4. С. 313—317).
Внешним образом поэтический язык оперирует теми же
единицами речи, что и разговорный, и литературный язык.
Поэтому он нисколько не защищен от профанации, от заведомо неадекватной поэтическому замыслу интепретации.
Поэтический язык, в отличие от родственных ему разговорного и литературного языков, Ю.М. Лотман определил как
искусственный язык или, в его структуральной терминологии,
как «вторичную моделирующую систему», обладающую несравненно большей сложностью и информационной плотностью сравненительно с естественными языками. Такая поста135
новка вопроса предостерегает от упрощенного взгляда на поэтический текст, актуализирует условный, игровой характер
функционирующих в его системе речевых элементов, обнажает их целенаправленный образный смысл.
Как уже отмечалось выше, язык в широком смысле есть образная форма отражения действительности, которая не существует вне собственно словесно-речевой формы воплощения
всей системы образов, составляющих художественный космос.
Поэтическое слово образно по преимуществу. При этом эстетически значимы все элементы поэтического языка: лексика,
фразеология, синтаксис, интонация, слоговой, звуковой состав.. . В поэтическом тексте нет нейтральных, безразличных к
образному строению элементов. Более того, эстетически значимым может быть даже их маркированное отсутствие.
Конечно, образные средства в известной мере используются и в разговорном просторечии, и в общелитературном нормированном языке, но, разумеется, не в той последовательности и
сгущенности, которые свойственны собственно речи художественной. Поэтический язык активно эксплуатирует, а иной
раз и сознательно имитирует, преследуя определенные художественные цели, характерные формы разговорного и литературного языка.
Язык художественных произведений —
предмет изучения как лингвистики, так и литературоведения.
Однако обе дружественные филологические дисциплины рассматривают его под специфическим углом зрения. Если я з ы к о в е д а интересуют в основном общие закономерности функционирования национального языка под пером выдающихся мастеров, их упорядочивающее, нормирующее значение в
становлении языка литературного (не случайно тексты диктантов, упражнения и примеры в школьных и вузовских грамматиках подбираются из произведений отечественной классики!), то л и т е р а т у р о в е д сосредоточивает свое внимание
главным образом на конкретном использовании языка для художественного изображения действительности, человека и общества в определенных литературных произведениях, идиостилях тех или иных писателей, школ, течений и направлений.
Впрочем интересы лингвистов и литературоведов естественно, «мирным путем» перекрещиваются, если они обращаются к смежной области применения своих знаний — л и н г вопоэтике.
«Целью и задачей» лингвопоэтического изучения языка стихотворного текста, считал академик JI.В. Щерба, яв136
ляется «показ тех лингвистических средств, посредством
которых выражается идейное и связанное с ним эмоциональное содержание литературных произведений» (Щерба JI.В.
Опыты лингвистического толкования стихотворений//Советское языкознание, Т.П. JI., 1936. С. 129).
Литературоведческий анализ п о э т и ч е с к о го я з ы к а предполагает в первую очередь выяснить: 1) источники, состав, приемы отбора и применения лексики и фразеологии, 2) своеобразие словесно-изобразительных средств
(эпитетов, сравнений, разнообразных тропов и т.д.), 3) синтаксические средства изображения, 4) принципы речевой характеристики действующих лиц, способы их типизации и индивидуализации средствами языка, 5) характер авторского языка (различные формы авторского присутствия в тексте и их
языковое выражение) и пр.
Узкий специалист, по Козьме Пруткову, подобен флюсу.
Поэтому идеальным образом филологу надлежит гармонично
сочетать в себе навыки лингвистического и литературоведческого анализа. Наша отечественная традиция имеет много
примеров такого счастливого сочетания: М.В. Ломоносов,
A.Х. Востоков, А.А. Потебня, Л.В. Щерба, В.В. Виноградов,
B.М. Жирмунский, Ю.М. Лотман, М.Л. Гаспаров... Эти и многие другие ученые исследовали литературно-художественные
тексты во всеоружии глубоких знаний как лингвистического, так и литературоведческого цикла.
Каждое п р о и з в е д е н и е может быть досконально изучено лишь в к о н т е к с т е т в о р ч е с т в а с о з д а в ш е г о
его писателя, с учетом его родовой, жанрововидовой и структурной специфики, эпохи,
с т и л я и м е т о д а . Все составляющие этого контекста неукоснительно связаны с языком, от которого тянутся нити
аналогий, соответствий, контрастов, родственых связей по
всем направлениям, в том числе и в глубь литературного и исторического прошлого.
И з у ч е н и е я з ы к а словесно-художественного произведения должно опираться на глубокое и свободное знание не
только общей системы литературного, поэтического и разговорного языка данной эпохи в различных его стилистических
вариациях, но и на специальные сведения о его истории. Иначе нам не избежать досадных накладок. Разве не может не
вызвать недоумение, к примеру, замечание Лизы из «Горя от
ума» о Скалозубе: «Да-с, так сказать, речист, а больно не хитер...», если в слово «речист» вложить значение, которое оно
137
приобрело много позже, скажем, в начале XX века у А. Блока:
Ай
Он
Ай
Он
да Ванька,
плечист!
да Ванька,
речист!
Катьку-дуру обнимает,
Заговаривает!
(«Двенадцать»)
Трудно представить себе полковника Скалозуба «заговаривающим» девушку. Историки языка объяснят нам, что в
конце XVIII — начале XIX вв. под этим словом имелось в виду
нечто другое: грибоедовский герой не болтлив, а скорее громогласен, привыкший командовать, он обладает отчетливой
военной дикцией.
Читая у Лермонтова в стихотворении «Моя мольба» (1830):
Да охранюся я от мушек,
От дев, не знающих любви,
От дружбы слишком нежной и
От романтических старушек...
— мы, естественно, далеки от мысли, что лермонтовский лирический герой страшится тех самых мух, которые отравляли летнюю пору лирическому герою Пушкина:
«Ох лето красное, любил бы я тебя,
Когда б не зной, не пыль, да комары, да мухи!»
Грамотный лингвистический комментарий находим в записках П.И. Мельникова-Печерского: «Махаться с кем в XVIII
столетии употреблялось вместо нынешнего волочиться за кем.
Перевод «севентер» — «обмахиваться веером». Веер, как и
мушки, прилепленные на лицо, играли важную роль в волокитствах наших прадедов и прабабушек. Куда прилеплена
мушка, как и куда махнула красавица веером — это была целая наука» (Мелъников-Печерский П.И. Бабушкины россказни//Собр. соч.: В 8 т. M., 1979. Т. I. С. 209).
Но, пожалуй, более всего необходимы сведения по истории языка медиевисту. Любопытны и поучительны, хотя и небесспорны в этом отношении наблюдения Ю.М. Лотмана: «Если
в древнерусском языке (XII век) «честь» и «слаза» оказываются
антонимами, а в современном синонимами, если в древнерусском
«синий» — иногда синоним «черного», а иногда «багрово-красного», «серый» обозначает наш «голубой» (в значении цвета
глаз), «голубой» же — наш «серый» (в значении масти животного и птицы), если небо никогда не называется в текстах
138
XII века голубым или синим, а золотой цвет фона на иконе,
видимо, для зрителя той поры вполне правдоподобно передает цвет небес, если старославянское «Кому сини очи, не пребывающим ли в вине, не назирающим ли, кде пирове бывають» следует переводить: «У кого же багровые (налитые кровью) глаза, как не у пьяницы, как не у того, кто высматривает,
где бывают пиры» — то ясно, что мы имеем дело с совсем иными
моделями этического или цветового пространства» {Лотман
ЮМ. Структура художественного текста. M., 1970. С. 22).
Речь автора и речь персонажей
Язык литературно-художественного произведения есть системное единство двух его ипостасей: авторской речи и речи
персонажей. В эпосе они обыкновенно сочетаются в рамках
одного произведения; в л и р и к е , как правило, значимо отсутствует речь персонажей, в д р а м е — речь автора.
Нарративная природа эпических произведений естественно выводит на передний план образ автора-повествователя,
который может входить в число персонажей, занимать в художественном мире обособленное, экстерриториальное положение с большей или меньшей долей персонификации или
пребывать над созидаемым им космосом в неявленном виде,
как сам Господь Бог. В основе языка автора лежит, разумеется, речевой идиостиль писателя как биографической личности, который так или иначе модифицируется в зависимости
от способа присутствия-отсутствия повествователя в описываемом им хронотопе, от социального статуса и индивидуальности каким-либо способом персонифицированного рассказчика, представляющего авторское сознание, от состава
аудитории, которая вместе с читателем ему внимает, от жанровой, структурной и стилистической специфики произведения...
Каждый человек, а писатель в первую голову, имеет свой
неповторимый речевой стиль, по которому можно идентифицировать личность с не меньшей точностью, чем по отпечаткам пальцев. Однако, в ы р а б а т ы в а я с т и л ь х у д о ж е с т в е н н о г о п о в е с т в о в а н и я , писатель сообразуется с
целым рядом экстралингвистических факторов: ш к о л о й ,
которую он прошел на первых порах своего творческого пути,
139
его д а л ь н е й ш е й э в о л ю ц и е й , симпатиями и антипатиями в современном ему л и т е р а т у р н о м п р о ц е с с е ,
участием-неучастием в л и т е р а т у р н о й б о р ь б е , его представлениями о т р а д и ц и я х и н о в а т о р с т в е , влиянием на него со стороны з а р у б е ж н ы х и о т е ч е с т в е н н ы х
а в т о р и т е т о в . . . Иными словами, полного, безусловного
тождества между индивидуально-речевым ^стилем писателя и
собственно стилем его художественного повествования ожидать не приходится. В справедливости этого легко убедиться,
стоит только сопоставить стилистику частных писем, скажем,
Пушкина и Гоголя с их повествовательной манерой.
И все же сравнительно с языком действующих лиц в я з ы ке а в т о р а - п о в е с т в о в а т е л я безусловно доминирует
индивидуально-личностное, стилеобразующее начало.
Я з ы к д е й с т в у ю щ и х л и ц , напротив, выступает как
эффективное средство типизации и индивидуализации того
или иного характера, с креном в ту или иную сторону в зависимости от концептуальных установок автора.
В драматургическом роде литературы, как мы уже знаем, образ автора конструктивно деперсонифицирован. Его
неявное присутствие дает о себе знать лишь в ремарках,
устных или письменных рекомендациях режиссеру, костюмерам и актерам, в парабасах и античном хоре. Роль языка
во всех этих маргинальных формах авторского участия в
пьесе, может быть, за исключением двух последних, невелика. Парабаса в настоящее время в прямом виде не употребляется; косвенным ее замещением можно считать публицистические комментарии драматурга на премьере спектакля, театрального либо телевизионного. В обоих случаях
драматург играет самого себя, автора данного произведения,
приноравливая свою речь к соответствующей аудитории и
«злобе дня». Синтез же голоса автора с гласом общественного мнения в античном хоре можно рассматривать как разновидность сказа (см. ниже).
Р е ч е в а я х а р а к т е р и с т и к а в д р а м е , таким образом, распространяется исключительно на действующих лиц,
типизируя и одновременно индивидуализируя их. Одни драматурги делают акцент на типизации, другце предпочитают
индивидуализацию, но сочетание того и другого обязательно.
Вот, к примеру, речевой портрет купеческой дочки Липочки
из пьесы А.Н. Островского «Свои люди — сочтемся» в интерпретации А.И. Ревякина (РевякинА.И. Проблема изучения и
преподавания литературы. M., 1972).
140
Для того, чтобы как можно полнее раскрыть социальный,
моральный и культурный облик своей героини, драматургреалист использует практически все средства общенационального языка.
1) При знакомстве с лексиконом Липочки бросается в глаза обилие просторечных слов, искаженных к тому же в невежественной купеческой среде: «в ихнем», «особливо», «али»,
«страм».
2) Поскольку большинство купцов «выбились в люди» из
крестьян и стремятся теперь повысить свой социальный статус, общаясь с грамотными людьми, в их речи используются
литературно-книжные речения, но делается это неумело и
неуместно, что не может не вызвать комического эффекта:
«Одно убийственно, что сабли нет»; «Сами не понимают, как
блеснуть очаровательнее!»; «Что вы нашли в нем легковерного!»; «Да как еще вы смеете порочить таких людей, которых
вы и понятия не знаете?»
3) К этому же лексическому пласту следует отнести иностранные слова, вычитанные из бульварных романов и заимствованные у учителя танцев; конечно, они тоже карикатурно искажены: «капидон», «мантелья», «припорция», «вчахле».
4) Стилистический сумбур, контрастное столкновение
иностранных слов с просторечными еще более усугубляют и
разоблачают невежественность героини: «Зачем вы отказали
жениху? — укоряет она родителей. — Чем не бесподобная
партия? Чем не капидон?»; «Что же он там спустя рукава-то
сентиментальничает?»; «Так вот и рябит меланхолия в глазах!»
5) Душевная черствость, грубость и эгоизм в характере Липочки обнажают резкие вульгаризмы: «облаять», «налепила»,
«дурак необразованный», «подите вы с советами!», а также
сниженные, приземленные сравнения, впрочем, иной раз весьма экспрессивные: (кончая танцевать) «Фу, фу... как упаточилась, словно воз везла!»; (прихорашиваясь перед зеркалом)
«А сама-то я нынче вся, как веник, растрепана!»
6) Напористость, требовательность купеческой дочери получают адекватное выражение в излюбленных ею повелительных формах выражений: «Нет-нет! Где хочешь возьми, а достань благородного!»; «...мне мужа надобно! Слышите, найдите мне жениха, непременно найдите!»; «Позволю я над собой
командовать! Вот еще новости!»
7) Невежественность слышится даже в синтаксисе ее речи,
состоящей из кратких фраз, кое-как, примитивно слепленных
141
сочинительными союзами («и», «вот») или междометиями
(«ах», «ну», «и»): «Удивляюсь, отчего это многие дамы, поджавши ножки, сидят? Формально нет никакой трудности выучиться! Вот уж я на что совестилась учителя, а в двадцать
уроков все решительно поняла. Отчего это не учиться танцовать! Это одно только суеверие! Вот маменька, бывало, сердится, что учитель все за коленки хватает. Все это от необразования! Что за важность! Он танцмейстер, а не какой-нибудь другой!»
Иронически-сатирическая сгущенность, разнообразие и
исчерпывающая полнота речевой характеристики Липочки
очевидны. Островский стремится дать образ типичной представительницы замоскворецкого купечества, представив ее
живой, запоминающийся характер в типических обстоятельствах. Такова была его обычная языковая стратегия. По поводу другой своей пьесы — «Не все коту масленица» драматург обмолвился: «Эта вещь писана для знатоков, тут главное — московский быт и купеческий язык, доведенный до
точки».
Совсем иные художественные задачи стояли перед Чеховым, пьесы которого населяют в основном хорошо освоенные
литературой представители дворянской интеллигенции. Поэтому, наделяя своих персонажей речевой характеристикой,
Чехов предпочитал не типизирующие, а индивидуализирующие приемы. Так в «Вишнёвом саде» практически каждый
персонаж обладает своим речевым стилем, соответствующим
его внутреннему психологическому портрету: Гаев, Раневская,
Фирс, Варя, Лопахин (по контрасту нарочито пользуется просторечиями), Петя Трофимов...
В противоположность драме л и р и к а в принципе монологична, хотя еще с античных времен известны диалогические и даже полилогические ее формы, которые уместнее рассматривать не как родовые аномалии, а как рудименты первобытного синкретизма. Лирический субъект «Я» обычно
идентифицируется с поэтом как биографической личностью
или лирическим героем, совмещающим черты поэта-автора и
некоего обобщенного его представителя. Поэтому, с одной стороны, можно сказать, что в лирике есть только образ автора и
отсутствуют (как правило) персонажи, а с другой стороны, лирическое произведение предстанет как монолог обобщенного
персонажа, высказывающегося без авторского посредничества. Так или иначе генетическая связь лирики с драмой просматривается довольно ясно. Аристотель считал, что основой
142
драматургического действия послужил диалог между корифеем и хором, который заменили более жизнеподобные монологи, диалоги и полилоги действующих лиц. Обособившийся
корифей мог в дальнейшем стать субъектом монодической
лирики, равно как обособившийся хор — субъектом лирики
хоровой. В эпосе лирика и драма естественным образом объединились, но не уравнялись в правах: корифей преобразовался в носителя авторского сознания, который инициирует произведение, повествует и «объявляет» диалоги, а драматическое действие в поступках, мыслях и словах персонажей
растворилось в общем эпическом развертывании сюжета.
Итак, образ лирического героя, подобно корифею, синтезирует авторское сознание и некоторое его обобщение, позволяющее воспринимающему отождествлять себя с авторским
«Я».Соотношение л и ч н о с т н о г о и о б о б щ е н н о г о н а ч а л при этом может быть чрезвычайно разнообразным. Преобладание личностного начала автоматически означает преимущественное использование речевых форм индивидуального плана (вплоть до введения в текст имени героя), как в
стихотворении Франсуа Вийона:
Я — Франсуа, чему не рад.
Увы, ждет смерть злодея,
И, сколько весит этот зад,
Узнает скоро шея.
(Пер. И. Оренбурга)
И, наоборот, обобщенный лирический герой выражает
себя подчеркнуто типизированной речью (вплоть до замены
лирического «Я» на лирическое «Мы»), как в «Скифах» Александра Блока:
Мильоны вас. Нас тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте сразиться с нами!
Да, скифы мы, да, азиаты мы
С раскосыми и жадными очами!
Здесь уже автор как бы растворяется в некоем обобщенном коллективе и говорит от его имени. Конечно, Блок, автор
«Стихов о Прекрасной даме» и «Соловьиного сада», ощущавший в своих жилах токи немецкой крови, человек несомненно европейской культурной ориентации, но одушевленный
пафосом патриотизма, говорит от лица скифов соответствующим языком, как, кстати, и в поэме «Двенадцать» («Мы на
горе всем буржуям / Мировой пожар раздуем!»). В контексте
143
его поэтического идиостиля это несомненно формы сказа —
имитации устной простонародной речи.
Тонкую сказовую стилизацию можно усмотреть и в «Моей
родословной» Пушкина, который по праву гордился своим старинным дворянским родом, но с горькой иронией и непритворным демократическим пафосом восклицал: «Я — мещанин!», а также в «Бородине» Лермонтова, который искусно
ведет рассказ от лица старого солдатского дядьки, контролируя его, однако, сознанием просвещенного человека.
Наконец, нельзя забывать и о так называемой р о л е в о й
л и р и к е , где поэт заведомо говорит не своим голосом, а перевоплощается в того или иного персонажа, героя песни. Таково
практически все творчество Владимира Высоцкого, виртуозно имитировавшего «голоса» уголовников, альпинистов,
спортсменов, сумасшедших, простодушных зрителей циркового представления, обывателей, вплоть до... самолета-истребителя («Песня самолета-истребителя», 1968):
Я — « ЯК», истребитель, — мотор мой звенит,
Небо — моя обитель,
А тот, который во мне сидит,
Считает, что — он истребитель.
В этом бою мною «юнкере» сбит —
Я сделал с ним, что хотел, —
А тот, который во мне сидит,
Изрядно мне надоел!..
Однако самая естественная и свободная форма параллельного функционирования языка автора и языка персонажей —
это э п о с. В его разнообразных жанрово-видовых модификациях гибко реализуются различные стилистические установки писателей, принадлежащих к тем или иным художественным системам, исповедующих далеко не однозначные принципы индивидуализации и типизации как в авторской речи,
так и в речевой характеристике персонажей.
С р а в н и м я з ы к о в ы е м а н е р ы трех выдающихся
русских прозаиков — Тургенева, Достоевского и Толстого.
Тургенев, много и упорно работавший над языком своих
произведений, не был сторонником последовательного и систематического разграничения речи персонажей по лексическим, морфологическим, синтаксическим и стилистическим
особенностям, как мы это видели у Островского. Более того,
он и свою собственную, авторскую речь строго не отделял от
144
речи персонажей соответствующего социального круга. Принципу тотальной речевой характеристики он противопоставлял
тактику намека, штриха, характерной речевой детали, а п е л л и р у я к в о о б р а ж е н и ю читат е л я , к его жизненному и эстетическому опыту, рассчитывая на его реакцию дорисовывания. Индивидуализация средствами языка для него была много существеннее, чем
типизация.
Вместо развернутого концентрированного речевого портрета Тургенев рассредоточенно вкрапливал в текст своих произведений острые, снайперски выверенные штрихи-детали.
Вот, например, характерная фигура Базарова. Выходец из
крестьян, получивший прекрасное университетское образование, он любит подчеркнуть свою связь с народом, для чего время от времени не назойливо, но демонстративно насыщает
свою речь грубоватыми простонародными словечками: «Народ мы тертый, в городах бывали», «Аза в глаза не видали»,
«Коли брюха не отрастил», «Обломаю дел много». Иной раз,
стремясь уколоть своих аристократических собеседников,
сбить с них спесь, он намеренно сталкивает высокие «аристократизмы» с вульгаризмами: «Княжеское отродье»...
Речевая деталь служит у Тургенева и для выделения основной идейной антитезы романа. Так, Павел Петрович,
представляющий «отцов», произносит слово «принцИп» на
французский манер, с ударением на последнем слоге, а Аркадий, подражая Базарову, говорит твердо, по-русски, налегая на первый слог «прЫнцип». Павел Петрович, кроме
того, сердясь, говорит «эфтим» и «эфто». Однако Тургенев
только предупреждает читателя, что так-де говорят его персонажи, и вполне доверяет ему, не искажая их речь в диалогах.
Разительный языковой штрих способен порой заменить
пространное описание. Так о Петре, лакее Кирсановых, не говорится практически ничего, кроме: «Он совсем окоченел от
глупости и важности, произносит все «е», как «ю»: «тюпюрь,
обюспючюн». И все! За этой краткой убийственной характеристикой целая судьба: вырванный, подобно Герасиму, из трудовой крестьянской жизни, он превратился в лакея, существо сугубо функциональное, но претендующее на более высокое положение в обществе. Примитивно подражая говорящим
по-французски хозяевам, он возвышается в собственных глазах, но утрачивает последние остатки человеческого достоинства, «окоченев от глупости и важности».
145
Языковое мастерство Достоевского долгое время подвергалось сомнению: писатель-мол находился в таком жестоком
цейтноте, что ему некогда было обрабатывать, шлифовать свои
произведения, между языком автора и языком персонажей
поэтому-де нет никакой разницы. Этот миф был развеян
М.М. Бахтиным (Бахтин MM. Проблемы поэтики Достоевского: Изд. 4-е. M., 1979) и JI. Гроссманом (Гроссман Леонид.
Достоевский. M.: «Молодая гвардия», 1962).
Достоевский — блестящий мастер речевой характеристики персонажей. Его мастерство не бросается в глаза, поскольку индивидуализации он достигает нетрадиционным
путем, а и н т о н а ц о н н о - п с и х о л о г и ч е с к и м с т р о ем речи каждого, даже самого незаметного
героя в условиях универсального полифонизма.
Речь главного героя «Преступления и наказания» Родиона Раскольникова — аналитическая, путающаяся, раздраженная, отрывистая, вбирающая в себя речевые отголоски
многих других персонажей. Его монологи диалогичны либо
даже полилогичны «как вереницы живых и страстных реплик на все слышанные им и задевшие его чужие слова, собранные им из опыта ближайших дней» (Бахтин М.М. Указ.
соч. С. 320).
Поразительное разнообразие голосов персонажей этого романа не прошло мимо самых чутких и вдумчивых читателей.
Еще Иннокентий Анненский, по словам JI. Гроссмана, «верно
отметил стилистическую канцелярщину Лужина, ироническую небрежность Свидригайлова и восторженную фигурность
Разумихина. Нетрудно также уловить саркастическую деловитость правоведа Порфирия и деланную вежливость чиновничьей речи Мармеладова. Если не самый словарь, то «словесный жест», интонационная система героев выявлены в романе с неизгладимым своеобразием» (Гроссман Леонид. Указ.
соч. С. 355).
Практически все эти голоса в дисгармоничном, будоражащем его мятущийся дух соитии можно услышать в речи главного героя. Послушаем Родиона Раскольникова, склонившегося над письмом матери: «Потому что это дело очевидное, —
бормотал он про себя, ухмыляясь и злобно торжествуя заранее успех своего решения. — Нет, мамаша, нет, Дуня, не обмануть меня вам!.. И еще извиняются, что моего совета не попросили и без меня дело решили! Еще бы! Думают, что теперь
уж и разорвать нельзя; а посмотрим льзя или нельзя! Оговор146
ка-то какая капитальная: «уж такой, дескать, деловой человек Петр Петрович, такой деловой человек, что и жениться-то
иначе не может, как на почтовых, чуть ли не на железной дороге» . Нет, Дунечка, все вижу и знаю, о чем ты со мной много
говорить собираешься; знаю и то, о чем ты всю ночь продумала, ходя по комнате, и о чем молилась перед Казанскою божией матерью, которая у мамаши в спальне стоит. На Голгофуто тяжело всходить. Гм... Так, значит, решено уж окончательно: за делового и рационального человека изволите выходить,
Авдотья Романовна, имеющего свой капитал (уже имеющего
свой капитал, это солиднее, внушительнее), служащего в двух
местах и разделяющего убеждения новейших наших поколений (как пишет мамаша) и, «кажется, доброго», как замечает
сама Дунечка. Это кажется всего великолепнее! И эта же Дунечка за это же кажется замуж идет!.. Великолепно! Великолепно!
Главное, «человек деловой и, кажется, добрый»:
шутка ли, поклажу взял на себя, большой сундук за свой счет
доставляет! Ну как же не добрый? А они-то обе, невеста и мать,
мужичка подряжают, в телеге рогожею крытой (я ведь так езжал)! Ничего! Только ведь девяносто верст, «а там преблагополучно прокатимся в третьем классе», верст тысячу. И благоразумно: по одежке протягивай ножки; да вы-то, господин Лужин, чего же? Ведь это ваша невеста... И не могли
же вы не знать, что мать под свой пенсион на дорогу вперед
занимает? ...Ясно, что тут не кто иной, как Родион Романович Раскольников в ходу и на первом плане стоит. Ну как
же-с счастье его можно устроить, в университете содержать,
компаньоном сделать в конторе, всю судьбу его обеспечить;
пожалуй, богачом впоследствии будет, почетным, уважаемым, а может быть, даже славным человеком окончит
жизнь! А мать? Да ведь тут Родя, бесценный Родя, первенец! Да как для такого первенца хотя бы и такой дочерью не
пожертвовать! О милые и несправедливые сердца! Да чего:
тут мы и от Сонечкина жребия, пожалуй что, не откажемся! Сонечка, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока
мир стоит! Жертву-то, жертву-то обе вы измерили ли вполне? Так ли? Под силу ли? В пользу ли? Разумно ли? Знаете
ли вы, Дунечка, что Сонечкин жребий ничем не сквернее
жребия с господином Лужиным?.. Да что же вы в самом деле
обо мне-то подумали? Не хочу я вашей жертвы, Дунечка,
не хочу, мамаша! Не бывать тому, пока я жив, не бывать, не
бывать! Не принимаю!
Он вдруг очнулся и остановился.
147
— Не бывать? А что же ты сделаешь, чтоб этому не бывать? Запретишь? А право какое имеешь? Что ты им можешь
обещать в свою очередь, чтобы право такое иметь?
...Во что бы то ни стало, надо решиться, хоть на что-нибудь, или...
— Или отказаться от жизни совсем! — вскричал он вдруг
в исступлении. — Послушно принять судьбу, как она есть, раз
навсегда, и задушить в себе все, отказавшись от всякого права
действовать, жить и любить!
«Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь,
что значит, когда уже некуда больше идти? — вдруг припомнился ему вчерашний вопрос Мармеладова. — Ибо надо, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти...»
(Достоевский Ф.М. Полн.собр. соч.: В 30 т. M., 1973. Т. 6.
С. 35—39).
Все герои — и мать, и Дуня, и Лужин, и Мармеладов, и Соня «отразились, — как пишет М.М. Бахтин, — в сознании Раскольникова, вошли в его сплошь диалогизированный внутренний монолог, вошли со своими «правдами», со своими позициями в жизни, и он вступил с ними в напряженный и
принципиальный внутренний диалог, диалог последних вопросов и последних решений. ...Внутренний монолог Раскольникова является великолепным обазцом микродиалога: все слова в нем двуголосые, в каждом из них происходит спор голосов...» (Бахтин MJVf. Указ. соч. С. 100—101).
Обратим также внимание на необычайную экспрессивность пауз, прерывающих внутренний монолог героя, эмоциональную значимость системы знаков препинания.
Другой, чрезвычайно важной особенностью языка Достоевского, что в авторской речи, что в речи действующих
лиц, является психологическая двусмысленность и вообще
принципиальная, как в поэзии, многозначность слова. Например, обыгрывается сакраментальный смысл слова, составляющего первую часть заголовка, — «преступление»:
героям (не только Раскольникову, но и, например, Сонечке
Мармеладовой) постоянно приходится переступать через
порог, через себя, через других, через свою совесть, через
закон...
Сложную и многообразную систему принципов речевой
характеристики персонажей представляет собой и творчество Льва Толстого. Ограничимся одной замечательно яркой деталью как неоспоримым свидетельством незаурядного языкового мастерства великого реалиста и психолога.
148
В кульминационной сцене признания Анной в своей супружеской неверности ее муж Алексей Александрович Каренин
переживает минуту жесточайшего душевного смятения. Не
в силах преодолеть его, герой не может выговорить элементарное слово «перестрадал». При этом важно помнить обычную манеру Алексея Александровича, профессионального
оратора, отчетливо и твердо выговаривать слова, особым
логическим ударением произвольно выделяя некоторые
из них, о чем неоднократно напоминает писатель. Вот эта
сцена:
«— Алексей Александрович. Я не говорю, что это невеликодушно, но это непорядочно — бить лежачего.
— Да вы только себя помните, но страдания человека,
который был вашим мужем, вам не интересны. Вам все равно, что вся жизнь его рушилась, что он пеле...педе...пелестрадал.
Алексей Александрович говорил так скоро, что он запутался и никак не мог выговорить этого слова. Оц выговорил
его под конец — пелестрадал. Ей стало смешно и тотчас стыдно за то, что ей могло быть что-нибудь смешно в такую минуту. И в первый раз она на мгновение почувствовала за него
(курсив мой. — О.Ф.), перенеслась в него, и ей стало жалко
его. Но что она могла сказать или сделать? Она опустила голову и молчала. Он тоже помолчал несколько времени и заговорил потом уже менее писклявым, холодным голосом, подчеркивая произвольно избранные, не имеющие никакой особенной важности слова».
Один-единственный штрих, но какая бездна смысла! Мы
видим здесь толстовское отношение к обоим героям, подводящее нас к идее всего романа. Анна и человек, которого она давно разлюбила, здесь предельно сближаются, духовно приникают друг к другу, но трагически чувствуют, что бессильны
исправить случившееся, облегчить взаимные страдания, потому что сердце не внемлет разуму и ему не прикажешь. Драгоценное, неповторимое мгновение. Даже суровый моралист
Толстой опускает свою карающую десницу. И он, и мы понимаем, что «отмщение», обещанное в эпиграфе, неизбежно покарает Анну, что оно гнездится внутри самой героини, что она
погибнет от своей же страсти, не дождавшись прощения. Как
тут не вспомнить по аналогии великие античные трагедии
рока, в которых мощные цельные характеры ведут безнадежную борьбу с самой Судьбой!
149
Вопросы для самостоятельного изложения
1. Дайте краткую характеристику языка разговорного и
литературного. Как они соотносятся друг с другом типологически и генетически?
2. Когда и при каких обстоятельствах возник литературный язык? Какую роль в его становлении сыграла художественная литература?
3. Каковы специфические свойства поэтического языка?
В какой мере в нем используются элементы языка разговорного и литературного? Приведите примеры.
4. Перечислите основные разновидности авторской речи.
Проиллюстрируйте конкретными примерами.
5. Покажите на конкретных примерах, как речевая характеристика персонажей служит средством их типизации
и индивидуализации.
6. Охарактеризуйте сказ как особый тип повествования.
Какое место он занимает между речью автора и речью
персонажей?
ГЛАВА
9
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ПОЭТИЧЕСКОГО Я З Ы К А
Номинация, синонимия и антонимия —
эффективные способы образного
со(противо)поставления
Самый простой способ так или иначе обозначить предмет,
качество или действие — назвать их, найти подходящее к случаю слово и произнести либо написать его. Знаковая природа
слова включает механизм конвенциональной установки на кодирование и декодирование определенного кусочка реальности, содержащегося в нем. Например, произнесенное или написанное слово «лимон» живо воспроизводит образ яркожелтого светящегося плода со специфическим запахом и даже
вызывает во рту характерное слюновыделение (опыт напоминает нам о его резком кислом вкусе). Об этом знают и адресант, например, писатель, и адресат, воспринимающий текст
в устной или письменной форме. Разумеется, заложенная и
воспринятая информация полностью не совпадают, как не совпадают два, а тем более несколько разных сознаний, жизненных и эстетических опытов. Их общая, совпадающая часть,
однако, столь обширна и репрезентативна, что писатель вполне может расчитывать на адекватное восприятие каждого названного им слова. Главная проблема, извечно мучающая художника, состоит в том, чтобы найти самое точное, соответствующее задуманному образу слово.
Есть писатели, обладающие поистине счастливым даром
почти не задумываясь облекать свои мысли в единственные,
без какого-либо напряжения найденные словесные формулировки, для других борьба со словом составляет львиную долю
их творческих забот. Черновики первых напоминают белови151
ки вторых. Впрочем, бывают и исключения. Пушкин, пользовавшийся у современников и потомков репутацией художника ярко выраженного моцартианского начала, оставил в своих черновиках следы титанических усилий преодолеть сопротивление материала и добиться поразительной точности и
прозрачности словесного воплощения самой тонкой поэтической мысли, самой сложной образной картины. Так, например,
в поисках подходящего эпитета к «наковальне» в «Цыганах»
поэт перебрал семь вариантов: «чугунной», «холодной», «избитой», «старинной», «кузнечной», «убогой», «тяжелой»,
пока не остановился на восьмом (!), синтезировавшем в себе,
как это ни парадоксально, признаки всех отвергнутых — «походной»:
Все живо посреди степей:
И песни жен, и крик детей,
Заботы мирные семей,
И звон походной наковальни...
Готовых с утра в путь недальний,
Но слово, даже самое точное, уникальное, единственное,
еще не составляет полного текста; оно приходит, живет в произведении и распознается воспринимающим только в окружении других слов, в контексте. Н. Гумилев, считавший своим
учителем упорного мастера словесной обработки В. Брюсова,
призывавший своих учеников по «Дому Искусств» и «Цеху
Поэтов» решать задачи любой технической сложности, любил
повторять известное высказывание Колриджа: «Идеальное
стихотворение — есть лучшие слова, расставленные в лучшем
порядке». Речь идет, разумеется, не о порядке слов в предложении, для русского языка, кстати, не слишком строгом, а о
сочетаемости слов в контексте по грамматическим, фонетическим, просодическим, стилистическим и всем прочим признакам. Пушкинская строка «Унылая пора! Очей очарованье...»
не может быть без урона заменена на, казалось бы, аналогичную: «Унылая пора! Ты глаз очарованье...», потому что словосочетание «Очей очарованье» неповторимо, как счастливая
любовная пара: эти два слова льнут друг к другу, рифмуются
по звучанию, по смыслу, по стилю, по соразмерности... —
именно поэтому им никак нельзя разлучаться!
Н о м и н а ц и я как простое называние предмета, признака или действия, как художественная реализация в соответствующей словесной формулировке определенной образной
мысли является, по преимуществу, изобразительным средством поэтического языка, поскольку ее основной пафос —
152
точное воспроизведение очертаний объективного мира. Вместе с тем, как можно было судить по обоим пушкинским примерам, ей в известной мере свойственны и некоторые выразительные возможности.
Основными же специфическими формами выражения
авторского отношения к изображаемому в сфере поэтического языка служат с и н о н и м и я , а н т о н и м и я и о м о нимия.
С и н о н и м а м и (от греч. synonymos — одноимённый) в
поэтическом языке принято называть слова, имеющие одинаковое или близкое реально-логическое значение, но обладающие разной стилистической окраской. В сущности, выбирая
для элементарной номинации слова, писатель в первую очередь прислушивается к их стилистическим обертонам.
Слово, претендующее на то, чтобы изобразить определенное явление и выразить определенное к нему отношение автора или действующего лица, должно быть уместным не только
по смыслу, но и и по стилистической ситуации.
Тургеневский Герасим, собравшийся утопить Муму, мог
сесть в лодку, но отнюдь не в гондолу, ладью или даже челн,
вполне уместный, скажем, в экспозиции «Медного всадника».
Одни из самых, несомненно, частотных в повествовательной
прозе, насыщенной диалогическими партиями персонажей,
слова сказал, проговорил имеют, к счастью, широкий спектр
синонимов, позволяющий избежать докучного однообразия
всякий раз, как автор дает возможность высказаться очередному герою: изрек, произнес, промолвил, воскликнул, откликнулся, промямлил, вякнул, сморозил, заявил, отрезал, провещал и т.п. Но принцип свободной комбинаторики тут не проходит. В каждом конкретном случае одни слова подойдут, а
другие будут с негодованием отвергнуты как стилистически
диссонирующие.
Впрочем, ситуативные нюансы одного и того же текста
позволяют иной раз встретиться в непосредственной близости синонимам, стоящим в отдаленных стилистических рядах. Так, нейтральное слово лошадь, с одной стороны, имеет ряд стилистически высоких синонимов: жеребец, конь,
скакун, Пегас и, с другой стороны, синонимы стилистически противоположной окраски: кобыла, кляча, одр, дохлятина. Употребляя то или иное слово, писатель сообразуется с реальной жизненной ситуацией, контекстом произведения, его жанровой, стилистической характеристикой, с
динамикой настроения лирического героя.
153
В одном из самых совершенных созданий пушкинского гения — стихотворении «Зимнее утро» — развертываются картины будничной, но по-настоящему прекрасной жизни, в которой любимая женщина ничем не уступает «северной Авроре», является навстречу ей «звездою севера»:
Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный —
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры,
Навстречу северной Авроры
Звездою севера явись!
И вдруг, буквально на наших глазах происходит, на первый взгляд, необъяснимое чудо: незамысловатая «кобылка
бурая» волшебным образом преображается в «нетерпеливого
коня» (почти Пегаса!):
Вся комната янтарным блеском
Озарена. Веселым треском
Трещит затопленная печь.
Приятно думать у лежанки.
Но знаешь: не велеть ли в санки
Кобылку бурую запречь?
Скользя по утреннему снегу,
Друг милый, предадимся бегу
Нетерпеливого коня
И навестим поля пустые,
Леса, недавно столь густые,
И берег, милый для меня.
В чем дело? Может быть, Пушкин ошибся, забыл, что
его лирический герой предложил героине прокатиться на
«бурой кобылке», и заменил ее «нетерпеливым конем» совсем из другой конюшни? Конечно же, нет. К концу стихотворения раздвигаются временные, пространственные и, само
собой, эмоциональные рубежи повествования: быт переходит в бытие. Пушкин, как всегда, тонко прочувствовал две
стилистически нетождественные ситуации. В первом случае лирический герой обращается к любимой в реальнобытовой, интимной обстановке. Попробуй он сказать:
«А знаешь, не запречь ли в санки нетерпеливого коня?»,
собеседница на него выразительно бы посмотрела. Во втором случае, наоборот, высокий восторг, поэтическое воодушевление и пафосный тон сообщения («предадимся бегу»)
не допускают будничную «кобылку», к тому же конкретно —
«бурую»!
Речь, таким образом, идет об одном и том же животном,
названном, однако, по-разному в соответствии с изменившимся настроением лирического героя. Родовая принадлежность
здесь не имеет ровно никакого значения. Да мы ее обыкновенно и не замечаем, как не замечаем аналогичного разночтения
154
в уже упомянутой пушкинской элегии «К морю» («свободная
стихия» — «океан» — «море»).
Те или иные единицы поэтической лексики, слова одного
и того же синонимического ряда, но разной стилистической
ориентации тяготеют, соответственно, к разным художественным системам: «Фет, по подсчетам Маяковского, 46 раз упомянул в своих стихах слово «конь» и ни разу не заметил, что
вокруг него бегают и лошади. Конь — изысканно, лошадь —
буднично» (МаяковскийВ В. Поли. собр. соч.: В13 т. M., 1959.
Т. 12. С. 12). Сам Маяковский, целенаправленно демократизировавший язык поэзии, демонстративно обращается к своей лошади на вы:
«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь».
С т и л и с т и ч е с к и к о н т р а с т н ы е п а р ы с абсолютно тождественной семантикой составляют старославянские и
русские дублеты. По большей части это обозначения внешнего облика человека: глава — голова, чело — лоб, власы — волосы, очи — глаза, ланиты — щеки, выя — шея, рамена —
плечи, длань — ладонь, десница — правая рука, шуйца — левая, перст — палец, перси — грудь и т.д. Славянизмы по
традиции, теоретически осмысленной еще М.В. Ломоносовым
в его учении о «трех штилях», употребляются в торжественной, пафосной речи, в то время как их русские аналоги — в
нейтральном или стилистически сниженном контексте. Намеренное пренебрежение этим правилом приводит к травестийному либо бурлескному комическому эффекту.
В романе И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок»
переживший любовную катастрофу Васисуалий Лоханкин
заговорил белым 5-стопным ямбом, художественным языком... высокой трагедии. Обращаясь к сопернику, который
отбил у не^о содержавшую его жену, он по инерции пользуется высоким старославянским словом выл, но тут же спохватывается и «переводит» его в ситуативно более уместный
стилистический регистр: «Он мне посмел сказать, что
это глупо! Он, он, жену укравший у меня! Уйди, Птибурдуков, не то тебе по вые, по шее то есть, вам я надаю!» Замечательно, что в первом случае высокое выя сочетается
с низким тебе, а во втором, наборот, низкое шея с высоким
вам.
155
В поэтическом произведении тот или иной синонимический ряд представлен, как правило, частично: или одним, избранным из множества синонимом, или двумя контрастными
либо уточняющими друг друга вариантами, или, наконец, несколькими, составляющими некоторую систему его элементами. Последний случай встречается так редко, что его можно рассматривать как раритет. В другом романе И.Ильфа и
Е. Петрова — «Двенадцати стульях» один из его главных героев Ипполит Матвеевич Воробьянинов беседует с гробовых
дел мастером Безенчуком о словах, которые употребляются
для констатации прискорбного факта человеческой смерти.
Как профессионал Безенчук со знанием дела поведал, что слов
таких существует множество, на любой вкус, но каждое следует употреблять в строгом соответствии с социальным статусом, профессией и комплекцией покойника:
« — Ну царствие небесное, — согласился Безенчук. — Преставилась, значит, старушка... Старушки — они всегда проставляются... Или богу душу отдают — это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, значит, преставилась. А, например, которая покрупнее да похудее — та,
считается, богу душу отдает...
— То есть как это считается? У кого это считается?
— У нас и считается. У мастеров. Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считается, ежели, не дай бог, помрете, что в ящик сыграли. А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, приказал долго жить. А если кто чином поменьше,
дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят: перекинулся или ноги протянул. Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто,
то считается, что дуба дают. Так про них и говорят: «А нашто, слышали, дуба дал».
Потрясенный этой странной классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевиич спросил:
— Ну а когда ты помрешь, как про тебя мастера скажут?
— Я — человек маленький. Скажут: «гикнулся Безенчук».
А больше ничего не скажут» (Ильф И., Петров Е. Двенадцать
стульев. Золотой теленок. Казань, 1990. С. 19).
Как видим, синонимия представляет собой исключительно действенное выразительное средство поэтического языка;
с его помощью автор выражает любые оттенки своего отношения к изображаемому. Не менее активна в этом смысле и антонимия.
156
А н т о н и м а м и (от греч. anti+onyma — против+имя) в
лексикологии принято называть слова одной части речи, но
противоположные по значению: враг — друг, верх — низ, светлый — темный, громко — тихо, весело — грустно, спешить —
медлить, над — под. В антонимические отношения могут вступать существительные, прилагательные, глаголы, наречия,
лексемы категории состояния и даже предлоги, важно, чтобы
они обозначали качество и имели разные корни (приятный —
неприятный в строгом смысле этого понятия, конечно, не антонимы). Некоторые многозначные слова имеют по нескольку антонимов. Например: добрый — злой, добрый — жадный,
добрый — худой (мир), добрый — плохой (конь) и т.д.
В поэтической речи явление антонимии расширяется за счет
окказиональных слов, имеющих противоположные значения
только в определенном контексте. Если в лермонтовской строке
«Мне грустно оттого, что весело тебе» образная антитеза опирается на антонимию общеязыковую, то противопоставление двух основных персонажей в «Евгении Онегине» живописуется уже при
помощи окказиональной, авторской антонимии:
Они сошлись: волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой...
Синонимы и антонимы ведут себя в поэтическом языке
весьма и весьма свободно, переливаясь друг в друга, меняясь
местами. Как отмечал Ю.М. Лотман, «в предельном случае...
любое слово может стать синонимом (добавлю от себя: и антонимом. — О.Ф.) любого» (Лотман ЮМ. Структура художественного текста. М. 1970. С. 41).
Тартуский исследователь приводит ряд поучительных
примеров такого рода метаморфоз, спровоцированных игрой
на стилистичских вариантах. Так, в «Евгении Онегине»
«...Пушкин, уже смотревший на романтическую структуру глазами реалиста, стремился раскрыть значение романтической системы стиля, перекодируя его в иной стилистический регистр» (там же):
Он мыслит: «Буду ей спаситель.
Не потерплю, чтоб развратитель
Огнем и вздохов и похвал
Младое сердце искушал;
Чтоб червь презренный, ядовитый
Точил лилеи стебелек;
Чтобы двухутренний цветок
Увял еще полураскрытый».
Все это значило, друзья:
С приятелем стреляюсь я.
157
Всячески подчеркивая «разность» между Онегиным и собой как автором-повествователем, Пушкин тем более подчеркивал ее между собой и Ленским, выражавшимся «темно и
вяло», равно как и между Ленским и Онегиным. Конечно, речевой стиль Онегина был ему несравненно ближе, чем выспренние словеса выученика Геттингена. Сравнив Ольгу с луной,
Онегин стилистически шокировал своего романтически настроенного, к тому же влюбленного друга:
...Скажи: которая Татьяна?» —
«Да та, которая грустна
И молчалива, как Светлана,
Вошла и села у окна». —
«Неужто ты влюблен в меньшую?» —
«А что?» — «Я выбрал бы другую,
Когда б я был, как ты, поэт.
В чертах у Ольги жизни нет,
Точь-в-точь в Вандиковой Мадонне:
Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне».
Владимир сухо отвечал
И после во весь путь молчал.
Можно не сомневаться, это пушкинское сравнение незримо присутствует в не менее знаменитом сравнении Лермонтова в поэме «Сашка», уже дозревшего в своей стремительной творческой эволюции к многоголосию Достоевского до стремления «увидеть одно и то же явление с двух точек
зрения»:
Луна катится в зимних облаках,
Как щит варяжский или сыр голландской.
Вот как комментирует его Ю.М. Лотман: «Щит варяжский» и «сыр голландской» (можно отметить антитезу не только лексическую, но и грамматико-стилистическую — торжественное «ий» и разговорное «ой») взаимоэквивалентны, так
как имеют общее значение на уровне реальности (луна)... перед нами две равноправные точки зрения, а значением является не одна из них, а их отношение. Связь цепочек структур
здесь не одно-, а взаимонаправленная. ...Пласт «романтического» стиля («щит варяжский») — не только предмет сниже158
ния и пародирования. Ни тот, ни другой пласт не представляют собой значения в чистом виде: оно возникает в результате
их взаимопроекции.
Подобное построение отражало усложненный образ
действительности... Блестящим примером такого построения является стиль «Героя нашего времени»...» (там же.
С. 55—57).
А н т о н и м ы п о э т и ч е с к и е , в отличие о т а н т о н и м о в о б щ е я з ы к о в ы х , окказиональны, интертекстуальны
и соотносительны; члены антонимической пары, как полной,
так и неполной, могут быть противопоставлены друг другу не
только по семантическому значению, но дополнительно и по
грамматическим, стилистическим и версификационным параметрам (например, как члены рифмы, метрического, строфического, интонационно-синтаксического либо образного
параллелизма).
Как органичная форма антитетического мышления антонимы нередко являют собой д о м и н а н т у и д и о с т и л я
т о г о и л и и н о г о п и с а т е л я . В творчестве Марины Цветаевой, например, антонимия играет просто беспрецедентную роль. Поэтесса использует как естественно-языковые
антонимические пары («Полюбил богатый бедную...»), так
и индивидуально-авторские, окказиональные, достигающие
порой необыкновенной выразительной силы.
В 1933 г. Цветаева пишет цикл стихотворений под названием «Стол». В его художественной системе письменный
стол поэта оказывается антонимичным обеденному столу
обывателей. Романтическая антитеза «поэт — толпа, творец — потребители» пронизывает собой буквально каждую
строфу, а то и каждый стих:
Квиты: вами я объедена,
Мною — живописаны.
Вас положат — на обеденный,
А меня — на письменный.
Вы — с оливками, я с рифмами,
С пикулем, я — с дактилем...
Каплуном-то вместо голубя —
Порх! — душа — при вскрытии.
Вы — с отрыжками, я — с книжками, А меня положат — голую:
Два крыла — прикрытием.
С трюфелем, я — с грифелем,
Во второй строфе, вопреки заданной перекрестной рифмовке, в страстных, пассионарных выкриках антонимические
пары располагаются в каждой строке, образуя внутренние
жестоко враждующие по смыслу созвучия.
159
В третьей строфе возникает парадоксальный образ каплуна, кастрированного, откормленного для гурманов петуха, в которого превратилась душа обывателя, также антонимически соотнесенный с голубем, традиционным символом святости и духовности.
Нет практически в этом тексте ни одного слова, свободного от ведущей образной антитезы!
Принцип образного со(противо)поставления, создающий
в поэтическом тексте поле напряженной семантической активности, нестандартных структурных ситуаций, допускает не только в з а и м о п е р е х о д с и н о н и м и и и а н т о н и м и и , ной «беззаконное» н е р а в е н с т в о с л о в а с а м о му с е б е . В маленькой трагедии Пушкина «Моцарт и
Сальери» после кульминационной сцены отравления главные действующие лица обмениваются репликами:
Моцарт
...Янын че нездоров,
Сальери
До свиданья.
Мне что-то тяжело; пойду засну.
Прощай же!
(один)
Ты заснешь
Надолго, Моцарт!.
Смысловой акцент принимают на себя синонимические
обиходные выражения, принятые при расставании: «Прощай
же/» и «До свиданья». Обычно мы говорим «До свиданья»,
если расстаемся ненадолго (буквально откладываем дела или
несказанные слова до следующей встречи); выражение «Прощай» восходит к христианскому обычаю, расставаясь надолго, а то и навсегда, попросить прощение у собеседника за вольные или невольные прегрешения перед ним (на что иногда находится клишированный ответ: «Бог простит»). Но обратим
внимание на то, как Пушкин распределил эти выражения
между персонажами.
Моцарт, который, почувствовав недомогание, отправляется домой, чтобы прилечь и заснуть (набраться сил), должен,
по логике вещей, рассчитывать на скорую встречу и ему следовало бы сказать: «До свиданья». Наоборот, Сальери, отравивший Моцарта, наверняка зная, что в этой жизни он уже
никогда не увидит своего друга, мог бы воспользоваться также более уместной формулировкой: «Прощай» или подобно
лирическому герою Иосифа Бродского парадоксальным неологизмом «До несвиданья в Раю ли, в Аду ли...» («Памяти
Т.Б.», 1968). Но Пушкин поступил, казалось бы, вопреки оче160
видности, руководствуясь скорее всего иной, более глубокой
художественной логикой.
Моцарт — гений, он обладает даром предвидения. Написанный им Реквием, не являющийся за ним заказчик, Черный человек, тяжелые предчувствия, томящие его последнее
время, наконец, внятные ему муки зависти, которые не в силах скрыть Сальери, — все это заставляет его сказать свое
«Прощай». Он, жертва, просит прощения у своего палача за
свой светоносный талант, доставшийся ему даром, за титанический труд посредственности, не приносящий Сальери удовлетворения, за внушенное ему искушение совершить суд, взяв
на себя функции Всевышнего, мало ли еще за что!
Но и Сальери произносит свое «До свиданья» не из суперосторожности, не из лицемирия и даже не автоматически,
по привычке, а имея в виду, вероятнее всего, неизбежную
встречу по ту сторону жизни, где все тайное становится явным и каждому воздается по заслугам. (Оба выражения
«Прощай же!», «До свиданья!» сдублированы Пушкиным в
«Борисе Годунове», где Шуйский, прощаясь с Пушкиным,
на которого завтра же донесет царю, подхватывает его «Прощай» и добавляет свое лукавое «До свиданья», и в «Каменном госте», где, вырвав у Донны Анны поцелуй и услышав
стук в дверь, Дон Гуан наспех прощается с ней: «Прощай
же, до свиданья, друг мой милый»...)
Так синонимы в поэтическом контексте обращаются в антонимы. Но и это еще не все. В антонимические отношения вовлекается одно и то же слово, дважды произнесенное, сначала Моцартом, а затем Сальери, в прямо противоположном смысле. «Пойду
засну», — говорит Моцарт, намереваясь преодолеть недуг, набраться здоровья. «Ты заснешь надолго, Моцарт!» — отвечает ему
Сальери, оставшись один, что в его устах означает: заснешь и не
проснешься, заснешь навсегда, т.е. умрешь (именно в этом смысле употребляется расхожий эмфемизм «почить»).
Омонимия и ее разновидности.
Морфологические вариации слов
Слова или формы слов, тождественные по звучанию и написанию, но совсем различные по значению, называются
6—3039
161
о м о н и м а м и (отгреч. homos+onyma — одинаковый+имя).
Омонимия бывает п о л н о й и ч а с т и ч н о й .
П о л н ы е о м о н и м ы совпадают и по написанию, и по
звучанию, например, град — вид Осадков и град — старославянское обозначение города: «Красуйся, град Петра, и стой /
Неколебимо, как Россия!» (Пушкин, «Медный всадник»);
коса — сельскохозяйственное орудие («Коси, коса, пока
роса!..», Твардовский), коса — узкая полоска суши, отмель и
коса — сплетенные пряди волос («Синенькая юбочка, / Ленточка в косе...», А. Барто). Причины возникновения омонимов весьма разнообразны. Это и 1) действие фонетических изменений: лук — оружие (Iak) и лук — огородное или дикое растение (Iuk); и 2) совпадение в звучании, а затем и в русском
написании слов исконных и заимствованных: клуб (пара) и
клуб — организация по интересам (от англ. club) или, по аналогии, клуб — культурно-просветительское учреждение; и
3) совпадение заимствованных из разных языков слов, впоследствии обрусевших: кран (подъемный — от нем. khran) и
кран (водопроводный — от голланд. kraan), и 4) заимствование уже готовых иноязычных омонимов: колонна — архитектурная деталь и колонна — выстроенная для марша совокупность людей; и 5) результат семантического развития того или
иного слова: мир — антоним войне, мир — Вселенная, мир —
крестьянская община.
Особую разновидность омонимов составляют одинаковые,
но неравнозначные слова старославянского и русского происхождения . « И он послушно в путь потек...» — читаем мы в пушкинском «Анчаре», где потек — не метафора, а форма старославянского слова течь в прямом значении идти. Точно так же
впереводеП.Катенинарасиновской «Эсфири»: «Устамои,сердце и весь мой живот / Подателя благ мне да Господа славят...»
славянизм живот означает не часть тела, как его русский двойник, а жизнь. Однако контекст провоцирует на превратно-комическое истолкование, на что не преминул обратить внимание
дотошный критик А. Бестужев: «Переводчик хотел украсить
Расина; у него даже животом славят Всевышнего. ...Трудно
поверить, что еврейские девы были чревовещательницами; но
в переносном смысле принять его нельзя, ибо поющая израильтянка исчисляет здесь свои члены» («Сын Отечества». 1819.
Ч. 51. №3.17 января. С. 114—115).
Наряду с полными различают три разновидности
неполных омонимов: омофоны, омографы и
омоформы.
162
О м о ф о н а м и называют слова разные по написанию и
значению, но одинаковые по звучанию. Например: плод —
плот, порог — порок, док — дог, столп — столб, грусть —
груздь, умалять — умолять, полоскать — поласкать,
волы — валы.
О м о г р а ф ы — слова разные по звучанию и значению,
но одинаковые по написанию (впрочем, иной раз, актуализируя значение, мы все же проставляем ударение): орган — часть
организма или в советскую эпоху периодическое печатное издание той или иной организации и орган — музыкальный
инструмент в католическом храме или концертном зале;
мука — размолотое для выпечки хлеба зерно и мука — мучение; замок — запор для дверей и замок — укрепленное
жилище средневекового рыцаря.
Наконец, о м о ф о р м ы представляют собой слова, совпадающие в звучании и написании лишь в одной или нескольких формах, но различающиеся в других; обычно они принадлежат к разным частям речи: простой — перерыв в работе (существительное) и простой — определенное качество
(прилагательное); как нетрудно убедиться, они совпадают
только в двух падежах — именительном и частично винительном (для прилагательных, обозначающих неодушевленные предметы: «Я нашел простой выход»).
Омонимы, омофоны, омографы и омоформы п р о в о ц и р у ю т а к т и в н у ю и г р у с л о в и поэтому широко применяются при всякого рода к а л а м б у р н ы х э ф ф е к т а х . Открывая вторую главу «Евгения Онегина» эпиграфом, Пушкин
остроумно сталкивает цитату из Горация «О rus!..» (в пер. с
лат. — «О деревня!») и созвучное ему русское восклицание:
«О Русь!», исподволь внушая читателю мысль, что истинная
Русь — деревенская.
В «Бесприданнице» А.Н. Островского заглавная героиня, отказавшись от Карандышева, покинутая Паратовым,
переживает жестокую душевную катастрофу. Личность раздавлена в ней. Лариса в отчаянии думает о самоубийстве.
Не в силах сама наложить на себя руки, она сознательно доводит до бешенства Карандышева при помощи каламбура:
« К а р а н д ы ш е в . Они не смотрят на вас как на женщину,
как на человека, человек сам располагает своей судьбой; они
смотрят на вас, как на вещь. Ну, если вы вещь, — это другое
дело. Вещь, конечно, принадлежит тому, кто ее выиграл, вещь
и обижаться не может.
163
тате статистического обсчета, укоренен в сложное системное
единство сопредельных ему структурных элементов всего произведения. Тот или иной типический образ, характер живет в
окружении других образов и характеров, дружественных или
враждебных ему, вступая с ними в неоднозначные взаимоотношения, действует в определенных обстоятельствах, используя или преодолевая их, благодаря чему и получает жизненную достоверность. Стоит ли поэтому удивляться, что «типическим может быть и странное, удивительное, нелогичное.
В « Мертвых душах » Чичикова приняли за переодетого Наполеона. Это не фантастическое измышление. Князь П.А. Вяземский расказывал, что после войны 1812 г. на одной из почтовых станций висел портрет Наполеона. На вопрос:
— Зачем ты держишь на стене этого негодяя?
— А затем, — отвечает смотритель, — чтобы в случае, если
он явится на станцию под ложным именем и спросит лошадей
по чужой подорожной, задержал его по силе примет...
Сама российская действительность была так богата алогизмами, нелепостями, что типическую нелепость можно
было найти буквально на дороге» (там же. С. 538). К меткому замечанию исследователя можно лишь добавить, что
профиль Наполеона имел Германн из «Пиковой дамы», примеривался к облику французского императора, очевидно, и
Евгений Онегин, хранивший в своем кабинете «...столбик с
куклою чугунной / Под шляпой, с пасмурным челом, /
С руками, сжатыми крестом...», и даже прозябающий в нищете Родион Раскольников, создавая свою теорию, мысленно равнялся на того, на кого хотели походить все честолюбцы того времени, — попробуй распознай среди них инкогнито!
Способы х у д о ж е с т в е н н о г о о б о б щ е н и я пос р е д с т в о м т и п и з а ц и и отличаются чрезвычайным многообразием. Все зависит от творческой индивидуальности автора, от приверженности его тому или иному типу творчества,
тем или иным стилистическим и методологическим установкам, родовой, жанровой и структурной принадлежности его
произведений.
Наиболее отличны в этом смысле произведения тех писателей, которые руководствуются разными принципами
анализа явлений действительности и их художественного отбора: одни вполне доверяются тому материалу, который
предоставила им сама жизнь, и, создавая типический образ,
отталкиваются от единичного «прототипа», вобравшего в
104
себя, как им представляется, не только присущее ему индивидуальное, но и свойственное многим людям того же ряда
общее. Таковы прежде всего образы исторических личностей, заведомо реальных людей (Ганнибал в «Арапе Петра
Великого», Борис Годунов и Самозванец в трагедии Пушкина, Наполеон, Кутузов, Багратион, Денисов в «Войне и мире»
Толстого), автобиографические персонажи (трилогия Толстого «Детство», «Отрочество» и «Юность»), лирические герои
некоторых поэтов с подчеркнуто субъективным вйдением
мира (Катулл, Вийон, Петрарка, Лермонтов, Маяковский,
Есенин).
К единичному, т.е. отнюдь не массовому прототипу могут
восходить литературные персонажи, получившие впоследствии громкую популярность и репутацию героев своего времени: это и уже упомянутый Жюльен Соре ль из «Красного и
черного» Стендаля, и Шарлотта из «Страданий юного Вертера» Гёте, и тургеневский Базаров, и толстовская Наташа Ростова, и булгаковская Маргарита. Правда, каждый раз нам
приходится делать оговорку: к базовым личностным качествам использованных писателями прототипов были добавлены реальные или вымышленные характерные черты их современников.
Другой, противоположный способ типизации детально, со
знанием дела описан М. Горьким: «Как строятся типы в литературе? Они строятся, конечно, не портретно, не берут определенно какого-нибудь человека, а берут 30—50 человек одной линии, одного ряда, одного настроения и из них создают
Обломова, Онегина, Фауста, Гамлета, Отелло и др. Все это обобщенные типы. ...Бог создан так же, как создаются литературные «типы» по законам абстракции и конкретизации. «Абстрагируются» — выделяются характерные подвиги многих героев, затем эти черты «конкретизируются» — обобщаются в
виде одного героя, скажем, Геркулеса или рязанского мужика Ильи Муромца; выделяются черты, наиболее естественные
в каждом купце, дворянине, мужике, т.е. получается «литературный тип»... Таких людей, каковы перечисленные (Гамлет, Фауст, Дон Кихот, Каратаев, Карамазовы, Обломов. —
О.Ф.), в жизни не было; были и есть подобные им, гораздо более мелкие, менее цельные, и вот из них, мелких, как башни
или колокольни из кирпичей, художники слова додумали,
«вымыслили» обобщающие «типы» людей» (Горький М.
Как я учился писать//Горький о литературе. M., 1961.
С. 129—131).
105
Как правило, образы, созданные таким путем, отличаются большей степенью обобщения и меньшей степенью индивидуализации. Например, с одной стороны, имеющий единичного протитипа образ Гриши Добросклонова в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» и, с другой стороны, образы
семи сказочных искателей счастья, составляющие в совокупности некий коллективный образ простого русского народа.
Мало чем отличаются один от другого не только «два братана
Губины», но и, казалось бы, «утюжащие друг друга» антагонисты — «и Пров, и Митрофан». Точно так же только возрастом отличаются братья-богатыри из пушкинской «Сказки о
мертвой царевне и о семи богатырях», и уж совсем неразличимы тридцать три богатыря из «Сказки о царе Салтане».
Предельной степени обобщенности при полном растворении индивидуально-личностного начала достигает массовидные образы лирического «Мы» в поэзии Пролеткульта и «железного потока» в одноименном романе Серафимовича.
Впрочем, выделенные здесь крайности редко встречаются
в чистом виде. Гораздо чаще они сходятся. Правильнее поэтому говорить об общей тенденции, о преобладании одного из
двух способов и дополнительном использовании другого.
Пожалуй, с наибольшей четкостью и полнотой процесс построения типического художественного образа был описан
Н.А. Добролюбовым: «Художник не пластинка для фотографии, отражающая только настоящий момент: тогда бы в художественных произведениях и жизни не было и смысла не
было. Художник дополняет отрывочность схваченного своим
творческим чувством, обобщает в душе своей частичные явления, создает одно стройное целое из разрозненных черт, находит живую связь и последовательность в бессвязных, по-видимому, явлениях, сливает и перерабатывает в общность свое
миросозерцание и разнообразные и противоречивые стороны
действительности» (Добролюбов НА. Собр. соч.: В 9 т. M.,
1963. Т. 7. С. 233—234).
Точно так же обстоит дело и с другой оппозицией в принципах типизации образной структуры « ж и з н е п о д о б и е —
у с л о в н о с т ь » . Иной раз они могут запросто встретиться в
рамках одного произведения. В романе М. Булгакова «Мастер
и Маргарита» сложно переплетены несколько образных систем, обусловленных взаимодействием трех пространственновременных планов: 1) нэповская Москва (с двумя эпизодическими выходами в Ялту и Киев); 2) Галилея нач. 30-х гг. от
Р.Х.; 3) вечная жизнь вне реального времени и пространства.
106
Поэтому наряду с жизненно узнаваемыми образами москвичей в сюжетных перипетиях участвуют мифологические образы жителей древнего Ершалаима и фантастические порождения мировой демонологии (Воланд и вся его зловеще-развеселая свита). Полученный в результате «образный коктейль»
с поразительным эффектом передает фантасмагорическую атмосферу реальных жизненных коллизий, деформированных и
искаженных разгулом бесовщины при большевистском режиме.
Существенную разницу в технологию образного мышления вносили и далеко не одинаковые эстетические концепции
эпохальных этапов в развитии мировой литературы: «Так, по
Аристотелю, искусство воссоздает « в е р о я т н о е » , возможное; теоретики классицизма выдвигают тезис об « о б р а з ц о в о с т и » художественного образа; эстетика Просвещения
ставит на первый план идею « н о р м а л ь н о с т и » , «естественного» как основы искусства; с точки зрения Гегеля, искусство творит образы « и д е а л ь н ы х » в своем роде явлений («идеальное» здесь означает, конечно, не оценку, а наибольшую
развитость возможностей). В смене понятий отражаются в известной мере этапы развития и эстетики и самого искусства.
Однако определяющим понятие типического становится лишь
в эстетике XIX века (В.Г. Белинский, И. Тэн, Г. Брандес и
др.), связанной с реалистическим искусством» (Кожинов В.В.
Типическое// Литературный энциклопедический словарь.М.,
1987. С.440). Эта особая значимость типического для искусства реализма, по мнению исследователя, отмечена в известном высказывании Ф. Энгельса: «На мой взгляд, реализм предполагает, помимо правдивости деталей, п р а в д и в о е в о с произведение
типичных
характеров
в
т и п и ч н ы х о б с т о я т е л ь с т в а х » (Маркс if. и Энгельс Ф.
Соч.: 2-е изд. Т. 37. С. 35).
Высшую форму типического образа в искусстве представляет х а р а к т е р (отгреч.charakter—отпечаток,признак,отличительная черта), под которым обычно понимается «присущий исторической обстановке изображенный в произведении писателем тип человеческого поведения (поступков, мыслей,
переживаний), преобразованный соответственно эстетическим
нормам писателя» (Тимофеев JIJi. Основы теории литературы:
2-е изд. M., 1963. С. 141).
Согласно аргументированным доводам С.Г. Бочарова, характер в жизни далеко не тождествен характеру в литературе, предстающему как единство общего и индивидуального в
человеческом образе: «Художественный характер, отражая
107
реальный человеческий тип, развивает его и тем самым берет
на себя работу действительности» (Бочаров С.Г. Характеры и
обстоятельства//Теория литературы. Основные проблемы в
историческом освещении. M., 1962. Кн. 1. С. 317). Иными
словами, мы сталкиваемся здесь с парадоксальным феноменом опережающего развития художественного образа по сравнению с породившим его жизненным явлением. Так, характер «лишнего человека» возник сперва в литературе (Чацкий,
Онегин, Печорин, Лаврецкий), а уже потом нашел реальное
подтверждение в жизни. Показательно проницательное суждение Л. Толстого о женских образах Тургенева: «Может быть,
таковых, как он писал, и не было, но когда он написал их, они
появились, это верно; я сам потом наблюдал тургеневских
женщин в жизни». И «лишние люди», и « тургеневские девушки », конечно же, существовали в России, но как бы в «разжиженном» виде. Писатели исследовали эти реальные характеры и придали им недостающую законченность, т.е. в известном смысле произвели работу пчелы, собирающей пыльцу со
многих цветов и преобразующей ее в мед. Ни один цветок на
вкус не достигает концентрации меда, но то, что мед собран с
цветов, не вызывает сомнения.
Как только художественный характер становится общественным достоянием, он приобретает естественную способность обратного воздействия на породившую его действительность. Многочисленные прототипы Лизы Калитиной, прочитав
фактически о самих же себе, но в художественно преображенном виде, доведенном до высоких и привлекательных кондиций, вольно или невольно стараются ей подражать, т.е. усиливать в себе то, что уловил и усилил Тургенев, после чего JL Толстой и узнает их не только в литературе, но и в жизни.
Но, конечно, самая ответственная и объемная фаза работы над художественным образом — это его н е п о с р е д с т в е н н о е в о п л о щ е ни е. Художественный образ не равнодействующая набивших оскомину в устах нерадивых
школьников «характерных черт» и тем более не полный перечень характеристик, как у «среднего американца».
Во-первых, художественный о б р а з — это с г у щ е н н а я
м о д е л ь и з о б р а ж а е м о г о я в л е н и я , поскольку поэзия
есть «квинтэссенция жизни», по Белинскому, и «сокращенная вселенная», по Щедрину. Если бы Гоголь, изображая кучу
хлама в углу горницы Плюшкина, представил читателю полный реестр содержащихся в ней предметов, мы бы, конечно,
не получили ее адекватного образного эквивалента. Столь эле108
ментарный, наивно-непосредственный подход к описанию
множественных объектов, впрочем, был характерен для архаических форм художественного мышления. Вспомним длиннейший список кораблей ахейцев, приплывших к берегам Tpoады, который лишь наполовину смог одолеть лирический герой О. Мандельштама! Еще выразительнее в этом смысле
родословная Христа в Новом Завете, Евангелиях от Марка и
от Матфея (старательно, без изъятия перечисляются все сорок
колен!).
Гоголь поступил иначе. Он выхватил из кучи взглядом
лишь два наиболее характерных, по его мнению, предмета:
«отломленный кусок деревянной лопаты и старую подошву сапога» (сославшись на невозможность решить, «что именно находилось в куче», «ибо пыли на ней было в таком изобилии,
что руки всякого касавшегося становились похожими на перчатки») — и мы получили представление обо всей куче. В ходе
дальнейшего повествования проясняется история ее происхождения и заодно увеличивается набор упомянутых предметов:»...он ходил еще каждый день по улицам своей деревни,
заглядывал под мостики, под перекладины и все, что ни попадалось ему: старая подошва, бабья тряпка, железный гвоздь,
глиняный черепок, — все тащил к себе и складывал в ту кучу,
которую Чичиков заметил в углу комнаты. «Вон уже рыболов
пошел на охоту!» — говорили мужики, когда видели его, идущего на добычу. И в самом деле, после него незачем было мести улицу: случилось проезжему офицеру потерять шпору,
шпора эта мигом отправлялась в известную кучу; если баба,
как-нибудь зазевавшись у колодца, позабывала ведро, он утаскивал и ведро» (гл. 6).
Во-вторых, художественный о б р а з п р е д п о л а г а е т
а к т у а л и з а ц и ю о п р е д е л е н н ы х к а ч е с т в или
с в о й с т в путем преувеличения или, наоборот, преуменьшения их рядом с другими. Подчеркивая, утрируя, например,
красноречивость Чацкого, лень Обломова или скупость Плюшкина, писатели, выделяя в них самое существенное, наделяют эти характеры доминантными признаками, составляющими их основополагающий пафос, выражая тем самым свою
авторскую тенденцию. Плюшкин, в точном смысле истолкования этого образа, не столько человек, сколько отношение к
человеку («прореха на человечестве»!).
Конечно, скупость Плюшкина преувеличена до исполинских размеров. В реальной жизни таких людей не бывает. Но
мы легко принимаем эту условность, потому что за ней стоит
109
определенность характера. Гоголь мог бы дать своему герою и
более подробную характеристику, но тогда в сложной пестроте дополнительных черт, черточек и штрихов затерялась, померкла бы основная, доминирующая. Демонстративное утрирование чего-либо одного за счет всего прочего, остального,
сознательный отказ от богатства и противоречивости человеческой натуры при ее изображении — отличительные признаки художественной системы классицизма. С т а т и ч н о с т ь
и неизменность классицистического характер а способствовали его однотонности, концентрированному
сгущению какой-то одной господствующей страсти (в трагедии — гордости, любви, мщения, в комедии — скупости, тщеславия, ревности).
Иными принципами руководствовались представители
р е а л и з м а , строившие х у д о ж е с т в е н н ы й х а р а к т е р
как сложную, противоречивую, детерминированную разнообразными жизненными обстоя т е л ь с т в а м и с и с т е м у , в которой, однако, доминирующие черты не растворялись во второстепенных.
Элементы стихийно-реалистического жизнеподобия, несомненно присутствовавшие в дореалистических художественных системах (например, в античной, древнерусской, ренессансной и просветительской литературе) в немалой мере способствовали применению в характерологии принципа
полифонического равновесия. Широко известный отзыв Пушкина о том, что «лица, созданные Шекспиром, не суть, как у
Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока, но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков. ..» — убедительное тому подтверждение.
И, наоборот, писатели-реалисты, как в данном случае Гоголь, утрирующий скупость Плюшкина, или поступающий
аналогичным образом Бальзак в «Отце Горио», с исключительным художественным эффектом использовали приемы классицистической характерологии, особенно в сатирических целях.
При этом оба писателя, русский и французский, тщательнейше обосновывают развитие столь гипертрофированной скупости своих персонажей.
Художественная актуализация существенных черт человеческого характера, как уже отмечалось, может быть достигнута и прямо противоположным путем: не преувеличением, а
преуменьшением. Классический пример такой структурной
«рокировки» — сатирический роман Дж. Свифта «Путешествия Гулливера». Изображая ничтожное лиллипутское госу110
дарство, писатель преуменьшает действительность в масштабе 1:12. Соответственно «минимизируются» и некоторые формы общественно-политической жизни лилипутов: каждый
житель страны не превышает размеров человеческого мизинца; выше всех остальных король, примерно на ноготь, придворные лизоблюды величают его по этой причине «Отрада и Ужас
Вселенной».
Успешной художественной реализации литературного образа в значительной степени способствует д е т а л ь (от фр.
detail — мелочь, подробность). Но она не просто подробность,
с которой мы имеем дело в художественных системах, ставящих во главу угла описательность (обилие подробностей затормаживает действие, затуманивает изображение, отвлекает внимание от главного). Художественная деталь — это и н дивидуальный признак, конкретная черта,
н е к о е е д и н и ч н о е я в л е н и е или штрих целого как одно
из выражений образной формы искусства. Деталь, подобно
синекдохе, выражая через часть весь предмет или полную совокупность предметов, призвана активизировать наше восприятие, стимулировать наши сотворческие возможности. Всматриваясь в детали, мы включаем дремлющие в нас ассоциативные навыки, угадываем намеки писателя и значительно
расширяем предложенную нам образную картину.
«Анна Каренина» — переломное произведение в творчестве Толстого. «Пушкинский» динамизм в экспозиции и завязке повлек за собой конструктивные изменения всей образной системы романа, который И. Бунин брался путем дальнейшего сокращения сделать самым совершенным
произведением во всей мировой литературе. Емкость и концентрированность его содержания в значительной мере явились результатом необычайно интенсивного и эффективного
использования деталей.
Действие, как мы помним, начинается с грандиозного
скандала в доме Облонских. Глава семьи Степан Аркадьевич,
которого в свете все ласково именуют Стива, смертельно оскорбил свою жену Долли. Уличенный в супружеской измене,
да не с кем-нибудь, а с француженкой, гувернанткой его собственных детей, он просыпается не в супружеской постели, а
на кожаном диванчике в кабинете. Пробудившись, Степан
Аркадьевич первым делом старается восстановить в памяти
довольно фривольный сон, только что приснившийся ему, не
то о дамах в виде графинчиков, не то о графинчиках в виде
дам. Совершив туалет с помощью своего верного камердинера
111
и услышав от него ободряющее «Все образуется!», он направляется в покои жены, «подрагивая ногами на каждом шагу».
Казалось бы, что тут особенного: приснился человеку забавный сон, он его старается вспомнить и идет к жене, как бы
сказать помягче, соответствующей его настроению походкой. Но приглядевшись попристальней, мы убеждаемся, что
имеем дело не с подробностями, а с весьма выразительными
художественными деталями. В них просвечивает обескураживающе легкое, снисходительное отношение к жизни, к
другим людям, к самому себе. Подрагивающие ляжки разоблачают в нем жирное самодовольство человека, привыкшего только брать, срывать цветы удовольствий, оставаясь
при этом добрым, приятным и удивительно свойским Огивой Облонским.
Но вот приезжает его сестра Анна Аркадьевна. Приезжает, чтобы примирить брата с его несчастной женой. Едва героиня входит в дом, первыми к ней бросаются многочисленные
дети Облонских. Они бегут наперегонки, каждый — в безотчетном стремлении первым прикоснуться к тетке. Анна обняла и повалила на ковер всю эту копошащуюся массу. Перед
нами еще одна впечатляющая художественная деталь, апеллирующая к нашему житейскому опыту: детей не обманешь,
они инстинктивно чувствуют внутреннюю суть человека, тянутся к доброму и чураются злого. Мы еще почти ничего не
знаем о героине, но отношение к ней детей мягко и ненавязчиво заранее располагает нас к ней.
В дальнейшем мы знакомимся и с ее сановным мужем Карениным. Описывая внешность Алексея Александровича, Толстой задерживает внимание на его оттопыренных ушах и манере говорить, делая произвольные ударения и твердо выговаривая слова. Эти детали внешности и поведения героя
повторяются потом неоднократно, сопровождая его на протяжении всего действия. Детали такого рода называют обычно
п о в т о р я ю щ и м и с я или п о с т о я н н ы м и . Неоднократное возвращение к ним в данном случае более чем оправдано:
оттопыренные уши, пропущенные через восприятие Анны, с
одной стороны, тайный знак накопившейся в ней физической
неприязни к нелюбимому мужу, с другой стороны, часто вспоминая о них, автор выражает тем самым свою солидарность с
героиней, наконец, в-третьих, он незаметным образом внушает
ее и нам, читателям. Манера твердо выговаривать слова с подчеркнуто произвольной акцентуацией красноречиво свидетельствует о профессиональной ораторской подготовке круп112
ного государственного чиновника, любящего и умеющего говорить публично, чуждого рефлексии, не привыкшего к возражениям. Поэтому он не говорит, а вещает даже в интимном
разговоре с женой, что производит иногда комическое, иногда трагикомическое впечатление...
При всем разнообразии приемов введения в литературное
произведение детали основной критерий ее художественности — е с т е с т в е н н о с т ь . Она должна «выскакивать» как бы
сама собой, без натуги, без принуждения. Разумеется, детализация не может и не должна заменить собой другие приемы
создания художественного образа, как, скажем, специи не
могут и не должны устранить из супа... бульон.
Типология образов
Поэтический мир художественного произведения — мир
образный или, если выразиться точнее, представляет собой образную систему. Каждый элемент данной системы — отдельный художественный образ — занимает свое строго определенное место в образной типологии, чрезвычайно разветвленной
и многоразличной, как сама изображаемая жизнь.
Поскольку главным предметом художественного изображения и выражения является человек, стоящий к тому же в
самом центре поэтической вселенной, первостепенное значение в образной номенклатуре имеют, конечно, образы людей.
Будучи одновременно объектом и субъектом, адресантом и
адресатом литературно-художественного творчества, человек
получает исключительно широкий ассортимент своих образных воплощений. Он может быть персонажем, образом автора и образом читателя.
Под персонажем (от фр. personnage; от лат. persona —
лицо, маска), в строгом смысле этого термина, следует понимать разновидность художественного образа действующего
лица, наделенного внешней и внутренней индивидуальностью. Общий синонимический ряд: персонаж и действующее лицо дополняет не менее популярное словосочетание
л и т е р а т у р н ы й г е р о й . Оно возникло в античные времена под влиянием древнегреческой мифологии, поставлявшей литературе в качестве персонажей наряду с богами и
113
титанами так называемых героев, потомков смешанных браков, тоже своего рода «кентавров»: полубогов-полулюдей.
Первородные герои получали от своих божественных родителей бессмертие и лишиться его могли только при очень
экстраординарных обстоятельствах (Геракл). Последующие
поколения больше напоминали своих земных родителей, а
бессмертие могли сохранить или обрести лишь ценой отказа от чего-то очень дорогого, например, воинской славы
(Ахиллес) или родины (Одиссей).
В дальнейшем, в процессе последовательного «очеловечивания» предмета искусства, социальный статус литературных
персонажей, как уже отмечалось (см. тема 4), закономерно понижался, но их, подчиняясь традиции, продолжали именовать
героями, даже если они находились в самом низу общественной пирамиды (Башмачкин или тот же Плюшкин — ну какие
ж они герои!).
Конечно, выбирая оптимальный терминологический выриант из трех выше перечисленных, мы предпочитаем называть « г е р о я м и » образы людей, наделенных высоким положительным содержанием, а « п е р с о н а ж а м и » или « д е й с т в у ю щ и м и л и ц а м и » — всех остальных. Два последних
термина представляются более нейтральными, не несущими
в себе неуместного оценочного начала. Впрочем, в современном литературоведческом лексиконе все более и более активно функционирует и понятие «антигероя» (термин, введенный
еще Достоевским в «Записках из подполья») с довольно широкой гаммой функциональных нюансов (Гальцева P Л., Роднянекая И.Б. Антигерой//ЛЭС. С. 28—29).
С античных же времен утвердилась традиция равноценной
замены человека на животное, насекомое, природное явление
либо неодушевленный предмет в значении человека. Разнообразные превращения (метаморфозы) составляли одну из доминирующих особенностей мифологического сознания. Ведь даже
на бытовом уровне древние эллины не делали существенных
различий между человеческим, животным и предметным миром. Античные законники запросто могли осудить не только
человека, но и собаку, лошадь, осла или... камень, ставших орудием нечаянного убийства! «Метаморфозы» Овидия и «Золотой
осел» Апулея откликнулись впоследствии в шекспировском
«Сне в летнюю ночь» и в гётевском «Фаусте», в гоголевских
«Вечерах на хуторе близ Диканьки» и в булгаковских «Роковых яйцах », « Собачьем сердце », « Мастере и Маргарите », в апдайковском «Кентавре» и айтматовской «Плахе».
114
Наше отношение к персонажу зиждется не только на том,
что о нем сказано в произведении, но в не меньшей степени и
на том, как сказано и как показано. Иными словами, любой
персонаж проживает в отведенном ему художественном мире
«сам по себе», в своих поступках, словах, мыслях и чувствах,
и в отношении к нему других персонажей и, самое главное,
автора. В системе положительных и отрицательных персонажей, в их расстановке автор так или иначе воплощает свою
концепцию личности. Вместе с тем, как уже было сказано,
реалистический персонаж сохраняет за собой право на независимый образ действий и, следовательно, на относительный
суверенитет.
По отношению к конфликту и основному действию персонажи бывают г л а в н ы м и ( з а г л а в н ы м и ) , в т о р о с т е пенными, эпизодическими и внесценическим и. Последние лишь упоминаются автором или другими персонажами, не участвуя в действии непосредственно, но их
фактическая роль и данная им характеристика должны быть
достаточно важными и полными. Так, только раз упомянутая
в «Горе от ума» Татьяна Юрьевна на статус персонажа просто
не тянет, а активно действующий за сценой Зевс в «Прометее
Прикованном» Эсхила — прямой антагонист Прометея, т.е.
один из двух главных персонажей трагедии, хотя зритель его
и не видит.
О б р а з п е р с о н а ж а , в свою очередь, соединяет в себе
частные образные подразделения, ибо складывается из
в н е ш н е й и в н у т р е н н е й х а р а к т е р и с т и к. Внешняя
характеристика, или портрет (от фр. portraire — изображать),
предполагает описание лица, фигуры, особенно рук, походки,
манеры себя держать, одеваться и т.д. Она служит действенным средством объективации человеческого образа и выражения субъективного отношения к нему писателя. Детали портрета наделяют изображаемое лицо индивидуальной «изюминкой» (усики маленькой княгини Болконской, прекрасные
глаза княжны Марьи), нелогичным путем, почти на уровне
подсознания внушают читателю симпатию или антипатию к
персонажу (большие красные руки Базарова, «скользящий
взгляд», которым Павел Петрович Кирсанов смотрит на Феничку, черная пружинка волос, выбивающаяся из прически
Анны Карениной, оттопыренные уши ее мужа).
Внешняя характеристика персонажей как в фольклоре,
так и в художественной литературе практиковалась с незапамятных времен. Но собственно «портретом» она стала, лишь
115
соединившись с характеристикой внутренней в эпоху Возрождения, когда личностное начало решительно победило аскетическое к нему безразличие, свойственное античности и средневековью. Произошло это не без влияния художественных
открытий бурно прогрессировавшей ренессансной живописи
(закона прямой перспективы и психологизма в собственно портрете). В эпоху классицизма портрет использовался для подтверждения законности того места, которое персонаж занимал
в иерархической пирамиде общества. Просветители пытались с его помощью соизмерить присутствие и соотношение в
персонаже естественного и разумного начал. Романтики ценили в портрете исключительного героя гротескное сочетание
несочетаемого. В реалистической литературе XIX—XX вв.
портрет приобрел универсальное детерминирующее значение,
указывая на социальную принадлежность персонажа, на его
интеллектуальные возможности, нравственные качества, психологическое состояние в изображаемый момент.
Не менее сложным и изощренным арсеналом изобразительно-выразительных средств нужно владеть писателю для
в о п л о щ е н и я д у х о в н о г о мира человека.Ему,оказывается, необходимы не только навыки антрополога, психоаналитика, физиогномиста, этнографа, социолога и пр., но и
прежде всего проницательность художника в высшем смысле
этого слова. Недаром главные открытия в диалектике человеческой души, которые пришлись на XIX век, сделали не ученые-естествоиспытатели, а именно великие писатели-реалисты (Флобер, Толстой, Достоевский).
Человеческие образы фигурируют в литературных произведениях не только в единственном, но и во множественном
числе, как некое ассоциированное сообщество. Здесь наиболее типичны два случая. В небольших по числу участников
коллективах каждый из его членов более или менее индивидуализирован, сохраняя тем самым статус персонажа и значимо соотносясь с другими действующими лицами (князь
Игорь вместе со своим братом «буй-туром» Всеволодом, Дон
Кихот с Санчо Пансой, Иван Иваныч с Иваном Никифоровичем, братья Карамазовы вместе с отцом и Смердяковым, помещики, которых посещает Чичиков). В многочленных суперсообществах, со значительным или неопределенным числом
участников, наоборот, индивидуальные характеристики подавляются общей, коллективной (русские воины в дружинах
Игоря и Всеволода и противостоящие им половцы: и те, и другие живо напоминают условную «чешую» лиц в одинаковых
116
шлемах на рисунках в дренерусских рукописях; столь же монолитно запорожское казачество в «Тарасе Бульбе», в контрастном сопоставлении с польским воинством, где каждый
витязь сам себе на особицу). Во втором случае правильнее говорить не о персонажах, пусть и во множественном числе, а о
собирательном образе народной массы, отдельные представители которой или не выделяются вовсе, как в «Слове о полку
Игореве» и в «Железном потоке», или конкретизируются выборочно, как в «Тарасе Бульбе» и «Войне и мире».
Однако человек живет и действует не только в общественном, но и природном мире. Значительную часть поэтического
мира занимает п е й з а ж (от фр. Paysagef pays — страна, местность) — описание природы или заменяющей, вытесняющей
ее пространственной среды (в урбанистических зарисовках: например, Петербург Достоевского). Пейзаж в литературе, конечно, не тождествен пейзажу в живописи, хотя и связан с ним
генетически. Описания природы, которые мы встречаем в произведениях устного народного творчества или в художественной литературе античности, средневековья и даже эпохи
Возрождения, последовательнее рассматривать как предпосылки собственно литературного пейзажа. Они прагматически лишены эстетического отношения к природе или ее отсутствию и поэтому, выполняя в основном информационную функцию, больше напоминают декорации в шекспировском театре
(вместо реального леса — плакат на палке с соответствующей
надписью!).
В третьей части трилогии Софокла о царе Эдипе «Эдип в
Колоне» мы, казалось бы, имеем исключение из этого правила. Ослепший Эдип, ведомый своей дочерью Антигоной, просит ее рассказать, что она видит, приближаясь к его родному
городу (пригород Афин Колон был, кстати, родиной самого
поэта), и героиня произносит патетический гимн развертывающейся перед путниками местности. Можно лишь подивиться изобретательности престарелого мастера (не забудем, что
впервые пьеса была обнародована им в качестве защитительной речи на судебном процессе, где ему инкриминировалось
завистливым сыном старческое слабоумие). С одной стороны,
он преодолел органически присущий театру запрет на описательность (Антигона рассказывает как бы не зрителю, а слепому отцу). С другой стороны, он дал волю своему патриотическому чувству, восхищаясь красотами родной природы. Но,
тем не менее, и это еще не пейзаж. Описание природы в трагедии лишено эстетической самодостаточности: в устах Анти117
JI a p и с а (глубоко оскорбленная). Вещь... Да, вещь! Они
правы, я вещь, а не человек. Я сейчас убедилась в том, я испытала себя... Я вещь! (С горячностью) Наконец слово найдено,
вы нашли его. Уходите! Прошу вас, оставьте меня!
К а р а н д ы ш е в . Оставить вас? Как я вас оставлю, на кого
я вас оставлю?
JI а р и с а. Всякая вещь должна иметь хозяина, я пойду к
хозяину.
К а р а н д ы ш е в (с жаром). Я беру вас, я ваш хозяин
(хватает ее за руку).
JI а р и с а (оттолкнув его). О нет, каждой вещи своя цена
есть... Ха-ха-ха... Я слишком дорога для вас.
К а р а н д ы ш е в . Что вы говорите! Мог ли я ожидать от
вас таких бесстыдных слов?
JI а р и с а (со слезами). Уж если быть вещью, так одно утешение — быть дорогой, очень дорогой...»
Обращаясь в письме к другу или любимому человеку «Дорогой!» или «Дорогая!», мы, упаси нас боже, даже и не помышляем о его товарной цене, стоимости. Этот человек дорог
нам не материально, а духовно. В словосочетаниях «дорогая вещь» и «дорогой человек» мы имеем дело, по существу,
с антонимами, хотя и выраженными од им и тем же словом.
Точно так же обращение «Бесценный друг!» отнюдь не подразумевает «бесплатный...», а подчеркивает вполне тривиальную мысль о том, что духовную «цену» человека просто
невозможно измерить.
На словах Лариса отождествляет себя с «вещью», но в своих сокровенных мечтах о любви, о счастье она остается человеком, поэтому и говорит о том, что хотела бы быть «дорогой,
очень дорогой» со слезами на глазах. Другое дело — Карандышев, только что бывший свидетелем купли-продажи своей
невесты, которую у него на глазах цинично разыграли «в орлянку» Кнуров и Вожеватов. Слова Ларисы потрясают его своим «бесстыдством» («Каждой вещи своя цена есть.... Я слишком дорога для вас»), в нем оскорблено чувство собственника,
у которого перекупили любимую игрушку за более высокую
цену, хотя в глубине-то души он, конечно, надеялся, что его
будут любить бескорыстно. Лариса добилась своего. Каламбур
сработал. Карандышев нажал на спусковой крючок.
Омонимическая игра слов с необычайной интенсивностью
оживляет речь в поэзии. Иногда это стержневой текстоформирующий образ, саморазвивающаяся метафора, как в стихотворении М. Цветаевой «Рельсы» (1923):
164
В некой разлинованности нотной
Нежась наподобие простынь —
Железнодорожные полотна,
Рельсовая режущая синь!
Иногда это остроумная, приковывающая к себе внимание
рифма, которая чаще всего украшает пуант в сложных строфических построениях типа октавы (А. Пушкин. «Граф Нулин»):
А что же делает супруга
Одна, в отсутствие супруга?
или строфы (А. Пушкин. «Евгений Онегин»):
Защитник вольности и прав
В сем случае совсем не прав.
Своим фирменным коньком считал каламбурные рифмы Дмитрий Минаев:
Область рифм — моя стихия
И легко пишу стихи я.
Без раздумья, без отсрочки
Я бегу от строчки к строчке.
Даже к финским скалам бурым
Обращаюсь с калам буром.
В особом цикле, озаглавленном «Рифмы и каламбуры»
он продемонстрировал незаурядное мастерство в нанизывании омонимов в конце стиховых рядов:
С нею я дошел до садау
И прошла моя досада у
И теперь я весь алею,
Вспомнив темную аллею.
В полуденный зной на Сене
Я искал напрасно сени,
Вспомнив Волгу, где на сене
Лежа, слушал песни Сени:
«Ах, вы, сени мои, сени\..*
Немногим ему уступал и один из самых искусных версификаторов начала XX века Валерий Брюсов:
165
Ты белых лебедей кормила,
Откинув тяжесть черных кос...
Я рядом плыл: сошлись кормила;
Закатный луч был странно кос.
Вдруг лебедей метнулась пара...
Не знаю, чья была вина...
Закат замлел за дымкой пара,
Алея, как поток вина...
Искусство подбирать омонимы, омофоны, омографы и омоформы не приходит само собой; оно есть результат кропотливого труда, изобретательности и целенаправленных тренировок.
В воспоминаниях Владимира Познера рассказывается о довольно любопытном эпизоде из жизни Горького. Обед. Горький «...внезапно прерывает трапезу и с мечтательным меланхолическим видом начинает барабанить пальцами по столу.
Один за другим все присутствующие замолкают и следят за ним
украдкой: какую еще новую штуку он готовит? Но даже самые
недоверчивые видят: Алексей Максимович совершенно серьезен, настолько, что даже перестает барабанить по столу и начинает покручивать усы. Наконец он говорит: «Знаете ли вы, что
банк — муж банки? » Так возникает игра в замужества: чай —
муж чайки, пух — муж пушки, полк — муж полки, ток — муж
точки, нож — муж ножки... Теперь уже несколько дней у всех
наморщены лбы, отсутствующие взгляды, все безмолвно шевелят губами: сосредоточенно отыскивают новые сочетания»
(Москва. 1958. №3. С. 192).
Авторское отношение к изображаемому и речевая характеристика персонажей могут быть эффективнейшим образом выражены с помощью м о р ф о л о г и ч е с к и х в а р и а ц и й тех
или иных слов. Одно из самых нам дорогих слов мать имеет, к
примеру, множество вариаций: мама, мамочка, мамуля, матерь, матушка, мамка, матка, маточка и т.д. Все они имеют разную степень эмоциональной выразительности и стилистической уместности. Так, в названиях горьковского романа,
построенного, как считают некоторые исследователи, по модели евангельского жития, и набоковского стихотворения, главной героиней которого является Богоматерь, адекватно фигурирует самый строгий вариант «Мать»; в названии романа Heксе « Дитте — матерь человеческая» и пьесы Бертольда Брехта
«Мамаша Кураж и ее дети» уместнее оказались другие варианты; наконец, в лексиконе Макара Девушкина, главного героя
повести Ф. Достоевского «Бедные люди», в высшей степени
органично звучит субтильное обращение маточка, равно как
и в устах главного героя «Подростка» — Долгорукого — мамочка, мама...
166
Знаменитый персонаж «Мастера и Маргариты» кот Бегемот как в устах автора-повествателя, так и в устах многочисленных персонажей фигурирует под разными обозначениями:
«.. .третьим в этой компании оказался неизвестно откуда взявшийся кош, громадный, как боров, черный, как сажа или грач,
и с отчаянными кавалерийскими усами. Тройка двинулась в
Патриарший, причем кот тронулся на задних лапах»; «...и
видно было, что сцена внезапно опустела и что надувало Фагот, равно как и наглый котяра Бегемот растаяли в воздухе,
исчезли, как раньше исчез маг в кресле с полинявшей обивкой» ; «... в голове у него был какой-то сквозняк, гудело, как в
трубе, и в этом гудении слышались клочки капельдинерских
рассказов о вчерашнем коте, который принимал участие в сеансе. «Э-ге-ге! Да уж не наш ли это котик!»; «...перед камином на тигровой шкуре сидел, благодушно жмурясь на огонь,
черный котище».
Вместе с выразительными сравнениями и эпитетами разные морфологические формы слова кот создают объемный
образ этого фантастического персонажа и передают отнюдь не
однозначное отношение к нему окружающих.
§22
Особые лексические ресурсы
поэтического языка
В основе поэтического языка, так же, впрочем, как и разговорного, и литературного, лежат общеупотребительные слова, преображенные их ярко выраженной эстетической функцией. Значение этих слов общее для всех говорящих на данном языке. Для адекватного восприятия их словарного смысла
читателем или слушателем любого образовательного уровня
проблем обычно не возникает. Сложнее обстоит дело с наращениями и метаморфозами смысла, которым общеупотребительная лексика подвергается в художественном контексте.
Здесь на помощь приходят эстетический опыт, начитанность
и интуиция.
Помимо основного лексического фонда поэтический язык
включает в себя так называемые о с о б ы е л е к с и ч е с к и е
р е с у р с ы , аккумулирующие в себе слова периферийного,
маргинального плана: или забытые за давностью времени,
или, наоборот, еще не вошедшие в активное употребление, или
167
принадлежащие узкому кругу пользователей; таковы, в частности, условные словообразования представителей редких
профессий, деклассированных элементов общества, а то и вовсе
индивидуальные изобретения. Особые лексические ресурсы,
как правило, и с к л ю ч е н ы и з л и т е р а т у р н о г о я з ы к а, но стихийно, бессистемно ф у н к ц и о н и р у ю т в я з ы ке р а з г о в о р н о м , оставаясь достоянием разных общественных групп. Художественная литература, используя их
в поэтическом языке, производит, таким образом, интегрир у ю щ у ю работу, расширяя круг людей, для которых
эти слова становятся внятными. Но в сфере поэтического
языка они получают соответствующие художественнные
функции.
Особые лексические ресурсы классифицируются внутри
себя по четырем основаниям: 1) историческому: славянизмы,
архаизмы, историзмы и неологизмы, 2) географическому: диалектизмы и провинциализмы; 3) национальному: варваризмы и макаронизмы; и 4) социальному: просторечия, вульгаризмы, профессионализмы и арго. Впрочем, диалектизмы
можно было бы дополнительно учитывать и по социальной
группе, а варваризмы — и по географической.
С течением времени любой национальный язык довольно
значительно изменяется. Не случайно, например, различают
древнегреческий, среднегреческий (койне) и новогреческий
языки. А тексты древних литератур приходится буквально
переводить на современные языки (с древнеанглийского на современный английский, с древнерусского на современный русский и т.д.). Каждое слово имеет свою историю, конкурирует с
другими словами, борется за место под солнцем, попадает в активный фонд национального языка, отступает в «запасники»,
вновь возвращается, обогащается не свойственными ему раньше смысловыми и стилистическими оттенками, иной раз полностью изменяя до неузнаваемости свое значение и форму...
Перипетии этой полной таинственных приключений жизни
ведомы, как правило, лишь специалистам.
Однако есть в языке слова, историческая приуроченность
которых более или менее актуальна. Таковы славянизмы —
слова, старославянское происхождение которых ощущается и соответствующим образом переживается говорящими.
Живо интересовавшийся исторической стилистикой родного языка М.В. Ломоносов различал церковно-славянские
общепонятные (рамена, вежды, ланиты, уста, очи) и «невразумительные» (рясно, т.е. обильно, обаваю, т.е. очаровываю)
168
слова. Как уже отмечалось, славянизмы имеют русские синонимы: глас — голос, враг — ворог, праг — порог, брег — берег,
млеко — молоко, надежда — надежа, нощь — ночь, могущий —могучий. Иногда они расходятся в значениях: прах —
порох, страна — сторона, власть — волость.
Славянизмы имеют в поэтическом языке три основные
функции:
1) Обильное их употребление в соответствующем контексте создает впечатление речи отдаленных веков, а р х а и з и р у е т п о в е с т в о в а н и е . Вот почему Н. Гнедич в своем переводе гомеровской «Илиады» насыщает его славянизмами,
хотя повествуется не о славянской, а о греческой древности:
Коней меж тем Автомедон и сильный Алким снаряжали;
В пышных поперсьях к ярму припрягали их; удила в морды
Втиснули им и, бразды натянув, к колеснице прекрасной
Их укрепили за кузов. Тогда, захвативши рукою
Гибкий блистательный бич, в колесницу вскочил Автомедон.
Переводивший вслед за ним «Одиссею» В.А. Жуковский
ставил перед собой задачу несколько осовременить звучание
«божественной эллинской речи» в русском эквиваленте, но и
он учел опыт своего предшественника:
Ложе покинул тогда и возлюбленный сын Одиссеев;
Платье надев, изощренный свой меч на плечо он повесил;
После, подошвы красивые к светлым ногам привязавши,
Вышел из спальни, лицем лучезарному богу подобный.
Звонкоголосых глашатаев царских созвав, повелел он
Кликнуть им клич, чтоб на площадь собрать густовласых ахеян;
Кликнули те; собралися на площадь другие; когда же
Все собралися они и собрание сделалось полным,
С медным в руке он копьем перед сонмом народным явился —
Был не один, две лихие за ним прибежали собаки.
2) Другая не менее очевидная художественная функция
славянизмов связана с тем, что конфессиональным языком
русской православной церкви с глубокой древности был старославянский, а потому служил и служит до сих пор п р о ф е с с и о н а л ь н ы м я з ы к о м ц е р к о в н и к о в . Изображая даже не самых достойных служителей культа в «Борисе
Годунове», Пушкин пересыпает их речь со смаком произносимыми славянизмами: «В а р л а а м: «Плохо, сыне, плохо!
169
ныне христиане стали скупы; деньгу любят, деньгу прячут.
Мало богу дают. Прииде грех велий на языцы земнии. Все пустилися в торги, в мытарства; думают о мирском богатстве, не
о спасении души. Ходишь, ходишь; молишь, молишь; иногда
в три дни трех полушек не вымолишь. Такой грех! Пройдет
неделя, другая, заглянешь в мошонку, ан в ней так мало, что
совестно в монастырь показаться; что делать? с горя и остальное пропьешь; беда, да и только. — Ох, плохо, знать пришли
наши последние времена...».
3) Третья и самая важная художественйая функция славянизмов была выявлена Ломоносовым, навсегда связавшим
их с « в ы с о к и м ш т и л е м » . Действительно, целенаправленное нагнетение церковно-славянских слов вместо их русских синонимов сообщает поэтической речи торжественность,
величавость и необыкновенную, почти литургическую серьезность тона:
Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей!
За славянизмами восстань, и виждь, и внемли, а также
глаголом маячат их русские заместители: поднимись, смотри и слушай, словом. Представим на минуту, что Пушкин отдал предпочтение этому второму ряду. Что бы получилось?
Приподнимись, смотри и слушай,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и сушу,
Ты словом жги сердца людей!
Кощунственно измененный нами катрен в мгновение ока
увял, утратил всю свою библейскую мощь, высокую экстатичность, стилистическую приподнятость — все то, что можно ожидать из уст пророка, тем более «шестикрылого серафима»...
Однако славянизмы могут выступать и в не свойственной
им функции — травестийного с н и ж е н и я н е у м е с т н о
в ы с о к о г о п а ф о с а п о в е с т в о в а н и я . В этом случае они
дискредитируются переводом на намеренно бытовой стиль.
После того, как затаившаяся в саду Татьяна прослушала «Песню девушек» (вот-вот появится «блистая взорами» Евгений!),
Пушкин так комментирует ее состояние:
170
Они поют, и с небреженьем
Внимая звонкий голос их,
Ждала Татьяна с нетерпеньем,
Чтоб трепет сердца в ней затих,
Чтобы прошло ланит пыланье.
Но в персях то же трепетанье,
И не проходит жар ланит,
Но ярче, ярче лишь горит...
Так бледный мотылек и блещет
И бьется радужным крылом,
Плененный школьным шалуном;
Так зайчик в озими трепещет,
Увидя вдруг издалека
В кусты припадшего стрелка.
Сходные со славянизмами художественные функции выполняют в поэтическом языке архаизмы и историзмы. А р х а и з м а м и (от греч. archaios — древний) называют слова, вытесненные позднее из активного словарного фонда другими
словами, хотя бы явления и понятия, ими обозначаемые, продолжали существовать. Так, характерное для XVII—XVIII вв.
слово фортеция вынуждено было уступить, кстати, более старому исконно русскому слову крепость. Современное языковое сознание числит его по ведомству архаизмов, хотя оно и
много моложе своего преемника. Примерно те же метаморфозы произошли со словами сатисфакция (удовлетворение), зараза (прелесть, очарование, обаяние), ласкательство (лесть).
От архаизмов следует отличать и с т о р и з м ы — слова, обозначающие явления отдаленного исторического прошлого, потерявшие актуальность в настоящее время. Например, стрельцы, опричники, тризна, гридни, бояре, фрейлины, целовальник,
стряпчий, окольничий. Нельзя, впрочем, исключить возможность возрождения как некоторых явлений, так и маркирующих
их слов (на наших глазах возвращаются в активный речевой обиход попавшие было в историзмы слова дьяк, пристав, думцы, губернатор).
Архаизмы и историзмы — самый расхожий материал для
создания исторического колорита. Разбавляя ими слова основного лексического фонда, авторы произведений на исторические темы имитируют язык и стиль давно отшумевших эпох:
«Песнь о вещем Олеге» Пушкина, «Петр I» Алексея Толстого,
«Зодчие» Д. Кедрина, «Мастера», «Лобная баллада» А. Вознесенского.
171
По другую сторону неумолимо последовательного течения
времени располагаются н е о л о г и з м ы (от греч. neos — новый) — новые слова. Различают два вида неологизмов:
1) о б щ е я з ы к о в ы е , естественно возникающие и закрепляющиеся в литературном языке слова для обозначения новых
понятий и явлений, и 2) и н д и в и д у а л ь н о - а в т о р с к и е —
слова, которые изобретают главным образом писатели для одноразового употребления.
О б щ е я з ы к о в ы е н е о л о г и з м ы постоянно обогащают национальный язык: с появлением новых понятий возникает необходимость в их словесном обозначении. Каждая эпоха приходит со своими неологизмами. Некоторые из них закрепляются в языке и даже пополняют его основной фонд,
лишаясь тем самым своего неологического статуса. Другая,
большая часть сохраняет аромат породившего их времени и
даже спустя несколько поколений переживается как искусственные, неорганичные вкрапления.
Едва ли не самую большую «инъекцию» неологизмов русский язык получил в ходе «культурной революции» после
октября 1917 года. Кардинальная смена власти в стране привела к переименованию практически всех государственных и
общественно-политических учреждений, должностей, званий... Самой продуктивной формой новообразований стали
аббревиатуры, сатирически высмеянные Маяковским в стихотворении «Прозаседавшиеся» (1922).
Уже в экспозиции, стоя, скорее всего, у «парадного подъезда» «семиэтажного дома» с многочисленными вывесками-табличками, лирический герой с трепетным пиететом перечисляет по-птичьи сокращенные, а потому и кажущиеся такими
значительными наименования отделов:
ь
...кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья...
Разорвав аббревиатуру «главкомполитпросвет» на составные части и направив как бы в разные стороны одних и тех же
чиновников и посетителей, поэт заранее обрекает их на противоестественное расчленение...
Дальше — больше. Включившись в суматошную гонку по
этажам, между прочим, замечательно воссозданную Марком
172
Захаровым и Леонидом Гайдаем в экранизациях «Двенадцати стульев», лирический герой на скорости опускает поясняющие слова, стремительно обменивается репликами с секретарями и секретаршами, а то и просто читает «отфутболивающие» объявления. При этом в каждом таком эпизоде
содержатся новомодные аббревиатуры, одна нелепее другой,
подчиняющиеся градации нарастания:
Заявишься:
•Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени она».—
•Товарищ Иван Ваныч ушли заседать —
объединение Teo и Гукона».
Между прочим «Тео» расшифровывалось как Театральный
отдел Главполитпросвета при Наркомпросе, а «Гукон» — Главное управление коннозаводства при Наркомземе. Так что объединять их было довольно хлопотно...
Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
Опять:
• Через час велели прийти вам.
Заседают:
покупка склянки чернил
Губкооперативом».
Здесь знаменательно отсутствие реплики-вопроса лирического героя. Это фигура умолчания. Одним своим видом
он являет немой вопрос (и укор!). Секретарь же толково, профессиональной скороговорочкой объясняет причину отсутствия Иван Ваныча и заодно повестку проводимого им очередного заседания.
В следующей сценке уже нет ни вопроса, ни прямого ответа, так как отсутствуют даже посредники неуловимого
Иван Ваныча:
Через час:
ни секретаря,
ни секретарши нет...
Короткое, как вздох, словцо «голо !», одиноко заполняющее целую строку, — чисто эмоциональная реакция лириче173
ского героя. Зато, видимо, вполне в духе того времени красуется чеканно-красноречивое объявление:
Все до 22-х лет
на заседании комсомола...
Снова взбираюсь, глядя на ночь,
на верхний этаж семиэтажного дома.
«Пришел товарищ Иван Ваныч?» —
«На заседании
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».
Абсурдное по своей структуре (первые восемь букв алфавита), патетической нелепости и — не в последнюю очередь —
ритмической несообразности (междуиктовый интервал должен
охватить невозможные 10 слогов, пробормотать которые мыслимо только в шизофреническом трансе!) новообразование «А-беве-ге-де-е-же-зе-кома» становится той последней соломинкой,
которая сломала спину верблюда и вернула лирическому герою
чувство оскорбленного собственного достоинства.
Терпение вопрошающего лопнуло и, дав, наконец, волю
естественной человеческой ярости, он «лавиной врывается»
на искомое заседание, «дикие проклятья дорогой изрыгая»,
где и застает как ни в чем ни бывало заседающие «людей
половины».
Главной конструктивной пружиной стихотворения в целом, эффективнейшим образом разрешающей мощное сатирическое напряжение, оказывается реализация лежащей на
поверхности языковой метафоры: «Не могу же я разорваться надвое!». Фантасмагорический мир молодой советской бюрократии, с энтузиазмом припавшей к государственному
пирогу, не исключал, а предполагал такую возможность. Тут
же своеобразным пуантом раздается «спокойненький голосок секретаря», доходчиво разъясняющий сюрреалистический кошмар:
«Они на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится разорваться.
До пояса здесь,
а остальное
там».
174
Только к финалу стихотворения лирический герой Маяковского приходит в себя, завершив повествование характерной каламбурной игрой слов, поддержанной соответствующей
рифмой:
С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтою встречаю рассвет ранний:
•О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»
Правда, сослагательное наклонение и канцелярский стиль
придают заключительной фразе довольно мало веры в конечный успех задуманного предприятия. Наше время с успехом
подтверждает неосновательность этих надежд.
Вторая разновидность неологизмов — и н д и в и д у а л ь н о - а в т о р с к и е
используются в поэтическом
языке еще более активно и эффективно, так как призваны существенно дополнить «мастерскую слова».
Вкус к новообразованиям был свойствен русским писателям, начиная с автора «Слова о полку Игореве» (чего стоит
один Гориславич по отношению к Олегу Черниговскому, на
самом деле Святоелавличу по отцу!), не чурались их и Tpeдиаковский, и Ломоносов, и, как мы видели, Карамзин; в XIX в.
особенной склонностью к изобретению новых слов отличались
Гоголь («Бегущие толпы вдруг омноеолюдили те города», —
читаем в «Тарасе Бульбе», правда, большая часть гоголевских
неологизмов сосредоточена в его письмах и дневниках: «Я хочу
назвучаться русскими звуками и речью», обравнодушили,
предслышание, чужеземствование, зеленокудрый, трепетолистый, лилово-огненный...) и Н. Языков (пряморусская,
многогромная, таинственник; «Гулял младенчески беспечен / И с лирой мужествовал я»; «Будет буря: мы поспорим /
И помужествуем с ней...», на что Некрасов ответил пародией
«Послание другу из-за границы» (1845):
Будь же вечно тем, что ныне:
Своебытно горд и прям,
Не кади чужой святыне,
Не мирволь своим врагам;
Не лукавствуя и пылко
Уважай родимый край:
Гордо мужествуй с бутылкой —
Ни на пядь не уступай!).
175
Но все же настоящий бум индивидуально-авторских неологизмов в русской литературе приходится на Серебряный
век. Теоретическое самоопределение раннего кубофутуризма, например, предполагало полное обновление поэтического языка. Затасканное и напрочь скомпрометированное поэтами слово «лилия» Алексей Крученых чуть ли не законодательно пытался заменить на еуы. Одна из его «заумных»
поэм звучала столь же экстравагантно:
дыр бул щыл убещур скум вы со бу, р л эз.
Впрочем, футуристы создавали «произведения» и похлеще, вполне сознательно рассчитывая на эпатажный скандал,
а следовательно на рекламу. Громогласно объявлялось исполнение «Поэзы конца» Василиском Гнедовым. После продолжительной паузы поэт выходил на эстраду, становился в позу
и произносил один-единственный звук:
Ю...
Но, конечно, не все в языкотворческой деятельности футуристов сводилось к низкопробному шарлатанству. Велимир
Хлебников, которого Маяковский вполне заслуженно называл «Колумбом новых поэтических материков», настойчиво
экспериментировал с корневой и префиксально-суффиксальной системой разных славянских языков, обогащая тем самым
арсенал изобразительно-выразительных средств поэзии не
только своего, но и последующих времен, например, в «Заклятии смехом»:
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно.
О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!
Смейево, смейево,
У смей, осмей, смешики, смешики,
Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
176
Но, пожалуй, наибольшую пользу для себя и для поэзии в
целом извлек из футуристических экспериментов со словом
чуждый крайностей В. Маяковский. Ему принадлежит бесспорная заслуга в разработке самых продуктивных и жизнеспособных, как выяснилось, способов индивидуального словотворчества.
Имитируя простонародную речь, он склонял несклоняемые слова: «из военной бюры», «мадам с своим мантом»;
употреблял слово сельдь в несвойственном ему мужском роде
в родительном падеже — сельдя; строил абстрактные отглагольные существительные по фольклорной модели, освоенной еще Пушкиным. В Примечаниях к «Евгению Онегину»
читаем: «В журналах осуждали слова: хлоп, молвь и топ как
неудачное нововведение. Слова сии коренные русские. «Вышел Бова из шатра прохладиться и услышал в чистом поле
людскую молвь и конский топ» (Сказка о Бове Королевиче).
Хлоп употребляется в просторечии вместо хлопание, как шип
вместо шипения: «Он шип пустил по-змеиному» (Древние
русские стихотворения) ».
Многие неологизмы Маяковского, оказавшись членами
его знаменитой нестандартной рифмы, накрепко врезались
в сознание, даже если их семантика была не вполне узнаваемой: «Стальной изливаясь леевой9 / Коммуне не быть
покоренной: / Левой! Левой! Левой!» («Левый марш»);
«И вдруг, как будто ожогом, рот / скривило господину. /
Это господин чиновник берет / мою краснокожую паспортину. ... С каким наслажденьем жандармской кастой / я
был бы исхлестан и распят / за то, что в руках у меня молоткастый, / серпастый советский паспорт» («Стихи о советском паспорте»).
Неологизмы Маяковского не перешли в активный фонд литературного языка, как это случилось, скажем, со словечком
Достоевского стушеваться, слишком силен на них отпечаток
личности их создателя, но они живут в активном фонде языка
поэтического и функционируют как крылатые выражения в
нашей разговорной речи. Предъявляя на границе паспорт, мы
мысленно по инерции называем его краснокожей паспортиной и награждаем как бы постоянными эпитетами серпастый
и молоткастый, даже если у него на обложке уже расположился двуглавый орел.
Перешедшее было в активный фонд общенационального языка бойкое словечко авоська, популярное в 50—70 гг.
177
(«Земля болтается в авоське меридианов и широт», А. Вознесенский), приписывают Аркадию Райкину. Это не совсем так.
Само слово употребляли еще футуристы, например, А. Крученых в 1921 г. в «Декларации заумного языка»: «Авоська да
Небоська», скорее всего с оглядкой на фольклорные источники. Райкин же придал ему новое значение: так стали называть плетеную сумку на всякий случай. В новейшее время, когда функцию авоськи прочно переняли полиэтиленовые пакеты, бывший неологизм модифицируется в историзм
(выступая как характерная деталь сравнительно небольшого промежутка времени).
Х у д о ж е с т в е н н а я ф у н к ц и я н е о л о г и з м о в , как
общеязыковых, так и индивидуально-авторских, очевидна.
Первые служат приметными знаками изображаемой, чаще
всего переломной эпохи, вторые являют собой столь же яркую
примету идиостиля их создателей, расширяя и обогащая лексические ресурсы поэтического языка.
Исторические и географические обстоятельства многих
стран складываются порой так, что обитатели разных регионов, говорящие, казалось бы, на одном языке, с трудом понимают друг друга. В Германии, как было отмечено выше, языковая пестрота стала порождением длительной феодальной
раздробленности. В России территориальные нюансы национального языка обусловлены иными причинами: колоссальными размерами страны, сравнительно слабой системой путей сообщения (вспомним пессимистический прогноз Пушкина: «Лет чрез пятьсот... дороги, верно, / У нас изменятся
безмерно: / Шоссе Россию там и тут, / Соединив, пересекут. /
Мосты чугунные чрез воды / Шагнут широкою дугой, / Раздвинем горы, под водой / Пророем дерзостные своды, / И заведет крещеный мир / На каждой станции трактир») и многонациональным составом ее народа.
В отдаленные, еще феодальные времена на разных территориях огромной Российской империи, особенно на ее окраинах, не без влияния соседних народов образовались диалекты
(от греч. dialektos — говор, наречие) — местные варианты общенационального языка: севернорусские, южнорусские и
среднерусские наречия. Литературный русский язык сформировался, как известно, на базе московского диалекта, относящегося к среднерусским говорам.
Соответственно слова, принадлежащие к местным говорам, и что важно — преимущественно крестьянского обихода, получили название д и а л е к т и з м ы . Так, к примеру,
178
литературно-нейтральное слово говорить в северных говорах модифицируется в баять, в северо-восточных — в бахорить, а в южных — в гуторить. В южных и юго-западных
говорах широко распространены такие слова, как дюже,
дюжий, сдюжить (сильно, сильный, осилить) — скорее всего, через украинское и белорусское посредничество (производные от польских duzo, duzy — много, большой). Диалектный привкус дает о себе знать и в таких крестьянских речениях, как силеток (животное этого года приплода), лоншак
(животное на втором году жизни), третьяк (трехлетка или
третий сын в семье), но вместо да, ешшо вместо еще, загорбок вместо спина9 супротив вместо против, намеднись вместо недавно и т.п.
Как и славянизмы, диалектизмы бывают «невразумительные» , которые обречены навсегда оставаться в породивших их
говорах, и общепонятные, многие из которых свободно переходят даже в литературный язык. Д.Э. Розенталь и И.Б. Голуб указывают несколько слов, которые еще в XIX в. числились диалектными, а «теперь ничем не выделяются»: тайга,
сопка, филин, землянка, улыбаться, пахать, очень, нудный,
аляповатый, мямлить, прикорнуть, чепуха, морока, батрак,
борона, веретено. В советскую эпоху еще целая группа диалектных словечек стала всеобщим достоянием: хлебороб,
вспашка, зеленя, пар, косовица, почин, новосел и др. (Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. Правила хорошей
речи. M., 1996. С. 53—54).
Большая или меньшая популярность диалектизмов зависит от степени их востребованности художественной литературой, благодаря которой возрастают их шансы перейти в литературный язык. Так, южнорусские диалектизмы
баз, кочет, курень, хутор, гуторить стали общепонятными
благодаря творчеству Михаила Шолохова; со специфическими словечками северян нас познакомили писатели вологодской школы: А. Яшин, Ф. Абрамов, В. Белов, С. Викулов и др.; сибирские говоры ввел в большую литературу
В. Распутин: «В эту ночь Настена не выспалась, а утром чуть
свет решила сама заглянуть в баню. Она не пошла по телятнику, где в снегу была вытоптана дорожка, а по общему
заулку спустилась к Ангаре и повернула вправо, откуда над
высоким яром виднелась за городьбой крыша бани. Постояв
внизу, осторожно поднялась по обледенелым ступенькам
вверх, перелезла, чтобы не скрипнуть калиткой, через заплот, потопталась возле бани, боясь войти сразу, и лишь тогда
179
тихонько потянула на себя низенькую дверку. Но дверка
пристыла» («Живи и помни»).
Диалектизмы, если в их использовании не нарушено чувство меры, если они не заслоняют общеупотребительную лексику и значение их легко угадывается по контексту, обеспечивают произведению местный колорит. Присутствие их в
языке автора косвенно усиливает доверие к нему читателя:
человек пишет о том, что хорошо, не понаслышке знает.
Инкрустируя речь персонажей, в той или иной степени они
отражают не только место рождения или длительного пребывания, но, как говорится, и всю их «подноготную» (социальный статус, образование, род занятий, переезды, круг
общения). Профессор Хиггинс из комедии Б. Шоу «Пигмалион» отлично показал нам, как это делается. Правда, у него
было два неоспоримых преимущества перед читателем: он
давал характеристику человеку не по письменной, а по звучащей речи и был профессиональным знатоком орфоэпических норм различных регионов Англии и социальных слоев
общества.
Некоторые исследователи выделяют наряду с диалектизмами так называемые п р о в и н ц и а л и з м ы — слова, характерные для определенной местности, но не имеющие социальной закрепленности. Допустим, одна и та же ягода в Петербурге называется земляникой, в Москве — клубникой, а в
Казани — викторией (по названию самого популярного сорта). Во Владимире на вопрос «Который час?» вам непременно
ответят: «Без десять, или без пять минут час!» (вместо без
десяти, без пяти, как того требует литературная норма). Точно так же «правилом хорошего тона» считается сместить ударение в слове грузить со второго слога на первый. Так может
сказать любой житель области: и крестьянин, и университетский профессор. Мотивация, скорее всего, связана со своеобразно понимаемым местным патриотизмом: в Москве, мол, как
хотите, так и говорите, а мы здесь, во Владимире, тоже не
лыком шиты!..
Язык любого народа не живет изолированной, замкнутой
жизнью, а является элементом системного единства, пестрого
содружества языков народов, живущих рядом, по соседству и
в отдалении. Между разными языками, в каких бы родственных отношениях они ни находились, происходят интенсивные
процессы взаимовыгодного обмена, особенно в области лексики. Русский язык оказался одним, из самых восприимчивых
среди мировых языков. Приблизительно четверть его лекси180
ческого состава усвоена из лексикона других народов, что не
снижает его самостоятельности. Некоторые заимствования
настолько органично вошли в его лексическую систему, что
воспринимаются как чисто русские: лошадь, ковш, бобыль,
армяк, башка. Другая часть, наоборот, сохраняет аромат языков-доноров: банк, ломбард, варвар, аудитория, диаметр, бухгалтер, бамбук. Такие слова лексикологи называют в а р в а р и з м а м и . Термин возник еще в античной Греции, поэтому
изначально не содержит в себе никакой оценочной окраски:
варварами (barbaris), как известно, древние эллины называли всех чужеземцев, негреков. Таким образом, к варваризмам
мы относим только те слова, иностранное происхождение которых отчетливо сознается говорящими.
Варваризмы составляют неотъемлемую часть и поэтического языка. Они обычно привлекаются для обеспечения географического, местного колорита или для речевой характеристики персонажей, особенно иностранцев.
В «энциклопедии русской жизни» — «Евгении Онегине» — отразилась и такая ее особенность, как многоязычие,
свойственное речевой практике отечественного дворянства.
Пушкин и сам, как известно, принадлежал к старинному дворянскому роду. Кроме русского, он в совершенстве владел
французским, за что, еще будучи лицеистом, получил прозвище Француз, знал древние языки, английский и начатки итальянского. Все это в той или иной мере запечатлелось в языковой структуре его стихотворного романа: французские эпиграфы, французские, английские, итальянские и латинские
словечки, выражения иногда с русским переводом в тексте,
иногда в Примечаниях, иногда без перевода мелькают практически во всех главах. Несколько раз авторские отступления
актуализируют саму тему оправданности или неоправданности применения варваризмов:
В последнем вкусе туалетом
Заняв ваш любопытный взгляд,
Я мог бы пред ученым светом
Здесь описать его наряд;
Конечно б, это было смело,
Описывать мое же дело:
Но панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет;
А вижу я, винюсь пред вами,
Что уж и так мой бедный слог
Пестреть гораздо б меньше мог
Иноплеменными словами,
Хоть и заглядывал я встарь
В Академический Словарь.
Собственно варваризмами, конечно, являются слова иноязычного происхождения, пер<гданные в русской транскрип181
ции (как в данном случае); гораздо чаще Пушкин, фиксируя
самое начало перехода иностранных слов в лексический фонд
русского языка, пишет их либо по-французски («Сперва
Madame за ним ходила, / Затем Monsieur ее сменил...»; «Где
каждый, вольностью дыша, / Готов охлопать entrechat»; «На
первом листике встречаешь / Qui ecrirez-vous sur ces tablettes,
/ И подпись: t.a.v. Annette», «Она казалась верный снимок /
Du сошше il faut... (Шишков, прости: / Не знаю, как перевести, либо по-английски:
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется vulgar. (Не могу...
Люблю я очень это слово,
Но не могу перевести;
Оно у нас покамест ново,
И вряд ли быть ему в чести.
Оно б годилось в эпиграмме...)
либо по-итальянски: «Брожу над озером пустынным, / И far
niente мой закон»; «...встречал я иногда: / E sempre bene, господа»; «И он мурлыкал: Benedetta / Иль Idol mio и ронял/
В огонь то туфлю, то журнал»), или на латыни («Потолковать
об Ювенале, / В конце письма поставить vale», «Веселой шуткою, враньем. / Sed alia temporal У дал ость...»).
Даже сохраняя все особенности первичного языка, но графически оформляя, допустим, немецкое слово васисдас, английское сплин, итальянское гондола или латинское цензура
русскими буквами, Пушкин придает им статус варваризмов
со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Издавна как в западной, так и в отечественной традиции варваризмы использовались и в комически сниженной
функции, если они подчеркнуто неуклюже сочетались с просторечной, а то и жаргонной лексикой оригинального языка. Так, например, речь парижского студента в романе Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» есть не что иное, как
пародия на плохую — так называемую кухонную латынь.
Здесь невольно вспоминается старый бурсацкий анекдот о
приехавшем к старому отцу-крестьянину «латинисте». На
все вопросы отца, как называется по-латыни тот или иной
предмет, «находчивый» сын важно отвечал: «небиус», «ветриус», «хлебиус», пока отец, показав на грабли, не спросил: а это что такое? Ученый невежда по инерции ответил:
«граблиус» и, наступив на грабли ногой, немедленно получил отрезвляющий удар по лбу. «Вспомнил, вспомнил, —
закричал он, — это грабли!»
182
Эклектическая смесь ученой латыни с низкой бытовой
лексикой с легкой руки Тифи, автора комической поэмы
« Maccheronea* (1490), стала называться «макаронической»
поэзией, а варваризмы в травестийной функции — соответственно м а к а р о н и з м а м и . Классическим образцом русской макаронической поэзии считается пародийная поэма
И.П. Мятлева «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой
за границей, дан л'этранже», заглавная героиня которой —
невежественная, но уверенная в себе барынька отважно коверкает иностранные слова, приспосабливая их к своему речевому стилю:
Я взошла. Зовут обедать.
Хорошо б дине отведать.
Но куды, — уж места нет!
Пропадает мой обед.
Я на палубу вбежала,
Капитана отыскала;
Говорю: « Мой капитэн...»
Он в ответ мне: «Нихт ферштейн».
Немец, на беду, копченый,
По-французски неученый.
Я не знаю л*алеман,
Ну, признаться, се шарман.
В жанре политической сатиры использовал макаронический стиль Демьян Бедный, имитируя немецкую речь и стилистику знаменитой баллады Генриха Гейне:
В Германию цвей гренадирен
С кадетской программой брели.
«Марширен! Марширен! Марширен!» —
Командовал Мумм им вдали...
(Два гренадера. Новая кадетская баллада)
Среди особых лексических ресурсов, отграниченных от основного лексического фонда национального языка социальными перегородками, самую обширную группу составляют п р о с т о р е ч и я . Это преимущественно такие формы речи, которые
не рекомендуются строгими литературными нормами, но в свободной, интимной, непринужденной речи охотно употребляются.
183
Таково ставшее крылатым мультфильмовское обращение:
«Ребята, давайте жить дружно!» (не товарищи, не господа, а
именно ребята, передающие задушевный, бесконечно далекий
от вежливой официальности, простецкий тон, доверительную
расположенность и дружелюбие кота Леопольда по отношению
к не в меру расшалившимся мышатам). Таково же обращение
к солдатам полковника из лермонтовского «Бородина»: «Ребята, не Москва ль за нами? / Умремте ж под Москвой, / Как умереть мы обещали!» Недаром и в солдатском восприятии он характеризуется соответствующим образом: «Полковник наш
рожден был хватом...»
Конечно, наиболее органичная художественная функция
просторечий — актуализация социальной принадлежности говорящего: простой человек и говорит попросту! Няня Татьяны
Лариной, понятное дело, говорит совсем не так, как ее воспитанница. Даже в жанровых рамках стихотворного романа Пушкин находит возможным скупыми, экономными мазками подчеркнуть речевой стиль старой неграмотной женщины, главным образом, за счет применения просторечий:
•О чем же, Таня? Я, бывало,
Хранила в памяти не мало
Старинных былей, небылиц
Про злых духов и про девиц;
А нынче всё мне тпёмно, Таня:
Что знала, то забыла. Да,
Пришла худая череда!
Зашибло...»
Впрочем, иногда, опережая естественный процесс развития литературного и поэтического языка, Пушкин позволяет
дозированное употребление просторечий и в авторском повествовании, когда этого требует ситуация:
И вот из ближнего посада
Созревших барышень кумир,
Уездных матушек отрада,
Приехал ротный командир;
Вошел... Ах, новость, да какая!
Музыка будет полковая!
Полковник сам ее послал.
Какая радость: будет бал!
Девчонки прыгают заране...
184
Пушкин счел необходимым сделать авторское примечание: «Наши критики, верные почитатели прекрасного пола,
сильно осуждали неприличие сего стиха». Действительно, разве можно прядущую крестьянку называть девой, а дворянских
дочерей — девчонками\ Но Пушкин знает: иногда можно, особенно если крестьянка занята серьезной любимой работой, а
дворянки восторженно прыгают в предвкушении редкого удовольствия... Просторечная грамматическая форма девчонки,
достаточно, впрочем, пристойная, наверняка употреблялась
в речевом обиходе дворянских семей.
Более сложный случай реализации экспрессивных ореолов просторечий представляет собой «Медный всадник», поэма, в которой голоса автора-повествователя и маленького
человека Евгения временами звучат в унисон, причем скрепами становятся именно просторечные словесные формулы,
правда, разной степени запрета. Демократические нотки в
сознании автора-повествователя явно прорываются, например, в эмоционально-брутальной характеристике надвигающейся непогоды: «Была ужасная пора» или «Погода пуще
свирепела». В речах Евгения, обращенных к высокому собеседнику, как никак императору, «мощному властелину
судьбы», в лице его «заместителя» — Медного всадника, демонстративно снижение лексики (иронически переосмысленное Добро и недвусмысленно угрожающее Ужо тебе!) знаменует не просто социально-словесный жест героя, а настоящий социальный бунт: «Добро, строитель чудотворный! /
Ужо тебе!..»
Наиболее грубые просторечия, такие, как лопать, хряпать, трескать, дербалызнуть, чекалдыкнуть, втюриться,
харя, ряха и пр., называются в у л ь г а р и з м а м и (от лат.
vulgaris — обыкновенный, простой). Степень их запрета весьма значительна, хотя граница между ними и просторечиями
неотчетлива и подвижна. Бранные выражения, которые также принадлежат к вульгаризмам, запрещены не только в литературном, но и в поэтическом языке, недаром их именуют
порой нецензурными. Правда, в последнее время, с упразднением официального института цензуры и распространением
моды на самодовлеющий публичный эпатаж, сквернословие
последовательно эстетизируется в самых разнообразных, в том
числе и недопустимых формах.
Вульгаризмы умеренной степени запрета могут использоваться в сатирических целях в бурлескной функции. В одной
из самых впечатляющих главок булгаковского романа «Мас185
тер и Маргарита» «Черная магия и ее разоблачение» происходит следующая сцена:
«А тут еще кот выскочил к рампе и вдруг рявкнул на весь
театр человеческим голосом:
— Сеанс окончен! Маэстро! Урежьте марш!!
Ополоумевший дирижер, не отдавая себе отчета в том, что
делает, взмахнул палочкой, и оркестр не заиграл, и даже не
грянул, и даже не хватил, а именно по омерзительному выражению кота урезал какой-то невероятный, ни на что не похожий по развязности своей марш.
На мгновение почудилось, что будто слышны были некогда, под южными звездами, в кафешантане, какие-то мало понятные, полуслепые, но разудалые слова этого марша:
Его превосходительство
Любил домашних птиц
И брал под покровительство
Хорошеньких девиц!!!
А может быть, не было никаких этих слов, а были другие
на эту же музыку, какие-то неприличные крайне. Важно не
это, а важно то, что в Варьете после всего этого началось чтото вроде столпотворения вавилонского».
К просторечиям примыкают так называемые ж а р г о н и з м ы (от фр. jargon) — слова, проникающие в разговорный и поэтический язык из условных, распространенных среди ограниченного круга людей языков. У Пушкина в «Капитанской дочке» встретивший в степи во время бурана
загадочного мужика, оказавшегося потом Пугачевым, Петруша Гринев с удивлением внимает его безусловно русской, но
совершенно непонятной ему речи, обращенной к хозяину постоялого двора:
«...Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркою:
— В огород летал, конопли клевал; швырнула бабушка камушком — да мимо. Ну, а что ваши?
— Да что наши! — отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. — Стали было к вечерне звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти на погосте.
— Молчи, дядя, — возразил мой бродяга, — будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А теперь
(тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий ходит...»
186
Безусловно, это иносказание, общение с помощью условных словесных формул, истинное значение которых не предназначено для непосвященных. В принципе иносказанием
можно считать и пророчества дельфийского оракула, и пресловутые улыбки авгуров, которые, надо полагать, сопровождались соответствующими словами, и многие высказывания
Иисуса Христа в Священном писании.
Последнее обстоятельство в художественной форме превосходно воссоздано в «Мастере и Маргарите». Один из четырех
евангелистов — апостол Матфей (у Булгакова Левий Матвей)
тщательно записывает каждое слово Учителя, но истолковывают их впоследствии превратно. И не мудрено, ибо Иисус
изъясняется аллегорически, а Его понимают буквально. Понтий Пилат предъявляет Иешуа обвинение:
«...—Записано ясно: подговаривал разрушить храм. Так
свидетельствуют люди.
— Эти добрые люди, — заговорил арестант и, торопливо
прибавив: — игемон, — продолжал: — ничему не учились и все
перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И все изза того, что он неверно записывает за мной...
— А вот что ты все-таки говорил про храм толпе на базаре?..
— Я, игемон, говорил о том, что рухнет храм старой веры
и создастся новый храм истины. Сказал так, чтобы было понятнее...»
Хотел, «чтобы было понятнее», а добился обратного результата. Точно так же Лермонтов пишет Предисловие к «Герою нашего времени» не столько для того, чтобы прояснить
название романа, сколько для того, чтобы внушить читателю мысль о том, какой большой вред может причинить «несчастная доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов». «Одно слово — для нас
целая история, — записывает далее в своем журнале Печорин, имея в виду себя и Вернера, и продолжает: — Тут меж
нами начался один из тех разговоров, которые на бумаге не
имеют смысла, которые повторить нельзя и нельзя даже запомнить: значение звуков заменяет и дополняет значение
слов, как в итальянской опере...» «Следовало бы в письмах
ставить ноты над словами», — варьирует свою излюбленную мысль в письме к Лопухиной (1834 г.) поэт, для которого
187
Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно...
.Однако иносказание иносказанию — рознь. Жаргонизмами можно считать только те слова, которые сохраняют потаенный смысл для подавляющего большинства говорящих на
данном языке. Жаргон бывает п р о ф е с с и о н а л ь н ы й ,
с о ц и а л ь н ы й и у с л о в н ы й (например, воровской). В повести В. Шишкова «Странники» автор приоткрывает перед читателем значения нескольких жаргонизмов: «Подошедший
к Фильке Степка Стукин-в-Лоб давал ему, как спец, исчерпывающие объяснения.
— Гляди, гляди, кружится. Это он в трамвае карманы
режет. Видишь, барыню обчистил? Видишь, часы у гражданина снял? Гляди, гляди, перетирку делает. Видишь, двое с
задней площадки винта дают? Филька тут узнал, что внутренний карман называется скуло, левый карман зовется левяк, квартиры — это карманы брюк, сидор — мешок с вещами, скрипуха — скрипучая корзина с крышкой».
И далее еще целая пригоршня воровских жаргонизмов,
правда, уже без комментариев: «— Ну, хряй, до хазы идем,
шей! Бери на шарап! Филька, плинтуй, беги! Мильтоны!
Менты! Мусор!*
Благодаря СМИ многие воровские словечки в настоящее
время стали всеобщим достоянием: рэкет, отмазать, крыша,
авторитет, кум, крестный отец, домушник, медвежатник,
отмывание денег, бабки, малина и пр.
Встретившись с уголовным преступным миром, политические узники сталинских лагерей, большей частью представители интеллигенции, также выработали свой потаенный
лексикон. В повести Анны Никольской «Передай дальше»
приводятся некоторые его образцы: тройка, десятка, двадцатипятилетники, содержащие горький иронический намек
на сталинский призыв двадцатипятитысячников, одним из
которых был Семен Давыдов из «Поднятой целины», — персональное обозначение зэков с указанием полученного срока;
сдачи дадут — т.е. помрут до окончания срока; поиграть на
рояле — дактилоскопия; собачий ящик — зона, огороженная
забором (Простор. 1986. №10).
Особую разновидность жаргонизмов составляют п р о ф е с с и о н а л и з м ы — слова из лексикона профессионально обо188
собленного круга людей. Нередко они ничем не отличаются
от слов общеупотребительных, но в них обязательно наличествует сдвиг или по акцентуации: уважающий себя моряк никогда не произнесет компас, механизаторы и сельскохозяйственные работники говорят шофера, комбайнера вместо шофёры, комбайнеры; или по значению: тот же моряк назовет
переднюю часть корабля баком, лодку шлюпкой, а лавку в
шлюпке банкой, соответственно флюс для сталевара — добавки в руду при выплавке металла. Имеют свои жаргонные словечки и медики, и учителя, и юристы, и представители научно-творческой интеллигенции: термояд (термоядерная реакция), кастрюля (синхрофазотрон), изделие (засекреченный
объект), чайник (дилетант) и т.д.
К социально значимому жаргону, или слэнгу, относится
молодежный: оттянуться (хорошо отдохнуть, расслабиться),
клевый (замечательный, великолепный), блин (эвфемизм созвучного бранного слова), тащиться (восторгаться), в частности, студенческий слэнг: окно (свободное между занятиями время), пара (сдвоенный академический час либо оценка «неудовлетворительно»), ботаник (слишком старательный студент,
зубрила), засолить (пропустить, прогулять занятия), завалинка (экзамен), шпора (шпаргалка), сечь (понимать), плавать (неудачно отвечать), хвост (академическая задолженность).
Дозированное употребление жаргонизмов способствует
оживлению авторской речи и в еще большей мере речи персонажей как представителей тех или иных общественных групп,
изображаемых в произведениях соответствующей тематики и
соответствующих жанров.
Вопросы для самостоятельного изложения
1. Как ведет себя слово в поэтической речи при номинации (прямом назывании)?
2. Как синонимия и антонимия связаны с механизмом образного со(противо)поставления?
3. Каков механизм выражения авторского отношения к
изображаемому с помощью морфологических вариаций
одного и того же слова? Приведите примеры.
4. Как образуются в языке омонимы?
189
5. Перечислите основные художественные функции омонимов.
6. Приведите примеры полных и неполных омонимов, исполняющих разные художественные функции.
7. Кто из русских писателей впервые вычленил славянизмы в отдельную стилистическую группу?
8. Приведите несколько примеров использования просторечий и вульгаризмов в высокой классической литературе.
9. Могут ли индивидуальные неологизмы переходить в
разряд общеупотребительных? Приведите примеры.
тропы
10
Соотношение тропов
До сих пор речь шла о слове в его прямом значении, которое обеспечивает ему место в словаре. Однако в живой языковой практике значение слова не постоянно, изменчиво, обнаруживает устойчивую тенденцию к расширению. В п о э т и ч е с к о м я з ы к е , как мы не раз уже имели случай убедиться,
слово принципиально многозначно, полисем а н т и ч н о . По меткому выражению О. Мандельштама в
«Разговоре о Данте», «любое слово является пучком и смысл
торчит из него в разные стороны»; в другой своей теоретической работе «Заметках о поэзии» поэт уточняет: «Поэтическую
речь живит блуждающий многосмысленный корень».
Творческая практика Мандельштама не расходится с его
теоретическими суждениями. В одном из ранних своих стихотворений «Пешеход» (1912) он употребляет слово, казалось
бы, достаточно стабильного и определенного семантического
объема: «Я ласточкой доволен в небесах...». Но это не просто
номинация, это подключение к устойчивой поэтической традиции — к ассоциативному полю стихотворения А. Фета «Ласточки» (1884). Она, ласточка, органично живет в поэтическом мире Мандельштама в разнообразных ипостасях своего
прямого или метафорического присутствия: «Под грозовыми
облаками...» (1910), «Смутно-дыщащими листьями...»
(1911), «От вторника и до субботы...» (1915), «Сумерки свободы» (1918), «Что поют часы-кузнечик...» (1918), «Ласточка»
(1920), «Когда Психея-жизнь спускается к теням...», «Чуть
мерцает призрачная сцена...» (1920), «За то, что я руки твои
не сумел удержать...» (1920), «Еще далёко мне до патриарха...» (1931), «Возможнали женщине мертвой хвала...» (1936)
191
и др. (Всего 19 употреблений, по Кубурлису. См.: Concordance
to the poems of Osip Mandelstam. Ithaca, 1974).
В «Пешеходе», открывающем сонетиану Мандельштама,
«ласточка» сопрягается с «непобедимым страхом в присутствии таинственных высот» (и, следовательно, «пропасти»!)
и почти цитатно перекликается с «Ласточками» Фета, как
будто и в самом деде прилетела из его художественного мира:
У Фета:
Природы праздный соглядатай,
Люблю, забывши все кругом,
Следить за ласточкой
стрельчатой
Над вечереющим прудом.
У Мандельштама:
Я чувствую непобедимый страх
В присутствии таинственных
высот.
Я ласточкой доволен в небесах,
И колокольни я люблю полет!
Замечательно, что к полету ласточки у Мандельштама метафорически присоединяется каменная колокольня. Их объединяет любовный взгляд лирического субъекта, персонифицированного в образе пешехода («Я доволен»=«Я люблю»).
Устремленная в небо колокольня и мелькающая на ее фоне
ласточка внушают лирическому герою «непобедимый страх в
присутствии таинственных высот», которые парадоксальным
образом опрокидываются и превращаются в пропасть (бездну
хаоса). На каменных часах слышен бой Вечности. Но преодолев наваждение, лирический герой обнаруживает внутренний
разлад и поющую в душе печаль.
Совершенно другие семантические обертоны лексемы ласточка предстают перед нами в образной системе стихотворения «Чуть мерцает призрачная сцена...» (1920), своеобразной эпитафии по поводу трагической смерти в Петербурге итальянской певицы Анджиолины Бозио: «И живая ласточка
упала / На горячие снега...»; и особенно в заключительном стихотворении упомянутой серии «Возможна ли женщине мертвой хвала...» (1936), также оплакивающем безвременную
смерть актрисы О. Ваксель, в которую поэт был страстно влюблен: «И твердые ласточки круглых бровей...», где твердые
192
крылья птицы метафорически уподобляются округлым бровям прекрасной женщины.
М н о г о з н а ч н о с т ь с л о в а дает о себе знать не только
в поэзии, но и в п р о з е . В гоголевском предложении из
«Носа», которое приводил Б.В. Томашевский (Томашевский
Б.В. Стилистика. JI., 1987), почти каждое слово содержит целый веер различных значений, однако нужные актуализируются благодаря их взаимодействию: «Частный сухо принял
Ковалева и сказал, что после обеда не то время, чтобы производить следствие...»
Открывающее фразу слово обозначает, конечно, частного пристава, полицейского чиновника, возглавляющего часть
(город делился на части и участки), который в просторечии
именовался частным; мы пренебрегаем всеми иными значениями этого слова (частный случай, частная жизнь, частная собственность, частное дело, частные разговоры), учитывая его контекстные связи со словами принял и сказал.
Не меньший разброс значений и у другого главного члена
предложения — сказуемого принял (ср.: больной принял лекарство, городничий принял Хлестакова за ревизора, он принял меры, публика восторженно приняла актера, прими руки);
в данном случае актуализируется значение «допустил до себя,
чтобы выслушать просьбу».
Эпитет сухо оживляет также далеко не центральное терминологическое значение слова: сухо может быть во рту, на
дворе. Здесь — «неприветливо, официально».
Время — одно из самых многозначных понятий: время и
пространство как философские категории, астрономическое,
декретное, местное время, время победителя забега 9.9 сек.,
время — деньги. Частный имел в виду время дня («после обеда»).
Производить можно какую-нибудь продукцию, шум, работу или, как в данном контексте, осуществлять следствие.
Следствие — не логическая категория в составе словосочетания причина и следствие, не последствие чего-либо: «Но
следствия нежданной встречи / Сегодня, милые друзья,/ Пересказать не в силах я...», а всего лишь расследование...
Итак, слово как основной кирпичик построения художественного образа обладает поистине уникальной многозначностью, которая в поэтической речи используется особенно интенсивно. Нужные значения слов генерализируются контекстом; попадая в светлое поле сознания, они заслоняют все
остальные значения, в том числе и терминологические.
7—3039
193
Другой способ перераспределения семантики слова заключается в п е р е н о с е т е р м и н о л о г и ч е с к о г о з н а ч е н и я с о д н о г о п р е д м е т а н а д р у г о й н а основании подобия, смежности, преувеличения, преуменьшения
какого-либо признака или иронического его переосмысления, С античных времен этот способ иносказания получил
наименование т р о п а (от греч. tropos — поворот, оборот).
Вновь возникшее значение получает статус п е р е н о с н о г о , но оно не просто замещает и заслоняет собой основное, а
существует вместе с ним, на его фоне. Троп есть не что иное,
как образно-смысловая игра слов, в процессе которой привычное положение вещей нарочито нарушается, все переворачивается с ног на голову, происходит перераспределение
признаков: второстепенные выдвигаются в лидеры, основные отправляются на периферию («Евгений Онегин»):
Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея блещут небеса.
Еще прозрачные, леса
Как будто пухом зеленеют,
Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой.
Долины сохнут и пестреют;
Стада шумят, и соловей
Уж пел в безмолвии ночей.
Одна из самых ярких пейзажных строф, открывающая
главу седьмую, живописует процесс пробуждения природы
после зимней спячки не в последнюю очередь благодаря тропам: в первом катрене эпитет гонимы вызывает в нашем воображении яркую образную картину снегов, подвергшихся
гонению с окрестных гор вешними лучами солнца; тут же
метафорический
глагол сбежали подхватывает заданную мотивом гонения идею бегства снегов, правда, уже в
виде мутных ручьев на потопленные (явное преувеличение) луга.
Далее олицетворенная пробуждающаяся природа, ясно
улыбаясь сквозь сон, встречает утро года (имеется в виду
194
весну — реализуется скрытое сравнение времен года с цременами суток). Блещущие синевой небеса и зеленеющие, как будто пухом, леса дополняют общее развертывание образной панорамы наступающей весны. Достойное завершение аккорд
тропов получает в метафорическом иносказании: «пчела за
данью полевой / Летит из кельи восковой» — улей с восковыми сотами уподобляется келье, соответственно пчела — монашенке, которая отправляется за данью полевой — собирать нектар с распускающихся уже цветов (долины сохнут и пестреют); поющий в безмолвии ночей соловей — тоже двойное, хотя
и примелькавшееся олицетворение.
Процесс перераспределения признаков в поэтических тропах, равно как и их типологическое соотношение, регулируется универсальным законом образного ^противопоставления.
Э п и т е т ы и с р а в н е н и я обычно рассматриваются
вне тропов, хотя и те, и другие нередко содержат в себе перенос значения. Другими важными обстоятельствами, позволяющими усматривать в них родственные явления, следует считать их взаимозаменяемость и активное взаимодействие. Во
всяком случае, эпитеты и сравнения несомненно предшествуют метафоре, метонимии, синекдохе, олицетворению, аллегории, символу, гиперболе, литоте и перифразе, предваряют их,
а также имеют с ними общий знаменатель — образное ^(противопоставление.
Для того, чтобы выдвинуть, подчеркнуть какой либо признак предмета, действия или состояния, легче всего дать ему
определение — иными словами, наградить э п и т е т о м . Греческое слово epitheton (приложение, приложенный) обозначает художественное определение. Чаще всего оно выражается прилагательным (избы серые, тоска дорожная, железная),
но может быть и приложением-существительным (,мальчик-спальчик, Мороз-Красный Нос), и наречием (давайте жить
дружно, в эту комнату толпою умывальники влетят) или деепричастием (хорошо идти, не спеша) при глаголе, и даже категорией состояния (мне грустно оттого, что весело тебе).
Распространенное мнение о том, что эпитет ничего не прибавляет к содержанию, а только перегруппировывает признаки, высвечивая, выделяя признак, который мог бы и не присутствовать, по меньшей мере спорно, точно так же, как последовательное р а з л и ч е н и е с о б с т в е н н о э п и т е т о в
и л о г и ч е с к и х о п р е д е л е н и й (серый волк — эпитет, а
серая лошадь — логическое определение, или желтые ли195
стья — эпитет, а желтый дом — логическое определение).
Сторонники столь узкой трактовки переносят на эпитеты в
целом признаки эпитетов п о с т о я н н ы х . К тому же им
приходится все время помнить об исключениях. В самом деле,
с одной стороны, Пушкин в «Руслане и Людмиле» присваивает «серому волку» эпитет бурый, с другой стороны, желтым
домом в переносном значении мы именуем обычно дом сумасшедших.
Подобная дифференциация имеет смысл лишь при выявлении специфических условий функционирования определений в речи художественной и нехудожественной. А для этого
мы должны ответить на вопрос: с какой целью они употребляются — с эстетической или смыслоразличительной? Впрочем,
уже сам факт вовлечения в художественный контекст, соответствующим образом «намагничивает» все его элементы, в
том числе и определения, которые автоматически получают
статус эпитетов.
Художественные функции, как и разновидности эпитетов необычайно многообразны. В своем подавляющем большинстве они призваны выделять те или иные объективные
качества изображаемых явлений, уточняя и конкретизируя
их, и выражать субъективное отношение к ним автора, лирического героя или персонажей. Дева в «Кавказском пленнике» молодая, юная, милая... Для романтического произведения этого вполне хватает; все остальное должен домыслить читатель.
А вот достаточно подробный и наглядный портрет Ольги
из «Евгения Онегина», в котором эпитеты играют далеко не
последнюю роль:
Всегда скромна, всегда послушна,
Всегда как утро весела,
Как жизнь поэта простодушна,
Как поцелуй любви мила.
Глаза как небо голубые;
Улыбка, локоны льняные,
Движенья, голос, легкий стан —
ч
Всё в Ольге... но любой роман
Возьмите и найдете, верно,
Ее портрет: он очень мил,
Я прежде сам его любил,
Но надоел он мне безмерно.
Позвольте мне, читатель мой,
Заняться старшею сестрой.
Предлагая целую пригоршню очевидных, стереотипных
эпитетов, автор-повеотвователь не только конструирует
объективный портрет ничем не примечательной героини, но
и обнажает свое негативное к ней отношение. К нему впо196
следствии присоединяется и Онегин, еще более жестко выносящий свой приговор:
В чертах у Ольги жизни нет.
Точь-в-точь в Вандиковой Мадонне:
Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне.
Зато портрет старшей сестры строится совершенно иным
способом: эпитеты в нем или значимо отсутствуют (сестры в
романе контрастно соотнесены друг с другом), или выражают не внешний, а внутренний облик героини (томная, бледная, печальная, задумчивая) и авторское отношение к ней
(милая), или, что важнее всего, сопряжены с модальностью
отрицания (у нее нет всего того, что должно быть у банальной красавицы):
Итак, она звалась Татьяной.
Ни красотой сестры своей,
Ни свежестью ее румяной
Не привлекла б она очей.
Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная, боязлива,
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой.
Она ласкаться не умела
К отцу, ни к матери своей;
Дитя сама, в толпе детей
Играть и прыгать не хотела
И часто целый день одна
Сидела молча у окна.
Далее все в том же духе: «Ее изнеженные пальцы не знали
игл», кукол «Татьяна в руки не брала», «И были детские
проказы /Ей чужды», «она в горелки не играла»; зато ее
сердце пленяли «страшные рассказы», «Она любила на балконе /Предупреждать зари восход» и по ночам «в привычный час пробуждена / Вставала при свечах она», «Ей рано
нравились романы; /Они ей заменяли всё», после чего характеристика Татьяны незаметно подменяется характеристикой... ее матери.
В результате мы не получаем практически никакой информации о внешности героини: какого цвета у нее глаза
(то, что она «темнеющих очей не поднимает», ничего не
значит: темнеть могут и светлые глаза), брюнетка она,
блондинка или шатенка — неизвестно (можно только догадываться, что по контрасту с Ольгой она должна быть
темноволосой). Зато внутренний ее портрет необычайно
полон, о нем мы можем судить по ее поведению, кругу чте197
ния и постоянным эпитетам, выражающим нескрываемое
авторское восхищение (милая — 10 раз, бледная — 7 раз,
томная — 3 раза, душа моя).
Проведя Татьяну через испытание светской жизнью, которая ничуть не поколебала ее высокой духовности, разве
что сделала ее величавой и небрежной законодательницей
зал (главным образом в восприятии комплексующего Онегина), поэт вновь с помощью отрицательных эпитетов констатирует, что его любимая героиня по-прежнему осталась
естественной и благородной:
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
Все тихо, просто было в ней...
Перед хозяйкой легкий вздор
Сверкал без глупого жеманства,
И прерывал его меж тем
Разумный толк без пошлых тем,
Без вечных истин, без педантства,
И не пугал ничьих ушей
Свободной живостью своей.
Такой Татьяне Пушкин готов доверить даже функции своей Музы, явившейся в начале романа «барышней уездной, /
С печальной думою в очах, / С французской книжкою в
руках», а теперь, в его завершении, незаметно перевоплотившейся в хозяйку светского раута. Немудрено, что в художественной системе «Евгения Онегина» даже притяжательное
местоимение моя по отношению к Татьяне приобретает выразительные функции эпитета.
Исключительно активную роль особенно в художественной системе романтизма играют и д е а л и з и р у ю щ и е э п и т е т ы . Как правило, они подчеркивают качества не реально
сущие, а элегически вспоминаемые или идеально желаемые.
Таковы, к примеру, эпитеты из предсмертного стихотворения
Ленского, которые приводятся автором: «Куда, куда вы удалились, / Весны моей златые дни? », «Что день грядущий мне
готовит? », «.. .Придешь ли, дева красоты, / Слезу пролить над
ранней урной / И думать: он меня любил, / Он мне единой посвятил / Рассвет печальный жизни бурноШ../Сердечный друг,
желанный друг, / Приди, приди: я твой супруг!..»
Идеализирующими эпитетами пользуется и юный Лермонтов, отождествлявший смерть Пушкина с гибелью его героя:
«И он убит, и взят могилой, / Как тот певец, неведомый, но
милый, / Воспетый им с такою чудной силой, / Сраженный9
как и он, безжалостной рукой!»
198
Точно так же иронически ориентированы на идеал п р е в о с х о д н ы е э п и т е т ы , которыми щеголяет в «Ночи перед
рождеством» у Гоголя блудливый дьяк, обхаживающий любвеобильную Солоху: великолепная, дражайшая, несравненная
и добродетельная (!).
Идеализирующим эпитетам сродни э п и т е т ы у с и л и т е л ь н ы е , усугубляющие то или иное реальное качество
либо подчеркивающие экспрессивное отношение к ним: «Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным» \ «Была ужасная пора» (Пушкин). Довольно часто они сопутствуют сравнениям, метафорам и гиперболам:
«Берет — как бомбу, берет
как ежа, / как бритву обоюдоострую, / берет как гремучую, в 20 жал, / змею двухметроворостую» (Маяковский).
Но особенно заметную роль эпитеты играют как знаковые
символы различных художественных систем. Для устной народной поэзии, например, характерны эпитеты п о с т о я н ные, т а в т о л о г и ч е с к и е и с т о я щ и е в п о с т п о з и ц и и по отношению к определяемому слову.
Приверженность фольклорных текстов к постоянным
эпитетам вполне естественна, поскольку они не имеют строго определенного индивидуального автора, а создаются коллективно. Все средства художественного изображения, а тем
более выражения авторского сознания на протяжении длительного времени проходят жесточайший отбор. Все случайное, личностное, выходящее из ряда вон безжалостно отбрасывается; остается только то, что принято несколькими
поколениями соавторов, можно сказать, вполне репрезентативно представляющими художественное сознание всего
народа, поэтому в фольклоре волк серый, а не бурый, как у
Пушкина; солнце красное, а не златолобое, как у Маяковского; земля сырая, а не горькая, как у Евтушенко; море синее, а не голубое, да еще в тумане, как у Лермонтова.
Вот, например, список десяти самых частотных прилагательных в поэтическом лексиконе Лермонтова: мрачный, напрасный, большой, простой, холодный, тайный, земной, гордый, вечный, дальный. Несколько разнится от него список
ключевых слов: хладный, немой, таинственный, далекий,
чуждый, мрачный, мятежный, роковой. Тем не менее факт
остается фактом: оба ряда удивительно точно описывают содержательные и стилистические параметры лермонтовской
поэзии.
199
Наиболее характерные эпитеты, употребляемые другими поэтами, видны и невооруженным глазом. Так, у Фета:
безумный; у Тютчева: роковой и составные («О рьяный конь,
о конь морской, / С бледно-зеленой гривой, / То смирный,
ласково-ручной^I Tо.бешено-игривый!»); Блок: очарованный,
таинственный, снежный, траурный, серый («Серый ветер
разливных рек...», «Россия, нищая Россия! / Мне избы серые твои...»); у Есенина: синий, голубой, золотой, розовый
(«Будто я весенней гулкой ранью / Проскакал на розовом
коне...»). Это главным образом цветовые характеристики —
стилистическая доминанта, на которую обратил внимание
Блок. У Вознесенского: треугольная груша, плод трапециевидный, «Хризантему, заткнув за талию, / Мчит торпедою
горизонтальною...», «И неминуемо минуем / твою беду / в
неименуемо-немую / минуту ту». Это склонность к геометрическим уподоблениям, метафорике и звуко-смысловым
корреляциям.
Основные к р и т е р и и х у д о ж е с т в е н н о с т и э п и т е т а — точность, естественность, свежесть и оригинальность
при соблюдении, однако, чувства меры. Таковы эпитеты зрелого Пушкина:
Что за страшная картина!
Перед ним его два сына,
Без шеломов и без лат,
Оба мертвые лежат,
Меч вонзивши друг во друга.
Бродят кони их средь луга,
По притоптанной траве,
По кровавой мураве...
Ошеломляющая выразительность двух последих эпитетов
определяется их сконцентрированной информативностью (и то,
и другое — красноречивые свидетельства разыгравшейся недавно драмы), идеальным параллелизмом с сохранением очевидной причинно-следственной связи и, конечно, финальной
позицией в синтаксическом периоде, провоцирующей в декламации элегический горестный вздох.
Не менее естественны и в то же время неожиданно оригинальны эпитеты Ф. Тютчева в стихотворении «Есть в осени
первоначальной...», которыми восхищался даже скептически
настроенный к поэзии JI. Толстой:
Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто всё — простор везде, —
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.
200
Четыре снайперски подобранных эпитета, удивительным
образом дополняя друг друга, создают целостную картину
окончания сельскохозяйственных работ и в то же время тонко намекают на психологическое состояние человека, достигшего преклонного возраста.
Количество эпитетов не должно превышать некоего порога, за которым они просто не различаются по смыслу, не говоря уже об образной выразительности. Таково стихотворение
Зинаиды Гиппиус «Все кругом» (1905), почти сплошь состоящее из одних эпитетов:
Страшное, грубое, липкое, грязное,
Жестко тупое, всегда безобразное,
Медленно рвущее, мелко-нечестное,
Скользкое, стыдное, низкое, тесное,
Явно-довольное, тайно-блудливое,
Плоско-смешное и тошно-трусливое,
Вязко, болотно и тинно застойное,
Жизни и смерти равно недостойное,
Рабское, хамское, гнойное, черное,
Изредка серое, в сером упорное,
Вечно лежачее, дьявольски косное,
Глупое, сохлое, сонное, злостное,
Трупно-холодное, жалко-ничтожное,
Непереносное, ложное, ложное!
Но жалоб не надо; что радости в плаче?
Мы знаем, мы знаем: все будет иначе.
Недаром Горький дважды спародировал его в «Дачниках».
Итак, эпитет как целостное определение предмета,
отражающее целостную концепцию жизни, оживляет
образное представление о ней и адекватно репрезентует уникальную неповторимость тех или иных поэтических идиостилей.
Образное выражение, построенное на сопоставлении двух
или нескольких предметов, понятий или состояний, обладающих общим признаком, за счет которого усиливается художественное значение первого предмета, называется с р а в н е н и е м. Это элементарная форма тропа, зерно, из которого вырастают и п а р а л л е л и з м , и м е т а ф о р а , и м е т о н и м и я ,
исинекдоха, и гипербола, и литота.
Разнообразные формы сравнения выражаются с помощью
сравнительных союзов, союзных слов и развернутых сопоста201
вительных конструкций: как, будто, точно, словно, подобно,
наподобие, тсатс бы, похож на, вот так и пр.
Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час,
Твой грустный шум, твой шум призывный
Услышал я в последний раз.
(А Пушкин. «К морю»)
Среди других играющих детей
Она напоминала лягушонка...
(Н. Заболоцкий. «Некрасивая девочка»)
Лес стянут по горлу петлею пернатых
Гортаней, как буйвол арканом,
И стонет в сетях, как стенает в сонатах
Стальной гладиатор органа.
Поэзия! Греческой губкой в присосках
Будь ты, и меж зелени клейкой
Тебя б положил я на мокрую доску
Зеленой садовой скамейки.
(Б, Пастернак. «Весна»)
Способ связи того, что сравнивается, с тем, с чем сравнивается, далеко не безразличен, так как устанавливает степень
подобия, близость — отдаленность сходства, либо точку зрения сравнивающего (как, напоминала, наподобие, будь ты).
Максимальную близость объекта и атрибута сравнения предполагает его бессоюзный вариант, осуществляемый с помощью
творительного падежа: «Мчатся тучи, вьются тучи, / Невидимкою луна...» (Пушкин); «Жеребец под ним сверкает / Белым
рафинадом...» (Багрицкий). Такие сравнения, по сути дела,
находятся уже на пути к метафоре.
Особую разновидность представляют р а з в е р н у т ы е
с р а в н е н и я , в которых образная картина строится по общему облику:
Ночной папироской
летят телецентры за Муром.
Есть много вопросов,
давай с тобой, Время, покурим!..
202
По гаснущим рельсам
бежит паровозик,
как будто сдвигают застежку на молнии.
(А. Вознесенский)
Весна была такой молоденькой,
Такой веселой и бедовой,
Она казалась мне молочницей
С эмалированным бидоном.
(Ю. Панкратов)
Во всех трех случаях воспринимающий вовлекается в процесс сотворчества: ему предлагается по нескольким узнаваемым деталям дорисовать в своем воображении целостный
фрагмент реальности, увиденный в необычном ракурсе.
Необычного взгляда на вещи требуют и такие оригинальные формы сравнения, как о б р а т и м ы е и о т р и ц а т е л ь ные.
Уникальный пример обратимого сравнения представляет
собой фрагмент из авторской песни Александра Вертинского:
И две ласточки, как гимназистки,
Провожают меня на концерт...
Созданная поэтом фантастическая ситуация побуждает
нас поменять местами объект и атрибут сравнения, но внешнее, причем обоюдное подобие ласточек и гимназисток от этого не только не страдает, но усиливается.
Отрицательные сравнения уходят своими корнями в глубокую древность, еще в пору праславянского единства. Традиционно они сопоставляют явления по трехчленной формуле: А не В, не С, a D.
О т р и ц а т е л ь н ы е с р а в н е н и я , генеалогически напрямую связанные с параллелизмом, — один из самых характерных художественных приемов фольклорной поэтики:
То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит,
То мое, мое сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит.
Применение отрицательных сравнений в художественной литературе можно рассматривать как следы ее творче203
ской конвергенции с фольклором. В «Слове о полку Игореве» дают о себе знать редуцированные, двучленные формы,
может быть, искаженные при переписке: «Не буря соколы
занесе чрес поля широкая — галици стады бежать къ Дону
Великому»; «А не сорокы втроскоташа — на сл'Ьду Игорев^
*Ьздитъ Гзакъ съ Кончакомъ». Полные, трехчленные отрицательные сравнения, свидетельствующие о близости традициям устной народной поэзии, сохранились в тексте «Задонщины»: «...Оуже бо брате стоук стоучит, и гром гремит
в славне городе Москве. То ти брате не стоук стоучит, ни
гром гремит, стоучит силная рать великого князя Ивана
Дмитриевича, гремят оудальци золочеными шеломы, черлеными щиты».
В том же ряду стоит знаменитый зачин некрасовской поэмы «Мороз, Красный Нос»:
Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи,
Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои.
Тонко приглушив фольклорные ассоциации, но компромиссно сохранив эпический аромат отрицательного сравнения,
Пушкин в «Полтаве» расширяет его на один член:
Но Кочубей богат и горд
Не долгогривыми конями,
Не златом, данью крымских орд,
Не родовыми хуторами —
Прекрасной дочерью своей
Гордится старый Кочубей.
Сравнение только тогда оправдывает свое появление в тексте, когда оно должным образом м о т и в и р о в а н о , н а г л я д н о и н а т у р а л ьн о. Банальные сравнения только утяжеляют произведение, практически ничего не прибавляя к его
содержанию. Зато сравнения смелые, неожиданные, нацеленные на психологию сотворчества, заряжают своей энергией
весь текст и мобилизуют читательское восприятие. Чтобы
адекватно понимать некоторые сравнения Осипа Мандельштама, необходимо иметь достаточное представление о закономерностях его художественного мышления, контексте всего
его творчества и характере его трагического мировосприятия:
204
Звездный луч — как соль на топоре...
И торчат, как щуки ребрами,
Незамерзшие катки...
Сравнения характерны не только для стихотворной поэзии, но и для прозы. Таковы виртуозные сравнения Гоголя и
в «Мертвых душах», и «Тарасе Бульбе»: «Тихо склонился он
на руки подхватившим его козакам, и хлынула ручьем молодая кровь, подобно дорогому вину, которое несли в склянном
сосуде из погреба неосторожные слуги, поскользнулись тут же
у входа и разбили дорогую сулею: все разлилось на землю вино,
и схватил себя за голову прибежавший хозяин, сберегавший
его про лучший случай в жизни, что если приведет бог на старости лет встретиться с товарищем юности, то чтобы помянуть
бы вместе с ним прежнее, иное время, когда иначе и лучше
веселился человек... Повел Кукубенко вокруг себя очами и
проговорил: «Благодарю бога, что довелось мне умереть при
глазах ваших, товарищи! Пусть же после нас живут еще лучшие, чем мы, и красуется вечно любимая Христом Русская
земля!» И вылетела молодая душа. Подняли ее ангелы под
руки и понесли к небесам. Хорошо будет ему там. «Садись,
Кукубенко, одесную меня! — скажет ему Христос, — ты не
изменил товариществу, бесчестного дела не сделал, не выдал
в беде человека, хранил и сберегал мою церковь». Всех опечалила смерть Кукубенка».
Исключительно интересен и показателен также фрагмент
из повести Андрея Битова «Уроки Армении», представляющий одновременно и высокохудожественное сравнение, и теоретическую рефлексию о нем: «Какие петли делает сравнение во времени, возвращаясь к самому себе! Если птичий
базар был назван так в сравнении с человечьим, то прежде
всего не по многочисленности того и другого, а по тому ни с
чем другим, как друг с другом, не сравнимому звуку слитных голосов, слитых в таком абсолютном беспорядке, что
уже образующих гармонию. И если птичье собрание было
не с чем сравнить, как с базаром, то базар мне не с чем сравнить, как с птичьим собранием. Тысяча голосов, не различимых и не доносящихся до меня, уплывали вверх под высокие своды, там сливались, отражались и медленно падали
вниз, и этот обращенный шум был так нежен, что не сразу
достигал моего сознания, как шум моря и шум далекого птичьего базара (шум открытого базара близок: будто ты сту205
пил на берег, непрошеный гость, и вспугнул тысячи пернатых хозяев сразу). И высокий свод, поддерживаемый изящными и легкими арками, и рассеянный, непонятно откуда
идущий свет, и этот мягкий и нежный гул невольно наводили на мысль о храме».
В сравнении, как правило, менее известное поясняется за
счет более известного, поэтому обычно абстрактное явление
сравнивается с конкретным. Впрочем, бывают и экзотические
исключения из этого правила, особенно в идеологически ангажированнной поэзии. Например, в весьма популярной в свое
время песне И.И. Гольд-Миллера «Слу-шай!» (1864), первый
куплет начинается сравнением «от противного»:
Как дело измены, как совесть тирана,
Осенняя ночка черна...
Черней этой ночи встает из тумана
Видением мрачным тюрьма...
Вопреки обыкновению более конкретная «осенняя ночка»
сравнивается с гораздо более отвлеченными понятиями — «делом измены» и «совестью тирана», а потом оказывается, что и
то, и другое еще «чернее» «мрачного видения тюрьмы»...
«Кто-то сказал, — писал Юрий Олеша, — что от искусства для вечности остается только метафора. В этом плане мне
приятно думать, что я делаю кое-что, что могло бы остаться
для вечности. А почему это в конце концов приятно? Что такое вечность, как не метафора? Ведь о неметафорической вечности мы ничего не знаем». Не менее восторженно отзывался
о метафоре А. Вознесенский. Для него она «мотор формы».
Что же такое м е т а ф о р а ? Буквально с греческого
metaphora означает «перенесение», в полном соответствии с
определением Аристотеля: «перенесение имени или с рода на
вид, или с вида на род, или с вида на вид, или по аналогии...
Слагать хорошие метафоры — значит подмечать сходство в
<природе>». Действительно, древние видели природу и человека в безусловном и органичном единстве. Каждое явление
природы они обожествляли, отождествляли с человекоподобным божеством, т.е. наделяли свойствами человека. Это и было
первичным метафорическим действием, которое, с легкой
руки Овидия, получило наименование «метаморфоза» — превращение.
С тех пор художественное сознание человека неутомимо
превращает одно в другое, восстанавливая, между прочим,
206
хотя бы в воображении утраченное единство мира. Принцип
метафоры как универсальный принцип художественного
мышления характеризует прежде всего поэзию, «внутренний закон которой — максимальная сжатость словесного пространства при беспредельной емкости жизненного содержания. Сказать как можно короче и в то же время как можно
больше о смысле человеческого бытия: о жизни и смерти,
свободе и рабстве, любви и верности, нравственности и творчестве, добре и зле — вот задача поэзии» (Эткинд Е.Г. Разговор о стихах. JI., 1970. С. 120). В «метафоре два далеких
друг от друга явления не только сравниваются, но и приравниваются друг другу. Метафора — самая краткая, самая концентрированная форма для воплощения единства
мира, единения человека и природы. В мгновенном поэтическом переживании совмещаются эпохи и пространства»
(там же, С. 123).
Метафора — скоропись духа, тоскующего о гармонии и
единстве. Ее иногда называют с о к р а щ е н н ы м с р а в н е н и е м . Но есть между ними и принципиальная разница.
Сравнение однонаправленно и имеет своей конечной целью
объяснить сложное через простое: глаза Катюши Масловой
как мокрая черная смородина в «Воскресении» JI. Толстого
или Среди других играющих детей она напоминала лягушонка в «Некрасивой девочке» Н. Заболоцкого. Формула сравнения всегда двучленна: А как В. Метафора же самовластно
уравнивает то, что сравнивается, и то, с чем сравнивается;
поэтому образное сопоставление идет в обе стороны: «Что
ми шумить, что ми звенить давечя предъ зорями? Игорь
плъки заворачивает; жаль бо ему мила брата Всеволода.
Бишася день, бишася другый, третьяго дни к полудни падоша стязи Игоревы. Ту ся брата разлучиста на брезе быстрой
Каялы; ту ся кровавого вина не доста, ту пиръ докончаша
храбрый русичи: сваты попоиша, а сами полегоша на землю Pyскую* («Слово о полку Игореве»). Формула метафоры
фактически одночленна: А есть В, поэтому первый член, как
правило, опускается, но его легко восстановить по контексту, например, у Н. Гумилева:
Из-за свежих волн океана
Красный бык приподнял рога,
И скользили лани тумана
Под скалистые берега.
207
Метафоры необычайно разнообразны; их можно квалифицировать по разным основаниям: 1) по степени эстетического воздействия — языковые и художественные; 2) по характеру атрибута сравнения — олицетворяющие (олицетворение), овеществляющие, абстрагирующие (символ) и
конкретизирующие (аллегория)\ 3) по структуре — лексические и развернутые.
Метафоры, окостеневшие в языке, со временем редуцируются, стираются, утрачивают свежесть, «забывают» о своей
первичной внутренней форме: свет горит, дождь идет, время (жизнь) течет (бежит, торопится, спешит), падать
в глазах, идти в гору, ущемленное самолюбие, разрываться между чем-то или кем-то. В разговорной или литературной речи мы нуждаемся прежде всего в адекватной информации и поэтому подобные выражения воспринимаем, не отвлекаясь на актуализацию заложенных в них изначально
образных кодов: как, в самом деле, по-другому сказать о наличии света или дождя? Процесс девальвации внутренней формы языковых метафор протекает медленно, незаметно и напоминает утрату живых предметных ассоциаций в названиях
денежных единиц: кому придет в голову отыскивать изображение копья на современной российской копейке или пробовать на зуб современный польский злотый?
Однако нередко стертые языковые метафоры реанимируются, оживляются, попав в активное поле художественного
контекста. Для этого необходимо тем или иным способом активизировать наше заторможенное внимание, например,
слегка изменив привычную формулу: дождь весело шлепал
по лужам...; промчалась жизнь, а я и не заметил, промчалась, как ночная электричка...; или уже упоминавшийся
случай со стихотворением Владимира Маяковского «Прозаседавшиеся», где реализуется банальная языковая метафора «не
могу же я разорваться»: «Поневоле приходится разрываться./ До пояса здесь,/ а остальное / там»; по той же модели,
но с каламбурным переосмыслением строится образная картина в «Необычайном приключении...»: «Чем так без дела
заходить, / ко мне на чай зашло бы!..»
Эффектный случай реализации языковой метафоры представляет стихотворение О. Мандельштама «Образ твой, мучительный и зыбкий...» (1912):
Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди!
208
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади...
Реализуется примелькавшаяся языковая метафора «грудная клетка», из которой вместе с сердцем вылетело Божье имя.
Окружающий нас мир можно условно разделить на три
составные части: ч е л о в е к , объективные к о н к р е т н ы е
я в л е н и я и неосязаемые, чувственно невоспринимаемые
а б с т р а к ц и и . Все они, хотя и не в одинаковой степени, входят в предмет искусства, в центре которого, как мы уже знаем, находится человек, остальные же многообразные явления
живой и неживой природы, составляющие среду его обитания,
а также созданные им абстрактные понятия располагаются на
периферии. Бесконечно сопротивопоставляя, комбинируя их
между собой, искусство выработало несколько типовых сцособов метафорического преображения.
Одушевляя неодушевленное, наделяя человеческими свойствами те или иные явления живой и неживой природы, художественная литература производит весьма популярную операцию о л и ц е т в о р е н и я : море смеялось, плакучая ива, веселым треском трещит затопленная печь, гильотины
веселый нож ищет шею Антуанетты, облако в штанах, из
памяти изгрызли годы, и паутины тонкий волос лежит на
праздной борозде... За любым явлением природы или абстрактным явлением при олицетворении проступает человек: смеющийся, плачущий, веселый, бездумно жестокий, безукоризненно нежный, голодный или стареющий... Прямо об этом не говорится,
но
перенос
значения
самопроизвольно
осуществляется благодаря продуманному соединению слов,
принадлежащих к разным смысловым рядам.
Вид метафоры, прямо противоположный олицетворению,
называется о в е щ е с т в л е н и е м . При овеществлении характеристика живого существа или какой-либо его части основывается на свойствах и атрибутах вещного, чаще всего природного мира: Боянъ бо вещий, аще кому хотяше п*кснь творити, то раст<ккашется мыслию по древу, скрымъ вълкомъ
по земли, шизымъ орломъ подъ облакы; синий омут задумчивых глаз, безнадежные карие вишни; жемчужные зубы; руки
милой — пара лебедей в золото волос моих ныряют; и очи синие, бездонные цветут на дальнем берегу... Овеществляющая
метафора возвращает человека в лоно его естественной среды
обитания, наделяет его идеальными природными признаками или, наоборот, разоблачает его отход от натуры: железная
8—3039
209
воля, стальной характер, как закалялась сталь, серый дым
из безумных глаз, гвозди бы делать из этих людей, не было б
в мире крепче гвоздей...
Также к овеществляющим метафорам приходится отнести такие случаи, когда одно явление природного мира передается за счет другого: в саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть. Вряд ли стоит при этом
прикидывать, какой предмет из двух приравниваемых ближе к человеку: костер или рябина.
Рокировка по оси «абстрактное — конкретное» продуцирует два вида метафорического преображения: абстрагирующий,
расширяющий значение образа с и м в о л (от греч. symbolon —
знак, примета) и конкретизирующую уточняющую а л л е г о р и ю (от греч. allos+agoreuo — иносказание).
С и м в о л о м принято называть такую разновидность словесно-художественного образа, которая обадает повышенной значимостью и особой силой обобщения. «Механизм» действия символа наиболее глубоко и обстоятельно был вскрыт и описан великим русским философом и филологом А.Ф. Лосевым: «Символ
вещи, хотя он, вообще говоря, является ее отражением, на самом деле содержит в себе гораздо больше, чем сама вещь в ее непосредственном проявлении... Символ — оружие познания и переделывания самой действительности... Символ всегда содержит
в себе какую-то идею, которая оказывается законом всего его построения. .. Если всякий символ вещи есть ее знак, то опять-таки
далеко не всякий знак вещи есть ее символ». (Лосев AsP. Проблема символа и реалистическое искусство.М., 1976)
Так, солнечное затмение в «Слове о полку Игореве» — не
просто природное явление, а символ надвигающейся беды,
символ родового проклятия, тяготеющего над Игорем, который тем не менее пренебрегает грозным предостережением,
движимый страстным желанием отодвинуть опасность от рубежей родной земли: «Хощу бо, — рече, — копие приломити
конець поля Половецкаго; с вами, русици, хощу главу свою
приложити, а любо испити шеломомъДону». Традиционные
формулы: копие приломити конець поля, главу свою приложити, испити шеломомъДону, конечно, не следует понимать
буквально, поскольку все эти жесты носят ярко выраженный
ритуальный, символический характер: в первых двух случаях обозначить готовность погибнуть, в последнем — альтернативную возможность победы.
Не менее содержателен центральный символ поэмы Гоголя «Мертвые души» — птицы-тройки, знаменующий собой,
210
конечно, не бричку Чичикова, глядя на колеса которой крестьяне гадают, доедет ли она до Казани, а исторические судьбы
несущейся к своему будущему России. Вспомним недоумение
шукшинского героя, с которым он является к учителю своего
сынишки: кто же, черт возьми, сидит в этой тройке, неужели
жулик и проходимец Чичиков?!
Значительными символическими потенциями обладают
так называемые вечные образы Прометея, Одиссея-Улисса,
Гамлета, Дон Жуана, Дон Кихота, Скупого рыцаря, Плюшкина и др., одного упоминания которых достаточно, чтобы
вызвать в нашем воображении расширительно-абстрагированную идею жертвенности, хитроумия, рефлексии, женолюбия, благородства, скупости.
Конец XIX — начало XX вв. — время возникновения и развития модернистского течения символизма, в художественной
системе которого символ получает центральное, доминирующее значение. Таковы, например, знаменитые образы-символы Александра Блока: Прекрасная дама, Незнакомка, Соловьиный сад, Двенадцать.
Числительное Двенадцать, вынесенное в заголовок гениальной поэмы, символически сынтегрировало в себе и количественный состав патрулей в революционном Петрограде, и
каноническое число апостолов, учеников Иисуса Христа, и
последний, роковой «двенадцатый» час надвигающегося общественного Апокалипсиса-революции, и архитектонику самого произведения, насчитывающего двенадцать главок.
До символических размеров может вырастать иногда и
вполне конкретный образ вещного или природного мира. В стихотворении Георгия Иванова «Еще я нахожу очарованье...»
такая метаморфоза происходит с одним из самых репрезентативных образов его поэзии — образом розы:
Еще я нахожу очарованье
В случайных мелочах и пустяках —
В романе без конца и без названья,
Вот в этой розе, вянущей в руках.
Мне нравится, что на ее муаре
Колышется дождинок серебро,
Что я нашел ее на тротуаре
И выброшу в помойное ведро.
Пропагандируемая здесь эстетика предполагает демонстративную эклектику на всех ярусах художественной структуры — явно преднамеренный беспорядок, бессистемность, сумбур, ёрническое выпячивание безобразного, контрастное противопоставление друг другу несовместимых стилистических
рядов, то, что в совокупности составляет профанное искусство,
211
рассчитанное на профанное восприятие, искусство, которое мы
презрительно именуем ярмарочной безвкусицей, крикливой
дешевкой, кичем. Последний при этом может быть натуральным, первичным, его творцы обычно непрофессионалы, достигающие, впрочем, в своем роде завидных вершин мастерства
(в живописи самый потрясающий пример — грузинский художник Сандро Пиросманишвили, в музыке — рок-группы), и
искусственным, вторичным, виртуозно имитирующим профанность, наивность, детскую непосредственность (Сальвадор
Дали, Игорь Стравинский),
Кичевая установка Георгия Иванова, конечно, принадлежит к образцам вторичным, искусственным, тем более поэт
виртуозно владел и другими, подчас диаметрально противоположными кичу, рафинированными стилями. Это был, что
называется, профессионал экстра-класса, обладавший высочайшим даром имитации и пародирования; его творческая
свобода была столь совершенной и простиралась столь далеко, что он не боялся даже прямых заимствований.
Но вернемся к стихотворению «Еще я нахожу очарованье...». Среди случайных «мелочей и пустяков» в нем оказались «роман без конца и без названья» и, может быть, самый
частотный и характерный для Георгия Иванова образ розы,
фиксируемый в его поэзии не менее пятидесяти раз. В подавляющем большинстве случаев роза гостила в стихах поэта как
примелькавшийся символ любви, поэзии и красоты, с постоянными, а потому не бросающимися в глаза эпитетами: «слаще роз» («Мечтательный пастух»); « разноцветные розы» (« Заставка»); «вечная роза», к тому же с вечным «соловьем»
(«Меня влечет обратно в край Гафиза...»).
Необычайное богатство колористических оттенков позволяет придать этому образу широчайший спектр самых разнообразных эмоциональных ореолов: собственно «полураспустившийся розовый бутон», который «девушка к платью спешит приколоть» («Ранняя весна»); «темные розы по детским
плечам» («Сиянье. В двенадцать часов по ночам...»; «Только
вечность, как темная роза,/ В мировое осыплется зло» («Только темная роза качнется...»); «Белеют розы на груди...»
(«Портной обновочку утюжит...»); «Желанные губы подкрашены розой заката...» («Мы дышим в предчувствии снега и
первых морозов...»); «Синей розой, печальной звездой / Погибающий светит маяк...» («Это только бессмысленный
рай...»); «Опускайся на самое дно океана, / Бесполезною черною розою горя...» («Разрозненные строфы»).
212
Семантика образа розы значительно обогащается и углубляется, монтируясь с целым рядом значимых и столь же лейтмотивных реалий: «Над закатами и розами...» (1930);
«Сквозь звезды, и розы, и тьму...» и «Сквозь полночь, и
розы...» («Как в Грецию Байрон, о, без сожаленья...»); «Звезды над пустынным садом / Розы на твоем окне...» («Это только синий ладан...»); «Но розы упадут на грудь / Звезда блеснет в окно...» («Когда-нибудь и где-нибудь...»); «Но этот воздух смерти и свободы, / И розы, и вино, и счастье той зимы...»
(«В тринадцатом году еще не понимая...»); «Все розы, которые в мире цвели, / И все соловьи, и все журавли...»; «Сквозь
розы и ночь, снега и весну...» («Все розы, которые в мире цвели...»); «Нам гибель суждена, и погибаем мы / За губы лживые, за солнце вздора, / За этот светп, и лед, и розы, что из тьмы
/ Струит холодная Аврора» («Вздохни, вздохни еще, чтоб душу
взволновать...»); «Только розы цветут на снегу...» («Я люблю
эти снежные горы...»).
Метафорические розы «вздыхают», «горят», «дышат»
и, естественно, «умирают». Потому-то одним из самых распространенных мотивов у Иванова оказывается мотив «вянущей», «отцветшей» или, что одно и то же, «замерзающей»
розы («Оттого и томит меня шорох травы...», «Где отцветают розы, где горит...», «Каждой ночью грозы...», «Почти не
видно человека среди сиянья и шелков...», «И розы увяли, и
пальма замерзла...»).
Одна из лучших, переломных книг Георгия Иванова получила название «Розы». В этом своем значении лексема
«Розы» фигурирует в стихотворении «Маятника мерное качанье...» из сборника «Портрет без сходства»:
Маятника мерное качанье,
Полночь, одиночество, молчанье.
Старые счета перебираю.
«Умереть? Да вот не умираю.
Тихо перелистываю «Розы» —
«Кабы на цветы да не морозы»!
Каламбурная игра слов, подкрепленная скопрометированной еще Пушкиным рифмой, сообщает всему произведению в
целом жутковатое символическое обобщение.
213
Отцветшая, увянувшая роза, от которой отрекся сам Господь Бог («Зачем Господь ее сорвал?»), знаменует прикосновение смерти не только по отношению к себе, но и во вне
себя. В последнем случае она должна быть «брошена на
грудь», надо полагать, покойнику. Эта ситуация трижды
обыгрывается прямо («Когда-нибудь и где-нибудь...»,
«В награду за мои грехи...» и «Портной обновочку утюжит...») и несколько раз опосредованно («Все розы, которые в мире цвели...», «Полутонарябины и малины...», «Разрозненные строфы» и др.)Таким образом, мотив розы, подобно снежному кому, пущенному с горы, на протяжении всего творческого пути поэта
постепенно обрастает все новыми и новыми ассоциациями,
которые вступают между собой в сложнейшую семантическую
игру, обогащающую как весь куст соответствующих воплощений в целом, так и каждую его отдельную ветвь. В частности,
в программном стихотворении «Еще я нахожу очарованье...»
роза, подобранная лирическим героем «на тротуаре», совершенно закономерно выламывается из «случайных мелочей и
пустяков» и приобретает «в трансцендентальном плане» исключительно емкий и многогранный символический смысл.
С одной стороны, это абсолютно конкретная, единственная в
своем роде роза, о чем недвусмысленно свидетельствуют и указательная частица «вот», и указательное же местоимение
«эта», и неповторимые приметы ее «внешнего облика»: «вянущая в руках», «на ее муаре колышется дождинок серебро»,
и, наконец, совершенно определенно обозначенный маршрут
из прошлого в будущее: найденная на улице, будет брошена в
помойное ведро. С другой стороны, этой розе уготована почетная роль наглядного примера характерного образного построения, свойственного эстетике кича: не какой-нибудь «демократический» одуванчик (как у А. Ахматовой), а «аристократическая» роза, чья родословная простирается, возможно, в
«край Гафиза и Омар Хайяма», над которой наверняка «свистел персидский соловей», которая цвела и замерзала в трагических снегах России, которую в пору бы бросить в гроб поэту
отвергшей его стране, не находит лучшего применения, как
оказаться ... в помойном ведре\ Что это? Шокирующий цинизм? Или горькая самоубийственная ирония? Или полнейшая эстетическая неразборчивость? Видимо, и то, и другое, и
третье, и кое-что еще, из других внеположенных перечисленным аспектам рядов. Это кич в действии, искусство эпатирующего волюнтаризма, непроизвольного или трезво рассчитан 214
ного на искомый эффект стилистического сумбура — то, что
позволяло, например, Сергею Есенину обвенчать «розу с жабой», или тому же Георгию Иванову сочетать в едином катрене «персидского соловья», «розу» и «яму, могильных полную
червей», либо «думать» о некой «замызганной кошке / Или о
розах», чтобы в результате «забыть о себе».
Если символ, абстрагируя, расширяет значение поэтического образа, аллегория действует в противоположном направлении, являя собой род иносказания, посредством которого
отвлеченная идея передается через конкретный пластический
образ. Так, в гомеровской «Илиаде» могучая Обида шагает
по главам воинов, а робкие молитвы подъемлют очи косые.
Любопытный феномен пьесы, в которой действовали исключительно аллегорические персонажи, представляли собой
средневековые моралитэ. В не меньшей степени аллегорические образы были характерны для поэтики классицизма и социалистического реализма.
Стоит посетить некрополь с захоронениями конца XVIII —
начала XIX в. Там мы обнаружим полный набор аллегорических образов как в скульптурной пластике, так и в надгробных
надписях: погасшие, опрокинутые факелы, пригорюнившиеся ангелы, стилизованные скорбные урны, запечатленные в
камне лавровые венцы и пр. Видимо, такую картину узрел
Владимир Ленский, посетив могилу своего так и не состоявшегося тестя:
И так они старели оба.
И отворились, наконец,
Перед супругом двери гроба,
И новый он приял венец.
Он умер в час перед обедом,
Оплаканный своим соседом,
Детьми и верною женой
Чистосердечней, чем иной.
Он был простой и добрый барин,
И там, где прах его лежит,
Надгробный памятник гласит:
Смиренный грешник, Дмитрий Ларин,
Господний раб и бригадир,
Под камнем сим вкушает мир.
Не надо быть слишком проницательным читателем, чтобы заметить, как Пушкин тонкими, ювелирными намеками
215
воспроизводит аллегорическую образную систему классицизма, к которому он все же прикоснулся в самом начале своего
творческого пути. Словосочетание отворились... двери гроба
ни в коем случае нельзя квалифицировать как художественный просчет поэта: речь не идет о гробе, оборудованном дверями; перед нами клишированная аллегория смерти, вернее —
перехода в загробный мир. Стилистически выверенное словосочетание И новый он приял венец не означает принятие какого-то нового венца взамен старого (покойник, как мы помним, «в халате ел и пил»), а иносказательно трактует переход Дмитрия Ларина в мир иной. Точно так же образное
выражение в конце простодушной эпитафии Под камнем сим
вкушает мир не должно вызывать неуместных гастрономических ассоциаций; и на этот раз Пушкин с доброй иронией
использует аллегорию обретения вечного покоя, превратившуюся в заурядный шаблон.
Аллегорические образы соцарта хорошо просматриваются в таких произведениях В. Маяковского, как пьесы «Мистерия-Буфф» и «Баня», а также поэмы «150 ООО ООО», «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо», в лирическом Мы поэтов Пролеткульта и «Кузницы», в романе А. Серафимовича
«Железный поток», в популярном плакате военной поры «Родина-мать зовет!», в «Гимне Советского Союза» на слова Г. Peгистана и С. Михалкова, в поэме Эдуардаса Межелайтиса
«Человек», в поэмах Евгения Евтушенко «Братская ГЭС» и
Роберта Рождественского «Реквием» и пр.
Наконец, по своим структурным особенностям метафоры могут быть лексическими, если образ создается простым
словосочетанием через перенос значения одного из них: «Век
девятнадцатый железный, / Поистине жестокий век!» или,
реже, двух слов: «Тоска дорожная, железная!» (А. Блок);
«В железных ночах Ленинграда / По городу Киров идет»
(Н. Тихонов).
Метафоры другого типа, в которых образное развитие распространяется на целое предложение, фразу, а то и произведение в целом, называются р а з в е р н у т ы м и . Таковы многие метафоры Владимира Маяковского:
Вашу мысль, мечтающую на размягченном мозгу,
Словно выжиревший лакей на засаленной кушетке,
Буду дразнить об окровавленный сердца лоскут,
Досыта изыздеваюсь, нахальный и едкий.
(«Облако в штанах»)
216
Парадом развернув своих страниц войска,
Я прохожу по строчечному фронту.
Стихи стоят свинцово-тяжело,
Готовые и к смерти, и к бессмертной славе;
Поэмы замерли, прижав к жерлу жерло
Зияющих, нацеленных заглавий
(«Во весь голос»)
и Осипа Мандельштама:
Идут года железными полками,
И воздух полн железными шарами.
Оно бесцветное — в воде железясъ,
И розовое, на подушке грезясь.
Железная правда — живой на зависть.
Железен пестик, и железна завязь
И железой поэзия в железе,
Слезящаяся в родовом разрезе.
(«Идут года железными полками...»).
Отличительным свойством метафоры можно считать ее готовность распространиться до сравнения. В этом смысле, противоположным метафоре тропом является м е т о н и м и я (от
греч. слова metonymia — переименование), которая не предполагает такого распространения. Обычно под метонимией
подразумевают переименование на основе смежности путем наложения на переносное значение слова его прямого значения,
т.е. замену слова или понятия другими, имеющими с ними
какие-либо причинные связи. Например, вместо произведений
автора указывается сам автор: «Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал...» или, наоборот, вместо автора называются популярные герои его произведений: «Однако несколько творений / Он из опалы исключил: / Певца Гяура и Жуана / Да с
ним еще два-три романа...», «Певцу Гюльнары подражая, /
Сей Геллеспонт переплывал...» (в обоих случаях имеется в
виду Байрон); вместо содержимого сосуда может указываться
сам сосуд: «Шипенье пенистых бокалов / И пунша пламень
голубой...»; «Я три тарелки съел...»; вместо вещи — материал, из которого она изготовлена: «Не то на серебре, на золоте
едал...»; вместо носителя свойства — само свойство: «вороные
217
рванули с места...», «Аппаратура! — подсказал клетчатый»;
вместо исполнителя функции — сама функция: «Левый крайний, милый мой, / Ты играешь головой!..»; вместо субъекта
действия — его атрибут: «Только слышно по улицам где-то /
Одинокая бродит гармонь...»; «Комдив имел под рукой сотню
сабель и две сотни штыков» (т.е. сотню кавалеристов и две
сотни пехотинцев). Некоторые метонимические образы бывают
столь сложно зашифрованы, что декодировать их стоит немалого труда'и фантазии. Пастернаковская ветка сирени, вбегающая
в трюмо не сразу признается, что она в руках девочки.
Особая разновидность метонимии, указывающей на количественные соотношения, — с и н е к д о х а (отгреч.synekdoche —
соотнесение). Здесь также возможны несколько вариантов:
или целое заменяет часть: «Вся земля от холода гудела...»,
«Его зарыли в шар земной...»; или часть — целое: «Скажите,
скоро ль нам Варшава <т.е. Полыпа> предпишет гордый свой
закон?»; или единственное число замещает неопределенное
множество: «Все спит: и человек, и зверь, и птица...»,
«И слышно было до рассвета, / Как ликовал француз...»,
«Швед,русский колет, рубит, режет...»; или для этой же цели
используются большие круглые числа: «Сто раз вам повторять!..», «Мильон терзаний».
Мастерски использует синекдоху в прозе Лев Толстой. Есть
люди, созданные друг для друга как бы самой природой, и тогда, если им повезло встретиться, они понимают друг друга без
слов. Таковы Кити Щербацкая и Константин Левин в «Анне
Карениной» (чего стоит их разговор с помощью начальных
букв подразумеваемых слов в кульминационный момент любовного объяснения!). Задолго до того, как герои счастливо
обрели взаимное чувство, оно уже пробивает себе дорогу через
улыбку Кити:
«Он узнал, что она тут по радости и страху, охватившим
его сердце. Она стояла, разговаривая с дамой, на противоположном конце катка. Ничего, казалось, не было особенного
ни в ее одежде, ни в ее позе; но для Левина так же легко было
узнать ее в этой толпе, как розан в крапиве. Все освещалось
ею. Она была улыбка, озарявшая все вокруг».
В дальнейшем, развертывая сцену свидания на катке, писатель неустанно сравнивает многозначительную улыбку героини, говорящую и обещающую, вопреки недалекой работе
ее мысли больше слов, — с солнечными лучами:
«Он сошел вниз, избегая подолгу смотреть на нее, как на
солнце, но он видел ее, как солнце, и не глядя...
218
— У меня и коньков нет, — отвечал Левин, удивляясь смелости и развязности в ее присутствии и ни на секунду не теряя
ее из вида, хотя и не глядел на нее. Он чувствовал, что солнце
приближалось к нему... Она катилась не совсем твердо; вынув руки из маленькой муфты, висевшей на снурке, она держала их наготове и, глядя на Левина, которого она узнала,
улыбалась ему и своему страху. Когда поворот кончился, она
дала себе толчок упругою ножкой и подкатилась прямо к Щербацкому и, ухватившись за него рукой, улыбаясь, кивнула Левину... Детскость выражения ее лица в соединении с тонкой
красотою стана составляли ее особенную прелесть, которую он
хорошо помнил: но что всегда, как неожиданность, поражало
в ней, это было выражение ее глаз, кротких, спокойных и правдивых, и в особенности ее улыбка, всегда переносившая Левина в волшебный мир, где он чувствовал себя умиленным и
смягченным, каким он мог запомнить себя в редкие дни своего раннего детства...
— Вы все, кажется, делаете со страстью, — сказала она,
улыбаясь...
— И я уверен в себе, когда вы опираетесь на меня, — сказал он, но тотчас же испугался того, что сказал, и покраснел.
И действительно, как только он произнес эти слова, вдруг, как
солнце зашло за тучи, лицо ее утратило всю свою ласковость,
и Левин узнал знакомую игру ее лица, означавшую усилие
мысли: на гладком лбу ее вспухла морщинка.
...«Славный, милый», — подумала Кити в это время, выходя из домика с m-lle Linon и глядя на него с улыбкой такой
ласки, как на любимого брата...
Сухость эта огорчила Кити, и она не могла удержаться от
желания загладить холодность матери. Она повернула голову
и с улыбкой проговорила:
— До свидания...
— Едем, едем, — отвечал счастливый Левин, не переставая слышать звук голоса, сказавший «До свидания», и видеть
улыбку, с которою это было сказано...
Всю дорогу приятели молчали. Левин думал о том, что означала эта перемена выражения на лице Кити, и то уверял
себя, что есть надежда, то приходил в отчаяние и ясно видел,
что его надежда безумна, а между тем чувствовал себя совсем
другим человеком, не похожим на того, каким он был до ее
улыбки и слов «До свидания»...»
Необычайно эффектную и эффективную в художественном
отношении форму тропа представляет и р о н и я (от греч.
219
eironeia — притворство) — слово или выражение, понимаемые не в прямом, а в прямо противоположном смысле: «Откуда умная бредешь ты, голова?» — обращается в крыловской
басне лиса к... ослу. Но ирония может иметь и трагический
характер, и тогда она особенно потрясает:
И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных...
(О. Мандельштам)
В последнем случае имеются в виду люди из НКВД, бравые чекисты, вырвавшие «с мясом звонок» из дверей квартиры, в которой жил Мандельштам... Изображаемая ситуация
может означать только одно — ночной арест.
Мужественная сатирическая ирония слышится и в другом,
не менее знаменитом стихотворении, которое в конечном итоге привело Мандельштама к гибели:
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как чугунные гири, верны...
Разве не дополняет она убийственный портрет Сталина, отличавшегося вероломством, жестокостью, склонностью к демагогии, примитивизмом мышления и косноязычием (вспомним, как воспроизводит его работу над «Марксизмом и языкознанием» А. Солженицын в «Круге первом»)?!
Резкий сдвиг значения — демонстративного преувеличения
или преуменьшения дают г и п е р б о л а (от греч. hyperbole —
излишек, преувеличение) и л и т о т а (греч. litotes — простота). Это две разновидности тропов, как замечательно показал в первой и второй частях своего романа «Путешествия
Гулливера» Джонатан Свифт, две крайности одного и того
же, поэтому л и т о т у нередко называют о б р а т н о й г и перболой.
Художественное преувеличение и преуменьшение составляют одну из доминирующих особенностей фольклорной поэтики.
Былинный богатырь Илья Муромец, например, просидел
сиднем тридцать лет и три года, зато потом, обретя исполинскую силу, проявляет ее в гиперболически преувеличенных формах: побеждает несметное количество врагов: где махнет, там станет улица, отмахнется — переулочек, в эпизоде с плененным Соловьем-разбойником свистит по просьбе
220
князя Владимира вполсвиста, но так сильно, что маковки у
церквей покосились...
В шуточной народной песне «Дуня-тонкопряха» (обратим внимание на иронию в названии) героиня «Три часа
пряла, / три нитки напряла, / потоньше полена, / потолще колена», затем она эти нитки «в огород вдевала, / колом
притыкала».
А вот до каких размеров вырастает фигура лодыря в частушке: «Сидит лодырь у ворот, / широко разинул рот, / и
никто не разберет, / где ворота, а где рот».
Писатели, ориентирующиеся на фольклор, охотно культивируют этот вид образно-речевой выразительности, придавая ему еще больший размах: «Я видывал, как она косит: /
Что взмах, то готова копна!» (Некрасов); шаровары у запорожцев «шириной с Черное море» и «Редкая птица долетит
до середины Днепра» (Гоголь); «Разевает рот зевота / Шире
Мексиканского залива» (Маяковский).
Гиперболизм поэтического мышления Маяковского был
сродни гиперболизму всей его двухметровой фигуры, зычного
голоса и бешеного темперамента. Каждое его стихотворение,
согласимся с Корнеем Чуковским, есть огромная коллекция
гипербол, без которых он не может обойтись ни минуты. Как
переживает его лирический герой любовь? Вместо банального
огня в его сердце грандиозный пожар, который нельзя потушить «сорокаведерными бочками (!) слез». Дальше — больше:
прискакали пожарные, пытаются залить разбушевавшееся
пламя, но гиперболизированная метафора стремительно разрастается: загорелось лицо, занялся рот, раскололся череп, обуглились и рухнули ребра. Вселенская катастрофа!
Впрочем, некоторые гиперболы Маяковского находят
прочную бытовую основу. Так загадочное выражение «в сто
сорок солнц закат пылал» из «Необычайного приключения»
восходит к обыкновенной лампочке в «140 ватт» или, как в
ту пору любили говорить, «140 свечей»; заменив свечи на
солнца, поэт превратил литоту в фантастическую гиперболу...
Некоторые гиперболы, окунувшись в стихию анекдота,
становятся как бы всеобщим достоянием:
Автомедоны наши бойки,
Неутомимы наши тройки,
И версты, теша праздный взор,
В глазах мелькают, как забор.
221
В примечании Пушкин приводит гиперболизированное
сравнение путешественника, которого можно смело считать
прототипом гоголевского Хлестакова: «Сравнение, заимстованое у К**, столь известного игривостию изображения. К... рассказывал, что, будучи однажды послан курьером от князя
Потемкина к императрице, он ехал так скоро, что шпага его,
высунувшись концом из тележки, стучала по верстам (т.е. по
верстовым столбам. — О.Ф.), как по частоколу».
Истоки литоты как тропа также уходят в устное народное творчество, традиции которого затем перенимают сказочники и писатели-сатирики. Примерами могут служить и
«небо с овчинку», и «мальчик-с-пальчик», и Дюймовочка,
и некрасовский «мужичок-с-ноготок», и в устах подобострастничающего Молчалина у Грибоедова: «...прелестный
шпиц, не более наперстка!», и плещеевский «Мой Лизочек»,
сверхминиатюрная героиня популярного благодаря музыке
П. Чайковского романса.
И, наконец, последняя разновидность тропа — п е р и ф р а з ^ ) (греч. periphrasis — окольный, косвенный оборот)
представляет собой вариант высказывания, подменяющий
отдельное слово или целое выражение со сдвигом значения и
стилистики:
Как часто летнею порою,
Когда прозрачно и светло
Ночное небо над Невою
И вод веселое стекло
Не отражает лик Дианы,
Воспомня прежних лет романы,
Воспомня прежнюю любовь,
Чувствительны, беспечны вновь,
Дыханьем ночи благосклонной
Безмолвно упивались мы!
Как в лес зеленый из тюрьмы
Перенесен колодник сонный,
Так уносились мы мечтой
К началу жизни молодой.
Эта строфа из «Евгения Онегина» почти целиком состоит
из перифраз: первые три стиха — перифрастическое выражение, замещающее очевидную фразу Как часто белыми ночами. Мало того, автор присовокупляет к ним примечание: «Чи222
татели помнят прелестное описание петербургской ночи в
идиллии Гнедича:
Вот ночь; но не меркнут златистые полосы об лак.
Без звезд и без месяца вся озаряется дальность.
На взморье далеком сребристые видны ветрила
Чуть видных судов, как по синему небу плывущих.
Сияньем бессумрачным небо ночное^сияет,
И пурпур заката сливается с златом востока:
Как будто денница за вечером следом выводит
Румяное утро...»
Пушкинское примечание, с подробно процитированной
идиллией Гнедича — тоже не что иное, как перифрастический
вариант знаменитых белых ночей Петербурга.
Далее: И вод веселое стекло (т.е. зеркало) / Не отражает
лик Дианы (т.е. луну). / Воспомня прежних лет романы, / Bocпомня прежнюю любовь — два варианта одного и того же высказывания: речь, конечно, не идет о романах как литературном жанре, иначе ни к чему идеальный параллелизм. Дыханьем ночи благосклонной / Безмолвно упивались мы (т.е.
молча вдыхали свежий ночной воздух). Последнее четверостишие также перифрастически передает воспоминания о первой молодости.
В иных художественных системах — в барокко, сентиментализме, маньеризме перифраза превращалась в самоцель и
отнюдь не способствовала точности изображения и выражения. Пушкин строго осуждал тех писателей, «...которые, почитая за низость изъяснить просто вещи самые обыкновенные,
думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами»: «Эти люди никогда не скажут дружба, не прибавя: сие священное чувство, коего благородный пламень и пр.
Должно бы сказать: рано поутру — а они пишут: едва первые
лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного
неба — ах как это все ново и свежо, разве оно лучше потому
только, что длиннее».
При всем своем многообразии тропы составляют некое системное единство с двумя противоположными центрами: м е т а ф о р о й и м е т о н и м и е й , вокруг которых группируются все остальные модификации. Группа метафоры объединяет вокруг себя олицетворение — овеществление, символ —
аллегорию, иронию и косвенно сравнение. Группа метонимии — соответственно синекдоху, перифразу и косвенно
223
эпитет. При этом строгих непроницаемых перегородок ни между группами, ни между тропами не существует. Один троп
может интерпретироваться одновременно и как эпитет, и как
метафорическое овеществление, и как перифраза: Жил-был
nonj Толоконный лоб. Другой — как эпитет и ирония: Как
ныне сбирается вещий Олег (иронический характер постоянного эпитета, вынесенного в заголовок пушкинской баллады,
проясняется только к финалу). В составе развернутых сравнений и метафор можно при желании обнаружить практически
все виды тропов.
Вопросы для самостоятельного изложения
1. О. Мандельштам назвал слово в поэтическом языке пучком смыслов, торчащих в разные стороны. Прокомментируйте данное высказывание применительно к механизму образования тропов.
>
2. Какое определение метафоры дал Аристотель? Проиллюстрируйте ее разновидности.
3. Какие разновидности эпитета вы знаете? Какую роль
играет он как знак поэтической системы (например,
фольклора)?
10
синтаксис
поэтической
речи
Поэтические фигуры
Поэтический синтаксис существенно отличается от синтаксиса разговорной и литературной речи. В обычной неофициальной беседе наша речь льется непринужденно, спонтанно — гладко или коряво в зависимости от предмета и жанра
разговора, нашего умения оперативно находить нужные слова и выражения, от ответной реакции аудитории или собеседников, эмоционального состояния общающихся и пр. О синтаксической структуре своей партии мы думаем при этом меньше всего. Она реализуется автоматически — длина
предложений и синтагм, равно как и их соотношение, регулируются в основном частотой дыхания и в значительно меньшей степени речевым опытом и вкусом участников разговора.
Экономя энергию, мы заботимся больше о полноте информации, чем о красоте и стиле ее выражения. Р а з г о в о р н а я
р е ч ь как речь необработанная и практически неиндивидуализированная и в с и н т а к с и ч е с к о м о т н о ш е н и и
с т и х и й н а . Ее объективные параметры подчиняются общестатистическим закономерностям.
В речи литературной, нормированной момент спонтанности и стихийности в развертывании речевого потока целенаправленно исключается. Публично говорящий или пишущий
контролирует себя на всех уровнях: не только на лексическом,
стилистическом и грамматическом, но не в последнюю очередь
и на синтаксическом: следит, чтобы все фразы были законченными, уравновешенными, не слишком длинными и не слишком короткими, старается не запутаться в придаточных предложениях, гармонично сочетая их с главными. С и н т а к с и с
л и т е р а т у р н о й р е ч и при всех неизбежных индивиду225
альных оттенках, налагаемых личностью выступающего, отмечен о р и е н т и р о в а н н о с т ь ю н а н е к и й у с р е д н е н ный, о б щ е п р и н я т ы й стандарт, на н е к у ю образцовую, но шаблонную норму.
П о э т и ч е с к и й с и н т а к с и с организован принципиально иначе. С одной стороны, это результат тщательной
художественной обработки текста, пусть и далеко не всегда
теоретически осмысленной, с другой — так или иначе
индивидуализированный или во всяком случае п о д ч е р к н у т о с т и л и з о в а н н ы й (особенно в речи персонажей и
сказе).
Синтаксическая организация текста — одно из эффективнейших изобразительно-выразительных средств поэтического языка. Будучи элементом единой системы, она занимает в
ней свое особое место, активно взаимодействуя со всеми остальными элементами, как языковыми, так и экстралингвистическими.
Важнейшими элементами упомянутой системы, обусловливающими неповторимость нашего речевого стиля, являются и н т о н а ц и я и связанная с ней р и т м и ч е с к а я о р г а н и з а ц и я высказывания. Легко сымитировать тематические, лексические, стилистические, даже композиционные
пристрастия писателя, гораздо труднее повторить ритмикоинтонационные модуляции его голоса. Об этом хорошо знают
профессиональные пародисты. Если удается «попасть» в интонацию и ритмический строй пародируемого произведения,
эффект бывает более разительным, чем при чисто внешнем
передразнивании излюбленных словечек, образов или той же
манеры произношения.
Интонационно-ритмическая организация поэтического
текста теснейшим образом связана с его синтаксисом. Их органическая взаимозависимость особенно ощутима в его устном
воспроизведении. Недаром многие писатели или проговаривают текст в процессе его написания, или обязательно стремятся проверить «на слух», читая близким либо на публике.
Произведения устной народной поэзии и древнейших национальных литератур изначально предназначались для публичного исполнения, возглашения. Чтение художественного
текста глазами, «про себя» пришло гораздо позднее, когда грамотность и книги стали по-настоящему доступны всем. Однако были в системе древних литератур жанры, исключительно
рассчитанные на устное исполнение. Таковы в античной литературе памятники судебного, политического и эпидейкти226
ческого (торжественного) красноречия, а в древнерусской литературе — «проповеди», «слова», «поучения», «беседы» и
«моления», которые медиевисты также относят к «учительному» и «торжественному» красноречию.
В недрах древнего ораторства появились и первые теоретические пособия, руководства для желающих постичь тайны высокого искусства публичной речи. Это были так называемые р и т о р и к и , в которых значительное место занимает
у ч е н и е о ф и г у р а х — основных элементах поэтического
синтаксиса.
Переводные и созданные по их примеру оригинальные риторики широко тиражировались и в принявшей из Византии
христианство Киевской Руси. Древнейшим памятником, в составе которого читается статья «О образехъ» Георгия Хиробоска, несомненно риторической ориентации, был «Изборник Святослава 1073 г.».
Под фигурами античные риторы подразумевали сознательное «изменение <конструкции>, ведущее к услаждению слуха» (Афиней из Панкратпиды и Аполлоний Молон//Античные
теории языка и стиля. JI., 1936. С. 259). Как видим, имеются
в виду средства синтаксической выразительности поэтического языка, прежде всего гармонизирующие речь, делающие ее
«красной» (красивой, отличной от обыденной, бытовой). Несколько забегая вперед, отметим, что среди риторических
фигур есть и такие, которые действуют в противоположном
направлении, возмущают естественное стремление к гармонии, но тем не менее способствуют эмоциональной и художественной выразительности. И те, и другие представляют собой искусственные отклонения от некой естественной нормы,
имеющие несомненную цель усилить эстетический эффект
высказывания.
По своей речевой природе фигуры подразделяются на лексические и стилистические; материалом первых служат слова, материалом вторых соотношение слов, т.е. словосочетания
и предложения.
В свою очередь, лексические фигуры предполагают три
способа эстетического преображения словесного ряда: 1) прибавление, включающее в себя: а) повторы, б) амплификацию,
плеоназм и в) многосоюзие; 2) убавление, включающее:
а) силлепсис, б) эллипсис и в) бессоюзие; и 3) перемещение,
включающее: а) инверсию (антитезу, апостроф, гипербат,
анаколуф), б) градацию и антиклимакс, а также в) параллелизм (изоколон, триколон, хиазм).
227
Рассмотрим их по отдельности.
Операция прибавления предполагает насыщение фразы
как бы «лишними» словами. Но в поэтическом языке, как мы
знаем, нет ничего лишнего: все идет в дело, «каждое лыко — в
строку »! Прибавление должно быть художественно мотивированным и оправданным. Если в песне Булата Окуджавы трижды повторяется одно и то же слово:
Уходит взвод в туман, в туман, в туман,
А прошлое ясней, ясней, ясней...
— это не означает, что взвод уходит сначала в один туман,
потом во второй, а потом в третий, а прошлое три раза проясняется. Повторы в обеих строчках обеспечивают модальность
постепенности длящегося события и, что гораздо важнее,
интонацию элегической грусти его переживания: чем дальше
уходят солдаты в символический туман неизвестности, из
которого большинство из них никогда не вернется, тем яснее
становится для них удаляющееся прошлое.
Другой вид прибавления — амплификация (от лат.
amplificatio — распространение, расширение) или плеоназм
(от греч. pleonasmos — излишество) имеет более откровенный
характер синонимической избыточности, хаотичного нагромождения доводов, равнозначных слов и выражений. Однако
и он может быть художественно целесообразным.
В XIV—XV вв. широкое распространение на Руси получила литературная манера, представлявшая крайнее выражение
риторически украшенной, декоративно оформленной речи —
плетение словес. Образцовое произведение этого стиля —
«Житие Стефана Пермского, написанное Епифанием Премудрым». Епифаний был не только писателем, но и изографом,
художником, украшавшим собственноручно написанные книги характерным плетеным ременным орнаментом, типологически созвучным его литературной манере. Стилистическая
доминанта «Жития Стефана Пермского...» — обостренное внимание к слову, не только к его значению, но и к форме, установка на интенсивную словесную игру — разветвленную затейливую амплификацию. При этом автором движет не холодное стремление украсить речь условными словесными
фиоритурами, а горячее эмоциональное возбуждение, искреннее экстатическое чувство по отношению к своему герою.
В главке «О призвании и веровании многых язык» ученые рассуждения о языках, в том числе пермском, об азбуках — ев228
рейской, сирийской, египетской, греческой, о долгих усилиях, понадобившихся для сложения последней и по контрасту — о подвиге Стефана, создавшего пермскую азбуку единолично и сразу, переходят в тираду, в центре которой выделяется амплифицируемая пара антонимов «много» и «един»:
«Коль много лет, мнози философи еллинстии събирали и составливали грамоту греческую и едва уставили мноземи труды, и многими времены, едва сложили, пер'мьскую же грамоту един чернец сложил, един составил, един счинил, един
калогер, един мних, един инок, Стефан, глаголю, приснопомнивый епископ, един, в едино время, а не многа времена и лета,
яко же и они, но един инок, един вьединеный и уединясся един
уединений един единого Бога помощи прося, един единого Бога
на помощь призываа, един единому Богу моляся...» и т.д.
Применив здесь одну из эффективнейших фигур для достижения «словесной сытости» — плеоназм, по определению
Хиробоска, «изобилие... егда избыва речь от речи ничего же
боле не знаменуеште», Епифаний, кроме того, добивается отчетливой ритмической организации текста, которую можно
рассматривать как эмбриональную форму русского стиха.
С необыкновенным художественным эффектом амплификацию лейтмотивного слова использует в стихотворении
«Воздух пасмурный влажен и гулок...» (1911), доводя до
крайних пределов трагический мотив одиночества, О. Мандельштам:
Воздух пасмурный влажен и гулок;
Хорошо и нестрашно в лесу.
Легкий крест одиноких прогулок
Я покорно опять понесу.
И опять к равнодушной отчизне
Дикой уткой взовьется упрек,—
Я участвую в сумрачной жизни,
Где один к одному одинок!
Но плеоназм может быть адекватным средством передачи
так называемой басенной р е т а р д а ц и и — многословного
балагурства, отличающего басенного рассказчика, или косноязычия какого-либо персонажа, мучительно добирающегося
до сути: «...а что касается того, относительно чего, то есть не
как что-либо, а что-либо как...» Примерно таким же, выхолощенным советским новоязом, несущим в себе гигантское социальное обобщение, выражаются платоновские герои:
«—Я слышал, товарищи, вы свои тенденции здесь бросали,
так я вас попрошу стать попассивнее, а то время производству
настает! А тебе, товарищ Чиклин, надо бы установку на Козлова взять — он на саботаж линию берет... Вам, товарищ Жа229
чев, я полагаю, уже достаточно бросать свои выражения и пора
всецело подчиниться производству руководства...»
Особую разновидность художественно оправданного многословия составляет многосоюзие. Многократное повторение
одного и того же союза, например «и», сообщает тексту форсированное эмоциональное напряжение и отсылает его к Библии:
Моих ушей коснулся он, —
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горних ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный, и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Совпадая с явлением анафоры, взаимодействуя с архаизмами (внял, горних, гад, дольней, к устам, мудрыя, десницею,
угль, во грудь, водвинул) и резонируя с соответствующей тематикой, многосоюзие в пушкинском «Пророке» создает полную
иллюзию не имитации, а по крайней мере конгениального перевода библейского текста.
Подобно скульптору, который отсекает от каменной глыбы все лишнее, прежде чем добраться до задуманного шедевра, действует и писатель, применяя фигуры удаления. Оказывается, и недосказанное слово сохраняет свое значение и
даже приумножает его. Силлепсис (от греч. syllepsis — сочетание) и эллипсис (от греч. elleipsis — выпадение, опущение),
а также каким-либо способом выдвинутое, подчеркнутое бессоюзие создают речевую ситуацию, при которой пропущенные
слова легко угадываются, фактически отсутствуя, парадоксальным образом участвуют в построении фразы и дополнительно сообщают высказыванию эффект виртуозной обиходности, неофициальности, ускоряя темп речи (особенно стихотворной):
И между тем душа в ней ныла
И слез был полон томный взор.
Вдруг топот!., кровь ее застыла
Вот ближе! скачут... и на двор
Евгений! «Ах!» — и легче тени
Татьяна прыг в другие сени,
230
С крыльца на двор и прямо в сад,
Летит, летит; взглянуть назад
Не смеет...
(А. Пушкин. «Евгений Онегин»)
А я ему — на самовар:
— Ну что ж, садись, светило!
(В. Маяковский. «Необычайное приключение...»)
В первом случае изъятия нескольких слов мы почти не замечаем, настолько естественно и захватывающе течет взволнованное авторское повествование, перемежаемое междометиями
потерявшей голову от страха героини. Тем не менее «полный»
текст с третьей строки должен был бы выглядеть примерно так:
Вдруг <раздался или она услышала> топот\..<От страха>
кровь ее застыла. / Вот сслышит она, он раздается все> ближе! <Всадники> скачут... и на двор / <въезжает> Евгений!
«Ах!» — <вскрикивает девушка> — и легче тени / Татьяна
прыг<ает> в другие сени, / С крыльца <она выбегает> на двор,
и <бросается> прямо в сад, / летит, летит... и т.д.
Можно, при желании, восстановить и «полный» текст Маяковского:
А я ему — <указываю> на самовар / <и приглашают —
Ну что ж, садись, светило!
Как видим, наши дополнения, мягко говоря, не улучшают повествование.
Бессоюзие становится эстетически действенным только
при его художественнной актуализации тем или иным способом; например, по контрасту с многосоюзием:
Швед, русский — колет, рубит, режет.
Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть и ад со всех сторон.
Первые три строки в отрывке из пушкинской «Полтавы»
выглядят явно обделенными союзами прежде всего потому, что
в заключительном стихе их предостаточно. Бессоюзие, как
правило, ускоряет темп речи и ритмическое движение стиха,
тогда как многосоюзие их затормаживает.
С изумительной пластикой с помощью бессоюзия передается мелькание придорожных строений, пейзажа и обитателей города в сцене проезда по Тверской возка Лариных:
231
Возок несется чрез ухабы.
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.
Частные случаи инверсированных конструкций — антитеза (OyT греч. antithesis — противоположение) (словесная:
Я царь — я раб — я червь — я Бог! ), анастрофа (от греч.
ana+strophe — поворот вперед) (Дар напрасный, дар случайный...), гипербатон (от греч. hyperbaton — перестановка, выносящая за пределы предложения одну из его фиксированных
составляющих) (Расстояние: вёрсты, дали.../Нас расклеили,
распаяли,/В две руки развели, распяв,/ И не знали, что это
сплав/Вдохновений и сухожилий.../Не рассорили — рассорили,/Расслоили... Стена да ров./ Расселили нас, как орлов —/
Заговорщиков: вёрсты, дали...) и анаколуф (от греч.
anakolouthos — непоследовательный, несогласный) (Стой,
братцы, стой! — кричит мартышка) актуализируют выведенные из привычного равновесия слова и словосочетания,
приковывают к ним внимание читателя.
Градация (от лат. gradatio — постепенное возвышение)
и антиклимакс (от греч. antiklimaksis — вниз по лестнице)
располагают элементы перечисления в нарастающей или
убывающей последовательности. Когда Звездочет требует у
царя Дадона в качестве обещанного приза Шамаханскую
царицу, тот ему предлагает взамен: Хоть казну, хоть чин
боярский / Хоть коня с конюшни царской..., полагая, очевидно, что ценность награды увеличивается к концу списка, и здесь он солидарен с другим монархом: «Коня! Полцарства за коня!» — кричит шекспировский Ричард III.
В русской народной сказке «Репка» явление персонажей внешним образом подчиняется нисходящей фигуре антиклимакса, хотя перелом в ситуацию вносит все-таки самая маленькая мышка.
Однако самым популярным и эффективным приемом лексической и одновременно синтаксической гармонизации высказывания в античных риториках почитался параллелизм
(греч. parallelos — идущий рядом, параллельный). Под параллелизмом в общем виде понималось приравнивание друг другу
с и н т а к с и ч е с к и х к о л о н о в (от греч. kolon — член, составная часть предложения), т.е. синтагм, как в количественном, так и в качественном отношении:
232
«Зазеленела старая и вылезающая иглами молодая трава, I надулись почки калины, смородины и липкой спиртовой
березы, I и на обсыпанной золотым цветом лозине загудела выставленная облетавшаяся пчела.||
Залились невидимые жаворонки над бархатом зеленей и
обледеневшим жнивьем, | заплакали чибисы над налившимися бурою неубравшеюся водой низами и болотами, | и высоко
пролетели с весенним гоготанием журавли и гуси.Ц
Заревела на выгонах облезшая, только местами еще не перелинявшая скотина, I заиграли кривоногие ягнята вокруг теряющих волну блеющих матерей,| побежали быстроногие ребята по просыхающим, с отпечатками босых ног тропинкам,
I затрещали на пруду веселые голоса баб с холстами, | и застучали по дворам топоры мужиков, налаживающих сохи и
бороны. I
Пришла настоящая весна» (JI. Толстой. «Анна Каренина»).
Значительный по объему фрагмент толстовской прозы удивительно гармоничен и уравновешен. Три сообщающихся друг
с другом предложения завершаются резко отличающимся от
них четвертым, как бы подводящим итог тирады. Все четыре
имеют в зачине глаголы, стоящие в одной и той же грамматической форме (небольшое отклонение во втором предложении,
где вместо единственного числа множественное); первые три
при этом имеют одну и ту же приставку за-. Каждое предложение делится внутри себя на приблизительно равновеликие
по числу слогов и ударений (24, 21, 31; 27, 32, 22; 29, 26, 29,
18, 26 — слогов и 6, 7, 8; 7, 8, 6; 6, 8, 8, 6, 7 — ударений)
синтаксические отрезки, возглавляемые глаголами, тяготеющими к зачину (лишь с двумя отклонениями) и также анафорически взаимодействующие друг с другом (8 из 11 имеют все
ту же приставку за-). Почти идеальный параллелизм заставляет два колона срифмоваться почти до середины, правда, не
с правой, а с левой стороны: заиграли кривоногие ягнята и побежали быстроногие ребята! Начала и окончания колонов так
же имеют тенденцию к выравниванию (в зачинах до первого
ударения 3,3,2; 2,1,3; 2,2,2,2,3 слога, в завершении после последнего ударения 0,1,0; 0,2,1; 1,0,1,1,2 слога). В результате
помимо удивительно точной, реалистически выписанной картины пробуждающейся после зимы русской деревни созидается волшебная музыка толстовской фразы.
Абсолютный паралллелизм, в котором начала и концы
фраз находятся в соответствии между собой, т.е. когда колоны приблизительно сходны по составу слов, «оканчиваются
233
одинаковыми падежами и имеют созвучные окончания», называется изоколоном (от греч. isos+kolon — равночленное)
или парисоном:
В синем небе звезды блещут,
В синем море волны плещут.
Восхищаясь мастерством Пушкина, Самуил Маршак отмечал абсолютную полноту параллелизма в его исполнении и
разумную естественную последовательность в расположении
его компонентов: небо — наверху, море — внизу.
В более изощренных художественных системах параллелизм может сопровождаться каламбурной игрой слов
и буквально на наших глазах модифицироваться в антитезу:
Поэт издалека заводит речь.
Поэта далеко заводит речь.
(М. Цветаева)
Так же м н ц м ы й п а р а л л е л и з м представляет собой
насквозь прорифмованные строки в эффектных, но не имеющих серьезного художественного значения п а н т о р и т м и ч е с к и х конструкциях:
Седеют к октябрю сова —
Ce деют когти Брюсова!
(В. Маяковский)
Классической формой изоколона считается триколон —
фигура, состоящая из трех относительно параллельных членов: «Длъго ночь мръкнетъ./ Заря св^тъ запала, / мгла поля
покрыла, / щекот^ славий успе, / говоръ галичь убудися./
/ Русичи великия поля / чрьлеными щиты прегородиша, /
ищущи себе чти, / а князю — славы.//» Есть серьезные основания считать, что безымянный автор «Слова...» был не
просто грамотным, но хорошо образованным человеком,
знавшим образцы древней поэзии, может быть, даже Гомера, античную поэтику и риторику. Во всяком случае многие
его периоды прекрасно ложатся в классические фигуры
античных риторов. Приведенный фрагмент состоит из трех
предложений, каждое из которых делится в свою очередь
на трехчленные синтагмы, коррелирующие друг с другом
234
(идеальный параллелизм соблюдается во втором предложении); и только заключительный колон последнего предложения, являющий собой некую коду (от ит. coda — хвост,
добавка, от лат. cauda), своеобразное ритмическое разрешение, двучленен.
Ржавеет золото, и истлевает сталь,
Крошится мрамор. К смерти все готово.
Всего прочнее на земле печаль
И долговечней царственное слово.
(А. Ахматова)
Четверостишие состоит из двух триколонов: соответствие
трех колонов в первом почти абсолютно, во втором — относительно (подытоживающее первую часть катрена чеканное
предложение «К смерти все готово» служит одновременно
зачином и начальным колоном второй его части).
Ярким примером триколона в прозе может служить следующая фраза из той же «Анны Карениной», с характерными
для Толстого лексическими повторами в конце каждого колона: «И он был рад, что сказал ей это, | что она знает теперь
это I и думает об этом».
Существует, кроме того, параллелизм с обратным или значительно измененным порядком слов — хиазм (от греч.
hiasmos — крестообразное расположение в виде греческой буквы хи). Таков, к примеру, рефрен в знаменитом стихотворении Михаила Кузмина, генеральным композиционным принципом которого является универсальный параллелизм на всех
уровнях художественной структуры:
Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было.
Все мы четверо полюбили, но у каждой было свое «потому что»:
Первая полюбила, потому что отец с матерью так ей велели,
Другая полюбила, потому что богат был ее любовник,
Третья полюбила, потому что он был знаменитый художник,
А я полюбила, потому что полюбила.
Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было.
Все мы четыре желали, но у каждой было свое желанье:
Первая желала воспитывать детей и варить кашу,
Другая желала каждый день надевать новое платье;
Третья желала, чтоб все о ней говорили,
А я желала любить и быть любимой.
235
Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было.
Все мы четверо разлюбили, но у каждой была своя причина:
Первая разлюбила, потому что муж ее умер,
Другая разлюбила, потому что любовник ее разорился,
Третья разлюбила, потому что художник ее бросил,
А я разлюбила, потому что разлюбила.
Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было.
А может быть, нас было не четыре, а пять?
Финальная строка, эффектно обманув наши ожидания,
разрушает автоматизм неумолимо последовательного параллелизма и снимает хиазм в рефрене, настойчиво подчеркивающий незыблемость общей четырехвариантной судьбы сестер:
возможное существование пятой заставляет читателя или слушателя задуматься над стратегией иного поведения (например, пятая сестра могла и не разлюбить!).
С т и л и с т и ч е с к и е ф и г у р ы носят главным образом
уточняющий характер и классифицируются по принципу их
участия в коррекции: 1) позиции автора; 2) смысла содержания; 3) отношения к предмету (риторическое восклицание);
4) контакта с рецептором (риторическое обращение и риторический вопрос) (Античные теории языка и стиля. M.; JI., 1936;
Корольков В.И. К теории фигур//Сборник научных трудов
Моск. гос. пед. ин-та иностр. яз. Вып. 78. M., 1974; Гаспаров MJI. Фигуры стилистические//ЛСЭ. С. 466; Дюбуа Ж., Эделин Ф., Клинкенберг Ж.-М., Мэнге Ф., Пир Ф., Tpunon А. Общая риторика: Пер. с фр. M., 1986).
Стилистические фигуры сообщают речи э м ф а з у — эмоциональную приподнятость во всех трех наиболее распространенных ситуациях, будь то обращение, восклицание или
вопрос. Нередко можно встретить их в сочетании: «О весна
без конца и без краю, / Без конца и без краю мечта!/ Узнаю
тебя, жизнь, принимаю / И приветствую звоном щита! / Принимаю тебя, неудача, / И, удача, тебе мой привет!..» Это
блоковское стихотворение открывается целой серией риторических обращений-восклицаний, нагнетающих эмоциональное напряжение, но отнюдь не предполагающих реальную ситуацию коммуникации лирического героя с весной,
мечтой, жизнью, неудачей или удачей.
Равным образом не требует ответа риторический вопрос.
В авторском отступлении, которым Гоголь озаряет 11-ю главу
«Мертвых душ», риторическое обращение «Русь! Русь! вижу
236
тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу: бедно, расбросанно и неприютно тебе...» сочетается с каскадом
риторических вопросов: «Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоих твоя тоскливая, несущаяся по всей
длине и ширине твоей, от моря до моря песня? Что в ней,
этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце? Какие
звуки болезненно лобзают и стремятся в душу и вьются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь от меня? какая
непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты
так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?..» Но ответа на эти неразрешимые вопросы нет: «Не дает ответа...» Риторические вопросы Гоголя
обращены не к аллегорической Руси-тройке, а к взыскующему читателю — и к современному, и в еще большей степени к будущему.
Вопросы для самостоятельного изложения
1. Где и когда поэтические фигуры получили первое теоретическое обоснование?
2. С какой целью в поэтической речи употребляются многосоюзие и бессоюзие? Приведите свежие примеры.
3. Что такое триколон и басенная ретардация? К какому
виду фигур они принадлежат и с какой целью применяются? Продемонстрируйте на подходящих примерах.
12
звуковая организация
п о э т и ч е с к о й речи
Классификация звуковых повторов
Звуковая организация поэтической речи по сравнению с
бытовой, разговорной практикой переживается и артикулируется более остро и, как правило, осознанно. С античных
времен одним из критериев художественности в поэтике и
риторике считалась э в ф о н и я (греч. eufonia — хорошее
звучание), благозвучие, основанное на гармоническом сочетании гласных и согласных звуков. Здесь, можно сказать,
действовал универсальный жизненный принцип древних
эллинов — ничего слишком, решительный отказ от крайностей и последовательное стремление к гармонии, равновесию.
Отступления от благозвучия, например, зияние или
хиатус (лат. hiatus — отверстие, дыра) и какофония
(греч. kakofonia — плохое звучание) «неэстетическое», «варварское» скопление гласных и согласных звуков —
считались предосудительными и целенаправленно избегались. Такие самопроизвольно возникающие «конфузы»
простительны только в сырой, художественно необработанной речи. Впрочем, они, как правило, остаются незамеченными.
Но и намеренное использование неблагозвучных словесных и звуковых повторов в поэтической речи может быть необычайно действенным средством для достижения структурно
направленной и художественно целесообразной эспрессии,
как, например, у В. Ходасевича:
238
Весенний лепет не разнежит
Сурово стиснутых стихов.
Я полюбил железный скрежет
Какофонических миров.
В зиянии разверстых гласных
Дышу легко и вольно я.
Mrie чудится в толпе согласных
Льдин взгроможденных толчея.
Мне мил — из оловянной тучи
Удар изломанной стрелы,
Люблю певучий и визгучий
Лязг электрической пилы.
И этой жизни мне дороже
Всех гармонических красот —
Дрожь, побежавшая по коже,
Иль ужаса холодный пот,
Иль сон, где некогда единый —
Взрываясь, разлетаюсь я,
Как грязь, разбрызганная шиной
По чуждым сферам бытия.
В этом, может быть, самом дисгармоничном стихотворении поэта, обычно очень внимательного не только к смысловой, но и звуковой стороне своего творчества, развертывается
панорама пестрого разнообразия окружающей современного
человека жизни, с ее «железным скрежетом», «лязгом электрической пилы», который может показаться «певучим и визгучим», вызвать «дрожь, пробежавшую по коже иль ужаса холодный пот»; эту жизнь можно и должно полюбить, иначе неизбежен взрыв, от которого личность разлетится в вещем сне,
«как грязь, разбрызганная шиной по чуждым сферам бытия».
Поэт намеренно сталкивает две крайности — «зияние разверстых гласных», от которого «легко и вольно» дышать, и «какофоническую» «толпу согласных», которая получает в образной структуре стихотворения не только право на существование, но и эстетическое оправдание.
Фоническая организация поэтического-текста включает в
себя несколько видов звуковых повторов, которые осуществляются разными с п о с о б а м и , с разными ц е л я м и и имеют разнообразные ф у н к ц и и .
Традиционно выделяемые виды словесных и звуковых повторов: ассонанс (от фр. assonance — созвучие) и аллитерация (от лат. ad+littera — букв, собуквие) — повтор, в первом
случае гласных, во втором согласных звуков, а также многообразные их комбинации, вплоть до рифмы, традиционной —
на конце стиховых рядов, внутренней и риторической (в прозе), а также панторима (от греч. pant — весь и фр. rime —
рифма), в котором родственные явления рифмы и звукописи
совпадают. Особый вид звуковой организации текста составляет так называемая липограмма (от греч. leipo+gramma —
не хватает букв) или, по Г. Шенгели, отрицательная инст239
рументовка — последовательно выдерживаемое избегание
какого-либо звука (например, «р» в стихотворениях Г. Державина «Ласточка» и «Бабочка»).
По м е с т у р а с п о л о ж е н и я (композиции в поэтическом тексте) созвучия классифицируются так: аналепсис (от
греч. analepsis ) — повтор рядом стоящих слов или их отмеченных элементов; анафора и эпифора (от греч. anafora —
epifora — повторение, вынесение вперед и назад) — унифицированные начала и окончания колонов, строк и строф; онадиплосис (от греч. anadiplosis — повторение) — соответствие
последнего слова или слога предыдущего колона либо стиха
первому слову (слогу) последующего; кольцо — кольцеобразное замыкание начального и финального слов в колоне либо
стихе. Возможен вариант и н е у п о р я д о ч е н н о г о , с п о н т а н н о г о ч е р е д о в а н и я созвучных слов на протяжении
маркированного таким образом фрагмента или даже всего произведения в целом (по мнению А. Белого, пушкинские «Цыганы» являют собой гигантскую разработку звукового состава имени Мариула). (Весьма детальную, но едва ли пригодную
для практического применения классификацию звуковых повторов дает в своей одноименной работе О. Брик: Звуковые повторы//Поэтика. Пг., 1919.)
Какие же цели преследуют художественно востребованные
звуковые повторы? Их несколько. В зависимости от них также различаются специфические виды звуковой организации:
1 ) з в у к о п и с ь или и н с т р у м е н т о в к а — с помощью
искусно расставленных звуков писатель придает тексту заданную благозвучность или неблагозвучность; 2) з в у к о п о д р а ж а н и е — намек на звуковую сторону изображаемого с помощью определенного подбора звуков, когда не только смыслом, но и звучанием слов воссоздается тот или иной
объективный или субъективный образ, воспринимаемый на
слух; 3) з в у к о в о й с и м в о л и з м — согласно субъективным или условно принятым представлениям определенные
гласные и согласные звуки наделяются особым характером,
который переносится на фрагменты текста и изображенные в
нем реалии; 4) з в у к о в о й к у р с и в —актуализированное
звуковое единообразие выдвигает самые важные по смыслу
или по эмоциональному напряжению слова. Георгий Шенгели называет этот вид л е й т м о т и в н о й и н с т р у м е н т о в к о й , подразделяя ее на прямую: «Суть ее в том, что звуки какого-либо важного слова повторяются в окрестных словах с
тем, чтобы, во-первых, напоминать об этом слове, глубже вне240
дрять его в сознание, а во-вторых, чтобы подчеркнуть внутреннюю связь или, наоборот, противоположность тех или иных
понятий» (Шенгели Георгий. Техника стиха: 2-е изд. M., 1960.
С. 264), и на обратную — прием, при котором настойчиво проводится та или иная инструментовка, чтобы на ее фоне дать
важное по смыслу слово, звучащее иначе (там же). Ю.М. Лотман называет подобное явление «эффектом разрушенности»
(Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Л., 1972. С. 6).
Х у д о ж е с т в е н н ы е ф у н к ц и и звуковых повторов
настолько многоразличны и неповторимы, что классифицировать их в логически четкий и обозримый ряд не представляется возможным, да и целесообразным. В каждом отдельном
случае надлежит разбираться особо, тем более выделенные
типы почти не встречаются в чистом виде, сочетаясь друг с
другом или переходя один в другой. Не менее важно и то обстоятельство, что звуковая организация текста, составляющая
наряду с графикой самый внешний уровень художественной
структуры произведения, активно взаимодействует со всеми
остальными ее элементами — как плана выражения, так и
плана содержания.
Сравнительно н е б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о г л а с н ы х
звуков,варьируемых в с о в р е м е н н о м р у с с к о м я з ы к е, требует для актуализации ассонанса не менее чем трёхкратного кряду употребления одного из них:
Быстро лечу я по рельсам чугунным,
Думаю думу свою...
Ассонанс образуют, как правило, гласные звуки, стоящие под ударением, так как безударные звуки в русском
языке в той или иной степени редуцируются. Известное исключение составляет редкий звук у (jy), артикуляция которого столь характерна, что почти не подвержена редукции.
В приведенном примере из «Железной дороги» Некрасова
отчетливость произнесения всех у обеспечивается и вовлеченностью речевого потока в четкий ритм трехсложного размера (4—3-стопного дактиля) и общей инерцией его пятикратного повторения на ударных позициях.
В древнерусском языке ассортимент гласн ы х , как и согласных звуков был значительно шире, а редукция в условиях риторического возглашения ощущалась слабо; поэтому и звуковые уподобления в средневековых произведениях воспринимались интенсивнее. Так, в знаменитом
о imo
Ck
At
фрагменте из «Слова о полку Игореве»: «Дремлет в пол'Ь
Ольгово хороброе гнездо. Далече залетало!», кроме ассонанса на о несомненно слышался контрастный ему ассонанс на е Ofe).
В поэзии нового времени ассонансы особенно активно культивировались в художественных системах, предпочитавших
смысловому стиху напевный (символизм):
О весна, без конца и без краю,
Без конца и без краю мечта!
Признаю тебя, жизнь, принимаю
И приветствую звоном щита!
Принимаю тебя, неудача,
И удача, тебе мой привет!
В заколдованной области плача,
В тайне смеха позорного нет.
(А. Блок)
Поэты-«смысловики», такие, как Г. Державин, Н. Некрасов, В. Ходасевич, А. Ахматова, О. Мандельштам, В. Маяковский, напротив, более склонны строить звуковую организацию своих произведений на согласных звуках. Мандельштам даже попытался теоретически объяснить свое
повышенное внимание к согласным: «Множитель корня —
согласный звук... Пониженное языковое сознание — отмирание чувства согласных» (Мандельштам О. Собр. соч.: В 4 т.
Т. II. С. 299).
И действительно, участвующие в корне согласные, как бы
проникаясь его смысловыми обертонами, усиливают семантику аллитерирующих слов: «Я чувствую непобедимый страх
/ В присутствии таинственных высот. / Я ласточкой доволен в небеса* / И колокольни я люблю полет!» Ключевые слова страх и ласточка распространяют свое влияние по обе стороны фразы и тем самым активизируют ее смысловое и образное наполнение.
Выдвинутое положение аллитерации в «Слове о полку Игореве» давало основание некоторым исследователям предполагать приверженность его автора к скандинавской традиции аллитерационного стиха: «Съ зарания пятъкъ потопташа поганыя плъкы половецкыя...» Но таких фрагментов в «Слове...»
немного, а наличие самого аллитерационного стиха даже в древнескандинавской поэзии довольно проблематично.
242
Очевидным пристрастием к игре на согласных звуках отличался бурный талант Г. Державина. В оде «Победителю»
(1789), написанной в честь Потемкина, покорителя Очакова,
который решился 6 декабря 1787 г. в лютый мороз атаковать
противника и благодаря этому снискал победу, мастерски используется аллитерация каламбурного типа: «Как твердый
тавр, душа его тверда...». Обыгрывая дарованную императрицей прибавку к фамилии триумфатора — князь ПотемкинТаврический, поэт настойчиво нагнетает ее звуковые компоненты, не останавливаясь даже перед тавтологией. Обилие
согласных преимущественно на словоразделах в сочетании с
обильными и резкими спондеями (сверхсхемными ударениями в двусложных метрах) и торжественной одической инверсией также замедляют ритмическое движение в полном соответствии с главным мотивом стихотворения — мужественного, твердого преодоления смерти:
Одним смерть взмахом пресекла!..
От Солнца как бежит нощь, тьма и мгла,
Так от тебя печаль, брань, смерть ушла.
ЯСПЯ
ЯПЯСЯ
ПЯЯСЯ
Демократическая лира Некрасова, как известно, чуждавшаяся «сладких звуков», эстетизировала острую неблагозвучность шипящих: «От пирующих, праздно болтающих, / Обагряющих руки в крови, / Уведи меня в стан погибающих / За
великое дело любви!»
В том же направлении двигался и Вл. Маяковский, провозглашавший «Есть еще хорошие буквы: эр, ига, ща\» и вполне сознательно насыщавший ими «строчечный фронт» своих
стихов: «Парадом развернув своих страниц войска, / Я прохожу по строчечному фронту...»(«Во весь голос»); «Разворачивайтесь в марше! / Словесной не место кляузе! / Тише, ораторы! Ваше / Слово, товарищ маузер!» («Левый марш»).
По свидетельству К. Чуковского, внешним толчком, побудившим А. Блока к созданию поэмы «Двенадцать», был
шипящий звук «ж» во фразе «ужъ я ножичком полосну, полосну!» в 8-й главке, т.е. отнюдь не с начала произведения.
Вообще начало работы у Блока, как правило, сопровождалось
какими-либо звуковыми (слуховыми) ассоциациями. В данном случае он услышал «страшный шум» (в его записной
книжке № 56 эта фраза повторена дважды), обычно связываемый с роспуском Учредительного собрания и предчувствием
грядущих социальных катаклизмов; не откололся ли он так243
же и от «шума внутренней тревоги», «мятежного шума Невы
и ветров» из пушкинского «Медного всадника»?
В ахматовской «Поэме без героя» мы сталкиваемся с совершенно уникальным случаем эстетически утилизованной
какофонии: три «к» подряд!
Ясно все:
Не ко мне, так к кому же?
Не для них здесь готовится ужин,
И не им со мной по пути...
Авторское примечание все ставит на свои места: «Три «к»
выражают замешательство автора».
Ассонансы и аллитерации в чистом беспримесном виде
почти не встречаются; большей частью они образуют комплексные звуковые повторы, захватывающие иногда только один
слог: очей очарованье..., и каждый час уносит частичку бытия..., есть речи — значенье..., бронзы звон, гранита
грань..., иногда несколько слогов в составе целого слова:
«В апреле запах прели и земли / И первый поцелуй...» (А. Ахматова); «Апрель. Возмужалостью пахнет из парка. / И реплики леса окрепли...» (Б. Пастернак); «Не католический вижу
обряд, / а за калиточкой росно и колко... / Вместо каменных
истуканов / стынет стакан синевы без стакана...» (А. Вознесенский).
Наконец, это может быть сплошная звуко-смысловая игра
слов, распространяющаяся на целый стих или даже строфу, и
тогда мы говорим о тенденции или явлении панторима: Лет
до ста расти / нам без старости! / Славьте, молот и стих, /
землю молодости!..; Слышен свист и вой локомобилей — /
Дверь лингвиста войлоком обили...
Содержательны ли з в у к о в ы е повторы сами
по с е б е в отвлечении от смысла выделяемых ими слов? Вопрос этот дискуссионен и вызывает жгучий интерес в связи с
постановкой общей проблемы содержательности плана выражения.
Конечно, если речь идет о так называемых з в у к о п о д р а ж а н и я х , искусно подобранные звуки естественным образом несут некоторую информацию, но не самостоятельно, а
дополнительно к семантике слов и образов, которые они сопровождают. Дело в том, что разные животные, крики или
движения которых мы имитируем при помощи соответствующих речевых средств, имеют почему-то обыкновение на раз244
ных языках выражаться по-своему. Так что объективность
поэтического звукоподражания весьма относительна, поскольку опирается на традицию, принятую только тем или иным
народом. Допустим, японец, даже владеющий русским языком, не расслышит в следующем стихе Сумарокова из притчи
«Солнце и Лягушки» еще и кваканья: «О как, о как нам к вам,
к вам, боги, не гласить!», потому что по-японски лягушки «говорят» иначе.
В передаче звучащей природы писатели проявляют завидную изобретательность. Разве не слышим мы «тяжкого грохота» в пушкинском «Обвале», барабанного боя и леденящего
душу шума битвы в четверостишии из «Полтавы»: «Швед,
русский, колет, рубит, режет, / Бой барабанный, клики, скрежет, / Гром пушек, топот, ржанье, стон, / И смерть, и ад со
всех сторон»; одышки, которую испытывал О. Мандельштам
на морозе, по строке из его стихотворения «Люблю морозное
дыханье...»: Я — это я, явь — это явь...»; или, наконец, уютного потрескиванья поленьев в «Зимнем утре», ради которого
поэт не побоялся даже плеоназма: «...веселым треском / Трещит затопленная печь»!
А вот не менее впечатляющий образчик звукоподражания,
воспроизводящего колокольный звон вместе с репрезентатирующим его знаменитым вологодским «оканьем» у Н. Рубцова:
Звон заокольный и окольный
У окон, около колонн.
Звон колоколен колокольный
И колокольчиковый звон.
(«Левитан»)
Кстати, еще автор «Слова о полку Игореве» находчиво, а
главное — без перебора дополняет информацию о колокольном звоне его звуковым образом: «Тому въ Полотск^ позвониша заутренюю рано у святыя Софеи въ колоколы, он в Киев^
звон слыша». Недаром Д.С. Лихачев писал о сверхпроницаемости пространства в великом памятнике древнерусской литературы: такой звон Полоцкой колокольни нельзя не услышать в Киеве!
Другой способ семантизации звуковых повторов связан с
явлением, обычно именуемым з в у к о в ы м с и м в о л и з м о м : определенным звукам языка приписываются те или
иные характеристики в зависимости от способа их образова245
ния, общественной репутации или чисто субъективных представлений.
Обратимся к элементарному и необычайно наглядному
примеру. В популярной сказке Сергея Михалкова «Три поросенка» каждый из трех братьев имеет явно «подходящее» для
него имя: Наф-Наф (самый основательный и надежный), НифНиф (поросенок, так сказать, средних достоинств) и Нуф-Нуф
(самый беспечный и легкомысленный). Нечего и пытаться эти
имена переставить. Звук «а» широкий, низкий, звук «и» —
высокий и узкий, звук «у» еще уже и задвинут внутрь. Они
косвенным образом предопределяют парадигму характеров
трех поросят (впрочем, она была бы еще убедительнее, если
бы третьего поросенка звали Нюф-Нюф...).
Любопытный эксперимент, который проводился во французских школах: детям показывали два нарисованных домика — один большой, другой маленький и спрашивали, где живет А, а где I, надежно давал один тот же результат (сказка
Михалкова подскажет, какой именно).
Звук «у» устойчиво ассоциируется с «унынием», «угрюмостью», «угнетенным или удрученным состоянием духа» может быть, из-за того, что большинство русских слов, которые
начинаются с соответствующей буквы, мы воспринимаем в минорной тональности. Но можно подобрать сколько угодно мажорных исключений: увеселение, удача, удовлетворение, улыбка,
упоение, успех... Видимо, все же и в данном случае мы имеем
дело с неким обобщенно-субъективным взглядом на вещи, механизм образования которого еще недостаточно прояснен.
Столь же не абсолютны расхожие репутации согласных:
«грозного, рокочущего» р, «плавного, льющегося, влажного»
ль, «веющего» в, «жужжащего» ж9 «звенящего» з, свистящего с, шипящих ш и щ .
Впрочем, если писатель сам установил для себя некую
корреляцию определенных звуков с определенными идейными, тематическими, образными или эмоциональными
комплексами и в той или иной форме сообщил об этом читателю, условная содержательность звукописи, по крайней
мере, применительно к его творчеству приобретает объективный характер («влажные рифмы на -ю» у Лермонтова,
шипящие у Некрасова, р, ш, щ у Маяковского, значимое
отсутствие р в некоторых стихотворениях Державина, Брюсова и Бальмонта). Пожалуй, самым убедительным примером такой искусственно объективированной субъективности могут служить многочисленные попытки разных поэтов
246
присвоить гласным звукам колористические характеристики. Так, Артюр Рембо в своем знаменитом «цветном сонете»
«Гласные» дал следующий вариант:
А — черно, бело — е, у — зелено, о — сине,
И — красно... Я хочу открыть рожденье гласных.
А — траурный корсет под стаей мух ужасных,
Роящихся вокруг, как в падали иль в тине.
Мир мрака; е — покой тумана над пустыней,
Дрожание цветов, взлет ледников опасных;
И — пурпур, сгустком кровь, улыбка губ прекрасных?
В их ярости иль в их безумьи пред святыней.
У — дивные круги морей зеленоватых,
JIyr пёстрый от зверья, покой морщин измятых
Алхимией на лбах задумчивых людей;
О — звона медного глухое окончанье,
Кометой, ангелом пронзённое молчанье:
— Омега, луч Её сиреневых очей.
(Пер. Н. Гумилева)
У русских же поэтов-символистов распределение цветов
между гласными звуками было совсем другим: «звук «а» —
белый, летящий открыто; ...звук «е» желтозелён; ...звук
«i» — синева, вышина, заострённость...; ...красно-оранжевый «о» — ощущение, чувственность, полости тела и рта...;
...звук «у» — теплота, угол, узкость, глубинность, коридоры гортани, темноты, падение в мраки, пожары пурпурности, воли, усилия и муки родов; «у» порою живет в задней
полости пламенным «в» (в инфракрасных лучах)» (Белый
Андрей. Глоссалалия. Томск, 1994. С. 76—77). Такова вокалическая палитра поэтического языка, по А. Белому, который стремится выявить содержательность гласных по их
артикуляции: «Полнота души — «а», вылетая из недр существа, вместе с «ha», полнота души, «а» невоплотима в Сатурне, в тепле, в «ha», в змее; в хрипах шума, в «karah» —
уже звуки душевного действия; в Сатурне, в неслышимом
«а» страх пространства и времен существует, как «(a)ch»;
выход глотки расширен: и зубы, и губы разъяты; и «а», пролетая сквозь них, излетает их них; в нем и боль беспредметности, и страдания-перемогания дали; оно пролетает чрез
247
всё на свободу; и там поклоняется Богу; благовонье — в «а»
позднем; и ужас — в «а» раннем.
«Е» поджато скоплялось у верхнего полушария полости,
изливается из растянуто-суженных губ; половинчатость, колебанье, сомненье, но зоркость, ведущая к мысли, есть в «е»;
наблюдение, зрение, явление — в «е»; мировоззрение возникает из «е»; если «i» есть Мария, то «е» — это Марфа.
В «i» — упор струи жара о верхнее нёбо, часть жара летит
через нос; под покровами «п» и за «s» — «i» звучит; если
«п» — глубина водной влаги, только в «in» — тайна «п»: intra, in, inn-ig, inn-ere; «е» и «а» созерцают «i» — орёл (клюв
орлиный): орёл подхватил Ганимеда; «i» — горнее «а»: боговоззренье (Феор1я) — горняя мысль всей природы; природа сознания в «а»; в далях «о» — беспредельность мирового пространства, «i» — блёски, «i» — звёздочки. «I-e-а» есть сошествие Духа; и «а-e-i» — вознесение; говоря тебе «ia», то есть
«я», звуком слова уже возбуждаю двойную природу; «Я» —
значит: «Во мне что-то высшее...»
В «о» воронкой слагаются губы; и воздухом полнятся полости рта — просто «О»; внутри образуема вещность согласного мира; в схожденье души «о» — душевность ребёнка:
« т » — ПЛОТЬ; ДО рождения отношение к телу души таково —
« О т » , что значит: внутри «О» (души) зреют «ш»: ткани плоти;
лучи с периферии (от «О»), проникая в « т » (плоть), образуют
чувствующее нечто в зародыше; в «О» большом теперь круг из
«ш» (плоти); внутри круга « т » зреет малое «о»; оно связано с
мировою душой: с «О» большим...» (там же. С. 49—50).
Свой вариант поэтической этимологии гласных предложил Давид Бур люк:
Звуки на а широки и просторны,
Звуки на и высоки и проворны,
Звуки на у — как пустая труба,
Звуки на о — как округлость горба,
Звуки на е — как приплюснутый мел,
Гласных семейство смеясь просмотрел.
Единственный вид звуковых повторов, объективная, хотя
и косвенная содержательность которого не вызывает сомнения,— з в у к о в о й к у р с и в или л е й т м о т и в н а я и н с т р у м е н т о в к а . Звуковые повторы этого типа не претендуют на самодовлеющую или самодостаточную семантику.
Они всего лишь подчеркивают смысл тех слов, звуковой состав
248
которых попадает в их сферу. В отличие от звукописи (инструментовки) как таковой они применяются нацеленно, для выделения конкретных лейтмотивов, образов, тем. Так, по мнению
А. Белого, в лермонтовском «Бородине» противостоянию русских и французских войск соответствует противостояние инструментовки на а и на у. Отдаленную аналогию в зрительном восприятии здесь мог бы играть разный цвет мундиров.
В патетической сцене бегства князя Игоря из половецкого
плена мы видим (вернее, слышим) целую серию различных
звуковых уподоблений, призванных передать стремительность
его движения в обличии разных зверей и птиц:
«Игорь спитъ, Игорь бдитъ, Игорь мыслию поля м*Ьритъ
отъ Великаго Дону до Малаго Донца. Комонь в полунощи Овлуръ свисну за р^кою — велитъ князю разум*кти: князю Игорю не быть! Кликну, стукну земля, въшум'к трава, вежи ся
половецкии подвизаша. А Игорь князь поскочи горностаемъ
къ тростию, и б^лымъ гоголемъ на воду, възвръжеся на бръзъ
комонь, и скочи съ него босымъ влъкомъ, и потече къ лугу
Донца, и полет'Ь соколомъ подъ мъглами, избивая гуси и лебеди завтроку, и об*кду, и ужшгк. Коли Игорь соколомъ
полет'к, тогда Влуръ влъкомъ потече, труся собою студеную
росу: претръгоста бо своя бръзая комоня».
В процитированном фрагменте поражает обилие как лексических, так и фонетических повторов; он весь прозвучен
насквозь: шесть раз повторяется имя Игорь, трижды — его
титул князь и комонь (боевой конь), дважды упомянуты — его
половецкий сподвижник Овлуръ (Влуръ), вълкъ, с которым
сравнивается сначала Игорь, потом Влуръ, и соколъ, с которым как с предметом сравнения рифмуются последовательно
горностай и белый гоголь и как объектом охоты гуси и лебеди,
а также глаголы движения потече, полетк и поскочи (скочи), с которыми рифмуются глаголы одноразового использования спитъ, бдитъ, мкритъ, велитъ, разумкти, не быть,
кликну, стукну, вышум*Ь, (ся...) подвизаша, възвръжеся, претръгоста и деепричастия избивая, труся. Динамику бегстваполета усиливает анафорический союз и, как бы продолжающий
ассонанс в зачине, передающем чуткое бодрствование ожидающего сигнала князя (отсюда риторическая оксюморонная рифма двух антонимов — спитъ — бдитъ). В заключительном пассаже особенно впечатляет эффектная аллитерация трс-сстрсррст-ср как экспрессивный образный жест потревоженной
вспарывающим движением коня росы.
249
§26
Частотность гласных и согласных звуков
в русском языке
гласные:
О — 11,8
Е— 8,6
А — 7,4
И — 7,4
У — 2,5
Я — 2,1
Ы —2,0
Ю—0,7
Э— 0,3
Всего: 42,0
согласные:
H — 7,38
Т — 7,27
Р — 7,07
С — 4,64
Д — 4,39
Л —3,82
3 — 3,03
М—2,83
К —2,77
В — 2,33
Примечание: Соотношение гласных звуков между собой вычислено
отдельно от согласных, т.е. все гласные приняты за 1 0 0 % .
Анализируя звуковую организацию конкретного поэтического текста, исследователь должен твердо придерживаться
таких аксиоматических положений: 1) анализу подлежат не
буквы, а звуки; 2) каждый звук выступает не сам по себе, а
как элемент целостной системы всего произведения на всех
его уровнях; 3) эстетическая значимость фонетических повторов определяется соотносительной частотностью участвующих
в них звуков в национальном языке, их выдвинутостью, концентрированностью, а также положением в слове, синтагме,
предложении, стихе, строфе или абзаце.
Вслушиваясь в звучащую плоть поэтического текста, мы
обязаны неукоснительно следовать принципу объективной
250
очевидности, ибо при обилии материала и его неповторимом
многообразии нас буквально на каждом шагу подстерегает
искушение поддаться соблазну субъективизма. Приписывать
тексту то, чего в нем заведомо нет, — непростительный грех
для филолога. Звуковой повтор обретает права художественного гражданства лишь в том случае, если мы абсолютно уверены в его авторской преднамеренности. Автор располагает
достаточно широким спектром достоверных способов информировать читателя о своих замыслах, художественных приемах или даже интимном ходе творческого акта: явно (в комментариях, теоретических статьях, мемуарах) или косвенно
(отсылая к уже устоявшейся традиции, форсируя, актуализируя тот или иной звук, то или иное звукосочетание).
Нередко неоценимую услугу при определении объективности авторской установки на звукопись оказывает а н а л и з
ч е р н о в ы х в а р и а н т о в : замена несозвучных слов созвучными (либо наоборот) может служить неопровержимым аргументом в пользу того или иного решения.
А н а л и з з в у к о в о й о р г а н и з а ц и и текста может
быть двух типов: сплошной, при котором выявляются звуковые доминаты на ассонансном или консонансном уровнях (такому анализу подвергал пушкинских «Цыган» и лермонтовское «Бородино» А. Белый), и выборочный, при котором рассматриваются звуковые соотношения ключевых в смысловом,
образном или эмоциональном отношении слов.
С п л о ш н о м у а н а л и з у обычно подлежат тексты значительные по объему, ибо только в них статистические выкладки по-настоящему репрезентативны. В коротком стихотворении, допустим, в 8—12 строк, совершенно бессмысленно подсчитывать процентное соотношение повторяющихся
гласных и согласных; оно просто непоказательно из-за малого объема текста. В ы б о р о ч н ы й а н а л и з универсален, но
и для его успешного проведения необходимо принимать во внимание соотносительную частотность участвующих в повторах
звуков. При равных условиях выделяющая способность редких фонем эстетически действеннее, чем банальных, встречающихся на каждом шагу. Но и значимость различных звуков
уравнивается, если они взаимодействуют с яркими образными либо смысловыми ассоциациями на композиционно активных позициях.
Наконец, литературоведу, исследующему звуковую организацию поэтического текста, следует в достаточной мере профессионально овладеть фонологической проблематикой, что251
бы адекватно судить об артикуляционных и экспрессивных
свойствах анализируемых звуков и звукосочетаний. Только
тогда он по достоинству оценит разницу между звонкими и
глухими, между шипящими и свистящими, между короткими взрывными и длинными сонорными согласными, которые
при желании можно даже тянуть, между звуками, стоящими
в начале и в конце слова, синтагмы, строки, между звуками в
предударной и заударной позиции... Только тогда поймет он
тайну сочетаемости или несочетаемости тех или иных звуков
друг с другом и эвфоническую их валентность.
Вопросы для самостоятельного изложения
1. Какой урон благозвучию поэтической речи наносит
чрезмерное скопление согласных и гласных звуков?
Как они именуются и могут ли использоваться в художественных целях?
2. Что такое ударный вокализм? К какому виду звуковых
повторов он относится?
3. Значимы ли звуки поэтической речи сами по себе, например, какой звук «больше» или «шире» — А или И?
4. Почему важно знать соотношение гласных и согласных
звуков в национальном языке?
5. Что такое редукция гласных? Как она отражаеся на звуковом строе поэтического текста?
6. Какой гласный звук и в редуцированном виде не утрачивает своей характерности?
13
к о м п о з и ц и я лит крату p r o xy a ojk к ctb e h н о г о
произведения
к<
Все многообразные уровни литературно-художественного
произведения, практически вещего элементы охватывает, «прошивает» насквозь к о м п о з и ц и я (от лат, compositio —
сочинение, составление). Под к о м п о з и ц и е й в общем
виде понимается непосредственный результат творчества:
построение, организация литературного произведения, х у д о ж е с т в е н н о - ц е л е с о о б р а з н о е р а с п о л о ж е н и е его
ч а с т е й и э л е м е н т о в . По точной характеристике П. Палиевского, композиция — «это дисциплинирующая сила и
организатор произведения. Ей поручено следить за тем, чтобы ничто не вырывалось в сторону, в собственный закон, а
именно сопрягалось в целое и поворачивалось в дополнение
его мысли; она контролирует художественность во всех сочленениях и общем плане. ...Она не принимает обычно ни
логической выводимости и соподчинения, ни простой
жизненной последовательности, хотя и бывает на нее очень
похожа. Ее цель — расположить все куски так, чтобы они замыкались в полное выражение идеи» (Палиевский ПТ. Художественное произведение// Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Кн. 3. M., 1965. С. 425).
Общая композиция подразделяется на к о м п о з и ц и ю
сюжета, композицию образного содержания,
в н е ш н ю ю к о м п о з и ц и ю ( а р х и т е к т о н и к у ) , под
которой подразумевается соотношение целого и составляющих
его элементов: глав, частей, строф и пр., композицию отдельных образов, сцен, эпизодов и др., к о м п о з и ц и ю р е ч е в у ю , включающую в себя смену способов художественного изложения, элементов динамического повествования, статическо253
го описания, характеристики действующих лиц, портрет, монолог, диалог, полилог персонажей, поток сознания, письмо, авторские ремарки, лирические отступления, документ и др.,
к о м п о з и ц и ю с и н т а к с и ч е с к у ю , з в у к о в у ю и пр.
Как любой другой элемент художественной системы,
композиция напрямую зависит от объекта изображения и
субъекта выражения — иными словами, от реальных закономерностей изображаемой действительности, от наличия или
отсутствия событийного плана, от художественного метода,.
стиля, идейно-эстетического замысла писателя, избранной им
точки зрения, а также от родовой, жанрово-видовой и структурной специфики произведения.
Наряду с системно-универсальным представлением о композиции в литературоведческой науке известное хождение
имеет и ее заведомо зауженная трактовка за счет абсолютизации тех или иных ее подразделений (сюжета и чередования
способов художественного изложения).
Чаще всего композиция произведения рассматривается
н а у р о в н е с ю ж е т а . Различные комбинации его
канонических и факультативных элементов составляют сюжет в собственном виде. Композиционное своеобразие произведения определяется, в частности, «ножницами» между фабулой и сюжетом, между событийным планом в его естественной хронологически выверенной последовательности и им же,
деформированным согласно художественной целесообразности или конвенциональным законам жанра. Так, Достоевский
в «Преступлении и наказании» демонстративно пренебрегает
законами детективного жанра, оставляя тайну преступления
неизвестной только для героев романа, исключая, конечно,
самого преступника. Читателю приходится соперничать с
Порфирием Петровичем не в дедукции, а в разгадке психологических коллизий, переживаемых не «тварью дрожащей», а
человеком, «право имеющим», новоявленным Наполеоном.
Зато в «Братьях Карамазовых» детективная схема сюжетной
композиции использована столь эффективно, что, даже читая
роман не в первый раз, теряешься в догадках: кто же убил старого греховодника.
Соответственно в первом романе сюжет развертывается,
почти не отклоняясь от фабулы. Лишь в эпилоге событийный
план на ненадолго (на полтора года) возвращается вспять: после финального признания Раскольникова некоторое время
ушло на судопроизводство и на пребывание ссыльно-каторжного второго разряда в остроге одного из административных
254
центров России в Сибири. Кроме того, изложение показаний
подсудимого возвращает нас к подробностям убийства и последующих, а также прешествующих ему событий, например,
Разумихин «откопал откуда-то сведения и предъявил доказательства, что преступник Раскольников в бытность свою в университете из последних средств своих помогал одному своему
бедному и чахоточному университетскому товарищу и почти
содержал его в продолжении полугода. Когда же тот умер,
ходил за оставшимся в живых старым и расслабленным отцом умершего товарища... поместил наконец этого старика в
больницу, и когда тот тоже умер, похоронил его» (там же.
С. 412). Затем всплыл еще один благородный поступок Раскольникова, вытащившего «из одной квартиры, уже загоревшейся, двух маленьких детей, и был при этом обожжен» (там
же). Конечно, эти сведения не входят в развитие действия, уже
завершившегося, а только дополняют и углубляют характеристику главного героя. Не случайно они сообщаются в специально объявленном эпилоге. Авторское определение жанра
гласит: «Роман в шести частях с эпилогом».
Напротив, «Братья Карамазовы» построены в полном соответствии с детективным жанром, с каноническим набором
событийных инверсий в сюжетной композиции и последовательно выдержанным умолчанием о таинственных обстоятельствах отцеубийства.
Вопросы для самостоятельного изложения
1. Прокомментируйте высказывание JI.Н. Толстого о том,
что из произведения искусства «нельзя вынуть один
стих, одну сцену, одну фигуру, один такт из своего места и поставить в другое, не нарушив значение всего произведения».
2. Как соотносится понятие композиции с сопредельными понятиями архитектоники и структуры?
3. Назовите объективные и субъективные факторы, определяющие композицию литературного произведения.
литература
к
темам
Глава 1. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ КАК НАУКА
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. M., 1975.
Белинский В.Г. Идея искусства//Собр. соч.: В 9 т. M., 1978.
Т. 3. С. 278—293.
Белинский В.Г. Общее значение слова «литература»//Собр.
соч.: В 9 т. M., 1981. Т.6. С. 493—524.
Бройтман С.Н. Историческая поэтика. M., 2001.
Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. M., 1963.
Волков И.Ф. Теория литературы: Учебное пособие для студентов и преподавателей. M., 1995.
Гегель Г. Эстетика:В 4 т. M., 1971. Т. 3. Гл. 3.
Иванов В.В. Очерки по истории семиотики в СССР. M., 1976.
Квятковский А. Поэтический словарь. M., 1966.
Кедров KA. Поэтический космос. M., 1991.
Кожинов В.В. Литература//Литературный энциклопедический словарь. M., 1987. С. 186—188.
Кормилов С.И. Основные понятия теории литературы. Литературное произведение. Проза и стих: В помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам. M.: Изд.
МГУ, 1999.
Краткая литературная энциклопедия (КЛЭ). В. 8 т. Т. 9 (доп.).
M., 1962—1978.
Литературный энциклопедический словарь (ЛЭС). M., 1987.
Лотман Ю.М. Семиотика. M.: ЛЭС. С. 373—374.
Лотман Ю.М. Структура художественного текста. M., 1970.
Озмитель Е.К. Теория литературы. Фрунзе, 1986.
Степанов Ю.С. Семиотика. M., 1971.
Современный словарь-справочник по литературе. M., 1999.
Теоретическая поэтика: понятия и определения: хрестоматия/
Автор-составитель Н.Д. Тамарченко. M., 2001.
Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Кн. 1—3. M., 1962—1965.
Тимофеев Л.И. Основы теории литературы: 5-е изд. M., 1972.
Томашевский Б.В. Поэтика (Краткий курс). M., 1996.
Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика: 6-е изд. M.;
Л., 1931.
Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. M., 1977.
256
Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы: Пер с англ. M., 1978.
Фарыно Е. Введение в литературоведение. Ч. 1—3. Катовице,
1978.
Федотов О.И. Введение в литературоведение. M., 1998.
Федотов О.И. Начала литературоведческого труда. M., 1989.
Фридлендер Г.М. Поэтика русского реализма. JI., 1971.
Хализев В.Е. Теория литературы. M., 1999.
Храпченко С.Б. К разработке проблем поэтики и стилистики//
Изв. АН СССР. Сер. Лит. и яз. M., 1961. Т. 20. Вып. 5.
Энциклопедический словарь юного литературоведа. М., 1988.
Энциклопедия кибернетики. Т.1—2. Киев, 1975.
Эсалнек А.Я. Основы литературоведения (Анализ художественного произведения). M., 2001.
Глава 2. СТРУКТУРА ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ
Абрамович Г.JI. Введение в литературоведение. M., 1975.
Аристотель. Поэтика: Пер. М. Л. Гаспарова//Аристотель и античная литература. M., 1978.
Бахтин М.М. К методологии литературоведения//Контекст
1974. Литературно-теоретические исследования. M.,
1975.
Белинский В.Г. Разделение поэзии на роды и виды//Собр. соч.:
В 9 т. Т. 3. M., 1978.
БуалоН. Поэтическое искусство. M., 1957.
Введение в литературоведение/Под ред. Г.Н. Поспелова. M.:
Изд. МГУ, 1992.
Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Л., 1989.
Гаспаров МЛ., Фридлендер Г.М. Поэтика//ЛЭС. С. 295—302.
Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика.
Л., 1977.
Курилов А.С. Литературоведение в России XVIII века. M.,
1981.
Манн Ю.В., Петров Т.П. Литературоведение//ЛЭС. С. 198—
202.
ПотебняАА. Эстетика и поэтика. M., 1976.
Проблемы теории литературной критики: Под ред. П.А. Николаева, Л.А. Чернец. M., 1989.
Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы: Пер. с англ. M., 1976.
Глава 3. ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ
Аристотель. Поэтика//Аристотель и античная литература.
M., 1978.
257
Бахтин MM. Формы времени и хронотопа в романе//Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. M., 1975.
Белецкий А.И. В мастерской художника слова//Белецкий А.И. Избранные труды по теории литературы. M.,
1964.
Белинский В.Г. Разделение поэзии на роды и виды//Собр. соч.:
В 9 т. M., 1978. Т. 3.
Гегель Г. Лекции по эстетике//Гегель Г. Эстетика: В 4 т. M.,
1971. Т. З.С. 343—352.
Дмитриева НА. Изображение и слово. M., 1962.
Каган М.С. Морфология искусства. M., 1972.
Лессинг Г. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. M.,
1957. Гл. XVIII.
Лихачев Д.С. Раздумья. M., 1991.
Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Таллин, 1992—1993.
Т. 1—3.
Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Кн. 1—3. M., 1962—1965.
Чернышевский Н.Г. Эстетические отношения искусства к действительности (Выводы)//Полн. собр. соч.: В 16 т. M.,
1949. Т. 2.
Глога 4. ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
КАК ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЦЕЛОЕ
Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина//Собр. соч.:
В 9 т. M., 1981. Т. 6.
Гачев Г.Д., Кожинов В.В. Содержательность литературных
форм//Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. M., 1964. Кн. 2.
Гегель Г. Эстетика: В 4 т. M., 1968. Т. 1. С. 240—243.
Левин Ю.И. О некоторых чертах плана содержания в поэтических текстах//Структурная типология языков. M.,
1966. С. 199—215.
Лихачев Д.С. Внутренний мир литературного произведения//
Вопросы литературы, 1968. № 8.
Манн Ю. Учение Белинского о пафосе//Изв. АН СССР. Сер.
Лит. и яз. 1964. Т. 23. Вып. 2.
Палиевский П.В. Художественное произведение//Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении.
M., 1965. Кн. 3. С. 422—442.
Руднева Е.Г. Пафос художественного произведения (Из истории проблемы). M., 1977.
258
Тимофеев JI.И. К проблеме формы и содержания//Современные проблемы литературоведения и языкознания. К 70летию акад. М.Б. Храпченко. M., 1974.
Толстой Л.Н. Письма Н.Н. Страхову от 23 и 25 апреля
1876 г.//Полн. собр. соч.: В 90 т. M., 1951. Т. 62.
Толстой Л.Н. Предисловие к сочинениям Ги де Мопассана//
Полн. собр. соч.: В 90 т. M., 1951. Т. 30.
Чернышевский Н.Г. Эстетические отношения искусства к действительности (любое издание).
Глава 5. TEAAA И ИДЕЯ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Белинский ВТ. «Горе от ума», сочинение А.С. Грибоедова//
Собр. соч.: В 9 т. M., 1977. Т. 2.
Белинский В.Г. Литературные мечтания//Собр. соч.: В 9 т. М.,
1976. Т. 1.
Белинский В.Г. Статьи о Пушкине//Собр. соч.: В 9 т. M., 1981.
Т . 6.
Виноградов И А. Вопросы марксистской поэтики. M., 1972.
Гегель Г. Лекции по эстетике//Гегель Г. Эстетика: В 4 т. M.,
1971. Т. 1.
Гольденберг Г. Понятие темы, мотива и сюжета//Родной язык
в школе, 1927. № 2.
Дидро Д. О драматической поэзии. Парадокс об актере.
Трактат о прекрасном//Собр. соч.: В 10 т. M.; Л., 1936.
Т. 5.
Жолковский А.К., Щеглов Ю.К. К понятиям «тема» и «поэтический мир»//Труды по знаковым системам, 7. Тарту,
1975. С. 143—167.
Лессинг Г. Гамбургская драматургия. M.; Л., 1936.
Лессинг Г. Лаокоон//Лессинг Г. Избранные произведения. M.,
1953.
Манн Ю. Учение Белинского о пафосе//Изв. АН СССР. Сер.
Лит. и яз. 1964. Т. 23. Вып. 2.
Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. M., 1975.
Толстой Л.Н. Что такое искусство?//Полн. собр. соч.: В 90 т.
M., 1951. Т. 30.
Фрэнк Д. Пространственная форма в современной литературе//
Зарубежная эстетика и теория литературы XIX—XX вв.:
Трактаты, статьи, эссе: Сост. под общ. ред. Г.К. Косикова. Изд. МГУ, 1987. С. 194—213.
259
Глава 6. СЮЖЕТ И ФАБУЛА ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Аристотель. Поэтика//Аристотель и античная литература.
M., 1978.
Белецкий А.И. Избранные труды по теории литературы. M.,
1964. С. 98—102.
Белинский В.Г. Разделение поэзии на роды и виды//Собр. соч.:
В 9 т. M., 1978. Т. 3.
ВеселовскийАМ. Поэтика сюжетов//Веселовский А.Н. Историческая поэтика. M., 1989.
Викторович BA. Понятие мотива в литературоведческом исследовании//Русская литература XIX века. Вопросы сюжета и композиции. Горький, 1975. Вып. 2.
Виноградов В.В. Сюжет и стиль. M., 1963.
Виноградов И. Вопросы марксистской поэтики: Избранные
работы M., 1972.
Гаспаров МЛ. Сюжетосложение греческой трагедии//Новое
в современной классической филологии. M., 1979. С. 126—
166.
Добин Е. Жизненный материал и художественный сюжет. JI.,
1956.
Добин Е. Сюжет и действительность. Искусство детали. JI.,
1981.
Жолковский AJC., Щеглов Ю.К. Работы по поэтике выразительности. Инварианты—Тема—Приемы—Текст. M., 1996.
Кожинов В.В. Сюжет, фабула, композиция//Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. M.,
1964. Кн. 2.
Краснов Г.В. Мотив в структуре прозаического произведения//
Русская литература XIX века. Вопросы сюжета и композиции. Горький, 1980. Вып. 4.
Левитин Л.С., ЦилевичД.М. Основы изучения сюжета. Рига,
1990.
Лотман Ю.М. Структура художественного текста. M., 1970.
Мачерет А. Еще о сюжете//Вопросы литературы, 1962. JMs 2.
Сарнов Б. Что такое сюжет//Вопросы литературы, 1958. № 1.
Томашевский Б.В. Теория литературы: 6-е изд. M.; JI., 1931.
Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. M., 1997.
Шкловский В.В. Книга о сюжете. M., 1981.
Эйзенштейн С.М. Монтаж//Собр. соч.: В 5 т. M., 1964. Т. 1.
Эпштейн М.Н. Фабула//КЛЭ. M., 1972. Т. 7. С. 874.
260
Глава 7. ОБРАЗНЫЙ СТРОЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Аристотель. Поэтика. Риторика//Аристотель и античная литература. M., 1978.
Ауэрбах Э. Мимесис: Пер. с нем. M., 1976.
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. M., 1979.
Белинский В.Г. Менцель, критик Гете//Собр. соч.: В 9 т. M.,
1977. Т. 2.
Белинский В.Г. Сочинения А.С. Пушкина//Собр. соч.: В 9 т.
M., 1977. Т. 6. Статья 5.
Бочаров С.Г. Характеры и обстоятельства//Теория литературы.
Основные проблемы в историческом освещении. M., 1962.
Кн. 1.
Виноградов В.В. Проблема авторства и теория стилей. M., 1961.
Галанов Б. Живопись словом. Портрет. Пейзаж. Вещь. M.,
1974.
Гачев Г Д. Жизнь художественного сознания. Очерки по истории образа. M., 1972.
Гей Н.К. Художественность литературы. Поэтика. Стиль. M.,
1975.
Гинзбург Л. О литературном герое. JI., 1979.
Гинзбург JI. О лирике: 2-е изд. JI., 1974.
Грехнев BA. Словесный образ и литературное произведение.
Нижний Новгород, 1997.
Добин Е. Искусство детали. Наблюдения и анализ. JI., 1975.
Кожинов В.В. Типическое // ЛЭС. С. 440.
Кожинов В.В. Художественное творчество как «мышление в
образах»//Вопросы литературы, 1959. № 10.
Кормилов С.И. Образ художественный. Тип//Современный
словарь-справочник по литературе. M., 1999. С. 327—332;
535—541.
Лессинг Г. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. M.,
1957.
Маймин Е. Искусство мыслить образами. M., 1976.
Михайлова А. О художественной условности. M., 1966.
Палиевский П.В. Внутренняя структура образа//Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении.
M., 1962. Кн. 1.
Проблема автора в художественной литературе: Под ред.
Б.О. Кормана. Воронеж, 1967—1974. (Вып. 1—4. Ижевск,
1974).
Ревякин А.И. Проблема типического в художественной литературе. M., 1959.
261
Pодари Дж. Грамматика фантазии. Введение в искусство придумывания историй: Пер. с ит. M., 1978.
Семиотика и художественное творчество. M., 1977.
Слово и образ. Сб. статей. M., 1964.
Турбин В. Н. Товарищ время и товарищ искусство. M., 1961.
Храпченко М.Б. Горизонты художественного образа. М., 1982.
Храпченко М.Б. Художественное творчество, действительность, человек. M., 1977.
Эйзенштейн С.М. Монтаж//Собр. соч.: В 5 т. M., 1964. Т. 2.
Эпштейн М. Образ художественный. // ЛЭС. С. 252—257.
Глага 8. ЯЗЫК ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ЯЗЫКЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Аристотель. Поэтика. Риторика//Аристотель и античная литература. M., 1978.
Бахтин MM. Эстетика словесного творчества. M., 1979.
Виноградов В.В. О языке художественной литературы. M.,
1959.
Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. M., 1963.
Винокур Г.О. О языке художественной литературы. M., 1991.
Гинзбург JIЯ. О лирике. Л., 1964.
Григорьев В.П. Поэтика слова: На материале русской советской поэзии. M., 1979.
Григорьев В.П. Язык художественной литературы//ЛЭС.
С. 524—526.
Ларин BA. Эстетика слова и язык писателя. Л., 1974.
Лотман ЮМ. Избранные статьи:В 3 т. Т. 1—3. Таллин,
1992—1993.
Мукаржовский Я. Литературный язык и поэтические/Пражский лингвистический кружок. M., 1967.
Ревякин А.И. Проблема изучения и преподавания литературы. M., 1972.
Русские писатели о литературном труде: В 4 т. M., 1954—
1956.
Русские писатели о языке (XVIII—XX вв.). Л., 1954.
Соколов А.Н. Внутренняя речь и мышление. M., 1968.
Томашевский Б.В. Стилистика. Л., 1983.
Трубецкой Н.С. Избранные труды по филологии. M., 1987.
Тынянов Ю.9 Якобсон Р. Проблемы изучения литературы и
языка//Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы.
Кино. M., 1977.
262
Храпченко М.В. Язык художественной литературы//Новый
мир, 1983. № 9.
Хрестоматия по теоретическому литературоведению. Тарту,
1976. Кн. 1.
Шмелев Д.H. Слово и образ. M., 1964.
Якобсон P.O. Лингвистика и поэтика//Структурализм: «за»
и «против». M., 1975.
Глава 9. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА
Виноградов В.В. О языке художественной литературы. M.,
1959.
Винокур Г.О. О языке художественной литературы. M.,
1991.
Григорьев В.П. Поэтика слова: На материале русской советской
поэзии. M., 1979.
Лингвистика и поэтика. M., 1979.
Лингвистика текста: В 2 т. M., 1974.
Мандельштам О. Э. Разговор о Данте. M., 1967.
Жирмунский В.M. Теория литературы. Поэтика. Стилистика.
Л., 1977.
Кожевникова НА. Словоупотребление в русской поэзии начала XX века. M., 1986.
Кожинов В.В. Слово как форма образа//Слово и образ. M.,
1964.
Поляков МЛ. Вопросы поэтики и художественной семантики. M., 1986.
Потебня АЛ. Из записок по теории словесности. Харьков,
1905.
Синонимы русского языка и их особенности. Л., 1972.
Словарь синонимов русского языка: В 2 т. Л., 1970—1971.
Современный словарь-справочник по литературе. M., 1999.
Соколова Н.К. Слово в русской лирике начала XX века. Воронеж, 1980.
Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка. M., 1985.
Томашевский В.В. Стилистика. Л., 1987.
Глава 10. ТРОПЫ
Античные мыслители об искусстве: 2-е изд. M., 1938.
Аристотель. Поэтика. Риторика//Аристотель и античная литература. M., 1978.
Валли Ш. Французская стилистика: Пер. с фр. M., 1961.
263
Белецкий А. Изображение живой и мертвой природы//Белецкий А. Избранные труды по теории литературы. M., 1964.
Веселовский А.Н. Из истории эпитета//Веселовский А.Н. Историческая поэтика. M., 1989.
Волков И.Ф. Творческий метод и художественные системы. M.,
1978.
Дюбуа Ж., Эделин Ф., Клинкенберг Ж.М. и др. Общая риторика. M., 1986.
Жолковский А.К., Щеглов Ю.К. Работы по поэтике выразительности. Инварианты—Тема—Приемы—Текст. M.,
1996.
Квятковский АЛ. Поэтический словарь. M., 1966.
Ковалев В.П. Языковые выразительные средства русской художественной прозы. Киев, 1981.
Кожевникова НА. Об обратимости тропов//Лингвистика и поэтика. M., 1979.
Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. M.,
1976.
Озеров Л А. От метафоры к эпитету//Озеров Л.А. Необходимость прекрасного. M., 1983.
Сквозников В Д. Творческий метод и образ//Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении.
M., 1962. Кн. 1.
Словарь литературоведческих терминов. M., 1974.
Томашевский Б.В. Стилистика. Л., 1987.
Храпченко М.Б. Мировоззрение и творчество. M., 1958.
Глава 11. СИНТАКСИС ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ
Античные риторики. Изд. МГУ, 1978.
Античные теории языка и стиля: Под ред. О. Фрейденберг. M.;
Л., 1936.
Аристотель. Поэтика. Риторика//Аристотель и античная литература. M., 1978.
Гаспаров MJI. Античная риторика как система//Античная поэтика. Риторика. Теория и литературная практика. M.,
1991.
Горнфельд А.Г. Фигуры в поэтике и риторике//Вопросы теории и психологии творчества:2-е изд. Харьков, 1911.
Дюбуа Ж., Эделин Ф.'Клинкенберг Ж.М. и др. Общая риторика. M., 1986.
Жолковский А.К., Щеглов Ю.К. Работы по поэтике выразительности. Инварианты—Тема—Приемы—Текст. M.,
1996.
264
Корольков BM.JK теории фигур//Сборник научных трудов
Московского педагогического института иностранных
языков. M., 1974. Вып. 78.
Лотман ЮМ. Избранные статьи: В 3 т. Таллин, 1992. Т. 2.
Conep Поль Л. Основы искусства речи: Пер. с англ.: 2-е изд..
исправ. M., 1992. С. 302—321.
Томашевский Б.Б. Стилистика: 2-е изд. испр. и доп. JI., 1983.
С. 249—283.
Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. M., 1972.
Глава 12. ЗВУКОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ
Благой ДД. Мысль и звук в поэзии//Славянские литературы.
M., 1973.
Брик О. Звуковые повторы//Поэтика. Пг., 1919.
Головенченко ФМ. Звучание слова (звукопись)//Русская литература. Ученые записки МГПИ им. В.И. Ленина. № 160.
M., 1961. С. 5—22.
Гончаров Б.П. Звуковая организация стиха и проблемы рифмы. M., 1973.
Левый Иржи. Искусство перевода: Пер. с чешек. M., 1974.
Невзглядова Е.В. О звуке в поэтической речи//Поэтика и стилистика русской литературы: Памяти акад. В.В. Виноградова. Л., 1971. С. 392—399.
Панов MJJ. О восприятии звуков//Развитие фонетики современного русского языка. M., 1966. С. 155—162.
Рассадин С.Б. Так начинают жить стихом. Книга о поэзии для
детей. M., 1967. С. 137—152.
Роднянская И.Б. Слово и «музыка» в лирическом стихотворении// Слово и образ. M., 1964.
Тимофеев Л.И. Слово в стихе. M., 1983.
Успенский Б А. Фонетическая структура одного стихотворения
Ломоносова//8еппо1ука i struktura textu. Wroclaw, 1973.
S. 103—129.
Федотов О .И. Рифма и звуковой повтор//Метод и стиль писателя. Владимир, 1976.
Федотов OJf. Материнство превыше веры (о стихотворении
В. Набокова «Мать»)//Анализ художественного текста на
школьном уроке: теория и практика. Санкт-Петербург—
Ставрополь, 1996. Вып. II.
Эткинд Е.Г. Разговор о стихах. M., 1970.
265
Глам 13. КОМПОЗИЦИЯ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Гегель Г. Лекции по эстетике//Гегель Г. Эстетика: В 4 т. M.,
1971. Т. 1.
Жирмунский BM. Композиция лирических стихотворений//
Жирмунский В.М. Теория стиха. Л., 1975.
Кожинов В.В. Сюжет, фабула, композиция//Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. M.,
1964. Кн. 2.
Левитин Л.С., Цилевич Д.М. Основы изучения сюжета. Рига,
1990.
Hupe Л.О. О значении композиции в произведениях//Семиотика и художественное творчество. M., 1977.
Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. M., 1979.
Палиевский П.Г. Художественное произведение//Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении.
M., 1965. Кн. 3.
Поспелов Г.H. Введение в литературоведение. M., 1983.
Тимофеев ЛМ. Основы теории литературы. M., 1971.
Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика: 6-е изд. M.;
Л., 1931.
Успенский Б А. Поэтика композиции//Успенский Б. А. Семиотика искусства. M., 1995.
ОГЛАВЛКНИК
Предисловие
РАЗДЕЛ 1
ЛИТЕРАТУРА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Глава 1. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ КАК НАУКА
§ 1.
Многообразие литературных явлений
и понятие системности
§ 2. Три основных рода литературных явлений
Глава 2. СТРУКТУРА ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ
§ 3. Основные и вспомогательные
литературоведческие дисциплины,
их системное единство и взаимодействие
РАЗДЕЛ 2
УЧЕНИЕ О ЛИТЕРАТУРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ
Глава 3. ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ
§ 4. Художественная литература в кругу
других искусств
§ 5. Сфера художественной литературы
§ 6. Предмет художественной литературы
§ 7. Основные функции художественной
литературы
РАЗДЕЛ 3
УЧЕНИЕ О ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ
Глава 4. ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
К А К ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЦЕЛОЕ
§ 8. Содержание и форма
литературно-художественного произведения
3
5
6
6
11
13
13
17
18
18
20
20
22
29
30
30
267
Глава 5. ТЕМА И ИДЕЯ ЛИТЕРАТУРНОХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
41
§ 9. Тема — объективная основа произведения
§ 10. Идея как выражение авторской тенденции
в художественном освещении темы
41
47
Глава 6. СЮЖЕТ И ФАБУЛА ЛИТЕРАТУРНОХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
57
§11. Действие, процессуальное^ — факторы,
определяющие своеобразие поэтического мира
§ 12. Конфликт — основная движущая сила произведения..
§ 13. Сюжет и фабула
§ 14. Элементы сюжета
Глава 7. ОБРАЗНЫЙ СТРОЙ ЛИТЕРАТУРНОХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
§ 15. Образ как форма выражения содержания
в художественной литературе
§ 16. Внутренняя структура образа
§ 17. Типология образов
Глава 8. ЯЗЫК ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
§ 1 8. Язык разговорный, литературный
и поэтический
§ 19. Речь автора и речь персонажей
Глава 9. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА ПОЭТИЧЕСКОГО Я З Ы К А
57
62
67
72
91
91
96
113
128
128
139
151
§ 20. Номинация, синонимия и антонимия — эффективные
способы образного со(противо)поставления
151
§ 2 1 . Омонимия и ее разновидности.
Морфологические вариации слов
161
§ 22. Особые лексические ресурсы
поэтического языка
167
Глава 10. ТРОПЫ
§ 23. Соотношение тропов
Глава 11. СИНТАКСИС ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ
§ 24. Поэтические фигуры
268
191
191
225
225
Глава 12. ЗВУКОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ
§ 25. Классификация звуковых повторов
§ 26. Частотность гласных и согласных звуков
в русском языке
Глава 13. КОМПОЗИЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
§ 27. Композиционное единство произведения
Литература к темам
238
238
250
253
253
256
Учебное издание
Федотов Олег Иванович
ОСНОВЫ Т Е О Р И И Л И Т Е Р А Т У Р Ы
Учебное пособие для студентов высших учебных заведений
В двух частях
Часть 1
Литературное творчество и литературное произведение
Зав. редакцией И .К. Свешникова
Редактор JI.О. Тарасова
Зав. художественной редакцией И А. Пшеничников
Макет АБ. Щетинцева
Компьютерная верстка О.Н. Емельяновой
Корректор В.П. Алексеева
Отпечатано с диапозитивов, изготовленных
ООО «Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС».
Лицензия ИД № 03185 от 10.11.2000.
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953.Д.006153.08.03 от 18.08.2003.
Сдано в набор 25.01.03. Подписано в печать 09.06.03.
Формат 60x90/16. Печать офсетная. Бумага газетная. Усл. печ. л. 17,0.
Тираж 5 000 экз. Заказ № 3039
Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС».
119571, Москва, просп. Вернадского, 88,
Московский педагогический государственный университет.
Тел. 437-11-11, 437-25-52, 437-99-98; тел./факс 735-66-25.
E-mail: vlados@dol.ru
http: / / www. vlados. ru
ООО «Полиграфист».
160001, Россия, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.
учреждения
образования
ГУМАНИТАРНЫЙ/
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ/
ЦЕНТР/
^\влллос
авторов
Широкий выбор
учебников,
учебных
и методических
пособий,
справочной
литературы
для вузов, школ,
лицеев, гимназий,
колледжей,
детских садов
и учреждений
дополнительного
образования.
учебные
заведения
книготорговые
организации
оптовых
покупателей
У
Н А С В С Е Г Д А можно подобрать ассортимент новейшей учебной литературы нашего и других издательств.
Н А Ш И М Е Н Е Д Ж Е Р Ы оперативно обработают ваш заказ, помогут подобрать ассортимент учебной литературы, необходимой для
вашего региона, ознакомят с перспективами
издательства на ближайший квартал.
ХОРОШЕЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
гибкая система скидок, советы профессионалов по подбору литературы - все это в нашем
издательстве!
П О З Н А К О М И Т Ь С Я
издательства
www.vlados.ru
вы
сможете
с новинками
на web-сайте:
Телефоны: 437-99-98, 437-11-11,
Телефон/факс:
735-66-25.
437-25-52.
E-mail: vlados@dol.ru
Все книги вы сможете заказать и приобрести по адресу:
119571, М о с к в а , просп. В е р н а д с к о г о , 8 8 ,
Московский педагогический
г о с у д а р с т в е н н ы й у н и в е р с и т е т , а / я 19.
Уважаемые коллеги!
ГУМАНИТАРНЫЙ ИЗДАТЕЛЬСКИМ
IiEIUP «влдаос»
предлагает вашему вниманию следующие книги:
Федотов О.И.
Основы теории литературы: Учебное пособие
В учебном пособии дается система сведений по теории литературы. Его цель —
подготовить студента к профессиональной деятельности, помочь усвоить сложный категориальный аппарат теории и истории литературы, литературной критики, в краткой форме ознакомить с основными и вспомогательными литературоведческими дисциплинами.
Каравашкин А.В. и др.
Древнерусская литература: XI—XVII вв*: Учебное пособие
Пособие знакомит с русской литературой XI—XVII вв. Основное внимание уделено художественным особенностям лучших произведений русского средневековья, их связям с византийской и западноевропейской литературой. Большое место отводится вопросам жанрово-видового своеобразия древней литературы, проблеме становления, развития и трансформации жанров от
средневековья к новому времени.
Минералов Ю.И.
История русской словесности: XVIII вл Учебное пособие
В пособии представлен систематический курс истории русской литературы XVIII
века. Последовательно описан общий процесс развития литературы этого периода, освещены влиявшие на него факторы, прослежены основные литературные течения: барокко, классицизм, державинская школа, сентиментализм.
Пособие адресовано студентам высших учебных заведений.
Заказать и приобрести книги вы можете по адресу:
119571, Москва, просп. Вернадского, 88,
Московский педагогический государственный университет, а/я 19.
Тел. 437-99-98,437-11-11, 437-25-52; тел./факс 735-66-25.
E-mail: vlados@dol.ru
http://www.vlados.ru
Проезд: ст. м. Юго-Западная.
ОЛЕГ ИВАНОВИЧ ФЕДОТОВ доктор филологических наук,
профессор, известный стиховед,
автор учебников по теории
и истории литературы.
Учебное пособие в уникальной
форме знакомит с современными
представлениями об основных
литературоведческих понятиях.
Его основная цель - подготовить
начинающего филолога
к профессиональной деятельности,
помочь усвоить сложный
категориальный аппарат теории
литературы, истории литературы
и литературной критики
применительно к учению
о литературном творчестве
и литературном произведении.