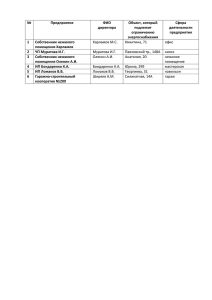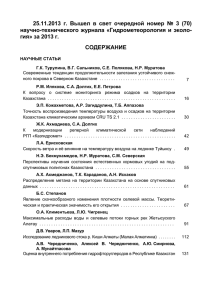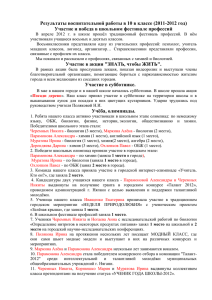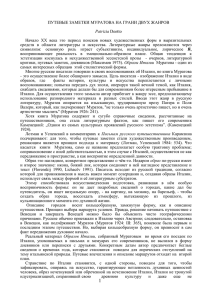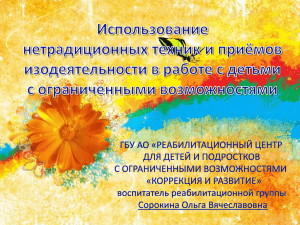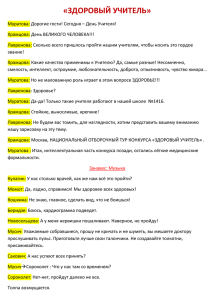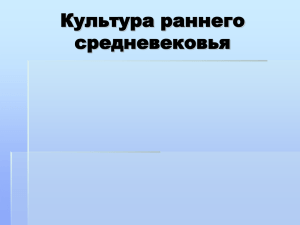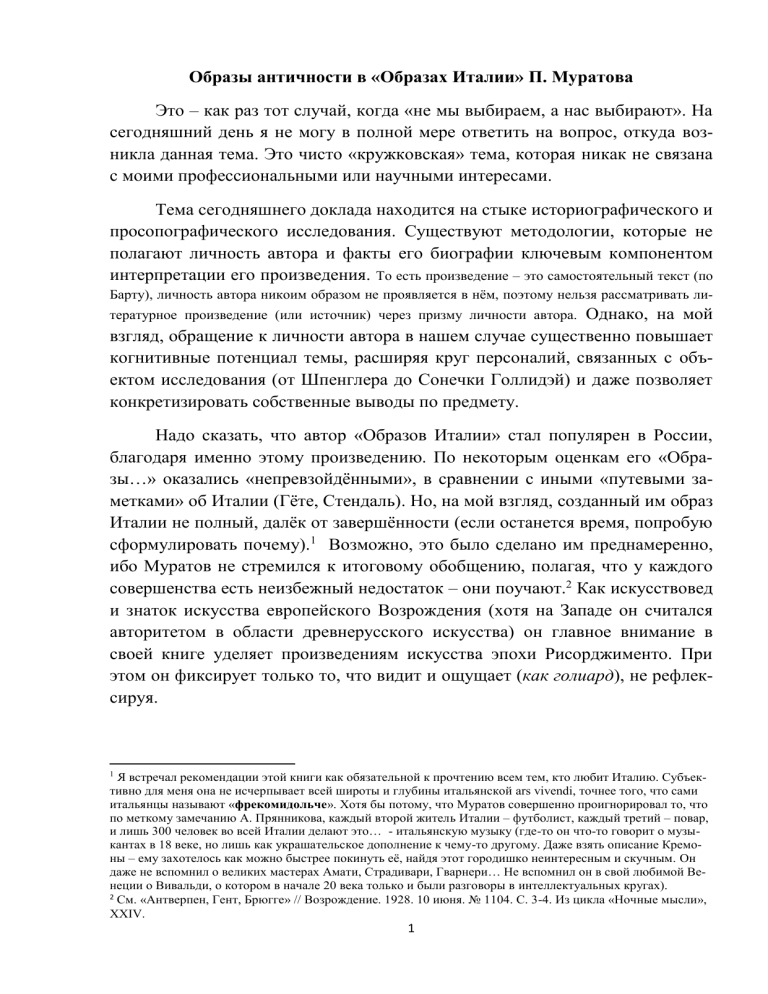
Образы античности в «Образах Италии» П. Муратова Это – как раз тот случай, когда «не мы выбираем, а нас выбирают». На сегодняшний день я не могу в полной мере ответить на вопрос, откуда возникла данная тема. Это чисто «кружковская» тема, которая никак не связана с моими профессиональными или научными интересами. Тема сегодняшнего доклада находится на стыке историографического и просопографического исследования. Существуют методологии, которые не полагают личность автора и факты его биографии ключевым компонентом интерпретации его произведения. То есть произведение – это самостоятельный текст (по Барту), личность автора никоим образом не проявляется в нём, поэтому нельзя рассматривать ли- Однако, на мой взгляд, обращение к личности автора в нашем случае существенно повышает когнитивные потенциал темы, расширяя круг персоналий, связанных с объектом исследования (от Шпенглера до Сонечки Голлидэй) и даже позволяет конкретизировать собственные выводы по предмету. тературное произведение (или источник) через призму личности автора. Надо сказать, что автор «Образов Италии» стал популярен в России, благодаря именно этому произведению. По некоторым оценкам его «Образы…» оказались «непревзойдёнными», в сравнении с иными «путевыми заметками» об Италии (Гёте, Стендаль). Но, на мой взгляд, созданный им образ Италии не полный, далёк от завершённости (если останется время, попробую сформулировать почему).1 Возможно, это было сделано им преднамеренно, ибо Муратов не стремился к итоговому обобщению, полагая, что у каждого совершенства есть неизбежный недостаток – они поучают.2 Как искусствовед и знаток искусства европейского Возрождения (хотя на Западе он считался авторитетом в области древнерусского искусства) он главное внимание в своей книге уделяет произведениям искусства эпохи Рисорджименто. При этом он фиксирует только то, что видит и ощущает (как голиард), не рефлексируя. Я встречал рекомендации этой книги как обязательной к прочтению всем тем, кто любит Италию. Субъективно для меня она не исчерпывает всей широты и глубины итальянской ars vivendi, точнее того, что сами итальянцы называют «фрекомидольче». Хотя бы потому, что Муратов совершенно проигнорировал то, что по меткому замечанию А. Прянникова, каждый второй житель Италии – футболист, каждый третий – повар, и лишь 300 человек во всей Италии делают это… - итальянскую музыку (где-то он что-то говорит о музыкантах в 18 веке, но лишь как украшательское дополнение к чему-то другому. Даже взять описание Кремоны – ему захотелось как можно быстрее покинуть её, найдя этот городишко неинтересным и скучным. Он даже не вспомнил о великих мастерах Амати, Страдивари, Гварнери… Не вспомнил он в свой любимой Венеции о Вивальди, о котором в начале 20 века только и были разговоры в интеллектуальных кругах). 2 См. «Антверпен, Гент, Брюгге» // Возрождение. 1928. 10 июня. № 1104. С. 3-4. Из цикла «Ночные мысли», XXIV. 1 1 В этом проявляется метод Муратова. Он берёт явление, которое само по себе достаточное, чтобы стать объектом рассмотрения (феноменологический подход). Важнее для него чувствовать картину, чем рефлексировать по поводу неё (перигарда сенсорной осязаемости у искусствоведов есть такое, не только у психиатров).3 Однако где-то он всё же выводит генетические связи между отдельными явлениями (или просопофеноменами) и конструирует общую схему, в которой каждый феномен занимает своё место. Надо заметить, Муратов, как и все его современники в различных областях познания, большое внимание уделяет методологии своих исследований, задумывается о сути самой методологии, охотно употребляя данный термин в своих текстах. Он осознаёт разницу между задачей установить, описать и истолковать некий феномен и дать ему историческую оценку, вписав его в некое социокультурное измерение (пространство). В первом случае речь идёт о физиогномической интерпретации (литература со своими «пафосами», «этосами», «катарсисами», «эпиклезами»), во втором случае – об итоговом понимании сущности исторического процесса (историософия). Он, конечно же, изучает работы своих предшественников – искусствоведов (Винкельман, Морелли, Патер, Беренсон, последний для него этакий корифей искусствоведческой критики, анализирует других коллег, разделяя их на «беренсонианствующих» или нет, пишет о нём почему-то в прошедшем времени, хотя тот переживёт Муратова на 9 лет). Подобно творчеству художника, Муратова трудно «измерить общим аршином», но всегда хочется понять внутренний механизм того самого артистического видения мира, присущего тонкому художнику (не только живописцу, но и художнику слова). Ему интересны не просто работы различных мастеров, он изучает реакцию Зрителей (т.е. рецепцию) на наблюдаемые ими произведения античного искусства (см. «Брюссельское кружево», или колумбарий на Аппиевой дороге). Античность не выделена у Муратова в самостоятельный объект исследования. Она рассредоточена по многим местам, где как бы проступает невзначай, подкрепляя рассуждения автора (например, о Равенне, о Неаполе и близлежащих городках, о Сицилии и др.). Да, в главе посвящённой Риму имеется раздел «Античное», но и здесь античность не становится предметом рассмотрения. При этом, всё же нельзя не заметить, насколько его видение «П.П. Муратов не рассматривал историю и историю искусства как некое поступательное движение. Ни история, ни искусство не укладывалось для него в какие-либо схемы. Он осознавал каждое событие и каждое произведение искусства как факт, который нуждается в осознании и понимании». (О. Гасанова) 3 2 античности определённо артистично (эстетично), в смысле изысканности литературных средств выразительности, и, в тоже время, рационально в смысле синтагматичности4 полученных описаний. Во-первых. Муратов, в отличие от своих коллег «по цеху» (Иванов, Зайцев, Стражев) не калькирует восприятие античности только в виде прафеномена (греческая культура – поскольку она первична, органично проистекает в римскую), но воспринимает её как двуединство греческой и римской культур.5 При этом в его тексте читается протест против ставшего уже тогда «общим местом» разведения двух культур, как культура «реплика» и «оригинал». По крайней мере, он приводит несколько «мест», по которым можно судить о самодостаточности и уникальности римской скульптуры, например (саркофаги, разумеется, портретная скульптура), где искусство римлян превзошло греческое. Во-вторых. У Муратова не видно стремления холически определить (обосновать) античность, впрочем, это не его цель. Придерживаясь своего метода, он генерализирует лишь по поводам (античная архитектура, античный театр, античная пластика и т.п.). При этом его выводы вполне целостны по отношению к отдельным явлениям и содержат оригинальные суждения.6 В-третьих. Обобщая по поводу, Муратов прямо или косвенно всё же приходит к необходимости, если не выработать, то высказать целостное восприятие античности. Это восприятие также всецело располагается в сфере эстетики. Характерно его высказывание по поводу предназначение римских древностей, которые повсеместно встречаются в городе: «Когда-нибудь люди Синтагматичность – в данном контексте это прохождение процедуры редукции речи на лексическом уровне. Синтагматические отношения лексем в письменной речи имеют различную природу, поэтому дистрибутивный анализ их (иногда ещё и морфем) позволяет выявить искомые значения слов и смысл всего текста. Это можно представить не примере, как слово «опредѐленный», стало «определённый» после прохождения процедуры синтагматизации. Или идиома «немаловажно» имеет смысл (т.е. данное выражение уже синтагматизировано), в отличие от идиомы «немаловероятно». Читая Муратова и некоторых его современников (не всех, что важно) часто можно заметить не орфоэпические с точки зрения современного русского языка выражения, например, «приключения накопляются», «панорамический вид», «пифические тучи», «подобные энтусиастическому аббату», «спиритуальное начало», «импрессионистический анализ», «антропоморфический», «оказательство», «отверждение» и т.п., которые поначалу вызывали недоумение или отнесение этого к стилистике литературной речи того времени. Но затем стало понятно, что тем самым автор сознательно пытался дистанцироваться от привычного содержания устоявшихся понятий. Вероятно этим автор пытается передать несколько иные коннотации. 5 Он пишет: «Нынешний путешественник яснее видит два античных мира там, где современники Гёте видели только один. Стремясь к чистому источнику древней цивилизации, он готов даже в Риме искать прежде всего Грецию» (с. 365). 6 К их числу можно отнести его восприятие древнеримской архитектуры: «Великое архитектурное совершенство всего, что осталось от древнего Рима, поражает нас так же, как оно поразило людей итальянского Возрождения. В этой архитектуре исторический опыт различает иногда следы этрусских традиций, греческих влияний, а позднее – восточных веяний, но только одному Риму принадлежит полное и живое слияние всех элементов в бессмертное целое. Латинский гений выражается здесь в сросте и довершенности». 4 3 поймут, что для античного лучше честное умирание от времени и от рук природы, чем летаргический сон в музее. Пока же едва ли не самый верный подход к античному дают такие второстепенные римские музеи, как маленький музей, подаренный народу сенатором Баракко, или Латеран…» (с. 561). И если это стало «общим местом» для всей последующей практики музеефикации римских древностей, то его вывод о глубокой артистичности античного искусства заслуживает отдельного внимания. Это эстетическое, или даже эстетское восприятие античности Муратовым осуществляется не рационально, но интуитивно. Быть может, это обстоятельство несколько усложняет имплементацию его собственного восприятия античности в эпистемологически рафинированные категории. Тем не менее, именно такая стоит задача. Т.е. цель данного доклада определить типы (варианты) рецепции античного наследия в творчестве Муратова. Чтобы решить эту задачу необходимо расширить круг источников, включив сюда обширнейший публицистический материал Муратова и, как показала практика, дополнив его источниками других авторов (воспоминания, письма, рецензии друзей или недругов Муратова, его коллег по цеху и даже материалы по делу «помгола»7). Разумеется, что всё это означает одновременно расширение самого предмета исследования, поскольку авторская позиция может быть раскрыта на примере нескольких последовательных произведений (диахронный подход). Повторю ещё раз, Муратов никакой ни антиковед, античность проявляется у него опосредованно, в связи с его предметом исследования. Его интересуют в основном эстетические феномены эпохи Ренессанса и Барокко, но попутно он затрагивает более широкий круг исторических явлений (особенно это видно в дальнейшей его публицистике). Муратова можно сравнить с Леонардо, если не в смысле значения, то в широте и глубине рассмотрения определённого предмета. «Леонардеско» - эпитет вполне комплементарный для Муратова. Он в равной степени компетентности способен рефлексировать искусство Возрождения, Византии, Древнерусское, везде он выступает как профессионал. Равно как, не литератор и не историк по профессии он всё же меткий публицист, яркий эссеист, и даже обширный историописатель (его совместная с Алленом первая история ВОВ в двух частях 1943-46 гг., история турецко-кавказских войн 1953 г.). Муратов современен по образу мыслей, оценок, стилю. В чём-то он оказался даже прозорливцем. Но в искусОн был членом Московского комитета помгола. Когда Муратов банально опоздал на одно из заседаний, оказалось, что всех присутствовавших там банально арестовали. Но он из чувства солидарности, быть может, присоединился к ним в заключение, где «развлекал их чтением своих «Образов Италии»». 7 4 ствоведческом анализе и синтагматических формах повествования его «Образов» он остался в методологии XIX века (сказывается школа). В следующих главах своей книги Муратов не раз делает отсылки к античности, в большинстве случаев для усиления своих доводов на основе ярких примеров, но и где-то рефлексирует по поводу пришедших ему в голову аналогий. Разумеется, находясь в Италии, античность буквально разворачивается под ногами и волей неволей задумываешься о сущем… «Что-то античное» (эта лексема часто встречается на страницах книги) постоянно присутствует вокруг него, видит ли он акведуки в Кампанье, бегущие через время и пространства к началу Рима (с. 404-406), созерцает ли он руины грандиозных сооружений древнего Рима, грандиозные не с точки зрения размеров, а пропорций, формулу которых однажды нашли сами римляне (с. 415). В основании вещей позднейших эпох Муратов видит античность, причём не взором археолога, а взглядом эстета: «Стоит только времени прикоснуться к созданиям барокко, чтобы они сейчас же вскрыли кровное родство, связывающее их с делами императорского Рима…» (с. 446). Особенно красноречиво Муратов доводит эту мысль в главе, посвященной Палладио. «Античный мир был для Палладио живым организмом, и архитектура была не утратившей жизни оболочкой этого мира… Он не стремился похитить у Рима готовые эффекты форм, как хотели одни, или вырвать секреты славы, о чем мечтали другие. Он жил в убеждении, что это не чья-то чужая архитектура, рядом с которой возможна какая-то иная, но что это единственная возможная и нужная архитектура» (с. 911). Видно, что для Муратова античность не есть историческое прошлое, это не ставшая, но становящаяся материя, тесно связанная с современностью. Наверное подобное ощущение навевало ему созерцание «вечных» ценностей, которые так легко можно было здесь и сейчас обнаружить. Его зарисовки о Неаполе создают вполне определённое представление о «продолженной античности», находя её в простоте и бедности живущих на берегу моря людей, в тех же стадах коз, глиняных кувшинах с водой, светильниках, наполненных маслом, «…как и при Августе - пишет Муратов. Бедность и нищета освещены здесь тоже не нашей, античной улыбкой, и свободная нагота играющих на улице детей бывает здесь также прекрасна, как александрийские бронзы» (с. 465). С точки зрения Муратова даже Пульчинелла дошёл до нас как существо из античного мира, чудесным образом пережившее тысячелетия.8 ОказавПод именем Макка (длинный нос крючком как основной идентификационный атрибут) он участвовал в ателланских фарсах, разыгрывавшихся здесь в итало-греческую эпоху. См. Вяч. Иванов. Дионис и прадионисийство. 8 5 шись в Помпеях, Муратов живо ощущает «чувство камня (наряду с чувством воды в Риме, например – ДИУ) – для него это одно из важнейших чувств античного существования». Это чувство, плюс ещё чувство тени, «которая также в Помпеях была неизменной спутницей дней античного человека, первым чудом мира, открывавшимся глазам античного ребёнка» (с. 470) позволило ему проникнуть в сознание античного человека. Видя правильно спроектированные кварталы Помпей и наблюдая поразившее его стремление горожан «как можно мельче разделить пространство дома и как можно теснее связать между собой все деления», Муратов делает вывод, что для них важнее общественной жизни была замкнутая стенами жизнь домашняя. Не руины форума, театра или терм, но именно остатки жилищ позволили судить Муратову об умении отдыхать, искусстве жизни (dolce vita) древних помпеян, заметить одновременное сочетание бедности и изысканности жизненного обихода, суровости и нежности нравов. Этому у него тоже находится объяснение: «Глубокая домашняя набожность, любовь к предкам и к детям сочетаются с бесстыдством эротических сцен, с непристойной шуткой приапов. Не двойственным существом был вместившим всё это античный человек. Двойным в сравнении с нашим был только объём его природных сил…» (с. 471). Поэтому ему здесь не кажется драмой катастрофическая гибель города. Он не был проклят, но исполнил своё предназначение… За рефлексией античного миросозерцания у Муратова в конечном итоге следует и настоящая философия истории. Вид останков греческих храмов в Пестуме, в Сиракузах вызывают у Муратова целый ворох симптоматичных заключений. В отличие от Шпенглера, например,9 Муратов не отказывает в историзме античному человеку. Преувеличенно тяжелые пропорции, громоздкость и приземистость этих храмов как-то связаны «с неостывшим ещё мистическим жаром архаической Греции». Судьба этих «людей из Поссейдонии» известна благодаря одному случайно сохранившемуся греческому отрывку, который Муратов приводит тут же. «Им, бывшим сначала настоящими эллинами, - говорится там, - пришлось обратиться в варваров, в тирренцев или римлян, переменив при этом язык и нравы. Но они все еще соблюдают Мне порой кажется, что Муратова и Шпенглера что-то очень сильно связывает, если исключить, что в некоторых поздних статьях Муратов в принципе мог конспектировать «Закат Европы». Не только идеи, но даже терминология этих двух авторов очень схожи. Даже внешне они чем то похожи. Возможно, они могли даже пересечься в Берлине в 1922-23 годах. На тот момент времени их «фигуры» сопоставимы. Это сегодня мы говорим о модных эсхатологических идеях Шпенглера в 1920-е годы, тогда они могли быть просто «модными эсхатологическими идеями». Примечательно, друг Муратова В.Ф. Ходасевич, пусть и в ироническом ключе писал А.В. Бахраху из Праги 7 ноября 1923 года: «Из новостей общеевропейского значения могу Вам сообщить, что Муратов едет в Италию с Катериной Сергеевной, Гавриком и собакой...». Но как же всё-таки велик соблазн стряпать схемы: Ницше, фон Зеек, Шпенглер, Муратов, Паточка, Фукуяма… 9 6 одно эллинское празднество и в тот день собираются вместе и вспоминают старые свои имена и прежние обычаи. Они обмениваются сожалениями и проливают горчайшие слезы, после чего расходятся по домам. Во времена войны с Пирром Поссейдония была присоединена к римским владениям под именем Пестума» (с. 480). Относительно первоосновы мирочувствования древних греков Муратов придерживается устоявшейся традиции. Но как же тонко и, в то же время, чётко он формулирует эту мысль. Я прошу прощения за столь пространную цитату, но только так можно прочувствовать мысль автора, тут невозможно купировать. «Когда на берегах Эгейского моря находят древние украшения и предметы быта и культа, то об их принадлежности к циклу греческой жизни говорит не столько стиль этих вещей, сколько тема - дела богов и героев. Греческое сознание не довольствовалось, когда могло, простым символом божества, заключающего в себе все возможности чуда и неподвижного в своей царственной власти над миром. Божественное раскрывалось для него в действии, в движении. Вместо религиозной догмы оно создало религиозную игру, религиозную драму, составляющую содержание мифов. Искусство, призванное на службу этой религии, неминуемо должно было найти cвою цель в спиритуализации материального мира… Греческое искусство, сложившееся под сильным впечатлением этого гениального подчас овеществления духа, с самого начала вступило решительно на обратный путь, стремясь к одухотворению вещества… Только в Греции художественное растворилось в жизни всей нации и пропитало ее. Нас поражает то чувство первой необходимости, которое всегда есть в созданиях греческого искусства. Но оно понятно, если вспомнить, что темой этого искусства были мифы - внутренняя и необходимая правда всех явлений природы и жизни, просвечивающая сквозь их материальную оболочку. Ибо что такое миф, как не просветление мира, не освобождение духовного существа всех материальных вещей и явлений» (с. 510). Для Муратова античное сознание, мыслившееся где-то между миром богов и людей, есть «эпическая стихия», которая лежит в основе духовного подъёма, ставшего истоком искусства Ренессанса. Надо сказать, что для Муратова очевидна идея самодостаточности искусства эпохи Возрождения, которая отнюдь не является попыткой реанимации античности. Он так и пишет: «с представлениями о «Ренессансе» как о воскрешении древних [то бишь античных - ДИУ] искусств и наук успешно борется каждый элементарный школьный учебник».10 Он великолепно ин10 «Французская готическая скульптура» // Возрождение. 1931. 14 июня. №2203. С. 1. 7 терпретирует различные произведения этого искусства, даёт «живой портрет» их авторов. В одном месте внимательный читатель может заметить намёк на понимание Ренессанса, как стремление воскресить именно античный антропоморфизм на примере творчества Корреджио. Но по мнению самого автора это скорее исключение. «Очеловеченные и живущие пейзажи метаморфоз Корредджио были единственным, быть может, явлением античного миросозерцания в живописи Возрождения» (с. 941). Даже находясь на вичентинской вилле Палладио, он со всей очевидностью показывает принципиальное различие двух этих искусств.11 В «Образах Италии» перед нами открывается уже сложившийся философ, несмотря на то, что на момент написания их ему было чуть за тридцать. В последующих своих работах Муратов нисколько не изменил своим взглядам, несмотря на пережитый им «Великий перелом истории».12 Мысли об античности и её месте в истории, высказанные им в «Образах», приобрели законченный вид в его публицистике. Эти мысли касаются не только прошлого Европы, но позволяли уже тогда предвосхитить пост-Европу.13 Для него нет никаких сомнений в прямой преемственности и репрезентации античности в современном ему искусстве Западной Европы, несмотря на неоднократно проговариваемую им мысль о большом количестве исторических напластований. Эта идея читается как догма: «Их камни красноречивы для европейца, и он не разучился еще читать в них с гордостью свою историческую судьбу, предсказанную мыслью эллина, нравом римлянина и осуществленную христианством».14 Догма эта звучит не как категорическое утверждение, но есть вполне себе идея, основанная на твёрдом убеждении о непревзойденности, непреложности, непогрешимости эстетических идеалов, черпаемых в истории искусства античности. Муратов прямо заявляет о том, что «в самом наименовании других искусств слышатся всегда те или иные напоминания об античности. В них либо прямо говорится о возрождении древности, либо связь с древностью указы«Последние совершенства человеческого духа достигнуты здесь, и осуществлены последние слияния его с миром. Античность могла бы мечтать о благости этого последнего покоя, но и античность не знала бы тех сокрытых кипений творческой новизны - тех "биений сердца", которыми в неостанавливающемся движении прелестно смятенных палладианских статуй прерывается окончательная тишина виллы Ротонда». 12 См. Россия и Европа // Возрождение. 1931, 25 мая, №2183, передовица. 13 Вообще, Муратов-новатор на сегодняшний день является автором этого термина (1924 г.), Паточка тогда ещё в гимназию ходил. По данным некоторых исследователей Муратов также ввёл термин «технократия» (1933 г.), в конце 1920-х он впервые использует термин «россиянин». Старинное сравнение готического собора с лесной чащей, также восходящее к эпохе итальянского Ренессанса впервые в литературе применяется Муратовым не исключительно к готической архитектуре, а к готической скульптуре, точнее к ансамблю готического собора, населенного скульптурой. 14 «Оксер» // Возрождение. 1927. 13 окт. № 863. С.5. Из цикла «Ночные мысли», VII. 11 8 вается именем первого или второго Рима…».15 Другие – это отличные от Готики – единственном европейском периоде истории искусств «наиболее свободного от беспокойных снов об античности». То есть для него «готический – следовательно не классический». И значит то понятие классики, которое мы твердо ассоциируем в антиковедении с античностью в данном контексте приобретает, если не тождественное слияние, то как иное проявление понятия догматизма. В смысле непререкаемости установленных постулатов и классические, и догматические определения реализуют одну и ту же функцию – создают основу для формирования конечного образа того или иного феномена. Как ни парадоксально, но введение понятия догматического восприятия античности позволяет рационализировать категориальнотерминологический аппарат искусствоведческого анализа. Да, многие попытки рационализации историко-культурной терминологии оказывались неудачными. Например, замена понятия «византийское искусство» понятием «искусство христианского Востока» представлялось одно время более отвечающим научным требованиям. Но это новое понятие породило и новые вопросы: византийское и римское искусство отнюдь ведь не разделили между собой в строгой логической последовательности Запад и Восток ранне-средневекового мира и даже не озадачились обозначить свои границы только христианской ойкуменой. С другой стороны, быть может, главнейшим атрибутом византийского искусства является присущее ему имперское начало, преобладавшее всё-таки над всеми остальными его проявлениями и так хорошо выражаемое свойственным этому искусству именем «второго Рима».16 И дальше, если мы пойдём к «третьему Риму», то неминуемо Россия окажется приобщённой к античной цивилизации. Для Муратова это виделось вполне определённым, так что это не моя конструкция, а реконструкция его представления о направлении путей преемства античности сквозь время и пространство.17 «Французская готическая скульптура» // Возрождение. 1931. 14 июня. №2203. С.4. Там же. 17 Здесь, с вашего позволения, я позволю себе последнюю пространную цитату, правда, из другой книги. «Россия, тем временем, не имевшая никаких других связей с античностью, не хранившая ни малейших воспоминаний об эллинизме, странным образом оказалась приобщённой через Византию к циклу эллинистической цивилизации. В любом собрании русских икон вы увидите образы Христа и Богоматери, не имеющие решительно никаких русских черт, вы увидите апостолов, восходящим к типам античных ораторов и философов, вы увидите облаченными в эллинские гиматии и хитоны, вы увидите крылатых ангелов в прическах с лентами, повторяющих гениев с какого-нибудь алтаря победы… Это эллинистическое искусство, жившее столетия вместе с русским народом, разделившее его исторические судьбы, выразившее самые глубокие его верования и воплотившее высшие стороны его духовной жизни, сделалось русским искусством» (Пути русской иконы // Перезвоны. №43. Рига, 1928. С. 1362). В.В. Вейдле так писал в рецензии на книгу Муратова «Византийское искусство»: «...Величайшая заслуга книги П.П. Муратова... заключается именно в том, что она с начала до конца... утверждает... подчеркивая с большой силой собирающую, упорядочивающую роль 15 16 9 Таким образом, можно сказать, что вариант (пока так) восприятия античности Муратовым – это обобщённая форма эстетической рецепции, о которой он говорит сознательно. Мотивом его рассуждений об античности, стала любовь к искусству: «Назовем это эстетическим побуждением, а для тех, кто боится слова "эстетический", согласимся считать эти побуждения хотя бы "профессиональными"».18 Безусловно, он имеет представление о других вариантах рецепции (это видно из его публицистики): прагматическая рецепция (Кубертен, Codex Juris Civilis), затем эстетическая рецепция (в узком смысле, как стилизация под античность или модернизация античности – та же И. Дункан и школы последователей (Книппер-Рабенек и др.) её модернового или «эллинизированного» танца так называемых «босоножек», к их числу, кстати говоря, принадлежала первая жена Муратова – Е.В. Пагануцци), затем этическая рецепция («казус Сократа») и затем уже любые иные, казуальные рецепции, типа мистических или оргиастических практик.19 Но у всего у этого также очевидно, пусть и не осознано (это уже моя конструкция) присутствует общее начало, или родовое понятие – догматическая рецепция. Пусть не вводит в заблуждение уважаемую аудиторию богословская коннотация слова «догма» в современном русском языке. По аналогии со словом «духовный» можно сказать, что это экстралингвистическое явление, иллюстрирующее эволюцию семантического содержания понятий, в зависимости от их частотной повторяемости в словоупотреблении. В данном конКонстантинополя... отрицая знаменитую теорию трех возрождений... доказывая непрерванную и под конец только ярче разгоревшуюся жизнь эллинистической традиции» 18 Муратов П.П. «Искусство и народ» // Литература русского зарубежья. Антология в шести томах. Том первый. Книга первая 1920-1925. – М., "Книга", 1990. С. 136. 19 Тут мне вспоминается образ Московской богемы 1910-20-х годов, который красноречиво свидетельствует о подобного рода казуальных рецепциях. Проникнувшись некой «свободой нравов», эта публика брала за основу морально-нравственные идеалы, присущие древне-греческой, отчасти древне-римской культуре. Достаточно вспомнить первую жену Ходасевича (Марину Рындину), которая «любила являться приятелям в костюме Леды с живым ужом на шее», или Вяч. Иванова, буквально одержимого своим Дионисом. Известно, что тот был женат на своей падчерице. Вообще о нравах той среды, в которой формировался литератор Муратов говорит тот факт, что на этих «литературных» собраниях он отыскал себе первую жену - Евгению Владимировну Пагануцци (они были женаты до 1910 г.). В 1909 году женой Муратова увлекся его друг, также участник кружка: Владислав Фелицианович Ходасевич — она стала «царевной» из сборника его стихотворений «Счастливый домик». Семья разрушилась. Позднее Евгения Владимировна вышла замуж за поэта Виктора Стражева(???), участника того же общества, «реципиента» Гераклита, редактора «Литературнохудожественной недели». Сама она пишет, что в 1922 г. была замужем за В.К. Толстым. Если это тот Толстой ихтиолога, то его расстреляют в сентябре 1930 г. по делу+- о вредительстве. Е.В. Муратова осталась после революции и войны в России. Умерла в Доме престарелых под Москвой в 1981 г. (97 лет). У нее от П.П. Муратова был сын Ника, умерший ребенком. Муратов в 1911 году женился второй раз на прежней супруге своего приятеля и опять-таки члена кружка Б.А. Грифцова — Е.С. Урениус. В 1915 году у них родился сын Гавриил. Л.В. Иванова в своих воспоминаниях как бы невзначай описала одну встречу с П. Муратовым в Риме: «Он жил около пьяцца дель Пополо с сыном и женой. Но это уже была не босоножка Евгения Владимировна с пятилетним мальчиком Никитой, с которым мы дружили в 14–м году в Петровском. Теперь это была другая жена, видная и веселая брюнетка Екатерина Сергеевна с девятилетним сыном Гавриком». 10 тексте признак «догматический» происходит из инструментальной характеристики догмы, как опоры на авторитетное мнение. Для Муратова античность – это однозначно авторитет в сфере теории и практики искусства, которое он изучал предметно. Догматическая рецепция, пожалуй, есть наиболее релевантная конструкция, отвечающая необходимости атрибутировать образы античности, которые получились у Муратова. Она определяется как не рефлексируемый специально, а реализуемый фактически способ понимания античности, античности как феномена в истории искусства. Да, формально приходится говорить лишь об истории искусства, поскольку иного предмета у Муратова нет. Однако целый ряд примеров, приведённых в докладе, но, по большей части, оставленные за его рамками (имеющиеся в статьях Муратова) позволяют судить о целостном мировоззрении автора, встраивать его концепты в сложившуюся систему историософских представлений. Место это пока ещё не определенȯ и, на мой взгляд, незаслуженно. И, тем не менее, уже сейчас можно сказать, что образы античности, созданные Муратовым соответствуют современному историко-культурному содержанию понятия античность. Они эпистемологически выверены, интуитивно отрефлексированы, аксиологически целесообразны и практикоприменимы.20 Что касается перспектив темы данного доклада, то здесь очевидны сразу несколько путей. Это и дальнейшее просопографическое исследование (в Париже и Риме есть фонд Муратова, работа ведётся); это, безусловно, дальнейшая разработка эмпирического материала по рецепции античности, связанного с «серебряным веком» (эх, не тот век назвали «бриллиантовым», тут всплывают такие имена!); это и, возможно, «искусствоведческий поворот» в культурно-исторических исследованиях на материале как западного, так и русского искусства. Особняком стоит поворот в сторону тематики «Россия и Европа», которая становится доминирующей в эмигрантской публицистике Муратова. Она и сегодня может занять центральное место в исследованиях вокруг творчества Муратова, тем более, что как-бы главным его трудом считаются именно «Образы Италии», в котором эта тема также проявилась.21 Наверняка здесь можно высмотреть ещё целый ряд других поворотов, связанных с темами, которые я не затрагивал в своём докладе. Мне пока ещё не были доступны его поздние труды по истории русско-английских отношений в правление Ивана Грозного, его работы в соавторстве с У. Алленом; имеютЯ пока не готов аккумулировать всё это в единый муратовский образ античности. В начале у меня было записано: «Античность у Муратова это заготовка, Ренессанс - шедевр». На поверку это оказалось совсем не так. 21 Спустя годы, в эмиграции, архимандрит Киприан (К.Э. Керн) писал о книге Муратова, что она «явилась… прощальным приветом той неповторимой нашей просвещённости и утонченности, по которой мы были настоящими европейцами». 20 11 ся сведения, что он также со времен русско-японской войны интересовался искусством Японии, смог в 1930-е годы побывать там и что-то написал об этом.22 Так что и историографическое направление ещё не исчерпало себя вовсе (особенно учитывая 960 его публикаций в периодике). P.S. Чтобы не показаться откровенным апологетом Муратова, объективности ради, приведу в пример несколько иное восприятие его личности (предисловие к сборнику 2012 года, вышедшего по материалам выставки 2008 г. в Пушкинском музее «П. Муратов – человек серебряного века»). «Павел Муратов - замечательный искусствовед. Он написал пока не превзойденное сочинение в жанре путевых заметок "Образы Италии". Муратов также был одним из тех, кто открыл древнерусское и византийское искусство. Но данная его книга представляет собой в основном собрание истерической публицистики, впервые напечатанной в органе эмигрантской интеллигенции - газете "Возрождение". В эмиграции Муратова охватила характерная для всех русских за границей депрессия - и он бросился пафосно спасать европейскую культуру. Кажется, именно он первым употребил термин "Антиискусство" (Ян Паточка в 1992 г.) применительно к модернизму. О, если б Максим Соколов умел читать набранное мелким шрифтом! Ему бы очень понравились рассуждения Муратова о реабилитации термина "русский империализм". (Кстати, вовсе не Соколов или Гельман, а Муратов еще в конце двадцатых ввел в обиход обалденно точные и проникновенные термины "россиянин" и "российский".) При этом Муратов и в двадцатые с каким-то безумным упорством продолжал сочинять очень символические опусы. (Некоторые из них недавно переизданы.) Они, как и прочие порождения "высокого вкуса" той поры, выглядят совсем уж фатальной безвкусицей. Люди с по-настоящему тонким художественным вкусом в то время читали Маркса, дружили с Троцким, занимались разрушительными футуризмом и сюрреализмом. В самой фигуре Муратова - какая-то метафизика: читая сборник, начинаешь трагически размышлять о том, что же мешает изощренно образованному русскому европейцу стать просто европейцем. Впрочем, газетный темп статей, среди которых есть и тексты, посвященные спорту или кинематографу, роднит Муратова с такими знаменитыми плакальщиками по культуре, как Барт или Бодрийяр. Быть московским снобом и эстетом - довольно тухлое занятие. Гораздо веселее писать про всякую всячину в газету; таким способом даже совсем конченые люди обретают человеческий облик. Впрочем, у Муратова - газетного эссеиста есть только один недостаток: страстность неофита, ведущая к отсутствию столь привлекательного во французах фатализма. Еще, конечно, раздражает его приверженность к рассуждениям на интеллектуально тупиковые Нужно сказать, что интерес к японской культуре и искусству был, быть может, не менее важен в семье Муратовых, чем любовь к Италии. Еще до войны сам П.П. покупал японскую керамику и бронзу в Париже для собиравшего их К.Ф. Некрасова; его сестра Раиса Павловна Муратова-Дмитренко (1875–1940) была специалистом по японским нэцкэ и работала в Музее Востока, основанном П.П. Муратовым в Москве в 1918 году (вместе с И. Грабарем – его коллегой по организации нового советского искусствоведения); первым директором нового музея был назначен ее муж и ближайший друг Павла Павловича еще по Институту инженеров путей сообщения Ф.В. Гогель (1880–1952), ставший выдающимся специалистом по японской керамике и восточным коврам. 22 12 темы - такие, как Судьба России. Сколь много выдающихся умов эпохи погибло и сгнило на корню, пойдя по этому порочному пути. Фортель: Муратова оправдывает лишь сотрудничество с английской разведкой да смутно прочитывающиеся симпатии к дуче. (К сожалению, в издании не републикована упоминаемая в предисловии статья "Счастливая Италия" ("Возрождение", 15 февраля 1928 года). Там Муратов писал о "пластичной власти, угадывающей интересы народа".) Впрочем, отечественные фундаменталисты никак не могут простить Павлу Павловичу то, что он первым заговорил об иконе как о произведении визуального искусства, элиминируя сакральные свойства объекта. Другие его почитают как продолжателя дела незабвенного графа Уварова. По нашим временам издание осуществлено дёшево, но качественно. Есть даже именной указатель; толково и жизнеописание Павла Муратова, подготовленное составителем сборника Ю.П.Соловьевым. Особенно важна публикация статей "Открытия древнерусского искусства" и "Византийская живопись", научная ценность которых не уменьшается с годами. В первой рассказывается, как церковь гноила и разрушала те самые иконы и древние фрески, на которые сейчас претендует (см. статью Владимира Сарабьянова "Кому принадлежат церковные древности?". Оказывается, на самом деле иконы для нас сохраняли сначала старообрядцы, а потом - эстеты вроде Грабаря и Муратова). Так что было бы резоннее издать сборник чисто искусствоведческих трудов Муратова. Получилось бы гораздо более актуально и существенно менее депрессивно. А так может показаться, что Муратов был провинциальным мыслителем, а не искусствоведом мирового класса и восхитительным писателем об искусстве. 13