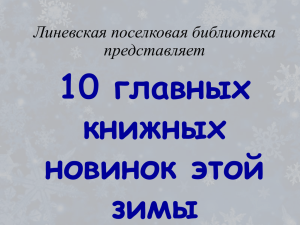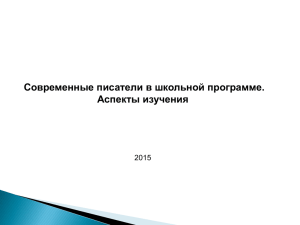Элеонора ШафранскаЯ СИНДРОМ ГОЛУБКИ Мифопоэтика прозы Дины Рубиной Санкт-Петербург Свое издательство 2012 УДК 82.0 ББК 83.3(2) Ш30 Шафранская Э. Ф. Синдром голубки Ш30 (Мифопоэтика прозы Дины Рубиной). — СПб.: Свое издательство, 2012. — 470 с. В книге исследуется творчество писателя Дины Рубиной, ныне проживающей в Израиле, но по-прежнему издающейся в России, так как ее читатель — это прежде всего русскоязычный читатель, проживающий ныне везде, по всему миру. А потому ее проза имеет планетарный характер. Мифологические мотивы, герой и пространство его обитания, а также локальный городской текст — вот те проблемы, которые рассмотрены в данной монографии. Для филологов, культурологов, преподавателей и студентов филологических специальностей, а также почитателей прозы Дины Рубиной. ISBN 978-5-4386-0046-6 © Э. Ф. Шафранская, текст © «Свое издательство», оформление Подлинная родина человека — это не земля, на которой он живет, а нация, к которой он принадлежит. Нет ни русской, ни еврейской, ни английской, ни турецкой, ни иной какой-нибудь земли. Вся Земля Господня, и Господь – единственный коренной житель на Земле. Фридрих Горенштейн. «Псалом» ОГЛАВЛЕНИЕ Послесловие к заглавию книги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Пространство прозы Дины Рубиной . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Концепт Дома . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Иерусалим (роман «Синдикат») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Европейский текст в прозе Рубиной . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Израильский текст: тема терроризма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Путешествие из Израиля в Москву и предместья (российский топос) . . . . . . . . 93 Мифологический текст прозы Дины Рубиной . . . . . . . . . . . . . . . 107 Мессия и мессианство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 «Антисемитский» текст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Еврей в мифологии повседневности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Советская мифология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Герой прозы Рубиной . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Герой-трикстер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Иудейская богиня Таисья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 «Инцестуальный» Альфонсо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Герой-художник: тема творчества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Синдром таланта («Почерк Леонардо», «Синдром Петрушки») . . . . . . . . . . . . . 226 Львовский текст в романе «Синдром Петрушки» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Плохой хороший человек, или — роман о творчестве и мести . . . . . . . . . . . . 255 Ташкентский текст прозы Дины Рубиной . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Локусы Ташкента и предместий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Био- и семиосфера Ташкентского текста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Лексика Ташкентского текста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Персоналии Ташкентского текста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Категория времени в Ташкентском тексте . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Город-карнавал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 Прозаические циклы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 «Цыганка» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 «Несколько торопливых слов любви» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Список фольклорных информантов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Библиография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 Указатель ключевых слов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 Именной указатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 Указатель художественных произведений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 Послесловие к заглавию книги – Интересно, как они находят дорогу домой, — задумчиво сказал англичанин. – У них есть чувство направления, — сказал Малыш. – Нет у них его, — сказал англичанин. — Они не могут найти дорогу никуда, кроме как в свою голубятню. <…> А возвращение домой… оно больше похоже на то послушание, с которым все подчиняется силе притяжения. Как река знает путь к морю без карты, как брошенный камень не нуждается в компасе, чтобы упасть обратно на землю1. В этом фрагменте из романа Меира Шалева речь идет о голубях. С их неодолимой силой стремления в родной дом сравнивается тяга еврейского народа к своей земле. Не случайно над входом в еврейский квартал Иерусалима висит герб, контуры которого воспроизводят гранат, внутри, помимо плодов, питающих жизнь здешних людей, изображен голубь. Голубь (голубка), вынесенный в заглавие книги о творчестве Дины Рубиной, из той самой стаи обязательных возвращенцев. Этот образ навеян, конечно, рубинским романом «Белая голубка Кордовы», в сюжете которого голубка стала метой на полотнах художника, ангелом-хранителем, тотемом, божеством, blankой palomой, счастливым воспоминанием детства. Оттуда, из винницкой голубятни, голубка в разных ипостасях сопровождала Кордовина, героя романа, вплоть до его конца, подарив ему прощальное, нежное, «невесомое, как последний вздох, перо». Кордовин вернулся к истокам своей семьи, своего дома, ведомый голубкой, довершив то, что начали в далеком испанском Средневековье его предки. Голубь из заглавия предлагаемой книги символизирует перипетии героев прозы Дины Рубиной, от текста к тексту находящихся на пути к Дому, как в прямом, так и в переносном смысле — отыскивающих вешки дороги к роду: по старой фотографии, семейному преданию, почерневшей от времени какой-нибудь безделушке. Если Ной выбрал своим гонцом голубя, выпустив его из ковчега, «чтобы тот облетел весь мир и рассказал, как там обстоят 1 Шалев 2008: 252–253. 7 дела»1, то голубка Рубиной (в пандан библейской птичке) символизирует привязанность к Дому, к роду, к корням. И, несмотря на то, что сама Дина Рубина своим ангеломхранителем назвала иного персонажа, которого она представила «в образе лагерного охранника — плешивого, с мутными испитыми глазками, в толстых ватных штанах, пропахших табаком и дезинфекцией вокзальных туалетов»2 — «ангела конвойного», читательское восприятие (с опорой на все творчество Рубиной) склонно видеть в роли ее покровителя/сопроводителя другое существо — то, которое ведет домой, не насильно, но с любовью – к памяти, предкам, истории. Назвав свой роман «Белой голубкой Кордовы», Дина Рубина, на наш взгляд, вольно или невольно сделала своеобразное ретроспективное обобщение всего написанного ею до этого романа. Голубь и голубка в мировой культуре издревле наделены рядом смыслов, интенция которых, по большей части, благая: космогоническим3; 1 Зингер 2009: 31 Рубина 2007: аннотация. 3 В ведийской и индуистской мифологии голубь — бог домашнего очага [Топоров 1991: 15]. Великий бог в мифах йоруба для создания земли получил от верховного бога «раковину улитки, в которой была рыхлая земля, голубя и пятипалую курицу. Спустившись в болото, он высыпал землю из раковины, а голубь и курица стали скрести и разбрасывать землю по болоту, и болото превратилось в сушу» [Котляр 1991: 417]. Согласно мифологии коми, дуалистическая космогония иногда персонифицировалась в образах двух голубей [Плесовский 1991: 209]. (На картине с названием «Ной» современного художника Владимира Любарова на фоне затонувшей деревни стоит мужчина по колено в воде, держащий в руках двух голубей, одного белого, второго черно-белого.) В христианской мифологии голубь — «зримый образ Духа святого… (собственно голубица…)… <…> Ср. ветхозаветный рассказ о первозданном состоянии мира: “и дух божий носился над водою” (Быт. 1, 2); употребленный в еврейском тексте глагол дается по отношению к птице-матери, высиживающей птенцов и витающей над ними с кормом (напр., Втор. 32, 11), так что возникает образ некой мировой птицы, своим теплом согревающей яйцо мировое. Распространенные у народов ислама представления о чудесной гигантской птице рух… дают фольклорно-сказочную материализацию такой метафорики» [Аверинцев 1991: 201]. В мифе бразильских индейцев, типологически восходящем к библейскому мифу о Ное, повествуется о неком персонаже мужского рода Венере, сошедшем на землю с небес и поселившемся среди людей в человеческом облике. Он был 2 8 медиаторным1; символизирующим любовь и продолжение рода2 — в романе Меира Шалева «Голубь и Мальчик» почтовый голубь — посредник между двумя любящими — выполнит миссию в акте непорочного зачатия, донеся до любящий женщины от смертельно раненного Малыша «почту» — семя для зачатия новой жизни; сострадательным3 . ужасен: его тело было покрыто зловонными ранами, от него отворачивались все, ему запрещали приближаться к человеческому жилью. Лишь один индеец Ваикаура приютил страдальца, залечил его раны, даже не препятствовал тому, чтобы выздоровевший Венера овладел его дочерьюдевушкой. Это было испытанием для индейца: Венера всячески искушал его, так как был послан к людям на землю, чтобы покарать их за грехи. Ваикаура выдержал испытание, и Венера советует ему подготовиться к тайному отъезду, но предварительно убив голубя. Из этого голубя Венера строит ковчег, где размещается семья Ваикура и его близкие. Венера возвращается на небо. «Вдали послышался шум воды, которая вскоре обрушилась на деревню. Те, что не утонули, умерли от холода и голода» [Леви-Строс 1999: 237–238]. 1 Голубь находится на рубеже в обряде перехода: в античной мифологии аргонавты, преодолевая препятствия на пути к Золотому Руну, выпускают голубку между плавучих скал — планктов и симплегатов — для проверки возможного дальнейшего продвижения [Зайцев 1991: 56]. В полинезийской мифологии рупе — голубь — покровитель мира и покоя, помощник, глашатай и посланец верховных духов, сторожит жилища духов или вход в подземный мир, возвещает духам о наступлении дня и ночи [Полинская 1991: 472]. Во время крещения Иоанном Крестителем Иисуса Христа происходит явление духа святого в телесном обличье голубя. 2 В армянской мифологии во время праздника в честь богини Астхик, аналога греческой Афродиты, выпускали голубей, символических атрибутов этой богини [Арутюнян 1991: 67]. У тюркоязычных народов дух пари, наряду с другими обличьями, принимал вид голубя, у турок пари «рассказывают людям, с которыми состоят в любовной связи, о судьбе пропавшего человека…» [Басилов 1991: 429]. В западносемитской мифологии голубь считался символом божества Тиннит — богини плодородия, покровительницы деторождения [Шифман 1991: 541]. «Пара голубей… считается символическим изображением сексуальной гармонии…» [Тресиддер 1999: 61]. 3 В греческой мифологии дочь сирийской богини Семирамиду (погречески «горная голубка»), оставленную в горах, вскормили голуби, после смерти Семирамида превратилась в голубку [Гусейнов 1991: 494]. Герой чечено-ингушского эпоса Сеска Солса должен был принять смерть, выпив три чашки расплавленной меди, и при этом испытать нестерпимые муки, «из всех зверей и птиц лишь лесной голубь сжалился над ним 9 «Голуби» — название рассказа И.Б. Зингера1, в котором присутствуют многие из указанных выше смыслов-символов. Птицы в рассказе — единственные из любящих существ, сопровождающие в последний путь одинокого профессора, ставшего парией в антисемитской Польше. Они ответили ему взаимностью, так как профессор Эйбишющ часто их подкармливал: «…кормить голубей для него все равно что ходить в церковь или синагогу»2, «Он учился у них. Как-то он прочел выдержку из Талмуда, где евреи уподоблялись голубям, и только потом понял смысл этого сравнения. У голубей нет никакого оружия в борьбе за существование. Их жизнь почти всецело зависит от тех крох, которые им бросят люди. Они боятся шума, летят прочь от самой маленькой собачонки. Голуби даже не отгоняют воробьев, которые крадут у них пищу. Они, подобно евреям, полагаются на мир, покой и добрую волю»3. Профессор умер, закиданный камнями антисемитов. Расправу видели голуби. Во время похорон «стаи голубей взвились над крышами. Число голубей росло так быстро, что вскоре они закрыли собой небо между домами по обе стороны этой узкой улицы, и день померк, как во время затмения. Они немного помедлили, повиснув в воздухе, затем единой массой двинулись вместе с процессией, кружа над ней. <…> Туча голубей сопровождала катафалк… Крылья кружившихся над процессией голубей, попадая то на солнце, то в тень, становились то красными, как кровь, то темными, как свинец. Было очевидно, что птицы стараются лететь так, чтобы не обогнать процессию и не отстать от нее»4. Принявшая профессорскую эстафету служанка не смогла занять место своего бывшего хозяина — голуби ее не признали, «лишь несколько голубей слетело вниз. Они клевали корм нерешительно, оглядываясь и облегчил его предсмертные страдания, принеся в клюве каплю воды. <…> Воркование голубя — поминальная песнь, посвященная Сеско Солсе» [Мальсагов 1991: 495–496]. 1 Исаак Башевис Зингер (1904–1991) — еврейский писатель, живший до 1939 г. в Польше, накануне немецкой оккупации эмигрировал в США, писал на идише, в 1978 г. удостоен Нобелевской премии по литературе. 2 Зингер 1993: 65. 3 Зингер 1993: 65–66. 4 Зингер 1993: 73–74. 10 по сторонам, словно боялись быть уличенными в нарушении какого-то птичьего запрета. Запах гари и гнили поднимался из канавы — едкий смрад грядущей катастрофы»1. О подобных взаимотношениях человека и голубя у Дины Рубиной есть небольшой фрагмент в рассказе «Фарфоровые затеи»2. Словом, голубь/голубка — в культуре неслучайная птица, знаковая история которой исчисляется не только от библейских времен, но и более ранних. Символика голубя, используемая в мировой словесности, связана с движением, полетом птицы. Но если голубь помещен в замкнутое пространство — возникает намек на трагизм ситуации, безвыходность, несвободу. В рассказе «Помпа» современного узбекского автора Сафара Каттабаева герой от безвыходности, житейской глупости становится заложником юридического крючкотворства: попадает в заключение, сначала как будто на короткий срок, потом его вина растет как снежный ком — срок увеличивается. В финале рассказа он дарит навестившему его ребенку-сыну ручку, ремесленную поделку зеков: «Ручка и в самом деле удивительно сделана. В верхней части, изготовленной из пластмассы, вода, а в ней фигурка в виде голубя. Когда ручку наклоняешь, голубь плавает — туда-сюда, туда-сюда. Но выйти не может, потому что все вокруг закрыто»3. Все перечисленные смыслы, символизм образа голубя/голубки в мировой словесности отражены в метафорике заглавия книги — «Синдром голубки», вобравшем в себя главные темы, мотивы, пафос, интенции прозы Рубиной, где прошлое и настоящее повествователя чаще всего находится на стыке двух миров, двух культур, ментальностей, языков, как и должно голубке — медиатору на рубеже перехода, голубке — хранительнице домашнего очага, голубке — спутнику влюбленных, голубке сострадающей, верной, памятливой. Голубиная тема в мировой литературе, как оказалось, весьма популярна, особо педалируется в ХХ в. и особо в текстах, где присутствует дилемма «возвратиться — не возвратиться». 1 Зингер 1993: 74. Рубина 2007а. 3 Каттабаев 2009. 2 11 В финале романа Э.М. Ремарка «Тени в раю» мучительно сомневающийся Росс — возвращаться в разрушенную и разрушившую его жизнь Германию или остаться в раю — Америке, слышит мелодию: «Окна были распахнуты, на улице было тепло. Кто-то разучивал на скрипке “La paloma1, без устали повторяя первые восемь тактов…»2. Почему автор упоминает название песни? Возможно, потому что эта звучащая мелодия поставила точку в решении Росса — вернуться домой, в Германию. Когда Из родной Гаваны отплыл я вдаль, Лишь ты Угадать сумела мою печаль. <…> Когда Я вернусь в Гавану, в лазурный край, Меня Ты любимой песней моей встречай, Вдали От Гаваны милой, в чужом краю, Я пел День и ночь прощальную песнь твою: «Где б ты ни плавал, Всюду к тебе, мой милый, Я прилечу Голубкою сизокрылой»3. 1 «Голубка» — популярная испанская песня. Ремарк 1972: 421. 3 Музыка С. Ирадье, русский текст Т. Сикорской. 2 12 Предисловие Творчество Дины Рубиной, войдя в литературный процесс в 70-х гг. ХХ в., на глазах читателя совершило своеобразный культурологический «кульбит»: из «русской прозы современности» (точнее «советской») превратилось в некий феномен, номинации которому разнообразны — в зависимости от вкуса, идеологической ниши, осведомленности как читателя, так и исследователя. «Русское зарубежье», «русскоязычное творчество инонациональных писателей», «русско-израильская литература» и, наконец, «транскультурное1 творчество» — все эти номинации так или иначе приложимы к творчеству Дины Рубиной. С одной стороны, рубинская проза — «продукт», проекция, сублимация геополитических перипетий советской истории, с другой, более масштабной, — отражение мировой парадигмы современности: вхождение в «глобальную деревню», повлиявшую не только на мировую экономику, политику, но и на индивидуальное творчество — «…при нынешнем-то коловращении языков и рас…»2. На рубеже веков выходят «Русский роман» на иврите (Меир Шалев), «Ташкентский роман» на русском языке (Сухбат Афлатуни), национальный израильский роман «Вот идет Мессия!» на русском (Дина Рубина). Подобные гибриды — порождение процесса глобализации, по словам исследователя современного литературного мейнстрима М. Тлостановой3. И это не унификация, не стирание национальных различий в литературе, а напротив, феномен, привлекающий к себе внимание, некая творческая игра4. Дина Рубина, поменяв в начале 1990-х гг. страну проживания, став израильтянкой, продолжает писать, как и прежде, о чувствах, о взаимоотношениях между людьми, как и прежде, 1 Транскультурный — от термина «транскультурация» — понятие, введенное кубинским антропологом Ф. Ортисом, базируется на эпистемологической миграции, полилингвиальности, культурном многообразии, культурном полилоге, где культуры встречаются, взаимодействуют, но не сливаются [Тлостанова 2004: 28]. 2 Рубина 2005а: 159. 3 Тлостанова 2004: 29. 4 Тлостанова 2004: 31. 13 создает яркие портреты, находит сочные типажи, по-прежнему ее проза не оставляет читателя равнодушным (здесь многообразная гамма впечатлений-реакций: от смеха до слез) — но теперь это другая проза. Обыденность, повседневность современника помещена в иной, чем прежде, метатекст: древняя культура иудеев, кровавая история ХХ в., сопряжение в сознании повествователя совершенно разных ментальностей (русской, советской, еврейской). Соответственно меняется и аксиологический фон, «диктуемый» древней этикой Мудрецов — Учителей еврейского народа, слиянность с судьбой которого ощутила Дина Рубина. С другой стороны, для художника наступил «этап» как человеческой, так и творческой зрелости, когда приходит озарение, откровение об извечном круговороте «магических знаков» — «дерево, глина, солнце, вода… вода, дерево, глина, солнце? <…> …я-то… уже обречена перебирать все те же знаки, надеясь выстроить из них новую последовательность…»1; когда приходит осознание, что твои предки делали то же самое, что и ты: «… выглаживают и выбеливают» «пергаментные свитки из шкур неродившихся телят», «чтобы затем вписать в них кристально твердою рукою святые пророчества, послания в будущее…»2. Мир, созданный Диной Рубиной в израильский период творчества, имеет точку отсчета, или поворота, — это Земля иудеев, Иерусалим как ее символ, иначе, по Лотману, «город-гора». «Такой город выступает как посредник между землей и небом, вокруг него концентрируются мифы…»3. Названа эта «точка» в пространстве прозы Рубиной Гомада: «…что это за слово… Гомада? Есть такое геологическое понятие — горячие камни… все великие цивилизации возникли на горячих камнях. Греция, Рим, Вавилон, Иудея. А уж великие религии прожарены на сковородке Иудейской пустыни до запекшейся взаимной ненависти…»4. Как важны в еврейской картине мира архаические пророчества Учителей/Мудрецов, так в аксиологии рубинской прозы значимы раритеты, будь они материального или внематериального происхождения: старые и старинные вещи, предания, бай1 Рубина 2006: 421. Рубина 2006д: 573. 3 Лотман 1991: 30. 4 Рубина 2000а: 122. 2 14 ки, воспоминания. Автор вменяет себе в обязанность удержать их уход, собрать «по камушку», по слову и выложить из них «цветную мозаику» эпохи: из людей, нравов, городов. В ответ на умозрительную проповедь святого Франциска, запечатленного в камне, «который — посреди всей этой немыслимой красоты — упорно призывал отказаться от мирских благ и любого имущества»1 («Гладь озера в пасмурной мгле»), героиня Рубиной признается, что такая проповедь ей глубоко чужда. «Я человек вещный, с детства осязательно-восторженно принимаю мир человечества созидающего…»2. Повествователь — alter ego автора — метафорически выстраивает свою концепцию творчества: «Я ныряльщик, спасатель…»3; «…персонаж можно сделать, создать, смастерить из мусорной мелочишки… <…> Фокус-покус, театр кукол, студия кройки и шитья…»4; «Поскольку по роду занятий всю жизнь я раскладываю этот словесный пасьянс, кружу вокруг оттенка чувства, подбирая мерцающие чешуйки звуков, сдуваю радужную влагу, струящуюся по сфере мыльного пузыря, выкладываю мозаику из цветных камушков, поскольку всю жизнь я занимаюсь проклятым и сладостным этим ремеслом…»5; «Зажмурив глаза, я хватаю все, что под руку подвернется, не выбирая и не сортируя улов, а просто ныряя и ныряя из последних сил, все тяжелее всплывая на поверхность с очередным обломком мимолетной сладостной Атлантиды: еще лицо, еще сценка…»6. Где бы ни находилась рубинская героиня-рассказчик, ее увлекают, притягивают в антикварных лавках старинные фамильные вещицы, оставшиеся без хозяев: за каждой из них — человеческая судьба, история, эпоха. «Я все время чувствую через предметы, просто вижу несметное количество пальцев, прикасавшихся к какой-нибудь десертной ложке или настольной лампе»7. За старыми вещами — трагедии, так как редко кто вы1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 6 Рубина 7 Рубина 2 2007а: 269. 2007а: 269. 2002б: 214–215. 2000: 300. 2000: 233. 2006: 227–228. 2004д: 460. 15 носит фамильное добро на продажу, чаще его отнимают, крадут, приватизируют, забивая или расстреливая хозяина1. «Сердце мое тихо тронулось в груди и закачалось, как маятник бабкиных напольных часов “Павел Буре”, непостижимым образом уцелевших после войн, погромов, революций и эвакуации…»2; «А стулья и вправду оказались чудом из прошлой, дореволюционной еще, жизни — с нежной шелковой обивкой: по лиловому полю кремовые цветочки завиваются — осколок какого-нибудь гамбсовского гарнитура, неведомо какою судьбой занесенный в захолустье азиатского городка»3. Рубинский «мир старины» — это и ушедшая культурная эпоха, связанная с конкретным локусом — городом Ташкентом. Не географическая «точка» (город жив и по-своему процветает), а «люди-традиции-улицы-дома-памятники», которые сосуществовали в определенное время в определенном месте, создав некую общность — ташкентский этнос и Ташкентский текст в истории и культуре. Ташкентский текст не мог не спровоцировать замысла Города-романа, который как бы состоит в диалоге со всем предыдущим рубинским дискурсом: «Я шла, и все было по пути, все кстати, все двигалось со мною, вдоль и обочь меня, словно я стала осью, вокруг которой нарастал мой собственный, давно утонувший, город. Он собирался, восстанавливался, восставал из выцветших картинок моей безалаберной памяти, как восстанут в будущем мертвые из маленькой, но нетленной косточки»4. Музыканта по образованию, рассказчика по судьбе, Дину Рубину привлекают люди творческие, неординарные: герои-художники, «клоуны», самобытные, яркие личности — почти в каждом ее произведении. Сквозь апофеозные финальные сцены многих рубинских текстов словно просматриваются кадры из фильмов Федерико Феллини, художника, не раз упомянутого ее героиней-рассказчиком. Карнавальная феллиниевская эстетика становится чертой поэтики прозы Рубиной: «…Бог мой, почему все это мне хочется вспоминать под музыку, вроде музыки Нино Рота 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 2 2004д: 460. 2004г: 253. 2002а: 208. 2006: 428. 16 к “Амаркорду”? Помнишь эти, сто раз перевиданные, кадры, где зимним вечером мальчики танцуют танго на террасе заколоченного на зиму, заснеженного “Гранд-Отеля” под давно замершие звуки сладострастного летнего дня?»1; «Персонажи моего детства толпятся за кулисами памяти, требуя выхода на сцену. А я даже не знаю — кого из них выпустить первым, кто более всех достоин возглавить этот парад полусумасшедших родственников, соседей, знакомых и просто диковинных людей, застрявших в послевоенном Ташкенте»2. Ряд авторских ролей Дины Рубиной — «ныряльщика» и «спасателя» — можно продолжить ролью «актера». Эта роль, по мнению самой Рубиной, имеет национальные истоки: «Было и есть умение ощутить чужую шкуру на плечах, окунуть лицо в чужие обстоятельства, прикинуть на себя чужую шмотку. Но это от неистребимого актерства, боюсь, чисто национального. Способность вообразить, нарисовать самой себе картинку и ею же насладиться. Есть еще и другое. Да, собственно, все то же, накатывающее на меня временами, состояние неприсутствия в данной временной и координационной точке, вернее, возможное присутствие одновременно во всех координационных точках времени и пространства… Во мне рождается безумная легкость душевного осязания всего мира, самых дальних его закоулков, я словно прощупываю огромные пространства немыслимо чувствительными рецепторами души…»3. Глава «Ташкентский текст прозы Д. Рубиной» — попытка, отталкиваясь от рубинского повествования о Ташкенте — городе детства и юности писателя, создать культурологический комментарий к собственно Ташкентскому тексту. В этой главе собран фольклор Города: нарративы, анекдоты, песни, прецедентные тексты, фольклорные топонимы. Творчество Дины Рубиной помещено в контекст, помимо прочего, еврейского литературного дискурса, представленного именами Шолом-Алейхема, И.Б. Зингера, Б. Маламуда, Ф. Горенштейна, Э.-Э. Шмитта, а также еврейского фольклора, как классического, так и современного. 1 Рубина 2006: 223. Рубина 2006: 217. 3 Рубина 2006: 207. 2 17 Пространство прозы Дины Рубиной Концепт Дома Ты здесь не нужен, пришлый и гонимый, Сбери своих расслабленных детей, Уйди к родным полям Иерусалима, Где счастье знал ты в юности своей1. Илья Эренбург Ариэль Шарон (по-русски): Маленький страна… Но это наша страна2. Дина Рубина. «А не здесь вы не можете не ходить?!» О чем бы и как бы ни писала Дина Рубина: о прошлом или настоящем, о Ташкенте или Москве, об израильтянах «старых» или «новых», комично или драматично — все повествование объединено единым субъектом сознания. По прочтении прозы Рубиной в «сухом остатке» — не фабулы ее произведений, не герои и их коллизии, а мироощущение героини-повествователя-рассказчика: ее воспоминания, мечты, потери, обретения, экзистенциальные озарения, ее тонкая ирония, юмор — словом, лиризм. Именно лирическое начало определяет своеобразие прозы Рубиной. Один из главных мотивов в этом лирическом пространстве — дом. Традиционно дом в литературе (являясь образом, мотивом, концептом) имеет как реальные, так и символические черты, они воплощаются в диапазоне от созидания дома до его разрушения. У Рубиной дом не столько жилище, сколько его поиск — от душевной бездомности к обретению гармонии, если и недостижимой вообще, то хотя бы интенциально увязывающей личный, исторический и мифологический опыт сознательной и бессознательной жизни героини. Мифологическая составляющая мотива дома сопряжена с главной святыней еврейского народа — Храмом, который одновременно и «Дом Господень», и «Храм святости», и «Дом святилища»3, Храмом, восстановление которого 1 КД 2004: 543. Рубина 2002б: 95. 3 Аттиас, Бенбесса 2000: 200. 2 21 в ментальности народа Израиля ассоциируется с мессианской идеей. Мотив дома в прозе Рубиной будет рассмотрен исходя не из хронологии, а в соответствии с контекстуально-философским развитием этого мотива, обозначенным географически. Это три этапа в поисках дома: Ташкент, Москва, Израиль, — три географических пространства биографии лирической героини Дины Рубиной. Героиня (одновременно рассказчик) повести «Яблоки из сада Шлицбутера» — молодой писатель из Ташкента — на несколько дней приехала в Москву. За короткое время (как реальное, так и художественное) она дважды фиксирует внимание читателя на своей «бездомности». Экзистенциальное мироощущение героини выражено прямой реминисценцией из чеховской «Каштанки»: «Молодая, рыжая собака — помесь такса с дворняжкой, — похожая мордой на лисицу, бегала взад и вперед по тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам…»1. В первый раз эти чеховские строчки как бы случайно вписываются в бытовой контекст, когда бабушка героини нравоучает внучку: не следует забывать язык предков. «Ты не знаешь родного языка! — бушевала бабка. Я сидела с ногами в кресле и лениво отмахивалась надкушенным яблоком: бабка мешала мне читать “Каштанку”. <…> — Надо учить родного языка! — “…Изредка она останавливалась и, плача, приподнимая то одну озябшую лапу, то другую, старалась дать себе отчет: как это могло случиться, что она сейчас заблудилась?..”»2. Язык предков, память рода, «озвученные» бабушкой, и бездомная чеховская Каштанка являются слагаемыми рубинского метасюжета. По прошествии многих лет «молодая, рыжая собака» вспомнится, но уже в ином контексте, в ином осмыслении, потому что ничего не забывается: этническая память при запахах прошлого, при виде дворняги, при иных деталях, вроде бы ничего не значащих в экзистенциальной картине мира, возрождает из глубин подсознания контуры дома3. «…Однако 1 Рубина 2004г: 254. Рубина 2004г: 254. 3 Как утверждают современные исследователи фольклора эмигрантов, многие репатрианты из России, не говорящие на идиш, «сохранили сентиментальные воспоминания о нем, связанные с событиями детства, домашними праздниками и песнями, которые напевали бабушки» [Еле2 22 сейчас я понимала все, я ничего не забыла — ни словечка, ни интонации»1. Почти о том же повествует героиня рассказа «Майн пиджак ин вайсе клетка»: «Я стесняюсь израильтян за границей так же, как стеснялась бабушки, которая в трамвае говорила с соседкой на идиш»2. Посетив московское издательство по выпуску литературы на идиш, героиня «Яблок…» попадает в пространство своего детства: запах яблок напоминает о языке предков, о многовековой боли изгнания, возвращает тоску по дому. И вновь звучат строки о бездомной, заблудившейся собаке — строки-рефрен, в ритме которых вызревает еще словесно не оформленное решение. «“Молодая, рыжая собака — помесь такса с дворнягой… бегала взад и вперед по тротуару…” Я брела к метро, беспокойно вглядываясь в лица проносящихся мимо людей, впервые силясь ощутить — чья я, чья? И ничего не ощущала. И только, может быть, догадывалась, что это сокровенное чувство со-крови человеку навязать невозможно. Что порою приходит оно поздно, бывает — слишком поздно, иногда — в последние минуты, когда, беззащитного, тебя гонят по шоссе. Прикладами. В спину»3. Как когда-то гнали Фриду, сестру мамы героини, у которой была возможность спастись: «Говорят, в нее влюбился какой-то немецкий майор, и… ну, при известном раскладе она могла бы остаться жива… Но Фрида… <…> Короче, перед тем как повесить, ее гнали, обнаженную, десять километров по шоссе — прикладами в спину…»4. Чувство «со-крови» со своим народом, вечно гонимым, — это то, что давало силы выжить, сохранить свое этническое лицо: «…вот так мы бежали из Испании, вот так мы бежали из Германии, вот так мы бежали из Польши, вот так мы бежали из… вот так мы бежали… Вот так Я избрал тебя из всех народов, как стадо свое, и стану перегонять тебя, как стадо, с места на место, чтоб не забывал, и не успокаивался, и не смешивался с языками другими…»5. невская 2005: II, 131]. Многие информанты М. Еленевской и Л. Фиалковой вспоминают как чудо внезапно всплывший в памяти и востребованный в Израиле идиш [Еленевская 2005: II, 129–134]. 1 Рубина 2004г: 255.. 2 Рубина 2002б: 156. 3 Рубина 2004г: 271. 4 Рубина 2004г: 267. 5 Рубина 2001а: 143. 23 На этапах изгнания, конечно же, народ обретал суррогат родины, но ненадолго. «…Вы напряжете все силы духа, чтобы найти тропинку спасения, и сами себе поверите на миг, будто нашли ее, — но я не верю и гнушаюсь утешать себя сказками, и говорю вам со спокойным холодом в каждом атоме моего существования: нет спасения, вы в чужой земле, и до конца свершится над вами воля чужбины!»1. Логически необъяснимые кульбиты чужой ментальности заставляли помнить себя и искать свой дом: «Любопытное то было время: изображать евреев в текущей литературе считалось… не совсем приличным. <…> И только в одной ситуации герою позволялось быть евреем: когда он клеймил тех предателей и подлецов, которые, бросив Родину, уезжают в Израиль2»3. В биографии героини Рубиной такой суррогатной родиной, таким временным домом был Ташкент: «И что тебя в Ташкент занесло? — опять спросил он. Я обиделась: — Почему — занесло? Я там живу. Думаете, в Ташкенте жизнь хуже, чем в вашей сумасшедшей Москве?.. Занесло не меня, а родителей. Отец после ранения в госпиталь попал, так и остался. А мама с дедом и бабкой — в эвакуацию… Вообще-то они с Украины»4. Запах яблок — символ дома, но ушедшего, былого, дедовского (с дедом связаны воспоминания о былом доме и у Зямы, героини романа «Вот идет Мессия!»). Яблоки из сада Шлицбутера напомнили героине о Каштанке, и она ощутила себя заблудившейся, стоящей на пороге поиска дома. «…Я …под усилившийся запах яблок полетела в обморочную глубину гулкого колодца… вынырнула в до боли знакомом месте и, оглядевшись, поняла, что стою в дверях дедовского сарая, в тихом и зеленом Рыночном тупике Кашгарки5»6. 1 Жаботинский 2004: 36. Одним из мотивов эмигрантского дискурса советского периода стало восприятие эмиграции как измена родине — таково следствие советской пропаганды [Еленевская 2005: I, 71]. 3 Рубина 2004г: 243. 4 Рубина 2004г: 264. 5 Кашгарка — эпицентр землетрясения в Ташкенте в 1966 г.; здесь — символ разрушения дома, исхода народов, и евреев в том числе, из дома, которого больше нет. 6 Рубина 2004г: 259–260. 2 24 Запах яблок в саду деда въелся в подсознание памятью о «суррогатной матери». Но нет уже сада, нет и дома. Случилось то самое вавилонское столпотворение, подвигшее народы на поиск своего исконного дома. Парафразом темы прапамяти — об этнических корнях и исторических скитаниях своего народа — звучит фрагмент из «Яблок…»: героиня в дреме слышит из эфира испанскую речь и понимает ее, хотя прежде никогда не знала испанский язык: «…я поняла только, что во всех людях живет ощущение предъязыка и в гипнотическом или полугипнотическом состоянии наш мозг может вытворять черт знает что…»1. Мотив отсутствия дома в прозе Рубиной связан не только с перипетиями истории еврейского народа. Как экзистенциальное состояние он присутствует во многих сюжетах, не имеющих отношения к этническим проблемам. Однако на метауровне бездомность рубинских героев — проекция сознания/подсознания лирической героини — единого образа всей прозы. Ее сознание фиксирует в звуках и образах реальности то, что созвучно этническим ментефактам: героиня слышит из окон тюрьмы (советской) слова песни, которыми «материализовано» ее подсознательное желание: «Течет реченька по песо-очечку, / Бережо-очки моет, / Воровской парень, городской жулик / Начальника про-осит: / Ты начальничек, винтик-чайничек, / Отпусти до до-о-му… / Видно, скурвилась, видно, ссучилась / Милая зазно-оба…»2 (курсив мой. — Э.Ш.). Один из сборников рассказов Дины Рубиной носит характерное название — «Дом за зеленой калиткой»3. Собственно рассказ «Дом за зеленой калиткой» датирован 1979 г. Вряд ли уже тогда в сознании писателя был намечен мотив обретения дома лирической героиней, он вызревает в произведениях 1990-х гг. Однако в метапространстве творчества писателя, в ее «коллективно-индивидуальном» бессознательном, вероятно, этот мотив уже намечался. «Дом за зеленой калиткой» — это было место, где юная тогда героиня брала уроки музыки; сам же дом ассоциировался с отнюдь не приятными ощущениями, 1 2 3 Рубина 2004г: 259. Рубина 2000: 225–226. Рубина 2002. 25 так как хозяйка его, «мягкая ленивая женщина, превосходно игравшая изящную пьесу Бетховена “Элизе”»1, в самой героине посеяла (благо, ненадолго) недовольство собой («Я ненавидела свои четвертый и пятый пальцы»2), презрение к себе за то, что унесла из этого дома совершенно ненужную ей губную помаду. Но это испытание, отпечатавшееся в сознании героини как «дом за зеленой калиткой», стало не только «жертвоприношением музыкальному идолу»3, но и вехой на пути к дому. В состоянии рубежа — дом / его отсутствие — находится мальчик — герой рассказа «Терновник» (1983): дома пока нет, есть угол, где можно перекантоваться. Отец, с которым жили врозь, говорил мальчику: «…здесь твой дом… <…> Нет, дом был там, где была мать. Это мальчик чувствовал очень остро. Даже когда не существовало вообще никакого дома и они ютились у тети Тамары с дядей Сережей, его дом был там, где находилась она — ее голос, ее запах, ее черный свитер, ее жестикуляция и выкрики»4. Дом-мечта звался мамой «звучно и возвышенно» — кооператив. Этот кооператив в фантазиях мальчика представал неким космическим кораблем: «…вот он ждет их на взлетной полосе, сверкающий, узкий и легкий, как птица, — кооператив! Вот они с матерью — в комбинезонах, со шлемами в руках — шагают к нему через поле. И вот уже люк откинут, они машут толпе внизу, застегивают шлемы и наконец влезают в новейшей модели сверхзвуковой кооператив!»5. Петр, герой повести «На Верхней Масловке», талантливый, несовременный своей интеллигентностью, любимец Мастера, приехавший в Москву из провинции, так и не смог вписаться в суетное хитросплетение столичной жизни, прожив пятнадцать лет приживалом при старухе, уникальной своим долгожительством и «музейной» биографией. И опять рядом с героем появляется дворняга, знак бездомности: «Из-за фонаря выскочил бездомный сирота Шарик, которого здесь изредка и скудно подкармливали, пристроился сзади на почтительный 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 2 2002: 2002: 2002: 2002: 2002: 187. 173. 187. 71. 67. 26 шаг и потрусил с Петей через дорогу к остановке. <…> — Дружище, взял бы, ей-богу взял… <…> да старуха выгонит обоих… Два приблудных пса — даже для нее многовато…»1. Искреннее отношение Петра к старухе («Пятнадцать лет бок о бок я существовал с самой Искренностью…<…> Пятнадцать лет меня обдавало печным жаром правды»2) воспринимается его окружением как обычная житейская история — ожидание столичной прописки, обретение жилья — и не осуждается. Старуха умирает. Петр, уже «прописанный», выписывается и отправляется туда, откуда приехал пятнадцать лет назад. «Затем, что домой пора, — просто сказал Петя… Я подзадержался в столице, и мы порядком надоели друг другу… <…> Явился бос и гол, таким и уйду из стольного града… <…> — Петя, вы с ума сошли! — воскликнула Нина. — Извините меня, я назову вещи своими именами: дожить, дотерпеть до того, чтоб получить наконец в Москве свой законный угол, и так странно, глупо, неожиданно все бросить?»3. Петра гонит из столицы тоска по дому (а это не столичная прописка), врожденное желание человека обрести свое гнездо. Найдет ли? «Пора гасить свет»4, — читает он в книге, читает еще и еще эту фразу, твердит, как приговор: «Пора гасить свет, но для чего сердце не теряет желаний с потерей надежды?»5. И не объяснить эту природную тягу к дому, не обязательно ассоциируемому с комфортом и стереотипом достойной жизни. У каждого народа свой дом, любовь к которому вне житейской логики. Героиня-рассказчик из повести «Камера наезжает!..», находясь в отчаянии, когда «пропала жизнь», видит безрадостный чужой пейзаж: «Мы ехали довольно быстро. По краям шоссе бежали хлопковые плантации, иногда проскакивали тоскливые мазанки. Вдали слезились два тающих огонька. Казалось, это желтоглинное пространство вращалось вокруг машины, как гончарный круг»6 (курсив мой. — Э.Ш.). А ее случайный 1 Рубина 2004б: 9–10. Рубина 2004б: 155. 3 Рубина 2004б: 153–154. 4 Рубина 2004б: 160. 5 Рубина 2004б: 161. 6 Рубина 2000: 291. 2 27 спутник, глядя туда же, видит совсем другое — свой дом: «Италий был, Швейцарский Альпа был, Венеция видел, НорвегийМарвегий был… — певуче проговорил известный узбекский актер. — Такой красивый земля, как наш, нигиде нет…»1. Хозяин лавки на склоне Масличной горы обращается к обретшей наконец дом героине: «Смотри, мотэк… я в своей жизни пошлялся по разным америкам-франциям… по этим… как их? — швейцарским альпам… Поверь, красивей, чем наша с тобой земля, нет на свете!..»2. Склон «Масличной горы, неровно заросший Гефсиманским садом»3, напоминает героине бок овна, того самого, которого библейский Авраам принес в жертву Богу взамен сына Исаака. Овен — это видение героиней собственной судьбы, ее кульминации. Овен — искупительная жертва: «Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня! Авраам оглянулся и увидел позади себя овна, запутавшегося рогами в чаще. Он взял овна и принес его во всесожжение вместо Исаака. И нарек Авраам место то Иегова-ире, “Бог смотрит на меня”»4. Склон Масличной горы, увиденный героиней в образе овна, — это ментефакт: люди, чувства к ним, воспоминания о прошлом, Ташкент и Москва — все, что принесено в жертву во имя обретения дома. «Ты мог болтаться вдали от нее тысячу и две тысячи лет, но когда ты все-таки вернешься сюда из прекрасного города своего детства и своей юности, от любимых друзей и возлюбленных… которых ты так умело ласкал… когда ты все-таки вернешься… она отверзает для тебя свое лоно…»5. Героиня-рассказчик повести «Последний кабан из лесов Понтеведра», оказавшись на своей исконной родине, в Израиле, воспринимает родной ландшафт так же, как «известный узбекский актер» из повести «Камера наезжает!..»: «Который год живу я в “пустыне дьявола”, на середине пути в преисподнюю, и, признаться, ничего более отрадного для глаз в жиз1 Рубина 2000: 291. Рубина 2000: 315. 3 Рубина 2000: 134. 4 Грейвс 2002: 258. 5 Рубина 2001а: 359-360. 2 28 ни не видела. Наш городок, вознесенный на вершину одного из самых высоких перевалов Иудейской пустыни, напоминает поднебесный мираж…»1. Поиск дома сопряжен и с бытовыми реалиями: «бездомная» героиня повести «Камера наезжает!..» втянута как сценарист в чуждую ей круговерть кинопроизводства, и все это она оправдывает желанием наконец-то приобрести жилье, дом, в его реальном жилищно-бытовом смысле. «Всю жизнь я жила в стесненных жилищных обстоятельствах. В детстве спала на раскладушке в мастерской отца, среди расставленных повсюду холстов. Один из кошмаров моего детства: по ночам на меня частенько падал заказанный отцу очередным совхозом портрет Карла Маркса, неосторожно задетый во сне моей рукой или ногой»2. В этой повести сконцентрирована та география поиска дома, которая рассеяна по всей прозе писателя. Ташкентский поиск дома обытовлен ожиданием двухкомнатной квартиры. Место строительства все время менялось, но когда «дом уже построили и мы даже врезали в дверь моей квартиры новый замок, я вдруг уехала жить в Москву. Квартиру сдали в кооператив… <…> Потом я и вовсе уехала из России, что окончательно обесценило ту давнюю взятку за несбывшуюся квартиру…»3. Ведомая какой-то силой, интуитивно чувствующая, что ее дом не здесь, героиня безболезненно соглашается с нереализованными попытками обретения жилья: «Не должна была я жить в этом доме, не должна! <…> Не должна была я жить в этом чужом доме…»4. Обрела ли героиня собственно дом как комфортное жилище? Вряд ли. «Со всем остальным я смирилась. Например, с тем, что опять я сплю в мастерской, среди расставленных повсюду холстов, и время от времени ночью на меня падает неоконченный мой портрет, неосторожно задетый во сне рукой или ногой…»5. Но дом как пристанище души, дом — царство гармонии, единения со своим народом, его историей — да. 1 Рубина 2000а: 20. Рубина 2000: 230. 3 Рубина 2000: 236-237. 4 Рубина 2000: 311. 5 Рубина 2000: 306. 2 29 И если героиня сомневается в найденном наконец доме, то для читателя это очевидно: «Забавно, что единственную в своей жизни окончательность, единственную бесповоротную завершенность я как бы и не желаю заметить»1. Героиня, прислушиваясь к себе, с удивлением отмечает: неужели она полюбила, привязалась к новой родине, к дому? «Я в своих странствиях… всегда в уме прикидываю на себя страну — могла бы здесь жить? И каждый раз выходит — нет, не очень… Да нет, совсем не смогла бы… Хотя иные красоты, иные пейзажи, иные детали очень пленяют… И вот я думаю — а может, я уже израильтянка? Похоже, так… Хотя бы потому, что не выношу звука льющейся без пользы воды…»2 («…Их бин нервосо!»). Или: «Порой за голову хватаюсь — Боже, куда я попала! — а все равно кайфую и твердо знаю, что мне повезло» 3 («Я кайфую»). Какой дом обрела героиня? Она ощутила себя недостающим звеном в цепи исторических событий, в этнической картине мира. «Все было правильно: мозаичный узор судьбы подбирался по камушку, складывался медленно и старательно. И — поняла она — удивительно верно. В первые же дни она ощутила себя камушком, точно вставленным в изгиб узора огромного мозаичного панно, кусочком смальты, которые подбирает рука Того, Кто задумал весь узор»4. В традиции русской литературы (к которой принадлежит писатель Рубина) мотив дома присутствует в нескольких ракурсах. Помимо логической (и художественной) функции топоса, герои классической литературы по отношению к дому стоят в трех позициях (там, где звучит и значим мотив дома): они бездомны (например, Рудин, Базаров, Раскольников, Мышкин, Мастер и Маргарита); они обитают в доме, родовом гнезде, с особым уставом и ритуалами (например, Татьяна Ларина, Обломов, Ростовы, Болконские); они теряют дом (например, Головлевы, Елена Инсарова, Лаврецкий, Раневская, Войницкий, Турбины). Обретение же дома — мучительное, долгое, длиною в жизнь — до Дины Рубиной вряд ли встре1 Рубина 2000: 316. Рубина 2002б: 189. 3 Рубина 2002б: 170. 4 Рубина 2001а: 19. 2 30 чалось. Пожалуй, такое обретение дома, как в прозе Рубиной, есть в волшебной сказке: после ряда сложных испытаний, в финале пути героя, но это совсем другая словесная парадигма. Долгожданный, обретенный дом сродни погружению сказочного героя в ирреальный мир волшебного пространства: героиня была «вознаграждена сразу и с лихвой: стала встречать на улицах, в магазинах, транспорте своих умерших родственников1. Так, вдруг, разительно совпадали в чужом человеке тип лица, и походка, и манера совать под мышку свернутую в трубочку газету — вылитый дядя Исаак, только чуть больше лысина на затылке, — так ведь сколько лет после его смерти прошло. А сколько раз она уже натыкалась на деда! Дважды бежала следом, чтобы еще раз в лицо заглянуть (хотя осознавала, конечно, что выглядит странно). И радостное вздрагивание души, захлестнутое дыхание, спазм в горле, слезы на глазах — были ей такой наградой за все безумие отъезда…»2. Обретенный героиней дом — не решение проклятого «квартирного вопроса». Дом для героини Рубиной — это все пространство Израиля, с его нерешаемыми проблемами, ужасами террористической повседневности, словом, это вовсе не благостный, обетованный мир, но все же дом. То есть дом — вся страна как большое, многодетное, шумное, крикливое семейство, где все друг с другом на ты («национальная склонность к фамильярности»), где в обыденной жизни отсутствуют парадность и комильфотность, а скорее окружает атмосфера безобидного амикошонства и раскрепощенности. «На спине водителя валялся мятый фланелевый капюшон. Зяма представила, как в дождь, выбегая из автобуса в диспетчерскую, он набрасывает его на голову — детский капюшон на этой полуседой курчавой голове марокканского быка. А на ногах у него должны быть старые кроссовки… Вот что пугало ее: домашность всей этой страны и ее населения. Все ее жители относились к стране как к своей квартире, и так одевались, и так жили, не снимая 1 Подобный мотив М. Вайскопф называет типичным для русской литературы Израиля: «Столь же часто рассказчик встречает здесь своих убитых предков или родственников, восставших из расстрельных рвов, либо просто давно утраченных, скончавшихся друзей» [Вайскопф 2001: 245]. 2 Рубина 2001а: 20. 31 домашних тапочек, и так передвигались по ней, и так ссорились, — незаметно, небрежно и смертно привязаны к домашним, — совершенно не вынося друг друга и взрываясь, когда чужой посмеет плохо отозваться о ком-то из родни… Они так и убегали из нее, как сбегают из дома — до конца дней не в силах окончательно вырвать его из себя»1(курсив мой. — Э.Ш.). Своих обретенных новых-старых соотечественников героиня романа «Синдикат» узнает по особенному взгляду, в котором присутствует «домашняя размягченность», пришедшая взамен напряженности и загнанности в стране исхода2. Возвращаясь на время в Россию, героиня Рубиной чувствует «себя человеком, который все лето ходил на даче босиком, а сейчас вернулся в город и должен… втиснуться в свои узкие старые туфли3»4. Официальная делегация израильтян — «генералы, важные чины» — удивляет людей, ментальность которых сопрягает начальство с определенным стилем — строгим, деловым: «Вчера опять какая-то группа ваших военных в штатском приезжала. Говорят, генералы, важные чины… Какие-то они у вас там простые ребята: ру1 Рубина 2001а: 24. Рубина 2004д: 14. 3 В иммигрантском русскоязычном дискурсе стабилен мотив восприятия Израиля и его народа как чего-то по-домашнему разболтанного: «сандалии и шорты неотделимы от образа израильтянина» [Еленевская 2005: I, 84]; «…первое мое впечатление было, что здесь все в трусах ходят. Я тоже пошел и купил себе трусы за 11 шекелей. Они были так удобны, что в них можно было приехать к морю и в этих же трусах искупаться, потом высушить, сесть в автобус и поехать обратно в город. Потом в Технион (Израильский институт технологии) я в этих трусах ходил там. На интервью ходил… В трусах» [Еленевская 2005: I, 138]. Первые впечатления от Израиля записаны израильскими фольклористами: «…первое впечатление… как будто я попал в какую-то большую квартиру, чистую, где воздух приятный. <…> Прошелся по Нордау, как будто бы это была квартира. Большая, длинная такая квартира. <…> Я смотрю: фикус растет» [Еленевская 2005: I, 275–276]. «…Это страна шлеперов и для шлеперов… То есть здесь не нужно думать о галстуке, не нужно думать, там, о глаженых брюках… <…> Здесь, в общем-то, абсолютно плевать, как ты выглядишь, как поступаешь» [Еленевская 2005: I, 338–339]. 4 Рубина 2001б: 415. 2 32 башки расстегнуты, галстуков в помине нет, смеются, как дети… всему удивляются и все им до фиолетовой звезды… Ну, чисто… клоуны»1. Как заботливая мать патриархальной, а потому большой семьи должна накормить детей — так водитель автобуса Хаим и его жена Сара, ежеутренне пекущая булочки, кормят незнакомых солдат. «Их что — не кормят? — спросила Зяма после первой такой раздачи. — При чем тут — кормят-не кормят? — сказал ей Хаим раздраженно. — Они стоят на посту. В дождь, в жару. Это наши дети, наши мальчики. Они охраняют тебя, меня… В них бросают камнями»2. На развилке дорог, таящей в себе опасности геополитического свойства, стоит телефонный автомат. Не из него звонят — звонит телефон-автомат, из него раздаются звонки, подходит любой ждущий автобуса, из трубки звучат домашние фразы. «Позови маму… — А кто — мама?.. — В трубке подумали, вспоминая. — Мири. Мири Кауфман из КохавЯакова. — Она обернулась и крикнула в небольшую группку поселенцев: — Мири Кауфман — Кохав-Яаков — есть?»3. Дом — страна, дом — семья, в семье — дети, они учатся в школе, в школе рисуют дом. «Сегодня рисуем свой дом, — сказал учитель Гидеон. — Как это — дом?.. <…> — Это невозможно, — сказал Джинджик. — Все сразу можно увидеть только с вертолета»4. Джинджик не мог нарисовать дом, так как не видел его целиком, никогда не поднимался ввысь. И учитель организовал ему нужный «ракурс»: «Прижавшись лбом к стеклу, Джинджик смотрел на две черепичным кренделем изогнутые улицы, на круглую коробочку водонапорной башни, на белый купол недостроенной синагоги и на одинаковые ряды спичечных коробков-вагончиков, спускающихся к оливковой долине»5. «Воспаривший» еврейский мальчик и дом, который он увидел, сродни образам на полотнах Марка Шагала. Худож1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 2 2000: 230. 2004д: 249. 2001а: 181. 2001а: 76. 2001а: 232–233. 33 ник вспоминает об этом в «Моей жизни»: «И наконец я здесь, лицом к окну, с раскрытым молитвенником в руках, и могу любоваться видом местечка в субботний день. Синева неба под молитвенный гул казалась гуще. Дома мирно парили в пространстве. И каждый прохожий как на ладони»1; «Плетни и крыши, срубы и заборы и все, что открывалось дальше, за ними, восхищало меня. Что именно — вы можете увидеть на моей картине “Над городом”. А могу и рассказать. Цепочка домов и будок, окошки, ворота, куры, заколоченный заводик, церковь, пологий холм (заброшенное кладбище). Все как на ладони, если глядеть из чердачного окошка, примостившись на полу. Я высовывал голову наружу и вдыхал свежий голубой воздух. Мимо проносились птицы»2. Так как заповеди Моисея запрещали «делать изображение того, что на небе… на земле… и на воде»3, то Шагал поступил не вопреки религиозным предписаниям, а изнутри национальной религиозной традиции4. Дед Зямы («Вот идет Мессия!») говорил: «Мамэлэ, ты принадлежишь к такому народу, что в любую минуту должна быть готова подкупить охранника в гетто»5. В прозе Рубиной с этими строчками сопряжены фрагменты сюжетов, где герои, уже обретя дом, сталкиваются с ментефактами прежней родины: «…в этот момент перед ним (Виктором. — Э.Ш.) вдруг вихрем протащили его детство в огромном дворе на Бесарабке, свору мелких дворовых хулиганов, вечно допекающих его воплями “жидяра”, “жидомор”… как еще они его называли? По-всякому…»6. Поиск дома подобен вселенскому переселению, сравнимому с «космическим взрывом, в результате которого, клубясь и булькая в кипящей плазме, зарождается новая Вселенная»7. Тот дом, приютивший на время, отличается от собственно дóма «тем, что твоя фамилия может прожить там тысячу лет… 1 Рубина 2001а: 235. Шагал 2004: 51. 3 Исход, 20: 4. 4 Апчинская 2004: 13. 5 Рубина 2001а: 293. 6 Рубина 2001а: 231. 7 Рубина 2001а: 26. 2 34 Но все равно придет день, когда та земля крикнет тебе: “Грязный вонючий жид! Убирайся с моего тела!” <…> А твоя земля (твой дом. — Э.Ш.) <…> …когда ты умираешь, она принимает тебя в последнее объятие и шепчет тебе слова кадиша — единственные слова, которые жаждет услышать твоя душа… Вот что такое эта земля — для тебя. И только для тебя… Для других она была камнем, бесчувственным камнем…»1. Перепев этой темы есть в романе «Синдикат»: грузин в московском ресторане, слыша непонятную, нерусскую, речь подносит героине бутылку шампанского: «…поставил на стол и говорит, что хочет выпить за нашу страну, что очень любит евреев и уважает их. — “И знаешь, за что? — говорит, — за то, что, в отличие от проклятых абхазов, евреи никогда, — тысячелетиями живя на грузинской земле, — не претендовали на нашу землю”. В этом месте своего рассказа Клава поднял палец и сказал: — Понятно? Ты будешь жить с ним бок о бок тысячи лет, его земля век за веком будет заглатывать все новых твоих покойников, а он все равно уважать тебя будет за то, что ты не претендуешь стать для него своей»2. Надо отметить, что рефлективное восприятие рубинскими персонажами покинутого и обретенного пространства соответствует реалиям фольклорного иммигрантского дискурса, представленного в исследовании М. Еленевской и Л. Фиалковой3. Обретение дома героями Рубиной вовсе не связано с материальной стороной жизни. Собственно дóма — строения, жи1 Рубина 2001а: 359–360. Рубина 2004д: 305–306. 3 Воспоминания иммигранта о телепередаче «Глас народа»: из «будки» вещает советский гражданин: «Товарищи евреи! Вы погубили нашу страну. Вы споили Россию. Вы все время ее уничтожаете. Вы заняли все теплые места, везде, везде, везде…» [Еленевская 2005: I, 55]; воспоминания иммигрантки о пионерском детстве: «…когда я заходила туда (в столовую пионерлагеря), еду мне не давали… дети сидели и в такт отбивали ложками, одновременно повторяли: “Вы, евреи, едите наш хлеб”…» [Еленевская 2005: I, 62]. В фольклоре и ментальности иммигрантов присутствует и противоположный мотив – от бездомности к бездомности, то есть потеря одного дома (реальной квартиры) приводит к съему квартиры в Израиле, что воспринимается «как потеря стабильности, придает им ощущение бездомности и неприкаянности, особенно в первые месяцы пребывания в новой стране» [Еленевская 2005: I, 260]. 2 35 лища — у них нет: один персонаж возводит «декорации Дома»1, другой живет в вагончике (Зяма)2. (Подобное восприятие дома репатриантом воспроизводит Л. Улицкая: «Никакие радости не идут в сравнение с состоянием человека, летящего домой, но никогда еще своего дома не видевшего»3; «Конечно, это вагончик, не настоящий дом. Но это так правильно, когда дом еврея — шатер, палатка, времянка. Мы живем как переселенцы начала века»4.) Важно, что можно собрать в горсть песок или камушки и почувствовать, прочитать по ним о тысячелетнем прошлом предков, о доме: как говорит в рассказе «А не здесь вы не можете не ходить» один из персонажей — Ариэль Шарон: «Маленький страна… Но это наша страна5»6. Страна — Дом, Иерусалим — Дом-город, который стоит «на легендарных холмах, с его ненадежными домами, мимолетными людьми, вечными оливами, синагогами, мечетями и церквами… — весь этот город, колыхаемый сухими струями горного воздуха, пришелся мне впору, тютелька в тютельку, — натягивался на меня, как удобная перчатка на руку… Мне было привычно ловко, привычно жарко и привычно лениво в этом городе, и — видит Бог! — дорога к этому кафе в Долине Призраков заняла у меня не так уж мало лет»7. 1 Рубина 2001а: 82. О доме-декорации в литературе современного русского Израиля пишет М. Вайскопф, обнаруживая особенности образа дома, отмеченные и в нашем материале, в прозе Сусанны Чернобровой, Татьяны Ахтман, Светланы Шенбрунн, Льва Меламида. Образ дома, не являясь жилищем, прикидывается им: это движущийся автобус (Рубина); дом стоит над бездной или даже на дереве (Л. Меламид); дом-корабль (Рубина); домлифт у С. Чернобровой [Вайскопф 2001: 247]. 3 Улицкая 2006: 235. 4 Улицкая 2006: 236. 5 «Малость» обретенного Дома отражена в иммигрантском фольклоре: «А из нашего окна / Иордания видна, / А из вашего окошка / Только Сирия немножко» [Еленевская 2005: I, 271]; «– Исаак, как ты собираешься провести отпуск? – Хочу объехать весь Израиль на велосипеде. – Ну, это до обеда. А после обеда что будешь делать?» [Еленевская 2005: I, 271]. 6 Рубина 2002б: 95. 7 Рубина 2004д: 17. 2 36 Линейно выстроенное обретение дома мифологично замыкается в круг, когда по законам экзистенциального хронотопа героиня вместе со своим народом должна оказаться в том пространстве, откуда вышли ее предки. Круг замкнулся, «чтобы пригнать Божье стадо на этот клочок извечного его пастбища, согласно не сегодня — ох, не сегодня! — составленному плану»1. «Чечевичной отрыжкой Эсава», «первородной горечью»2 называет лирическая героиня ту силу, которая гнала народ по этому пути. Преследования Эсава (в русскоязычной транскрипции — Исава) боялся Иаков, купивший «первородство» у брата и вынужденный покинуть отчий дом, скитаться. В финале романа «Вот идет Мессия!» две главные героини, никогда не встречавшиеся на протяжении сюжета, оказываются в одном месте — на террасе ресторана, чтобы отметить окончание поста — Йом Кипур, Судного дня — дня искупления. Каждая из двух героинь приходит в ресторан со странным названием «Годовалая сука». Сюжетные линии героинь Зямы и писательницы N., начавшись с Судного дня, Судным днем и заканчиваются: Зяма убита, а писательница N. не допишет своего романа, так как Зяма — его героиня. Несколько раз в описании финальной сцены упомянуто название ресторана. Неблагозвучный для «русского уха» топоним, однако, вписывается в сюжетно-семантический ряд деталей и образов романа. На Йом Кипур, во время заключительной службы, происходит как бы «закрытие ворот». «Традиция считает Йом Кипур днем, когда Бог решает судьбы людей; когда праздник кончается, служба прямо изображает закрытие ворот»3. Не случайно рассказчица подробно описывает расположение своих персонажей во время кульминационно-финальной сцены и ракурс входа/выхода в ресторан-террасу: «Они сидели за сдвинутыми столами… Отсюда вела дверь во внутреннее помещение… виноград4 поднимался над лестницей в виде 1 Рубина 2001а: 26. Рубина 2001а: 143. 3 Телушкин 2002: 481. 4 Говоря о первых впечатлениях от Израиля в процессе восхождения, отраженном в русской литературе Израиля, М. Вайскопф, среди прочих, делает акцент на мотиве виноградной лозы на дверях или воротах, «той 2 37 арки, на полу по обе стороны входа стояли две огромные … амфоры»1 (курсив мой. — Э.Ш.). Такое подробное описание диспозиции будущей драмы оправдано метасмыслом мизансцены. В частности, упоминание амфор отсылает к древнему метатексту, где сосуд, чаша стали символом жертвенного предмета (чаша «как символ стремления человека найти собственный центр»2). Описывается ракурс места действия и глазами убийцы: «В проем ведущей на террасу двери она увидела… женщину»3 (курсив мой. — Э.Ш.), свою будущую жертву. Для убийцы, беременной арабской девушки, единственный способ спасти свою честь — убить еврея и в тюрьме избавиться от ребенка. Дверь, проход, порог, арка в фольклорно-мифологическом пространстве являются знаком перехода в иной, потусторонний мир. Часто он имеет зооморфный облик, сближаясь с образами враждебных существ4. У Рубиной прямого сопряжения двери, входа, арки со сказочными и мифологическими образами нет. Однако в контексте сюжетной линии Зямы, уходящей в метапространство Иерусалима, в мир, где возможна встреча с Мессией и долгожданное обретение дома, где случается некая эманация — убывание бытия и возвращение к истокам, намек на зооморфизацию «перехода» видится в названии ресторана «Годовалая сука», читай «собака». В иудаистской традиции собака рассматривается как символ возмездия, суровости приговора. «Вероятно, ненависть древних иудеев к своим неприятелям-египтянам и римлянам, разводившим и почитавшим собак и применявшим их в бою, была перенесена и на животных. <…> Собака в Каббале символизирует сфиру Гвура (или Гевура, также Дин, то есть суд. — Э.Ш.) — “суровость”…»5; в древних мифологиях собака — ярко выраженный тератоморфный образ6. Ассоциируясь с загробным самой лозы, с которой связано в Библии первое знакомство евреев с Землей Обетованной» [Вайскопф 2001: 244]. 1 Рубина 2001а: 377. 2 Тресиддер 1999: 407. 3 Рубина 2001а: 383. 4 Пропп 1986: 64. 5 См.: [Иудаизм]. 6 Тахо-Годи 1991: 640. 38 миром, собака (Цербер) играла роль стража и проводника, доставляя туда души умерших. «В древности в Центральной Азии и Персии… телами умерших кормили собак. Этот обычай привел к семитскому и мусульманскому представлению о собаке как о нечистом… животном, которого использовали только как сторожа»1. Хозяином ресторана (и, соответственно, автором топонима «Годовалая сука») является курдский еврей. Топоним в романе семантизирован семиотикой иранской мифологии (курды — ираноязычный народ), где собака, будучи титульным животным, выполняла роль тотема, кумира. А.Н. Афанасьев связывает собаку с представлениями о загробной жизни: «По свидетельству Вед, души усопших сопровождались на тот свет двумя собаками, которые были приставлены оберегать пути в ад и в царство блаженных; персы верили, что умершие должны были переходить мост… ведущий на небо и охраняемый собакою»2. В контексте интерпретации топонима «Годовалая сука» эти комментарии, хоть и отдаленно, все же имеют семантическую привязку: именно в пространстве с названием «Годовалая сука», в пространстве хозяина-курда, происходит кровавая драма. Топоним воссоздает древний метатекст со всеми семантическими уровнями денотата «собака». Зяма в рубинском сюжете, переступив порог, пройдя через арку, попав во «владения» собаки, переходит в мир иной, в «вечные воды Иерусалима». Так комментирует семантику порога, перехода, арки французский исследователь А. ван Геннеп. По его словам, «переступить порог» — значит попасть в иной мир; дверь и порог, символически обозначающие границу двух миров и имеющие зооморфный облик, со временем превращаются в символические фигуры животных3 (в метасюжете романа Рубиной — это собака, точнее ее перифраз — «годовалая сука»). У многих народов существовал ритуал, совершаемый при вселении в новый дом, — приносить жертву. В лице усопшего дом получал своего гения-хранителя. Для того 1 Тресиддер 1999: 344–345. Афанасьев 1995: I, 376–377. 3 Геннеп 2002: 24–25. 2 39 чтобы дом стоял, жертвой должен был быть кто-либо из членов семьи1. В «Зогаре» говорится о силах зла, посылающих пса для пожирания жертвоприношения. Имя пса — Баладан, то есть нечеловек 2. В сюжете романа «Вот идет Мессия!» жертвой, укрепляющей основы дома, становится Зяма, так как она любит это «единственное для нее пространство, эту землю и населяющих ее людей, которых она считает своим народом, ведь истинная жертва — та, что за народ, за грехи его, за жизнь его, за землю… Другая жертва просто бессмысленна»3. То, к чему Зяма стремилась, — обретение дома, исконных корней, случилось: она стала частью своей земли, дома: «“Теперь и я — Ершолойм”, — поняла она, погружаясь… в эти… воды»4. Переход семантизирован аркой, дверью, амфорой, виноградником и названием ресторана «Годовалая сука»5. С одной стороны — это враждебная «площадка» для героини: она убита; с другой, отсылающей в метасюжет, — это было место для искупительной жертвы во имя обретения дома. По словам Рубиной, «…в Израиле все-таки имеет место некая романтика слияния со своими национальными корнями6»7. И в пространстве этой «романтики» очерчен путь обретения героиней дома. Пусть трагически, но искомая «точка опоры» была ею найдена, или, словами поэта, «А мы — припертые к стене — / В ней точку обрели опоры»8 (Б. Слуцкий). 1 Афанасьев 1995: II, 45–46. Зогар 1994: 117; Кравцов 1994: 305. 3 Рубина 2001а: 255. 4 Рубина 2001а: 385. 5 По словам М. Вайскопфа, почти постоянным мотивом, сопровождающим восхождение, в русской литературе Израиля представляется фольклорно-мифологический стереотип – образ хтонического пса у воды [Вайскопф 2001: 245]. 6 Хотя М. Еленевская и Л. Фиалкова не обнаружили в биографических нарративах иммигрантов признаков того, что мифологема «возвращение домой» оказала влияние на принятие решения эмигрировать (речь идет об эмиграции 1990-х гг., к которой принадлежит и Дина Рубина), то есть речь идет не об алии, восхождении, а об обычной эмиграции [Еленевская 2005: I, 50]. 7 Рубина 2004: 459. 8 КД 2004: 664. 2 40 Поиск дома рубинской героиней сродни его «строительству» — а это осознание своего еврейства, ощущение себя частью своего народа. Мифологема дом-еврейство значима в сознании именно тех представителей еврейской истории и культуры, которые озабочены судьбой еврейства в контексте других народов. «Ремесло мое — ремесло одного из каменщиков на постройке нового храма для моего самодержавного Бога, имя которому — еврейский народ. Когда молния режет насквозь черное небо чужбины, я велю моему сердцу не биться и глазам не глядеть: я беру и кладу очередной кирпич, и в этом мой единственный отклик на грохот разрушения»1, — писал в 1906 г. В. Жаботинский, заложивший реальные основы еврейского дома. 1 Жаботинский 2004: 37. 41 Иерусалим (роман «Синдикат») Над небом голубым Есть город золотой С прозрачными воротами И яркою стеной. А в городе том сад: Все травы да цветы, Гуляют там животные Невиданной красы. Одно как рыжий огнегривый лев, Другое — вол, исполненный очей, Третье — золотой орел небесный, Чей так светел взор незабываемый. Анри Волохонский. «Рай» Лев, «рыжий огнегривый», — это Ариэль, древнее название Иерусалима. Чтобы попасть в Иерусалим, надо в него взойти. Такому восхождению посвящен роман Д. Рубиной «Синдикат». Восхождение в иудейской мифологии сопряжено с предшествующим изгнанием из Иерусалима — оба этих процесса именуются исход, который в эмигрантском и иммигрантском дискурсах, а также в еврейской мифологии приобрел символический судьбоносный смысл. Мотив изгнания и восхождения в прозе Рубиной присутствует как амбивалентный: с одной стороны, он спровоцирован антисемитизмом повседневности, исторической и современной, с другой — желанием рубинского повествователя объединиться со своим народом. Так же, как и мотив ожидания Мессии, окрашенный в прозе Рубиной в разные оттенки — от мистических до комических, — мотив исхода представлен, с одной стороны, как глубинное страдание, извечная память предков в сознании героини-рассказчика («Воскресная месса в Толедо», «Майн пиджак ин вайсе клетка», «Яблоки из сада Шлицбутера» и др.). Став же главным в романе «Синдикат», этот мотив звучит иронично, с нотками горечи. Иронически-комическое звучание мотива изгнания-восхождения спровоцировано отчасти фольклором советской 42 поры, тем периодом, когда была разрешена властями эмиграция из СССР (в 1970-е гг. «со скрипом», в 1990-е — эмиграция оказалась почти повальной). Анекдоты той поры: «– Почему князь Владимир принял христианство, а не иудаизм? – Потому что иначе, чего доброго, вся Русь подала бы на выезд»1; «В Израиле собираются поставить памятник Юрию Гагарину, потому что именно он первым сказал: “Поехали!”»2; «Рабиновича спросили, что такое амбивалентность: “Точно не знаю, но ехать надо”»3. Еврейский текст в мировой словесности ХХ в. представлен двумя пространствами, имеющими отношение к возникновению в 1948 г. государства Израиль, — до и после: пространство до, разнообразное по географии, пронизано мотивом гонения, бездомности; пространство после — освобождением от страха, униженности, обретением дома, то есть мотивом восхождения («…Евреи …столько веков повсюду вынуждены были говорить вполголоса, что до сих пор наораться не могут»4). Оба мотива существуют в литературе чаще порознь, в прозе Дины Рубиной — это один амбивалентный мотив: от текста к тексту меняются акценты, стилистика, неизменной остается позиция автора и героини-рассказчика — «извечность — не ситуации, не жизни, не судьбы… а экзистенциальной невозможности увильнуть от участи всего народа…»5. Эмиграция 1970–90-х гг. и эмиграция начала XXI в. — разные кампании. О работе с предполагаемыми репатриантами «той» эмиграции6 рассказчик в «Синдикате» говорит прецедентным текстом евангельской стилистики — как о ловле рыбы: «… обрабатывали пойманных в сети рыб по высшему разряду…»7; «…евреи перли в свой Израиль колоннами, армиями, как новобранцы на призыв, — знай только подавай транспорт. В этом было что-то неуклонное, мистическое, словно не сами они так 1 Шахназарова 1994: 236. Еленевская 2005: I, 347. 3 Шахназарова 1994: 229. 4 Рубина 2002б: 156. 5 Рубина 2002б: 156. 6 Эмиграцию 1970-х гг. отличает осознанное чувство еврейства, желание «взойти на Сион» как выполнение главной обязанности каждого еврея [Еленевская 2005: I, 50–51]. 7 Рубина 2004д: 82. 2 43 решили, а кто-то тащил их волоком, чуть не за волосья…»1; «К Моте (раввину. — Э.Ш.) непрерывным потоком шли и шли русские жены, желающие пройти гиюр2 , дедушкины внуки, которым зачем-то понадобилось, чтобы их считали евреями...»3. Таким образом, «рыба» шла сама. «Ныне ситуация поменялась»4, члены организации по восхождению евреев, словно ищейки, должны были отыскивать людей, имеющих мандаты на Восхождение, или же «возрождать» в них желание отбыть на историческую родину — то есть сформировать чувство национальной самоидентификации. Основным мотивом романа-комикса «Синдикат» является восхождение. Синдикат в сюжете романа — название организации по обработке и агитации евреев на пространстве России для выезда в Израиль, причем так, чтобы «…людей не строили и не орали с порога: “евреи, пакуйте чемоданы!”»5. Пространство романа состоит из двух «подпространств» — профанного и сакрального. Первое представлено синдиками и клоунами, среди них образ Клещатика — персонифицированная профанность, доходящая до демонизма. Второе — виртуально присутствующим (посредством интернет-сети) пророком Azaria — персонификация морально-этической интенции романа. Героиня-рассказчик находится и в том, и в другом «подпространстве», как бы балансируя между двумя полюсами: она же клоун, или синдик, она же судия. Профанное «подпространство» По прошествии нескольких лет после написания «Синдиката» Дина Рубина в своей творческой исповеди пишет: «…писатель властен придать (материалу) объем… какой захочет — трагический или комический. В зависимости от обстоятельств»6. В романе «Синдикат» пафос в освещении темы восхож1 Рубина 2004д: 28. Гиюр – процедура, ритуал перехода нееврея в иудаизм: человек должен изучать Тору и доказывать искренность своего желания жить по заповедям Торы (гер – перешедший в еврейство). 3 Рубина 2004д: 186. 4 Рубина 2004д: 83. 5 Рубина 2004д: 43. 6 Рубина 2008: 80–81. 2 44 дения евреев в Израиль окрашен комизмом — именно этим мотивирован жанр «романа-комикса» — от безобидного юмора до едкого сарказма. Сарказма по отношению к евреям? И к каким — к тем, кто занят агитацией, выполняя спущенный «главным синдикатом» план, или к тем, кто пускается в «дальнее плавание», чтобы урвать то, что им якобы причитается? «Но больше всего меня тошнило от евреев»1 — эта фраза вызвала бурный протест в еврейской прессе и на форуме по обсуждению романа. В нелюбви к еврейскому народу писателя вряд ли можно упрекнуть — весь «еврейский текст» рубинского творчества свидетельствует об обратном. Контекст романа проливает свет и на эту фразу, и на созвучный ей саркастический пафос всего произведения. Организация «Синдикат» сравнивается с «муравьиной кучей2»3, синдики — люди с «распухшими амбициями»4, большую часть своего служебного времени посвящающие индивидуальным страстям: Петюня — анекдотам, Изя Коваль — новейшими системам мобильников, Яша — комиксам, Баба Нюта — изобретению ядовитых оттенков для покрытия ногтей. Все интриги, и перипетии, и будни, и всевозможные псевдосовещания «Синдиката» укладываются в устную форму «наших монастырских новостей». Тема восхождения порождает и питает спекуляции разного рода: семинары по Катастрофе, программы по истории для школы, концерты. Злословя в адрес синдиков, автор не скрывает и своей жалости к ним — жалости не сродни презрению, а того рода чувства, которое принято называть «материнским»: «…все эти люди, частью даже образованные, совсем ничего не знали ни об истории, ни о культуре, ни о традициях своего народа… Все они подпали под принятое в иудаизме определение “украденные дети”, ибо некогда еще их деды были украдены у своей истории умелой и наглой воровкой — советской властью…»5. 1 Рубина 2004д: 505. Парафраз прецедентного текста – «муравейник», характеризующий скопление людей, движущихся в разных направлениях, суетливо и хаотично [РКП 2004: 124]. 3 Рубина 2004д: 164. 4 Рубина 2004д: 186. 5 Рубина 2004д: 140. 2 45 Главное дело «Синдиката» — восхождение евреев — уподоблено плану ГОЭЛРО: оснащенная фонариком указка Клавдия вычерчивала линии по охвату агитируемых евреев на карте СНГ, напоминая «известный сюжет не такого уж далекого советского прошлого. Про себя я называла этот номер “Песнь ГОЭЛРО”»1. Призыв начальства к синдикам — «Родина ждет от вас десятки тысяч восходящих!»2 — порождает бесконечную череду денежных вливаний, праведных и неправедных. Бюджет утекает в связи с колоссальными безумными праздниками: «Миша Панчер предложил заказать особое мороженое: шарик — синий, шарик — белый, отразив государственные цвета. — И сделать съедобные флажки... чтобы в финале праздника гости их дружно съели…»3. Для начальства организуется прикрытие — имитация активной деятельности по восхождению — потемкинские деревни, точнее, «потемкинцы», группа стариков евреев-пенсионеров для заполнения тусовок по восхождению. Организуется праздник на льду — «праздник виртуальной страны, с виртуальными спортсменами на ледовой арене, в России. А между тем мы точно знали, что эта страна существует и в данный момент истекает кровью…»4. Кульминацией процесса восхождения становится сначала подготовка отплытия россиян-евреев на корабле в Израиль и, наконец, сам круиз — «Мы будем делаем круглосветный восхождение»5. По мере того как в развитии сюжета набирает обороты (и пропагандистские, и финансовые) грядущее фантасмагорическое отплытие корабля, героиня-рассказчик «отбивает» ритм неоднократным упоминанием о сроках пуска трамвая в Иерусалиме (каждый ее приезд из Москвы в Израиль): «Я… перешла на противоположную сторону улицы, где под огромным щитом, возвещающим о ближайших сроках сдачи трамвайной линии на этом участке…»6; «На углу улицы красовался щит с глазастым трамваем, что вываливался на прохожих, как бы удивленно читая надпись 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 6 Рубина 2 2004д: 2004д: 2004д: 2004д: 2004д: 2004д: 135. 141. 181. 180. 204. 14. 46 внизу щита о сроках сдачи работ на данном участке пути… — Перекопали весь город, — заметила я, — ноги обломаешь, пока пройдешь… И ничего толкового пока не видно… Ты веришь в этот трамвай? — А, — сказал он, — слушай, Иерусалим Тита пережил, римский плуг, арабских коз… Ну, так пойдет здесь трамвай, или не пойдет здесь трамвай…»1; «И если по Яффо все-таки когда-нибудь пустят трамвай, то из его окна туристы бросят взгляд…»2. Деньги спонсоров мирового еврейства тратятся на вселенские аферы — корабль уже поплыл, а трамвай по-прежнему не пущен, его ожидают как прихода Мессии: «Смотрите на этого паршивца… когда мама говорит надо идти — надо идти — нет, он будет ждать здесь пришествия трамвая!!!»3 (курсив мой. — Э.Ш.). Круиз, затеянный в сюжете романа, воспринимается в метатексте культуры ХХ в.: он задан архетипическим феллиниевским4 кораблем (фильм Ф. Феллини «И корабль плывет…»5), восходящим, в свою очередь, к более древнему архетипу — Ноеву ковчегу: «А корабль плывет!!! <…> Полюбуемся на Восхождение Ноева Ковчега»6. Феллиниевский сюжет-притча — метафора к роману Рубиной: как нет дела всем, отправившимся хоронить прах великой певицы, до самой певицы (в фильме Феллини), так и бесконечные звонящие в Синдикат, желающие взойти, далеки от сакральной семантики восхождения. Их занимают сиюминутные — меркантильные, «физиологические» — проблемы: «Из “Базы данных обращений в Синди1 Рубина 2004д : 160. Рубина 2004д: 448. 3 Рубина 2004д: 557. 4 На вопрос Иоанны Мяновской «Любите ли Вы киноискусство, какое?», Дина Рубина ответила: «Люблю Феллини» [Мяновска 2003: 142]. Знаковое имя Феллини – средство образности рубинского текста: «… нам энергично машет лотошник, похожий на всех комедийных героев Феллини вместе взятых» [Рубина 2002б: 180] («…Их бин нервосо!»); «азарт …при созерцании сценки, или типажа… словно перенесенной на иерусалимскую улицу из фильмов Феллини» [Рубина 2002б: 68] («Я кайфую»); «Гений Феллини мог так расцвести только в густом средиземноморском вареве…» [Рубина 2002б: 135] («Чем бы заняться?»). 5 Другой вариант перевода — «И корабль идет…» / «E la nave va...». 6 Рубина 2004д: 558. 2 47 кат”… Бойкий женский голос: — Миленькие, а вы и до Германии дорогу оплачиваете?»1; «Робкий, но настырный мужской голос: <…> …и мы решились ехать… в ваши края, деваться-то некуда… Так у меня вопрос: мы не потеряем там в качестве жизни?»2. Главный персонаж фильма Феллини — журналист Орландо — всевидящее око: записывает, наблюдает, фотографирует пассажиров лайнера, порочных и эгоистичных, тщеславных и лицемерных, — но все же наивных, доверчивых, отзывчивых. Они играют, как в прямом, так и в переносном смысле: в день «Ч» наряжаются в траурные одежды и маски скорби — соответствуя ритуалу; заведенные весельем простые люди — бедные сербы — искренне пускаются в пляс и пение. Клоунская сущность людей занимала Феллини во многих его фильмах («Клоуны», «Восемь с половиной») — как одно из экзистенциальных начал человека. Пассажиры корабля — это просто люди, срез человечества, со всеми их грехами и достоинствами, талантами и дурачествами. То же в романе Рубиной: «клиенты» Синдиката, сами синдики — соотечественники героини — клоуны, фигляры, пересмешники, осмеянные и любимые ею. «Откуда же этот порыв любви, эта теплая волна в груди, этот спазм в горле всякий раз, когда я вижу клоуна перед толпой?»3, «Он (клоун) был — мой брат, мой жестоковыйный брат, он трижды был моим братом…»4. Еврейский текст Рубиной созвучен прозе идишистского писателя И.Б. Зингера. В его романах — «Раб», «Раскаявшийся» — также присутствует противоречивый пафос мучительного «врастания» в еврейство. «Они усердно молились, пытались разобраться в старинной казуистике, но при этом с легкостью нарушали Божьи заповеди»5 («Раб»). «Раввины и главы общин жестоко враждовали между собой. При дележе каждый старался урвать кусок пожирнее: нахапать побольше денег или занять должность 1 Рубина 2004д: 133. Рубина 2004д: 328. 3 Рубина 2004д: 322. 4 Рубина 2004д: 556. 5 Зингер 2006: 134. 2 48 повыше. <…> До Якова доходили слухи, что уполномоченные присваивают общественные деньги. Раввинов и заправил кагала нетрудно было узнать — дородные, с трясущимися животами, они ходили в шелках и соболях… <…> А во дворе перед домом общины день-деньской шатались правдоискатели — они громогласно обличали предводителей общины в воровстве… словно пророки. Предсказывали новые беды и напасти в наказание за содеянные грехи»1; «Вся Америка, все организации евреев и неевреев кричали одно: “Дай! Дай!”. Они строили здания, нанимали все больше и больше служащих, стучали на пишущих машинках, стремились к известности и популярности. У них всех была одна и та же цель: добиться успеха, не важно, строили ли они театр или иешиву2, университет или центр изучения Торы, летний лагерь или ритуальные бани. Но этот наследник старого еврейства (речь идет о старом ребе — «старомодном еврее», который не пытался «наставлять на путь истинный весь мир или даже сынов Израиля». — Э.Ш.) знал, что деньги не помогут найти и укрепить веру. Праведники из старых иешив входили в жилища единоверцев лишь для того, чтобы найти себе кусок хлеба. Великолепные здания, деловитые секретари, вечно звонящие телефоны и настырные мастера по поиску источников денег могли породить только то, что сами и представляли: шум и мелкую суету»3 («Раскаявшийся»). И если нет в сюжете «Синдиката» собственно «оправдательного» текста в адрес персонажей, участвующих в грандиозной афере, то он прочитывается в подтексте романа — вероятнее всего, этот подтекст остался незамеченным хулителями авторской позиции. Его можно «проговорить» словами зингеровского персонажа, находящегося в столь же экзистенциальной фазе, что и рубинская героиня: «Да, не все такие евреи святые. Они тоже бывают разные. Есть среди них и те, кто поступает непорядочно, гоняется за почестями и в итоге запутывается в хасидских сворах и склоках. Но даже худшие среди них не убивают, не насилуют, не защищают убийц, 1 Зингер 2006: 150–151. Иешива – высшее религиозное учебное заведение. 3 Зингер 2006а: 67–68. 2 49 не вынашивают планов уничтожения целых рас и классов и не превращают семейную жизнь в фарс»1 («Раскаявшийся»). Историко-культурная мифологема о потерянных израилевых коленах активно использована в «комиксах» «Синдиката». Колена, благодаря усердию синдиков, обнаруживаются в самых неожиданных географических точках, они абсурдно представлены в далеких от еврейства этносах: то это люди в лодке, напоминающей хейердаловский плот «Кон-Тики»2, «в которой в затылочек друг другу сидят на веслах десять мужчин»3, то обнаруженный в Ненецком автономном округе северный еврей — «Он ездит на собаках, воспитывает одиннадцать детей от двух жен, ест сырое мясо…»4. Поиск потерянных колен, или «коленный вал»5, провоцирует кампанию по сдаче крови на анализ «принадлежности к колену»6. Демоническая фигура Ноя Рувимовича Клещатика, который стоит почти за всеми начинаниями в деятельности «Синдиката», сопряженными с финансовой стороной, — одна из главных интриг и загадок в сюжете романа. С подачи Клещатика создан и укомплектован сотрудниками «тайный департамент Розыска десяти потерянных израилевых колен»7. «Клещатик обаятелен, как дьявол, улыбается, говорит душевно, убедительно…»8; «Клещатик просачивается сквозь стены, проникает гибкими пальцами дьявольского хирурга сквозь ткани мышц, вынимает сердце из груди и кошелек из желудка. Кажется, он владеет навыками гипноза, который действует на всех...»9; «…фигура трагическая, падший ангел. Мечтал 1 Зингер 2006а: 54–55. Тур Хейердал (1914–2002) – норвежский путешественник; «Кон-Тики» – плот, построенный им из бальзовых бревен по образцу древнеперуанских, на котором Хейердал с пятью спутниками совершил в 1947 г. плавание от г. Кальяо (Перу) до островов Туамоту; хранится в музее в Осло. 3 Рубина 2004д: 81. 4 Рубина 2004д: 405. 5 Рубина 2004д: 243. 6 Рубина 2004д: 266. 7 Рубина 2004д: 126. 8 Рубина 2004д: 181. 9 Рубина 2004д: 181–182. 2 50 стать новым Моисеем, Абарбанелем, а стал генеральным подрядчиком Синдиката»1. В метафорах «клещ», «спрут», которые сопровождают образ, — семантизация фамилии Клещатик, несущая негативную коннотацию: «Он знал по опыту, что купить можно всех»2. Загадочность персонажа заключена в сочетании «говорящей» фамилии и имени-отчества — Ной Рувимович. Ной (Ноах) — персонаж иудаистской мифологии, праведник, спаситель мира3, «Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред богом»4. «Однако традиционный еврейский взгляд на Ноаха тем не менее довольно суров. <…> Когда… Б-г поведал Ноаху о своем намерении затопить землю, Ноах не возражал. Он строит свой ковчег, зная, что мир вскоре будет разрушен, и явно не стремится ходатайствовать за людей. Высокая репутация Ноаха подвергается сомнению и в другом библейском рассказе, повествующем о первой в истории пьянке. Выйдя из ковчега, Ноах разводит виноградник и вскоре после этого напивается до бесчувствия»5. Рувим — также персонаж иудаистской мифологии — перворожденный сын Иакова от Лии. Нелюбимая Иаковом Лия нарекла сыну «имя: Рувим; потому что сказала она: Господь призрел на мое бедствие; ибо теперь будет любить меня муж мой»6. Рувим — невольный соучастник продажи в рабство своего брата Иосифа (сына Иакова от Рахили). Рувим, как и Ной, в мифологическом контексте фигура неоднозначная, противоречивая. Завидуя вместе с другими братьями Иосифу и косвенно участвуя в его наказании, он все же предостерегает братьев: «И сказал им Рувим: не проливайте крови; бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. <…> …и вот, нет Иосифа во рве. И разодрал он одежды свои»7. Перед смертью 1 Рубина 2004д: 553–554. Рубина 2004д: 100. 3 Аверинцев 1992а. 4 Бытие, 6:9. 5 Телушкин 2002: 16. 6 Бытие, 29:32. 7 Бытие, 37:22, 29. 2 51 отец лишает Рувима прав и привилегий перворожденного: «Рувим наставил рога Иакову и получил посмертное проклятие1»2, «ты… не будешь преимуществовать. Ибо ты взошел на ложе отца твоего; ты осквернил постель мою, взошел»3. Тем не менее Господь благословил Рувима4 за его нежелание участвовать в казни Иосифа. Его потомок — пророк Осия (Иосия) — проповедовал покаяние по всему Израилю за те непотребства, которые совершались в Содоме, Иерусалиме5: «И разрушил дома блудилищные, которые были при храме Господнем…»6. Таким образом, сцепление в имени рубинского персонажа — Ной Рувимович Клещатик — упомянутых смыслов мифологического контекста рождает сложный образ. С одной стороны, образ демонический — «Клавдий именует Ноя Рувимовича по-своему, сокращенным “Норувим” — и это странное имя, напоминающее имя какого-нибудь библейского серафима, архангела или провинившегося перед Господом падшего ангела, очень тому подходит...»7; с другой — это образ, нагруженный позитивной божественной коннотацией. С какой целью упомянута в романе ктуба8 предка Клещатика, найденная героиней в интернет-просторах (или присланная какой-то 1 Рувим переспал с рабыней Рахили и наложницей отца Валлою, матерью своих единокровных братьев. 2 Грейвс 2002: 313. 3 Бытие, 49:4. 4 В связи с библейским архетипом имени и личности Рувима в рубинском сюжете интересна параллель с романом Ф. Горенштейна «Псалом»: Иволгин Алексей Иосифович, до трусости страдающий от своего еврейства, происходит из колена Рувима – автор этот «факт», увиденный глазами пророка Дана, подчеркивает неоднократно. «Стоящий перед ним… был из колена Рувима, первенца Иакова, некогда сильного, но уже давно пришедшего в упадок, из которого немногие войдут в остаток и дадут отрасль… То, что стояло перед Антихристом, было концом, начало же ему было в египетском рабстве… <…> То, что стояло перед Антихристом в коридоре, было совершенством мерзости и зла. <…> …Выкрест, крещенный не через чистую воду, а через сладкозвучную чистую идеологию…» [Горенштейн 2001: 285–287]. 5 Грейвс 2002: 384. 6 Четвертая Книга царств, 23: 7. 7 Рубина 2004д: 181–182. 8 Ктуба – брачный контракт. 52 неведомой личностью героине, чтобы она соединила кажущееся несоединимым)? В ктубе сообщается о заключении брака между Ноем Рувимовичем Клещатиком и невестою Леей в 1837 г., при этом героиня-рассказчик напоминает читателю, что это год смерти Пушкина. А несколько ранее, при первом знакомстве и героини, и читателя с Клещатиком, тот, сидя с ней в ресторане, как бы мимоходом указывает на висящий на стене портрет Пушкина работы Кипренского, объясняя, что именно этот портрет — оригинал: «…я ведь чаще хожу обедать в “Лицей”, чем в Третьяковку, при всем моем уважении к музеям… так что мне сподручней, чтобы он висел здесь…»1. Какая связь между Пушкиным и рубинским Клещатиком? Очень отдаленная, тем не менее можно предположить, что в границах метатекста смерть Пушкина и его посмертное почитание — это метафора поступков Клещатика и его предков, поступков, полных противоречий, греховного и святого. Собственно, ничего позитивного в пространстве романа Клещатик не совершает, разве что организует круиз по восхождению евреев на историческую родину, воссозданный автором по законам карнавала. Возможно, поэтому и сам Клещатик — фигура карнавальная2: образ его, помещенный в эстетику романа-комикса, предстает травестированным, ведь изначально мифологическая семантика его имени амбивалентна. (Фрагмент сна героини: «И тут на открытую площадку выскочила тетка-кондуктор, с остервенелым лицом, с кирзовой сумой на животе, наклонилась и кулаком стала бить по моим рукам, вопя: — Азов, азов!! Двери закрываются! — Я все бежала, цепляясь за поручни, а крепкий волосатый кулак бил и бил меня по рукам. Да есть ли что-то святое у вас в душе?! — хотела я крикнуть тетке, но, подняв голову, увидела, что это Ной Рувимович колотит меня по рукам. В бешенстве 1 Рубина 2004д: 95–96. «Во всех культурах, в том числе в еврейской, есть традиции карнавала. Возьмите наш Пурим … все ходы истории Пурима, весь этот гигантский перевертыш… – один из древнейших в истории карнавальных сюжетов. …Карнавал необычайно для меня притягателен. В литературе он дает очень много возможностей для свободного выражения мысли, неожиданных поворотов сюжета и, главное, – дает возможность нацепить маску» [Рубина 2004в: 316]. 2 53 повторяя: — …пошла отсюда, дрянь, пошла из моего автобуса!!!»1.) Пусть и в карнавальной интерпретации, но Клещатик выполняет предначертанную издревле миссию — «Есть божественная логика фамильных судеб…»2. В рамках Каббалы есть учение о Гилгулим — круговороте души. Этот процесс интерпретируется в «Зогаре» не как ряд последовательных перемещений духовной субстанции из тела в тело, из поколения в поколение, а как возвращение в сферу земной жизни нереализованных до конца аспектов души, исправления прежних грехов. «В этом смысле можно говорить о постоянной реинкарнации духовного облика первого Адама, и поэтому в круговращении оказываются не только души отдельных людей, но и целые народы и эпохи»3. Неслучайна деталь в тексте ктубы предка Клещатика, не раз повторенная автором, — мантия: «За приданое я принимаю на себя и на наследников моих после меня, чтобы было уплачено со всех наилучших и прелестнейших имений и приобретений, которые есть у меня под небом… даже с мантии, что на плечах моих…»4 (старая орфография заменена на современную. — Э.Ш.). В комментариях к иудейским мифам читаем: «Говорят, что одежды, которые Бог дал Адаму и Еве, напоминали великолепное египетское полотно из Бейт-Шеана, которое само льнет к телу; а другие говорят, что одежда была из козьей шкуры или из кроличьей шкуры, или из черкесской шерсти, или из шерсти верблюда, или из змеиной чешуи5. Говорят также, что одежда Адама была, как у верховного Священнослужителя, завещанная им Сифу, который завещал ее Мафусаилу, который завещал ее Ною. Хотя ее должен был унаследовать его перворожденный сын Иафет, Ной предвидел, что Сим станет праотцом Детей Израиля, поэтому он отдал ее Симу. Сим завещал ее Аврааму, который как возлюбленный слуга Господа мог претендовать на права старшего сына; Авраам — Исааку; Исаак — Иакову. От Иакова она перешла к Рувиму, перворожденному сыну Иакова; 1 Рубина 2004д: 490. Рубина 2004д: 210. 3 Кравцов 1994: 248–249. 4 Рубина 2004д: 208. 5 У Рубиной комментарии к тексту ктубы: «…мантия… по тем временам, – недурственная шуба»: [Рубина 2004д: 210]. 2 54 и так это продолжалось, поколение за поколением, пока привилегия приносить жертвы не перешла от старшего сына дома Рувимова к Моисею, а потом к Аарону Левиту»1. По-видимому, поэтому Клещатика, представшего героине во сне, на архетипическом уровне так интересует модель мантии-плаща: «Тут сзади подсел ко мне чужой, омерзительный, зашептал на ухо жирным, доверительным голосом: — …А не могли бы вы дать адресок вашего портного? Впервые вижу такую потрясающую модель — горящие крылья!»2. (Кстати, в этом эпизоде обнаруживается и аллюзия на булгаковский текст.) Так, мантия — богоданная одежда, дошедшая до Рувима, а затем и до его потомков, — в сюжетном пространстве «Синдиката» — знак избранности, предначертанной функции, выполняемой Клещатиком с тщательностью, переходящей в фарс: «Моим предком… был дон Абарбанель3, да-да, тот самый, что бросил в Испании все свои земли, дома, виноградники… и первым взошел на корабль, уводя свой народ в изгнание… Так почему же, почему другой человек, в другое время не может собрать на совсем другом корабле… и вернуть даже тех, кто все позабыл!..»4. Поэтому Клещатика так интригует столь темная и трагическая страница еврейской истории, как потерянные колена израилевы5, трагическая до такой степени, что способна превратиться в комическую: «Чем, в конце концов, “Ритуал” хуже Синдиката?..»6. Таким образом, перед нами перифраз — классический случай похоронной обрядности, травестируемой в карнавал. Исторически трагическая тема восхождения укладывается в комикс, как и «вся наша жизнь, с ее страстями, драмами, пылкими и робкими движениями души...»7. 1 Грейвс 2002: 112. Рубина 2004д: 168. 3 Дон Ицхак Абрабанель (1437–1508) – автор философских трудов, комментатор Библии, министр финансов испанского короля Фердинанда и королевы Изабеллы. Разделил судьбу евреев, изгнанных из Испании по королевскому указу 1492 г., подготовленному под давлением главы испанской инквизиции Фомы Торквемады [Телушкин 2002: 154–156]. 4 Рубина 2004д: 532. 5 Рубина 2004д: 96. 6 Рубина 2004д: 207. 7 Рубина 2004д: 62. 2 55 Сакральное «подпространство» То хорошее, что появилось в мире, совершено не добрыми людьми, а пророками — врачевателями и гениями, — накопителями духовных богатств. Горечь правды лечит мир, беспощадное прозрение гения, но не доброта1. Фридрих Горенштейн. «Псалом» Структура карнавала, или романа-комикса, предполагает дуалистическое поле с временной заменой общепринятых знаков культуры повседневности — что мы и наблюдали в профанном «подпространстве». Однако дуализм в картине мира представлен в романе «Синдикат» и на ином уровне: профанному «подпространству» противостоит сакральное. Скорее всего, именно в его недрах и продекларирована авторская позиция. Она выражена в ряде повествовательно-смысловых элементов сюжета: во-первых, это «электронный» текст, подписанный именем Azaria; во-вторых, это фрагменты сюжета, связанные с различными религиями; в этих сюжетных маргиналиях заключена мировоззренческая (экзистенциальная) позиция автора; в-третьих, в сакральном «подпространстве» романа прочитывается мировой мейнстрим: как традиции русской классики, не без влияния которой сложился потенциал Рубинойписателя, так и мировой еврейской литературы, в контексте которой «заговорила» Дина Рубина с начала 1990-х гг. 1. Мудрец/Учитель в еврейской ментальности занимает привилегированное положение: «Мудрец важнее царя израильского: умрет мудрец — нет ему замены, а на царство годится любой израильтянин»2. Еврейская традиция, восходящая к Талмуду, гласит, что «мир держится на присутствии в нем 36 цадиков»3, то есть праведников, о том же и афоризмы Агады: «Грейся у огня мудрецов», «Мудрец лучше пророка» и проч.4, о том же и еврейские фольклорные сказки. Личности и биографии реальных мудрецов, имена которых сохранены Агадой, Устной Торой, письменным памятником «Зогар», мифологизированы — многие мудрецы разных поколений носили одинаковые имена. До сих пор в иудаике не 1 Горенштейн 2001: 415. Агада 1999: 363. 3 Телушкин 2002: 442. 4 Агада 1999: 363–364. 2 56 прекращаются споры по поводу авторства «Зогара»: раби Шимон, раби Моше де Лион1 или кто-то другой? Да это и не столь важно — евреи на протяжении веков спокойно относились к проблеме авторства сакральных текстов, присваивая многим имя первого упомянутого в них мудреца2. Важно то, что остались мудрые тексты, которые занимают в еврейской ментальности и повседневности сакральное место. В архаической картине мира евреев героями, лидерами представляются не воины, не цари, а Учителя/ мудрецы. Именно эту особенность еврейского менталитета воспроизводит Рубина в построении сюжета романа «Синдикат». Итак, «электронный» текст в романе принадлежит пророку Azaria. Полный нравоучительного пафоса, библейских реминисценций и прямой цитации пророков/Учителей, этот повествовательный пласт романа представляет нетленный метатекст — он обличает, предупреждает, вразумляет. Имя Azaria встречается в библейском тексте как минимум в двух сюжетах: 1) Шестнадцатилетний Азария (Озия), сын царя Иудейского Амасии, воцарился по смерти отца на его престоле, совершая угодные Богу дела. Но народ его продолжал грешить — поклоняться идолам. «И поразил Господь царя, и был он прокаженным до дня смерти своей»3; 2) Царь Вавилонский Навуходоносор, пленивший Иерусалим и разрушивший Храм, призвал к себе служить сынов израилевых: Даниила, Анания, Михаила и Азарию, переименовав их соответственно в Вальтасара, Седраха, Мисаха и Авденаго. Царь повелел подданным изготовить золотого истукана (в соответствии со сном, разгаданным Даниилом) и поклоняться ему. Но сыны израилевы не поклонились, за что были брошены в печь (Ананий, Михаил и Азария). Сгорели те, кто раздувал огонь, но израильтян пламя не тронуло — с ними в печи появился четвертый, то был Ангел, посланный им Богом во спасение. Тогда Навуходоносор уверовал в Бога израильтян4. Раби5 Азария упоминается и в Агаде — в библейском/талмудическом нарративе: «Невухаднецар сделал идола и заставил троих человек от каждого покоренного им народа поклоняться этому идолу. 1 Существует разное написание имени этого испанского раввина: Моше де Леон (Телушкин 2002), Моше де-Лион (Кравцов 1994). 2 Кравцов 1994: 217. 3 Четвертая книга царств, 14:21, 15:1–7. 4 Даниил, 1–3. 5 Раби – титул еврейского мудреца в земле Израиль. 57 От Израиля были избраны Ханания, Михаэль и Азария. Они не хотели поклоняться идолу и обратились к Даниэлю с вопросом, как им быть. Он отослал их к пророку Йехезкелю. Йехезкель привел им слова Йешаягу, своего учителя: Спрячься лишь на мгновение, пока не пройдет гнев (Йешаягу 26:20). Они спросили его: “Чего ты хочешь? Чтобы они сказали, что Израиль, как все народы, поклонился идолу?” Он ответил: “Чего вы хотите?” Они ответили: “Мы хотим развенчать идола, не поклонившись ему, чтобы люди сказали, что все народы поклонились идолу, кроме Израиля”. Он сказал: “Если вы так считаете, подождите, я спрошу Господа”. И он сказал Всевышнему: “Эти люди хотят отдать свою жизнь ради освящения Твоего имени. Ты поддержишь их или нет?” Он ответил: “Нет, не буду”, ибо сказано: Не вопросить ли меня вы пришли? Жив Я, если откликнусь вам… (Йехезкель 20:3). “Вы заставили Меня сжечь Мой Храм и рассеять Моих сыновей среди других народов, и после этого приходите вопрошать Меня. Не откликнусь на ваш призыв”. Тогда опечалился Йехезкель и сказал: “Горе тебе, Израиль, последние из колена Йегуды потеряны”. И заплакал он. Когда вернулся он к ним, они спросили его: “Что сказал тебе Всевышний?” Он ответил: “Он не поддержит вас”. Они сказали: “Поддержит Он нас или нет, мы все равно не поклонимся идолу” (Даниэль 3:17, 18). И такой ответ они дали Невухаднецару. Когда они покинули Йехезкеля, открылся ему Всевышний и сказал: “Неужели ты думаешь, что Я не поддержу их? Разумеется, Я буду с ними, ибо сказано: Я откликнусь (на то, что молил) дом Израиля сделать для него (Йехезкель 36:37). Тем не менее пусть они идут своим путем, не говори им ничего обо Мне. Я позволю им самим пройти в их праведности и чистоте, ибо сказано: Идущий праведными путями спасется”. Что сделали эти люди? Они рассеялись в толпе и оттуда повторили свой вызов Невухаднецару»1. В названных источниках речь идет не об одной личности (кроме второго и третьего примера, повествующих об одном сюжете), однако для концепции рубинского романа, как нам представляется, важен именно факт, что Azaria — Богу угодная личность, пророк, противник идолопоклонничества — с вытекающими отсюда сентенциями. Имя Азарий в переводе с древнееврейского означает «помощь Божья». «Любя людей вообще, он порою склонен мучительно переживать человеческое несовершенство, как чужое, 1 Агада 1999: 185–186. 58 так и свое собственное. <…> Но вот в чем трудно отказать Азарию — так это в его искренности»1. Авторы древнееврейской письменности — их принято называть собирательным именем «хазаль» — аббревиатура, имеющая на иврите смысл: «Наши мудрецы, пусть будет благословенна их память», или «мудрецы Талмуда», — оставили еврейской культуре, народу тексты, значимость которых не стирается временем2. Azaria — из этого ряда мудрецов. В сюжете романа Рубиной он — неопознанный субъект, «странный тип»3, ничего не требующий, апокалиптически предсказывающий, он «горестно сообщал о жертвах новых терактов, обличал безобразия в самых разных областях жизни Израиля и России, размышлял над истоками нынешних бед нашего народа и даже пророчествовал, цитируя священные тексты»4. Электронные пророчества Azaria — главная интрига романа. Героиня ведет расследование — спрашивает своих коллег, знакомых: где трудится Azaria? Находясь в Израиле, все время вспоминает, что надо бы спросить в главном департаменте — Долине призраков, кто такой Azaria, но неведомая таинственная сила всегда препятствует этому — и не случайно. Увидев профессора Бакста, критикующего политику Израиля, героиня строит догадки: «Черт возьми, думала я, а может, он и есть — Азария?»5. Услышав Ефима Кашгарского, критикующего американскую политику в Израиле, героиня строит новую версию: «А я подумала — не эта ли тошнотворная рожа вот уже два года шлет мне обличительные письма под библейским псевдонимом?»6. В целом отношение к пророку и его пророчествам у героини и ее единомышленника Яши позитивное: «Во дает! — подумала я с удовольствием»7; «Да… Сильно, ничего не скажешь. И точно. Представляешь, как его допекли?»8; «…мы с Яшей решили, что это какой-нибудь прохожий правдолюбец, ненавистник Синдиката…»9. 1 См.: [Азарий]. Агада 1999: 365. 3 Рубина 2004д: 149. 4 Рубина 2004д: 122. 5 Рубина 2004д: 387. 6 Рубина 2004д: 404. 7 Рубина 2004д: 123. 8 Рубина 2004д: 124. 9 Рубина 2004д: 124. 2 59 В том же виртуальном мире (только не по e-mail, а по телефону) обитает некто Ревердатто — псих, который тоже как бы «существовал в параллельном мире»1, — может быть, он — Azaria? И почему письма посылаются только героине, почему псих звонит именно ей? Не выступает ли текст Azaria ответом на весь концепт Синдиката? Возможно, Azaria — это сам автор, материализация его кредо, его морально-нравственной позиции? И, собственно, интрига с именем Azaria заключена в том, что вовсе не надо искать эту личность. В «Зогаре» есть тождественная рубинской ситуация: «Сказали ему: — Кто ты? Сказал им: — Не спрашивайте: кто я. Ведь я и вы, мы вместе, идем и занимаемся Торой, и каждый говорит слова мудрости, чтобы осветить путь. <…> — Если ты откроешь имя твоего отца, то мы поцелуем прах у ног твоих. Сказал им: — К чему это?»2. 2. Позиция автора романа в виртуальном диалоге между синдиками и Azaria нам видится вне религии. Между тем в сюжете упомянуты разные конфессии: буддизм, христианство, ислам, иудаизм. Ироничные, комичные комментарии автора к ним носят маргинальный характер. Но тем не менее. Комичны до сарказма фрагменты, связанные с корпоративной борьбой вокруг трех главных раввинов России. Водитель героини рассказывает ей о промысле современных городских попрошаек, собирающих «на храм»: «Видел я однажды такую монахиню после рабочего дня. Сидит за рулем машины, соток свой перекинула на заднее сиденье, плат сдвинула на затылок… <…> У них своя иерархия, свои законы, своя элита… Это целый… целый… — Синдикат, — подсказала я Славе… <…> А однажды, помню, забрел к нам в монастырь настоящий юродивый. Как есть юродивый: ободранный, вшивый, побитый, мочой от него — за версту, пророчества выкрикивает, глаза горят, ну, и прочие прямые признаки. Прямо Исайя, не приведи Господь! Казалось бы — примите с почестями. Ведь это ж божий человек, а? Бац, — телефонный звонок от Главного: кто это, мол, братцы, колбасится там у ворот? Только бомжей нам тут не хватало! Ну-к, заломите его и дайте такого пенделя, чтоб дорогу сюда забыл…»3 — христианский 1 Рубина 2004д: 451. Зогар: 114–115. 3 Рубина 2004д: 114–115. 2 60 священник гонит от ворот храма юродивого. Аналогичная сцена у Феллини («И корабль плывет…»): монахиня, обедая с богатой публикой, отмахивается от голодных сербов-попрошаек, подобно рубинскому священнику: «Божественное провидение позаботится о них». Ритуально-сакрального пиетета нет; о ком бы ни говорила героиня, — об иудеях, христианах, буддистах, — есть иное, на наш взгляд, главное: «И поняла, что переношу на этих людей те мои привычки и принципы, коими руководствуюсь в частной жизни. Мой дед всегда говорил мне — если человек просит, надо дать. <…> Все дело во врожденном чувстве высшей субординации, когда ты знаешь, что любой человек, возникший на твоем пороге или подошедший к тебе на улице, — это не случайность, а посланец»1. У Дины Рубиной устойчивое отношение к просителям как к посланцам: в рассказе «Терновник», еще советской поры, есть микросюжет, где герой — мальчик — с матерью всегда наделяют нищего просителя двугривенным. «А почему он деньги просит? <…> — Не может заработать! Понимаешь?! Бывает так. Сил нет у человека. Нет сил ни заработать, ни жить на свете. Может, горе было большое, война, может, еще что… Спился! Сломался… Нет сил…»2. Сцена повторяется — но мальчик уже с отцом: «Папа! Дай деньгу! — Зачем? — спросил отец. — Я нищему подам! — Этого еще не хватало — алкоголиков поить! — А мы с Мариной всегда подаем, — сказал мальчик и пожалел, что сказал. <…> — Узнаю село родное… — пробормотал отец сквозь зубы»3. Сакральное, но глубоко потаенное отношение к просителю подчеркнуто деталью — терновником, который «тянул к самой решетке окна свою скрюченную руку с корявыми пальцами, как тот нищий… »4. «Вот дерево терновник. Очень древнее дерево. Колючки видишь? Это тернии. Из таких колючек люди однажды сплели венок и надели на голову одному человеку… — За что? — испугался он. — А непонятно… До сих пор непонятно… <…> А как его звали? — спросил он. <…> — Иисус Христос…»5. Ситуация повторяется в рассказе «Белый 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 2 2004д: 75. 2002: 67. 2002: 90. 2002: 65. 2002: 65. 61 осел в ожидании Спасителя», в котором рассказчица, при виде человека, облик и топос обитания которого вписывался в фигуру просителя, тянется рукой к деньгам, чтобы дать: «Если человек просит, говорил мой папа, надо дать. На сей счет выучка у меня железная»1. Одной из интриг романа «Синдикат», распутываемой читателем, представляется позиция героини (вслед за ней и автора) в отношении к религии. Схема биографии героини — ее восхождение, работа в организации по восхождению — предполагает безоговорочное иудейство. Но не все так просто. Вроде бы читатель определился с героиней — и вдруг эскапада в адрес соотечественников, отправителей культа. И «поймать» автора трудно. Персонажу — Марине Москвиной — звонит сотрудник радиостанции «Святое распятие», сын Марины сообщает ей: «Звонил какой-то радиохмырь… <…> какое-то название подозрительное. То ли “Христос воскрес!”, то ли “Бей жидов!”… — Это одно и то же… сказала Марина…»2. Позиция рассказчика, казалось бы, однозначна. Но есть фрагменты в романе, исполненные восхищения христианским священником Сергеем Коноплянниковым, который оказался выше амбиций раввинов: «А я, вы знаете, дорогая сестра, сегодня намерен покаяться перед еврейским народом. За позицию нашей церкви во время всей этой неслыханной трагедии. Да, покаяться, покаяться!!!»3. Есть и альтруист Павлик из христианской «Твердыни веры», день и ночь разыскивающий евреев по просторам России. Фанатизм, ритуальный кретинизм чужд героине (и автору) — она негодует или уважает людей вне их связи с различными культами. Например, персонажи, позиционирующие себя как христиане, представлены разными, так как человека «делает» не религия, а что-то другое: широта взглядов, терпимость к инакомыслию, незашоренность — словом, то, что в обыденной жизни называют человечностью, в противовес схеме, формуле какого-либо учения: «Ведь когда воскрес Господь наш, Иисус Христос…<…> — Дорогой мой, все это прекрасно… Вы не думайте, я (Марина Москвина, персонаж романа. — Э.Ш.) очень рада, что он воскрес, вообще, я очень за вас рада и желаю вам огромных успехов… сама я, правда, придержи1 Рубина 2007а: 284. Рубина 2004д: 492. 3 Рубина 2004д: 304. 2 62 ваюсь буддийской веры…»1. Когда Марина Москвина оказалась на радиостанции «Святое распятие», испугав ревнителя веры «сатанинскими» штучками — шофаром2, там-тамом, ослиной челюстью, она произнесла сакраментальную фразу, в которой, по-видимому, суть позиции автора: «Ну, поехали, Костя… мы с вами профессионалы, и работать должны при любой погоде… <…> — При любой погоде, и в любых храмах любой веры…»3 (курсив мой. — Э.Ш.). О том же, другими словами, повествуется в «Детях Ноя» Э.-Э. Шмитта: христианский священник отец Понс с уважением (а это может стоить ему жизни) относится к религиям как сакральному тексту человечества. Ряд повестей Шмитта («Дети Ноя», «Мсье Ибрагим и цветы Корана», «Оскар и Розовая дама») построены на пересечении вопросов: Бог есть? Или Бога нет? Чей Бог истинный: христианский, мусульманский, иудейский? История человечества и современность преподносят множество сюжетов, когда, сделав выбор в пользу «того или иного» Бога, люди творят «не ведая что». Еврейский мальчик Моисей, персонаж шмиттовской повести, подружившись с суфием Ибрагимом, усыновленный им, заключает: «Благодаря мсье Ибрагиму я стал понимать, что евреи, мусульмане и даже христиане имели кучу общих великих предков еще до того, как начали бить друг друга по морде»4. Моисей в сюжете повести становится «местным Арабом», заменив мсье Ибрагима. А в метатексте литературного пространства он оказывается символической фигурой, примирившей столь враждебные в культурной повседневности ментальности — иудейскую и мусульманскую. Сам же Шмитт как писатель представляется в роли Ноя, уважительно, с любовью, иронией, добрым юмором создавая гуманистически уважительное поле сосуществования разноконфессиональных и разноэтнических ментальностей. В повести Рубиной «Холодная весна в Провансе» цитируются письма Винсента Ван Гога брату, Тео Ван Гогу. В этом эпистолярном тексте есть слова, которые в пространстве прозы Рубиной — в полирелигиозном метатексте — воспринимаются метафорически, — о вечных гонителях и вечных жертвах: «…Врачи говорят нам, что не только Мои1 Рубина 2004д: 494. Шофар – бараний рог, в который трубят в Рош ха-Шана (Новый год, осенью) и на исходе Йом Кипура (Судный день, осенью). 3 Рубина 2004д: 498. 4 Шмитт 2005б: 281. 2 63 сей, Магомет, Христос, Лютер, Бэньян, но и Франс Хальс, Рембрандт, Делакруа, а заодно старые добрые женщины, ограниченные, как наша мать, были сумасшедшими. И тут встает серьезный вопрос, который следовало бы задать врачам: а кто же из людей тогда нормален? Быть может, вышибалы публичных домов — они ведь всегда правы?»1. В сюжете рубинского романа дружат героиня, выступающая с позиций иудаизма, и Марина Москвина, нашедшая свою нишу в буддизме, — никто никому ничего не навязывает, в отличие от бесконечных голосов, звонящих в «Синдикат»: «Вы хотите сказать, что не верите в Спасителя? — Почему же, в Спасителя — верим, — сухо проговорил он (Яша). — Но насчет предлагаемой вами кандидатуры как-то сомневаемся… — Вы сомневаетесь, что он уже пришел?!»2. Гносеологическую позицию Рубиной можно озвучить словами шмиттовского персонажа: «Жозеф, ты хочешь знать, какая из двух религий истинная? Да никакая! Религия не бывает ни истинной, ни ложной, она просто предлагает определенный образ жизни»3. Эта позиция характерна для романов «Синдикат», «Вот идет Мессия!» и других произведений Рубиной. «Но при чем тут такая зыбкая во все времена категория как нравственность (и религия. — Э.Ш.) в борьбе за власть какую-никакую?»4. Финал романа Л. Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик» — плод долгих сюжетных поисков автором нравственного, религиозного «алгоритма» — близок рубинской позиции: «Чего хочет Господь? Послушания? Сотрудничества? Самоуничтожения народов? Я полностью отказалась от оценок. В душе я чувствую, что прожила важный урок с Даниэлем, а когда пытаюсь определить, что такого важного узнала, весь урок сводится к тому, что совершенно не имеет значения, во что ты веруешь, а значение имеет только твое личное поведение. Тоже мне, великая мудрость. Но Даниэль положил мне это прямо в сердце»5 (курсив мой. — Э.Ш.). 3. Интенция замысла романа «Синдикат» совпадает с Божественными заповедями, не в их ритуальной семантике, а в этических и социальных предписаниях. В еврейском литературном контексте послания рубинского Azaria по своему пафосу наиболее совпадают с «Раскаявшимся» И.Б. Зингера. В свою очередь, в романе Зингера 1 Рубина 2005а: 200. Рубина 2004д: 372. 3 Шмитт 2005а: 354. 4 Рубина 2004д: 187. 5 Улицкая 2006: 501. 2 64 ощутимо созвучие с толстовским «Воскресением» — такова цепь литературной традиции. Да и главные ключевые слова этих трех текстов тождественны: восхождение — раскаяние — воскресение.12 «Раскаявшийся» «Синдикат» «Безумие политики охватило даже так называемых ортодоксальных евреев. А алчность! Посмотрите ортодоксальную прессу: там же в каждой строчке одно и то же: “Дайте нам денег!” Им нужны миллионы на строительство иешив, для поддержки — как они это называют — еврейства. Вранье! Большие иешивы, просторные классы, хорошая еда, экзамены — все это одна видимость. Ортодоксальные колледжи и университеты в Америке учат молодых людей не столько Торе, сколько гоишкайту, то есть нееврейству»1. «Лжецы и лицемеры, преследующие лишь свои низменные цели, они делают вид, что пекутся о пользе страны — не верьте ехиднам! — верховные народа этого пекутся лишь о себе, о своей мошне, о своих удовольствиях. В страхе они просыпаются по ночам, трясясь за свое будущее... Запускают загребущие руки свои по локоть в государственную казну и беспрестанно лгут, блудят и подличают! Заключают они пари и играют, играют в подпольных казино, делают ставки... Не чтят они святых своих книг, не помнят слов пророка Ехизкиеля...»2. Между этими столь далекими друг от друга во времени и пространстве текстами существует некая метафизическая связь, «материализовавшаяся» в такой знаковой художественной детали, как зубы:3456 «Раскаявшийся» Зингера «У меня выпадают зубы, но новые я не вставляю. Зачем? Мне это не нужно, я ведь и не хочу, и не стремлюсь кого-то прельстить. У моей жены тоже не все зубы, но это не делает слабее мою любовь и не толкает меня на измену»3. «Синдикат» Рубиной «...Отец Сергей был... вполне светским, интеллигентным человеком. Он даже иврит немного знал.... Единственно, что всегда смущало в разговоре с ним, — явная нехватка у него зубов. Но и это лишь говорило о его весьма скудном жалованье и бесконечной порядочности»4. 1 Зингер 2006а: 178. Рубина 2004д: 149–150. 3 Зингер 2006а: 177. 4 Рубина 2004д: 304. 5 Толстой 1928–1958: 12. 6 Толстой 1928–1958: 90. 2 65 «Воскресение» Толстого «Там он (Нехлюдов) вычистил особенным порошком пломбированные во многих местах зубы, выполоскал их душистым полосканьем, потом стал со всех сторон мыться и вытираться разными полотенцами»5. «Садитесь, мы еще только за рыбой, — с трудом и осторожно жуя вставными зубами, проговорил старик Корчагин…»6. Толстой, подробно описывая пломбированные/протезированные зубы своих персонажей, обличает не собственно зубы как деталь облика и не заботу об этих зубах, а сам уклад жизни: пломбированные зубы противопоставлены наполовину съеденным зубам старухи-крестьянки1. Путь к спасению, воскресению Толстой видит в самосовершенствовании, в отказе от земных благ, в предпочтении всего духовного всему материальному и чувственному. Поэтому писатель фокусирует свое внимание на том моменте жизни Нехлюдова, когда тот прозревает, начинает сознавать ложь, гнусность своей жизни. Момент внутреннего просветления становится центром сюжета романа «Воскресение». В финале Нехлюдов в номере гостиницы обращается к чтению Евангелия, где излагаются заповеди. Видимо, они и должны были дать ответ на вопрос — как изменить жизнь? Таким образом, Толстой надеялся на нравственное совершенствование, так как видел дефицит добра в людях. Заповеди в данном контексте надо принимать как нравственный призыв. В романе Рубиной как такового воскресения или раскаяния нет — но есть пафос, призыв, заложенный ее литературными предшественниками. Именно он и созвучен раскаянию зингеровского Йосефа Шапиро, воскресению толстовского Дмитрия Нехлюдова. 1 Интересна семиотика вставных зубов, «нагруженных» негативной коннотацией, как деталь портрета. Вот для сравнения два портрета — рубинского персонажа и горенштейновского: Горенштейн «Тогда открыл Алексей Иосифович рот, показав зубы, изрядно пожевавшие русского хлеба и украинской колбасы… Сочетание золотых коронок впереди, хромированных зубных мостов по бокам и светло-кофейной кости в промежутке… Сюда, за службу верой и правдой народу-хозяину, как он считал, награждается хороший еврей едой и питьем и воздухом для дыхания… Не на грудь главная награда, а в рот, между зубов» [Горенштейн 2001: 288]. 66 Рубина «Что-то у нее было с верхней губой, она не смыкалась с нижней, поэтому тусклая золотая подкова во рту желтела неугасимо» [Рубина 2002: 114] («Уроки музыки»); «…и полился страстно-визгливый монолог на все том же восточном языке, монолог, подсвеченный тусклым сиянием золотых зубов» [Рубина 2002: 139]. «Воскресение» «И с Нехлюдовым случилось то, что часто случается с людьми, живущими духовной жизнью. <…> Так выяснилась ему теперь мысль о том, что единственное и несомненное средство спасения от того ужасного зла, от которого страдают люди, состояло только в том, чтобы люди признавали себя всегда виноватыми перед богом и потому не способными ни наказывать, ни исправлять других людей1. <…> Ищите царства божия и правды его, а остальное приложится вам <…> С этой ночи началась для Нехлюдова совсем новая жизнь…»2. «Раскаявшийся» «Той ночью я окончательно решил не только порвать с этой культурой, которая порождает и узаконивает зло и фальшь, но и повернуться к ее прот и вополож но с т и. <…> Малейший компромисс с языческой культурой нашего времени неизбежно затягивает тебя в мир зла, мир убийства, идолопоклонничества и разврата»3. «Синдикат» «И меня озарило (курсив мой. — Э.Ш.): торопясь, я стала открывать его письма одно за другим, по датам, за все эти годы, — открывала их и вытягивала в один файл, в один длинный свиток, похожий на те пергаментные свитки из шкур не родившихся телят, что по-прежнему, как и тысячи лет назад, распяливают и дубят… и выбеливают мои упрямые соплеменники, чтобы затем вписать в них кристально твердою рукою святые пророчества, послания в будущее — неизвестное, всегда неблагодарное будущее, которое все-таки помнит и передает эти жестокие пророчества дальше, не меняя ни буквы, выводя их на нежной телячьей коже кристально твердой рукой…»4. Сарказм Льва Толстого по поводу религиозных ритуалов и ритуального лицемерия совпадает с иронией Зингера и Рубиной: 1234 1 Рубина 2004д: 573. Слова Толстого созвучны с древним текстом еврейской Агады: «По соседству с раби Йегошуа Бен Леви жил еретик, который очень досаждал ему. Раби Йегошуа взял петуха, привязал его за ногу к кровати и подумал: “Когда гребень петуха побелеет, – а это час, когда Господь наказывает грешников, – я прокляну еретика”. Но когда этот час настал, он заснул. А когда проснулся, то подумал: “Это учит, что нехорошо проклинать даже еретика, ибо сказано: Карать нехорошо праведнику, и еще написано: “Даже еретика нельзя проклинать”» [Агада 1999: 147]. 3 Толстой 1928–1958: 441–444. 4 Зингер 2006а: 126. 2 67 «Воскресение» «И никому из присутствующих… не приходило в голову, что тот самый Иисус, имя которого со свистом такое бесчисленное число раз повторял священник, всякими странными словами восхваляя его, запретил именно все то, что делалось здесь… <…> Священник с спокойной совестью делал все то, что он делал, потому что с детства был воспитан на том, что это единственная истинная вера, в которую верили все прежде жившие святые люди и теперь верят духовное и светское начальство. <…> Главное же, утверждало его в этой вере то, что за исполнение треб этой веры он восемнадцать лет уже получал доходы, на которые содержал свою семью, сына в гимназии, дочь в духовном училище»1. «Раб» «Яков раскрыл П я т ик ни ж ие, перевел ей место, где черным по белому написано об… прегрешениях, и пояснил, что сказано в Талмуде. <…> Сара спросила: — Почему одни евреи выполняют заповеди, а другие — нет? <…> — Так было всегда. Из-за этого и Храм разрушен, и пророки сокрушались. Евреи приносили жертвы, но обирали сирот и вдов. Им легче не есть свинину, чем удерживаться от злословия»2. 123 «Синдикат» «Главный раввин России Залман Козлоброд говорил притчами. <…> … паства ему внимала, тем более что на этом подворье паству подкармливали… Главный раввин России Манфред Колотушкин говорил… умирающим голосом… С первого же слова видно было, что ему осточертело все: евреи, их праздники, их синагоги, все их сто восемьдесят семь организаций. <…> Главный раввин России Мотя Гармидер плевал на все их разборки густой слюной, потому что финансировалась его организация Щадящего иудаизма прямиком из Америки…»3. Героиня Рубиной дважды повторяет слова «Кристально твердой рукой» — в первый раз, говоря о своих соплеменниках, живших тысячи лет назад, и во второй раз — говоря о себе. Она продолжает: «…я вытянула все его письма в одно: отформатировала страницы, набрала на титуле: “Послание Азарии, год — 5764”…»4, — тем самым вменив себе эстафету народа Книги и подчеркнув для читателя тот древний, вечный, не1 Толстой 1928–1958: 137–138. Зингер 2006: 188–189. 3 Рубина 2004д: 185–186. 4 Рубина 2004д: 573. 2 68 преходящий смысл пророчеств, ради которых и писался роман. В финальной сцене рубинского повествования — роде апофеоза — все хоть раз упомянутые персонажи, главные и проходные, сюжетные и внесюжетные, живые и мертвые, восходят на корабль, так как речь идет не об обыденном переселении, а именно об Исходе — о «собирании рассеянных». Поэтому так значимо для еврейской литературы собирание не только живых, но и убитых и замученных, которые восстанут из пепла по приходе Мессии. Их сопровождают львы, которые, согласно мифологической семантике, представляются стражами у входа — в данном случае у врат Иерусалима: «Наш золотой утренний лев сидел на углу Агриппас, сторожа врата улицы с именем последнего еврейского царя…»1. Лев в иудаизме связан с семантикой смерти и спасения, а значит — с Мессией2. Куда выплывет корабль с восходящими? И выплывет ли? Феллиниевский Орландо в начале круиза вопрошает: «А кто знает, что там может случиться?» В сюжете Феллини случилось чудо — кто-то спасся (в том числе и Орландо с носорогом). В рубинском сюжете — читателю предоставлена возможность догадываться: уповать на время, случай. Иерусалим в ожидании времени «Ч» — в ожидании сбора всех и вся по приходе Спасителя — от праздника к празднику «репетирует» будущее действо. Созвучна с финалом «Синдиката» сцена другого рубинского повествования с характерным ситуативным заглавием — «Белый осел в ожидании Спасителя»: «Внизу в Археологическом парке полным ходом шло ханукальное представление: артисты в костюмах времен первого Храма представляли бодрую и краткую, как курс марксизма, историю победы Маккавеев над проклятым Антиохом. Судя по исторической небрежности в костюмах и довольно кустарному исполнению, это были студенты местной театральной школы, нанятые на праздники муниципалитетом. Великолепны были только два огромных витых ритуальных рога, в которые время от времени трубили два обалдуя, переодетые пастухами. Ребята, видимо, не жаловались на здоровье, и трубные звуки, извлекаемые ими из шофаров, пронзали слух городского человека тревожным пастушьим зовом древности»3 1 Рубина 2004д: 551. Тресиддер 1999: 190. 3 Рубина 2007а: 316–317. 2 69 Европейский текст в прозе Рубиной Поколения евреев бежали от инквизиторов, палачей, виселиц, костров. И попадали в лапы других врагов, других инквизиторов — на те же виселицы, те же костры. Слава Богу, я дожил до того времени, когда евреи все же обрели собственный дом1. Исаак Зингер. «Раскаявшийся» Эшелон уходит ровно в полночь, Эшелон уходит прямо в рай, Как мечтает поскорее сволочь Донести, что Польша «юденфрай». «Юденфрай» Варшава, Познань, Краков, Весь протекторат из края в край В черной чертовне паучьих знаков Ныне и вовеки — «юденфрай»!2 Александр Галич. «Кадиш» Героиню-рассказчика Рубиной, оказавшуюся в эмиграции, отличает страсть к путешествиям: Испания, Германия, Италия, Голландия, Франция, — она едет туда, будучи «навеки ужаленной Европой»3. Помимо красот и достопримечательностей, взгляд повествователя фокусируется на следе еврейства в европейском пространстве, на «уничтоженном мире европейского еврейства», который, возможно, и есть та часть потерянных колен израилевых, которые так рьяно отыскивают синдики4. Везде, в любой географической точке, сознание героини работает как семантическая вселенная еврейского народа — с его историей, обидами, потерями. Героиня и ругает себя, и сетует по поводу своей неуспокоенности, неспособности выйти из многовекового ритма: «Ибо никому из нас еще не удавалось вырваться из круга своего родового сна, даже если в этой земной жизни 1 Зингер 2006а: 76. Галич 1977: 288. 3 Рубина 2004д: 459. 4 Рубина 2004д: 462. 2 70 он тебя не беспокоит»1 («Воскресная месса в Толедо»), «в который раз ощутила этот горб, не дающий разогнуться, эту память, которую отшибить невозможно, ибо она не в голове даже, а в токе крови, в тоннах прокачиваемой моим сердцем крови…»2 («Коксинель»). Путешествуя по Испании («Воскресная месса в Толедо»), героиня, как свою боль, ощущает гонения и уничтожение предков, тем более что по семейным преданиям ее род происходит из Испании, куда она отправляется по истечении срока — в пятьсот лет — старинного постановления раввинов о запрете посещать эту проклятую землю3. Давний, с детских времен, сон, в котором героиня бегала босиком по базарной площади одного из испанских городов, вымощенной своеобразной кладкой, не дает ей покоя. От города к городу по земле Испании героиня смотрит вниз: она ищет ту самую кладку — она ищет своих давних-недавних предков. И везде задается вопросом: смогла бы жить здесь, на земле предков? Нет, не смогла, слишком свежи и жестоки воспоминания, даже все достопримечательности Испании, в основном связанные с христианскими святыми, — приманка для туристов — не вызывают в ней традиционного и ставшего общим местом в туристическом дискурсе восхищения, потому что — «Подумать только, что спустя каких-нибудь два века приверженцы этих кротких, умильных святых станут сжигать моих предков за то, что те не захотят перейти в их светлую, радостную веру… Три с половиной века на площадях Испании будет колыхать пламя костров, и вонь паленой человечины пропитает само небо над святейшими соборами и церквами…»4. Испания обрушилась на героиню трагической историей предков, и потому она не может быть домом: «Она не была домашней. Она не была нашей. Она изгнала меня за пять веков до моего рождения»5. Она сжигала на кострах инквизиции сотни тысяч евреев лишь 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 2 2002б: 238. 2005: 129. 2002б: 194. 2002б: 197. 2002б: 202. 71 за то, что в субботние дни не поднимался над крышей их домов печной дым, за нарядное платье, надетое в субботу1. Оттого ли так много красных маков в Испании — целые поля — не кровь ли это предков героини?2 Да и другие «знаки» Испании переосмысливаются рассказчиком в том же ключе — национальном, памятью своего народа: – название города Гранада, которое происходит от еврейского квартала “Гарнатха Аль Яхуд”»3; – имена — гордость Испании — Колумб, Эль Греко, Веласкес, о принадлежности которых к еврейству история таинственно и стыдливо умалчивает. «Чего ждали евреи и марраны, измученные погромами, гонениями и кострами, от экспедиции Колумба?». Они жили надеждой-фантомом — легендой о пропавших десяти израилевых коленах, которые осели в разных землях и странах. «Планы Колумба отражали сокровенные мечты иудеев…»4, потому что Колумб думал, как помочь себе и своему народу — еврейскому народу. (В романе «Синдикат» есть аллюзия на этот счет: по поводу снаряженного для восхождения корабля Аркаша Вязнин — американец — бросает реплику: «По-моему, это какая-то афера…», — на что героиня замечает: «…не большая, чем экспедиция вашего Колумба», Вязнин поправляет: «Вашего Колумба!»5.); – испанцы-марраны, по-испански «свиньи», то есть насильно или вынужденно крещенные, а по-иному «анусим» — «изнасилованные»6, о чем продолжают помнить их потомки, говоря, что, мол, она (имярек) из «анусим». (Этот исторический факт — насильственное крещение евреев и героическое противостояние ему, включая массовые самоубийства, — табуировался русской литературой, так как противоречил облюбованному стереотипу «трусливого жидка»7. Так что рубинский текст, позиционируемый как русская литература, «работает» 1 Рубина 2002б: 198. Рубина 2002б: 223. 3 Рубина 2002б: 217. 4 Рубина 2002б: 218–219. 5 Рубина 2004д: 473. 6 Рубина 2002б: 234–235. 7 Вайскопф 2003: 313. 2 72 на восполнение исторической несправедливости и вопреки литературной традиции)1; – старинные фрагменты крыш домов — самобытная испанская черепица толедских крыш, в которых героиня инстинктивно отыскивает следы своего дома — «Не было ли среди них черепицы с крыши моего давнего здешнего дома?»2; – отель, название которого представляет заманку для туристов — «Еврейский дом». В семиотическом рубинском пространстве топонимы не случайны (например, ресторан «Годовалая сука» в романе «Вот идет Мессия!»). «Еврейский дом» — это красота и домашний уют, качалка и фонтан, белые и пунцовые бугенвиллии — «вам хочется остаться в этом раю навсегда…». Но возможно ли это? — «…куда ни ступи своей безмятежной туристической стопою, — “одни погибли от меча, другие пошли к кресту, третьи бежали…”»3. Это действительно еврейский, но анти-дом — с перевернутым смыслом, таким, каким наполнила его история: кровавым, жестоким, пещерным. «И хорошо б еще совсем ничего не знать. Совсем не знать истории, в частности — истории своего народа»4, но увильнуть от участи народа экзистенциально невозможно; 1 Насильно крещенные не значит перешедшие в христианство. Вот пример из рубинского текста – «Последний кабан из лесов Понтеведра»: дед Люсио нарушил родовые устои, женившись на девушке из семьи марранов. Люсио рассказывает: «Моя бабка в канун каждой субботы зажигала в подвале дома свечи, укладывалась в постель и ни разу в субботу не появилась в церкви…» [Рубина 2000а: 76]. Й. Телушкин пишет, что испанские евреи, «внешне принявшие христианство», оставались тайными иудеями, совершая свои ритуалы в подвалах, при этом никогда не говорили своим детям о том, что они евреи. «Уже в ХХ в. в Португалии была обнаружена группа людей, которые не ели свинины по субботам, хотя не помнили об истоках этого обычая уже ничего» [Телушкин 2002: 154]. О том же рассказывает старый испанец-продавец, владелец загадочной картины Люсио: «Многие из нас до сих пор в субботу сказываются больными и не знают – почему это делают. Многие семьи почему-то зажигают в подвале дома вечером в пятницу свечи. Не помнят – зачем. Просто так делала прапрабабушка, и прабабушка, и бабушка, и мама…» [Рубина 2000а: 149]. 2 Рубина 2002б: 231. 3 Рубина 2002б: 208. 4 Рубина 2002б: 208. 73 – ребристая галька из сна, как «рыбий косяк, прущий на нерест»1, которой вымощена мостовая средневекового испанского города, предстает реальной: героиня оказывается в состоянии дежавю, стараясь «узнать на этих улицах себя, бредущую по ребристой мостовой так давно, что это помнит только мостовая и — через цепь поколений отраженные от нее — мои глубинные сны»2. Этой галькой вымощена бывшая базарная площадь старинного еврейского рынка Алькана, на котором выстроена нынче «сокровищница христианского искусства»3; – изречения на иврите: «И как странно, как нереально было — приехав из Иерусалима, стоять в маленькой старинной синагоге и разбирать на фризах стен фрагменты чудом сохранившихся изречений на иврите, — обреченно и вечно родном языке, на котором так свободно говорят мои дети»4; – и, наконец, Новые ворота5, Пуэрта Нуэва де Бисагра6, как вход в ад. Когда героиня «выпрастывается» из сна, оплакивая историю своего народа, видя на каждом шагу «национальное тело Испании, пронизанное токами тревожной и обожженной еврейской крови», в ней крепнет ее выбор: «И ни в каком ином месте на земле я не думала так много об Иерусалиме, как в Толедо…»7. Если «испанский текст» у Рубиной ощутим в этнопространстве на архетипическом, подсознательном уровне и в пространстве индивидуально-авторском — на метафорическом, то хронотоп «германского текста», будучи еще в некотором роде «живым», не требует обращения ни к метафорам, ни к символам. «Германский текст» не успел погрузиться в мир архаики: он кровоточит реальными родными людьми: расстрелянная 1 Рубина 2002б: 229. Рубина 2002б: 232. 3 Рубина 2002б: 243. 4 Рубина 2002б: 214. 5 См. о семантике ворот в романе «Вот идет Мессия!» выше, в главе «Концепт Дома». 6 Рубина 2002б: 229. 7 Рубина 2002б: 233. 2 74 немцами родная тетка героини-рассказчика, Фрида, из рассказа «Яблоки из сада Шлицбутера»; семнадцатилетняя Фира, «племянница, дочь, сестра», также расстрелянная, на которую так похожа героиня, что вызывает слезы у близких родственников1 (рассказ «Коксинель»); нежный, тонкий запах от коробочки с мылом, сваренным из человеческого жира в Равенсбрюке, ставший запахом смерти («Последний кабан из лесов Понтеведра»)… Повествователь-пророк из романа Ф. Горенштейна «Псалом» предлагает свою версию о чувствах евреев к Германии в ХХ в.: «Ненависть как постоянное чувство слишком иссушает душу, но постоянная ненависть к немцу, к немецкому отныне должна стать национальной чертой Господнего народа, в предостережение иным историческим врагам, менее умелым. И если нынешние и близлежащие поколения, уйдя, унесут с собой эту неприязнь, то уж недоверие должно остаться навек; то разумное национальное недоверие, которое, по мере возможности, делает ненависть как постоянное чувство ненужной, неповоротливой и грубой формой национальной самозащиты. Национально-мистический гуманизм нацистов обожествлял нордического человека и использовал его как меру всех вещей. Расовая и иерархическая лестница вели от нордического человека вниз, и на нижней ступеньке стоял обесчеловеченный, отлученный от гуманизма еврей»2. Потому так режет слух «мягкий, полнозвучный, рокочущий немецкий… великолепно оркестрованный язык, который, в силу некоторых семейных обстоятельств… трудно слышать» героине3. Поэтому так раздражают ее звонки в «Синдикат» с вопросами евреев-россиян о возможности восхождения в Германию — ведь там, утверждают звонящие, климат получше. «Да, в Иерусалиме климат всегда был пожарче германского, спорить с этим просто глупо. Не считая, конечно, тех нескольких, всем известных, лет, когда в Германии так хорошо топили…»4. Даже предложенный для покупки элегантный костюм в «деликатную полосочку» вызывает отторжение: «Это лагерная роба, и это в моей жизни уже 1 Рубина 2005: 115. Горенштейн 2001: 197. 3 Рубина 2005: 110. 4 Рубина 2004д: 33–34. 2 75 было… — Когда?! <…> В середине прошлого века… »1. «Германский текст» — это не только сама Германия, это одна из страшных страниц еврейской судьбы, которую рвали разные народы. Находясь в Риге, героиня заходит в антикварную лавку и видит здесь множество предметов, каждый из которых имеет какой-то знак фамильной принадлежности («царапины, даты, клеймо»). «Фамильное добро не выносят обычно из дома»2, его крадут, «приватизируют», когда хозяев забивают в погромном экстазе или ведут на расстрел. В той же лавке героиня примеривает шляпку (рубинская героиня вообще пристрастна к такой детали туалета, как шляпа, о чем речь пойдет в свое время). «Я надела шляпу… На противоположной стене за мной висела черная эсэсовская форма. Вероятно, их тоже кто-нибудь покупал для прикола… <…> И тут со мной это стряслось. Мгновенно и ясно и как-то рельефно я УВИДЕЛА в зеркале, как шляпку сбивает прикладом солдат с головы старой дамы в колонне, которую гонят улицей Адольфа Гитлера в рижское гетто… <…> Вышла из страшной лавки, пропитанной густым и прожженным прошлым…»3. «Без конца примеряя» к себе судьбу своего народа, рассказчица порой забывается, наслаждаясь порядком, уютом, запахами, кулинарными изысками: «О, это особое удовольствие — блуждание по улицам немецких городов. Нравятся мне, нравятся… винные подвалы… корзинки с геранью… вымытые с мылом мостовые… А немецкие кондитерские! <…> Все немецкие города, городки и деревни сошли с поздравительных открыток…»4. Весь этот благостный мир, тем не менее, провоцирует в героине неосознанную поначалу тревогу — она все время оглядывается. «Почему оглядываешься? — Ищу дворы… здесь же нет проходных дворов… — Майн гот, зачем тебе проходные дворы?!.. — Как — зачем? А уходить от погони?»5. Генетический страх, неспособность забыть — на физиологическом уровне. Если на это способны немцы — они «так старательно чураются своего прошлого, так истово пытаются избыть его, что в старании неизбеж1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 2 2005: 111. 2004д: 460. 2004д: 461. 2005: 118–119. 2005: 134. 76 но повторяют некоторые внешние приметы прошлого…», то не способны евреи: героиня рассказа «Коксинель» не могла совладать с внезапным, одновременно ожидаемым и «неожиданным приступом эпилепсии» — «горьким чувством добровольной отверженности, извечной отстраненности», «этим горбом», памятью, «которую отшибить невозможно, ибо она не в голове даже, а в токе крови, в тоннах прокачиваемой моим сердцем крови…»1. Эта двойственность, это сопряжение несоединимого метафоризированы названием рассказа: «Коксинель» — пожилой трансвестит, Роберта. «А что же стряслось с этим мальчиком?.. — Да бог его знает — как это все происходит… — сказал Дима. — Таинственные превращения психики…»2. «Половинчатость» коксинеля странно отозвалась в душе героини: ей стало стыдно за свою «половинчатость», «за то, что… так нравится все это чистенькое, игрушечное, нарисованное, почти ненастоящее и, наоборот, — не нравятся… средиземноморский мусор, панибратство, расхристанность и ненадежность…»3. «Половинчатость» в контексте повествования семантизирована и уродливым «кульбитом» природы, человеческой психики, способной на то, чтобы в центре европейской цивилизации середины ХХ в. «загипнотизировать» народы и подчинить их своему безумию. «Культура — тонкий пласт, ее может смыть обыкновенный дождик. Этому научил нас немецкий народ — народ поэтов и мыслителей. Он считался высокоцивилизованным. И сумел перещеголять Аттилу и Чингисхана, с упоением совершив мгновенный поворот к варварству»4. Его-то и страшится героиня. «С немцами, может, и будет покончено, но с нацистами — никогда. Нацисты не с Марса прилетели, и они не изнасиловали Германию»5. «Послушайте моего совета: никогда не оглядывайтесь!»6, — говорит ей случайный попутчик, но, видимо, напрасно, такова ее планида — ее и ее народа. «Итальянский текст» отбивает ритм, заданный хронотопом прозы Рубиной о Европе, которая стала могилой для миллионов 1 Рубина 2005: 129. Рубина 2005: 131–132. 3 Рубина 2005: 132. 4 Ремарк 1972: 42. 5 Ремарк 1972: 93. 6 Рубина 2005: 145. 2 77 евреев: но в каждом из европейских уголков можно встретить «последних из могикан» — как напоминание о вселенской трагедии. В сюжете повести «Их бин нервосо!» есть эпизод, который, с одной стороны, напоминает о Катастрофе: «Мы искали, где купить талес1 и тфиллин2… <…> Был канун субботы. <…> Выяснилось, что ни талес, ни тфиллин во Флоренции мы не достанем»3, — ибо нет (и не может быть по чисто физическим причинам) спроса на эти ритуальные предметы. С другой стороны — спутник героини, ее муж Борис, — именно тот самый взошедший (не чета звонящим в Синдикат), неофит, в которых так нуждается земля Израиля. Такой входящий — та самая «тварь Божья», спасенная Ноем. По этому поводу шмиттовский «Ной», священник отец Понс, пряча еврейского мальчика в оккупированной нацистами Бельгии и реконструируя в тайнике церкви синагогу, рассуждает: «Если потоп продлится и в мире больше не останется ни одного еврея, говорящего на иврите, я смогу научить тебя этому языку. А ты передашь его другим»4. Потому так обрадовались столь «редкой птице» флорентийские старики, на которых набрел рубинский Борис со своей спутницей: «Когда старики узнали, что мы из Израиля, они благожелательно возбудились, Борю вызвали к Торе… <…> — Ну вот, видишь, — сказала я ему потом, когда мы вернулись в гостиницу, — этих трогательных национально-патриотических чувств мы были бы лишены, если б арабы не украли у тебя сумку»5. Пафос мотива восхождения в пространстве мировой еврейской литературы совпадает с пафосом раскаяния. Герой романа Зинге1 Талес (в русскоязычной транскрипции есть вариант таллит) – молитвенное покрывало, накидываемое поверх одежды мужчинами. К углам талеса пришиты четыре кисти – цицис, или цицит, завязанные особым узлом, смысл которых – в напоминании заповедей Господних. Прецедентный текст «узелок на память» – родом из этики иудаизма. Цицит должны привязываться к любой мужской одежде, имеющей четырехугольную форму 2 Тфиллин – две кожаные коробочки черного цвета со шнурками, с вложенными в них четырьмя библейскими цитатами. Во время молитвы мужчина повязывает тфиллин – один на левую руку, другой ко лбу. 3 Рубина 2002б: 185. 4 Шмитт 2005а: 352. 5 Рубина 2002б: 185. 78 ра «Раскаявшийся», Иосиф Шапиро, разочаровавшись в жизни без Бога, не может найти места для молитвы, потому что вокруг — город, полный лжи и соблазнов. Но случилось чудо, как и в случае с рубинским Борисом: «Я не знал поблизости никаких молитвенных домов или синагог. У меня не было ни талеса, ни филактерий1. Сама идея пойти молиться казалась мне дикой, но голос не унимался. Он говорил: “Возьми такси и езжай в Восточный Бродвей. Там ты найдешь то, что тебе нужно. Если хочешь стать настоящим евреем, следует начинать прямо сейчас”. <…> …Как вдруг произошло нечто такое, что уже тогда показалось мне чудом. Седобородый еврей подошел ко мне и спросил: “Не могли бы вы помочь нам составить миньян2? Нам как раз не хватает одного человека”. <…> — Но у меня нет ни талеса, ни филактерий. — Мы дадим вам талес и филактерии»3. Могла бы я жить в этой стране? — этот вопрос задает себе рубинская героиня в каждом локусе европейского путешествия. Несмотря на «ужаленность» Европой, память руководит зрением: в обзор попадает в основном то, что может быть только оплакано поминальной молитвой. И посему даже такая бытовая безалаберность, как без дела текущая вода, воспринимается в патриотической тональности4. Описание европейского пространства в прозе Рубиной — это остатки дома, его ошметки: фрагменты крыш, стен, обрывки фраз — все наружное, открытое для обозрения: могилы, «зашифрованные» памятники (например, мусульманское «одеяние» Маймонида в «Воскресной мессе в Толедо»), а также то, что застыло в воздухе: воспоминания, имена. В парадигму рубинского европейского текста вписывается и «французский текст». Но в нем появляется совсем свежая тональность — гонения, антисемитские выпады возвращаются: «Мы разговорились. Он оказался евреем, живущим в Сен-Реми 1 Филактерии – то же, что тфиллин. По словам богослова Телушкина, тот еврей, который возлагает тфиллин, никогда не переводит его как филактерии, а говорит на иврите – тфиллин. Возможно, именно этот факт не учел переводчик романа Зингера «Раскаявшийся» Виталий Ананьев. 2 Миньян – на иврите буквально «число», «счет»; кворум из десяти мужчин для совершения общинной молитвы, например кадиша – поминальной молитвы. 3 Зингер 2006а: 56–57. 4 Рубина 2002б: 189. 79 уже сорок лет. А вообще его род живет во Франции на протяжении жизни пяти поколений. <…> Он стал жаловаться, что в этом городке совсем не осталось евреев, даже миньяна не собирается, молиться приходится ездить аж в Авиньон… — А в Авиньоне на прошлой неделе подожгли синагогу, вы слышали? — спросил он и долго вздыхал…»1 На воротах еврейского кладбища, куда, согласно логике «европейского текста» Рубиной, приходят герои-путешественники, рядом с органичной для этого места звездой Давида нацарапана нацистская свастика, а на самом кладбище могил было не так много, «как-то редко, вольно лежали несколько сохранившихся замшелых плит»2: видимо, Европа сэкономила на земле, использовав более эффективный способ захоронения. «Здесь, в древнем Провансе, “на берегу великой реки Роны, что омывает всю область Провансальскую”, — по словам путешественника… в XII веке… кипела еврейская жизнь; знаменитые раввины, каббалисты, главы иешив — ученейшие люди своего времени! — комментировали законы Святого писания и вели оживленную переписку с гаонами3 общин в самых отдаленных уголках мира. Вполне вероятно, что на этом погосте похоронены и предки знаменитого Мишеля Нострадамуса »4. А в XXI в. от «кипевшей жизни», вопреки не законам логики, а просто арифметике, — осталось вольное кладбище, да и то оскверненное как бы предупреждением, причем мертвецам. А может быть, не только им, а смелым девочкам, с прикрепленными к одежде звездами Давида5, вышедшим или продемонстрировать то, что они есть и 1 Рубина 2005а: 211–212. Рубина 2005а: 213. 3 Гаон – титул глав иешив городов Суры и Пумбедиты в Вавилонии; с конца VI в. – высшие авторитеты в толковании Талмуда, звание выдающихся законоучителей. 4 Рубина 2005а: 212–213. 5 «…Особые желтые отличительные знаки для евреев придуманы не нацистами: впервые их ввел правивший в IX в. халиф из династии Аббасидов Гарун аль-Рашид, который распорядился, чтобы евреи всегда носили желтый пояс. Примерно через четыреста лет на четвертом Латеранском соборе (в 1215 г.) католическая церковь предписала, чтобы евреи, живущие в католических государствах, также носили отличительные одежды. <…> В Польше нацисты предупреждали, что евреев (вклю2 80 ничего не боятся (кстати, новая черта в современной еврейской ментальности1), или своим протестом выражающим солидарность. «Навстречу нам тесно сбившейся стайкой шли несколько девочек лет пятнадцати, и когда они приблизились, мы вдруг увидели — вдруг ослепли! — от бликующих шестиконечных звезд из серебряной фольги, нашитых на их кофточки и платья. И долго глядели вслед этой маленькой группе протеста, гадая, как родители не побоялись пустить школьниц на столь опасное ликование гикающей, скандирующей, размахивающей отнюдь не французскими флагами, мускулистой оравы…»2. Ведь был уже прецедент в той же Европе в середине ХХ в., когда, согласно молве, датский король Христиан Х на требование оккупантов выдать всех евреев прикрепил к своему королевскому мундиру желтую звезду Давида и призвал соотечественников сделать то же самое, в отличие от всей остальной Европы, «население которой или помогало отлавливать евреев, или оставалось безучастным к их судьбе»3. Таким образом, Дания в европейском контексте стала страной «праведных неевреев», куда после окончания войны вернулись евреи и нашли свои дома и имущество нетронутыми4. И вряд ли героиня рубинского метатекста смогла бы лицезреть в антикварных лавках Дании старинные фамильные вещицы, оставшиеся без хозяев. чая выкрестов-христиан), у которых не будет желтого отличительного знака на обеих сторонах одежды (спереди и сзади), ждет смертная казнь» [Телушкин 2002: 290]. Сионистский лидер Роберт Вельш в 1933 г. опубликовал статью «Носите желтый знак с гордостью», о чем впоследствии пожалел, считая, что лучше было выступить с призывом бежать из Германии и спасти свою жизнь [Телушкин 2002: 290–291]. 1 В письме, написанном Мордехаем Анилевичем и переправленном из восставшего против нацистов Варшавского гетто (1943 г.), говорится: «Главное – осуществилась мечта моей жизни: я дожил до того дня, когда евреи в гетто встали на свою защиту и повели борьбу во всем ее величии и славе» [Телушкин 2002: 309]. Современные поколения молодых израильтян, узнавая, что большинство евреев, не сопротивляясь, шли на заклание, удивляются этому – «рожденная» во второй половине ХХ в. ментальность – иная – объяснима образованием государства Израиль и его армии. У тех евреев не было никакой поддержки. 2 Рубина 2005а: 155. 3 Телушкин 2002: 320. 4 Телушкин 2002: 320. 81 Израильский текст: тема терроризма Положение наше — Израиля, то есть, — таково, что мы как бы движемся в узкой траншее, и двигаться можем только в пределах ширины этой траншеи1. Дина Рубина. «Синдикат» Но это Исраэль, мотэк, в Торе написано: жизнь в ЭрецИсраэль дается страданиями2. Дина Рубина. «Противостояние» Главный концепт Израильского текста прозы Рубиной — обретенный дом, к которому героиня-рассказчик идет через метапространство всей еврейской истории: через изгнание, погромы, «нищету, чуму, рабство, смерть ради памяти и чести»3. «Врастание» происходит не сразу и болезненно: «Сама я и сейчас, спустя почти десяток лет жизни здесь, не могу безоговорочно назвать “своей” эту пеструю общность, эту булькающую на солнце горючую смесь. Хотя иногда бывают поразительные порывы кровной причастности»4 («Майн пиджак ин вайсе клетка»). Но чем страшнее предстает перед глазами героини израильская реальность, чем неизбывнее горе народа Израиля, тем прочнее связь с ним, тем острее ощущение причастности к судьбе народа. Гражданином мира быть не получается, во всяком случае, в пределах народа с такой многострадальной историей: «…на жизнь каждого человека, будь он хоть трижды раскосмополит, все же оказывает влияние такая штука: национальная самоидентификация. От себя убежать трудно»5. Мифологическая коннотация судьбы еврейского народа — гонимость — сменяется на модернизированный вариант — терроризм, тем самым народ Израиля вписывается в судьбу всего человечества — в ее страшную фазу, делящую человечество уже не на этносы и страны, а на тех, кто взрывает, и тех, кто страдает от взрывов. «Появилось ощущение, что вся 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 2 2004д: 2002б: 2002б: 2002б: 2002б: 146. 75. 238. 155. 148. 82 земля, вся планета шевелится и горит под ногами человечества. Расчлененность нашего мира, нашего разъятого ужасом сознания, тотальный страх западной цивилизации перед мускулистым и целеустремленным террором…»1. Акцент в рубинском повествовании о терроре сделан на его будничности — в этом сцеплении двух антитетичных смыслов заключен авторский пафос со всей гаммой чувств: ужаса, оторопи, удивления и, тем не менее, способности принять и понять своих соотечественников. Как это ни прискорбно, но жива, потому что востребована, иезуитская поговорка: «Ко всему привыкаешь». За ошеломлением от трагической сенсации наступает забвение, — жизнь продолжается, и никому нет дела до недавних жертв. И это вовсе не национальная черта, и не общечеловеческая, точнее — античеловеческая. У Рубиной есть два фрагмента — один об Израиле, другой о России, — как бы не связанных между собой сюжетно, но очень созвучных 2. Об Израиле: «Вот что мучит меня, от чего я никогда не могу отвязаться: я представляю себе дальнейшую жизнь тех, кто выжил, — всех этих моих ночных попутчиков до рассвета… этих счастливчиков, о которых никто и не говорит, о которых впоследствии не вспоминают, поскольку поспевают новые жертвы; тех, кого политики, журналисты, дипломаты вообще не принимают во внимание, — я представляю себе дальнейшую долгую жизнь этих везунков, до конца обреченных на косты1 Из интервью Дины Рубиной, данного Ю. Васильеву для «Московских новостей» (Алеф. 2004. № 929. С. 22). 2 Хотя материалы исследований иммигрантского фольклора говорят о разном отношении в официальном дискурсе России и Израиля к жертвам войн и террора: «После каждого террористического акта и в случае гибели солдат и полицейских израильские СМИ не только публикуют цифры погибших, но и называют их имена, помещают в газетах их фотографии, берут интервью у родственников и готовят биографические очерки для радио и телевидения. Естественно, эта информация персонифицирует трагедию и усиливает связанные с ней эмоции населения» [Еленевская 2005: I, 191]. В России рубежа веков тоже стали появляться тексты, подобные израильским СМИ, но не в таком масштабе. Это другой уровень исследования, в данном случае важен пафос, интенция звучания темы террора в рубинском повествовании. 83 ли, протезы, коляски, на собаку-поводыря, на клинику для душевнобольных…»1. О России: «(Яша) Рассказал, как в восьмидесятых годах у себя в Подольске стал свидетелем сцены… в Подольский госпиталь привозили раненых из Афганистана… Их оперировали, ампутировали конечности, многие ребята просто оставались обрубками, — без ног, с одной рукой. Потом долго они приходили в себя, — учились выживать, как-то справляться с бесконечной тоской… Однажды несколько ребят нашли себе девочек и пригласили в кино. Как только они выкатились в своих колясках за ворота госпиталя, — откуда ни возьмись, появился наряд милиции и стал загонять их обратно. Сначала они удивились, шутили. Говорили — вы что, братаны, мы же не в тюряге, вот, с девушками в кино впервые выбрались, фильм хотим посмотреть… Но те — видно, у них был приказ, — стали напирать, загоняя калек обратно в ворота. Стране нельзя было показывать уродства войны. И тогда раненые бросились в рукопашный бой. Они дрались костылями и палками ожесточенно, яростно… Драка была в самом разгаре, когда прикатил вызванный взвод солдат на грузовике, те набросились на калек, покидали их в кузов с костылями, палками и куда-то повезли…»2. «Захожу в буфет, беру кофе, сажусь. Слышу, студенты за соседним столиком обсуждают — кто из знакомых погиб, кто ранен… они, сами того не замечая, начинают придумывать сюжет мультика: жара, обвешанный взрывчаткой террорист, отдуваясь и обливаясь пóтом, подходит к киоску с водой и говорит: — Уф! Если я сейчас не выпью стакан воды, я взорвусь!»3. Этот анекдот переведен на язык комикса — род развлекательной литературы с рисунками и подписями, выполненного Яшей, героем «Синдиката»: «…коротенький толстый человек, весь перевитый пакетами со взрывчаткой, остановился у киоска с водой. С лица его градом катится пот. Изо рта, напрягая щеки, он с явным усилием выдувает пу1 Рубина 2004д: 161–162. Рубина 2004д: 71. 3 Рубина 2004д: 162. 2 84 зырь, в котором кудряво вьется псевдо-арабская вязь: “Умоляю! Глоточек воды несчастному шахиду!”»1. (В российском рекламном дискурсе этот рубинский фрагмент тождествен ролику о прохладительном напитке с участием певицы Чичериной.) Трагический сюжет реальности оборачивается анекдотом, рожденным рекламным нарративом (или наоборот). Новая реальность, превратившая террор в повседневность, поменяла свою «биологическую» структуру. На эту мысль наталкивает рубинскую героиню случайно услышанный другой разговор — подростков: «…это такой материал, из натуральных клеток, что выращиваются в пробирках, мне папа объяснял, — из области высоких биотехнологий, — за ним вообще будущее!»2. Вероятно, человеческий «материал» уже находится на стадии обращения в «область высоких биотехнологий». Ведь и сама героиня рассказа «На исходе августа», находящаяся в экстремальной физической фазе — нездоровья, сосредоточена как будто бы на своем внутреннем состоянии, «прислушиваясь» к нему, в то время как вокруг все погружены в информацию, отбивающую ритм количеством погибших: семь, десять, одиннадцать… Собственно, и окружающих занимает эта информация постольку поскольку: реплики о трагедии перемежаются обычным «трепом», при этом все как и прежде: на пляже люди загорают, плещутся, сплетничают, растирают спины, мажутся кремом, яхты в море парят, двое подростков-интеллектуалов делятся ноу-хау в биотехнологии. «Я вошла и сказала парню за стойкой: — Ужасно хочется есть!... <…> …Тихо звучало радио. <…> Вдруг что-то изменилось в пространстве: сломалось, сдвинулось, обвалилось… <…> …По первой же интонации в голосе диктора мы сразу поняли, что… <…> …Полчаса назад в центре Иерусалима на Яффо взорвался автобус…<…> Принеси хумус3… <…> Семеро убитых, десять раненых! <…> Срезай потоньше! — сказала я. <…> …Я набросилась на еду, обжигаясь…<…> Уже десять убитых… <…> Три жизни погасли, пока я обстоятельно смаковала золотистые кусочки нежной индюшачьей плоти»4. «В Иерусалиме теракт, — сказал хозяин, выкладывая мне медную 1 Рубина 2004д: 163. Рубина 2005а: 330. 3 Хумус — яство из гороха в виде паштета. 4 Рубина 2005а: 319–323. 2 85 сдачу… Одиннадцать убитых, двадцать раненых… Так выходит твоя тетка неплохо заработала на этих платьях?»1. Но это не означает, что террор воспринимается героиней (и автором) буднично, как обыденный факт повседневности. Отнюдь. Именно так изображая будни террора, автор берет такую ноту, наносит такие мазки, что достигает желаемого читательского восприятия — оторопи. При внешнем спокойствии повествования в его подтексте — в метапространстве Израильского текста — скорбь и чувство безысходности. «До каких пор, а, до каких пор?»2, — приговаривает персонаж рассказа «На исходе августа». Эта фраза представляется парафразом всего рубинского Израильского текста. Для поэтики прозы Рубиной характерно использование детали, которая повторяется в сюжете многажды, в результате чего выстраивается контекстуальный мотив. Деталью отбивается своеобразный ритм, укладывающийся в узор — рожденный микросюжет. В Израильском тексте такой деталью стала шляпа и ее контекст — в рамках романа «Синдикат» это мотив шляпы. Героиня в течение трех лет московской командировки несколько раз отбывает в отпуск в Иерусалим. Заходя по служебной надобности в «главк» своей организации, по дороге встречает сидящего старика торговца, в ассортименте товаров которого ее привлекает дамская шляпа — предмет пристрастия героини. От встречи к встрече она торгуется с продавцом, желая сбавить непомерно высокую цену — старик не уступает, мотивируя дороговизну шляпы ручной работой. Раз от разу между двумя персонажами этого микросюжета завязываются своеобразные отношения. Для героини уже как будто не так важна сама шляпа, как сам «драйв» поторговаться — свойство восточного человека — и просто перекинуться фразой с продавцом как со старым знакомым. Устами старика произнесены мудрые слова, особо значимые в контексте темы террора: «Иерусалим Тита пережил, римский плуг, арабских коз…»3. Движение сюжета подводит, как к непреложной истине, к мысли о том, что Израиль переживет и этот террор. Очередной взрыв обрывает жизнь старика торговца: «…У лотка со шляпами на высоком, знакомом мне табурете 1 Рубина 2005а: 326. Рубина 2005а: 320. 3 Рубина 2004д: 160. 2 86 сидела пожилая, с застылым лицом, женщина. Вот те раз! Неужели старик все-таки дал себе поблажку и уехал куда-нибудь посмотреть мир? <…> А где старик, он всегда тут сидел, толстый такой, разговорчивый… очень милый… — Это мой муж, — сказала она, не меняясь в лице… — взорвался в четырнадцатом автобусе…»1. Старик сидел на своем табурете тридцать восемь лет, никуда не выезжая из города, потому что Иерусалим — это та вселенная, где сосредоточен для него весь мир: «А ты плюнь на заработки, поезжай куда-нибудь, отдохни… Он покачал головой: — Не-ет, не могу… Кто ж меня заменит? Я ни разу никуда не выезжал из Страны… А куда? Куда, спрашиваю тебя, ехать? И что я там увижу такого, что хотелось бы мне прижать к сердцу?»2. Ибо, в отличие от тех евреев, которые только собираются взойти (но при этом твердо уверены, что государство Израиль обязано их «хоронить на своих кладбищах под сенью пальм и эвкалиптов»3), старик и при жизни, и после смерти уже обретает то, что завещано Всевышним: «…возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки. <…> Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее: ибо Я тебе дам ее»4. Несмотря на боль утраты случайного, почти незнакомого человека, все «здесь было, как три года назад…»5, и останется Иерусалим, который «Тита пережил, римский плуг, арабских коз…», героиня все-таки покупает шляпу у его жены, заплатив «по счетам», — так, как просил того старик, — в память о нем, оплакивая его, их случайную, но знаковую встречу. Как «Рахель плачет о детях своих, и не хочет утешиться о детях своих, ибо нет их»6 (Иеремия 31:15), так и героиня не может свыкнуться с будничностью террора. И не только она — людей из иной «биомассы» все-таки немало: это ее приятельница Мара, которая торопится на кладбище: «Я исхоронилась своих 1 Рубина 2004д: 547. Рубина 2004д: 159–160. 3 Рубина 2004д: 363. 4 Бытие 13:14–17. 5 Рубина 2004д: 548. 6 Рубина 2004д: 247. 2 87 соотечественников, — говорит она, — у меня в сумочке всегда лежит черная косынка — для кладбища»1, это взрослеющая дочь героини, мудро заключающая, что погибают ее женихи2, потрясенная несправедливой гибелью своих сверстников: «Они взорвали дельфинариум… <…> Это дискотека в ТельАвиве, дискотека!!! Ребята пришли потанцевать!»3. В традиции иудаизма — хоронить тело умершего, ни в коем случае не кремируя его, чтобы, согласно иудаистской мифологии, по пришествии Мессии случилось воскресение умерших из останков, когда «по одному-единственному шейному позвонку обретут плоть и оживут давно истлевшие люди»4. Незнакомая женщина в очереди поликлиники в Иерусалиме делится с героиней своим «счастьем»: «Я папу недавно похоронила… <…> А за два года до смерти ему отняли обе ноги на почве диабета… <…> …обсуждаю ритуал похорон с представителем этого… Похоронного братства, и грустно так говорю: — Папа у меня без ног… Он спрашивает: — Как — без ног? Он что, и приехал безногим? — Нет, его уже здесь оперировали… — Что ж ты сразу не сказала?! <…> Поезжай в Холон, в морг при центральном кладбище, тебе выдадут ноги твоего папы… <…> Они хранили целых два года… <…> …ну разве не высшее это милосердие! А? Ну где бы вы такое встретили?! <…> …привезли в пакете папины ножки, и на похоронах все мне казалось, что папа сверху глядит такой довольный, что не обрубком его хоронят, а целенького, целенького… Так я была счастлива!»5. В еврейской традиции присутствует особое отношение к телу умершего: в похоронных обществах («Хевра кадиша») осторожно и с почтением обращаются с телом, постятся 7 адара6 (день смерти Моисея), чтобы искупить непочтение, которое они случайно могли проявить к телу7. В связи 1 Рубина 2004д: 336. Рубина 2004д: 336. 3 Рубина 2004д: 118. 4 Рубина 2004д: 300. 5 Рубина 2004д: 445–446. 6 Адар – название шестого месяца в году (год начинается осенью), соответствует периоду – февраль-март; название месяца «адар» вавилонского происхождения. 7 Телушкин 2002: 525. 2 88 с этим ли ментефактом, или из особого пристрастия к экономии, но нацисты, зная о сакральном отношении евреев к телам умерших, намеренно их сжигали. А в дни поста в концлагерях начинали предлагать обильную и питательную еду. «Для них было психологически важно заставить евреев нарушить свои самые сокровенные традиции. Хотя еврейский закон в такой ситуации разрешал заключенным есть, поскольку соблюдением поста они рисковали своей жизнью, неожиданно большое число узников отвергало угощение нацистов»1. Умирающих в нацистских лагерях от голода, болезней и непомерного труда евреев не хоронили — их тела ежедневно тысячами сжигали. Устойчивая ассоциативная связь между кремацией и лагерями смерти — одна из причин, наряду с законом еврейской традиции, в силу которых евреи негативно воспринимают кремацию покойников2. Потому так сетует служитель кладбища из романа «Синдикат»: «Раньше, бывало, человек погибал тоже страшно, но, по крайней мере, его клали целым в гроб. Его прах пребывал в благочинном покое и ждал себе воскресения из мертвых. А сейчас? Тебя разрывает в куски, от тебя летят клочья, твое бедное тело превращается в огненные брызги, в кровавые ошметки, и нет никакой надежды, что когда придет Спаситель, ты облачишься в плоть и выйдешь ему навстречу — радоваться и плясать. Тебя и за гробом достает безумие распада, безумие распада нашего мира…»3. И такова же архетипическая интенция возгласа несчастной матери, потерявшей свое дитя: «Но… тело?!.. Но хотя бы тело?! Но отдайте же мне хоть тело моего ребенка?!»4. Карнавальный ракурс, присущий повествованию Рубиной, присутствует и в теме террора. Сопряженный с карнавалом и смертью, смех не сардонический, а смех очищающий, возрождающий: инструктор по безопасности наставляет героиню «Синдиката»: «Возьми эту ручку… Отвинти колпачок… Из отверстия выскочили и закачались две легкие пружинки. — Это бомба, — сказал он. — На такой подорвался наш синдик 1 Телушкин 2002: 302. Телушкин 2002: 301–302. 3 Рубина 2004д: 151–153. 4 Рубина 2004д: 247. 2 89 в Буэнос-Айресе, в семьдесят третьем… А теперь возьми открытку: она пришла тебе по почте в день твоего рождения, вместе с десятком других поздравлений. <…> — Это бомба, повторил он ровно. — На такой подорвался наш синдик во Франции, в восемьдесят втором… Теперь ежедневник… <…> — Это бомба, — продолжал он. На такой подорвался наш синдик в Уругвае, в семьдесят восьмом…»1. Неудачно подорвавшийся террорист-самоубийца, за жизнь которого борются израильские врачи, чтобы выудить из него сведения, очнувшись, воображает, что он в раю, так как стены, персонал — все белое2; анекдот об «израильской рулетке»: человек в Иерусалиме, садящийся в первый подошедший автобус3; сцена-апофеоз, изображающая восхождение вереницы соотечественников, впереди — «папа с отдельно упакованными в пакет ножками»4. Все эти микросюжеты — комиксы, перевертыши карнавального города, страны, с ее новой тревожной реальностью, пришедшей на смену былой, такой же тревожной. И если предшественник Дины Рубиной, изображавший восхождение, — Исаак Зингер — в романе «Раскаявшийся» устами героя сетует по поводу безнравственности глобального мира, куда входит и Израиль, то волнения героини Рубиной другого рода: мир изменился, иными стали приоритеты — и она пытается их понять, но никак не ценой отказа от своих ценностей, совпадающих с древними законами ее народа. Зингер: «Витрины магазинов пестрели платьями, жакетами, нижним бельем самых модных фасонов. Комитет по языку уже нашел в иврите названия для всех этих тряпок. Уж в чем, в чем, а в словах у современного человека не бывает недостатка. Я сидел рядом с книжным магазином и время от времени поглядывал на его витрины. Низкопробные романы со всего мира уже были переведены на святой язык. Киоски пестрели плакатами, рекламирующими дешевые пьесы. Если бы не подписи на иврите, это мог бы быть Париж, Мадрид, Лиссабон или Рим. Да, просвещение достигло своих целей. Мы стали похожи на другие народы. Мы питаем свои души той же грязью, что и они. Растим дочерей для 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 2 2004д: 2004д: 2004д: 2004д: 13–14. 157–158. 157. 569. 90 разврата. Публикуем журналы, в которых на иврите расписываем подробности романов голливудских шлюх и сводников»1. Рубина: «Слева рискованно вынырнули и обогнали нас два головастика на мотоцикле: девушка — невероятно тонкая, с полуголой спиною, гибкими руками оплетала своего друга, и на блестящем ее, точеном плече таинственным тавром чернела замысловатая татуировка. — Сумасшедшие… — сказал таксист. — Смотри, что они делают, эти сумасшедшие. Жизнь им не дорога. Тут и так не знаешь — когда взлетишь на воздух. Слышала сегодня — в Иерусалиме? Он прибавил скорость и нагнал парочку. <…> И ее смуглое плечо с паутиной татуировки блестело так же, как и эта дорога, шлемы и мотоцикл, и, казалось, было произведено из какого-то нового высокотехнологичного материала, за которым, конечно же, будущее»2 . В пространство темы «терроризм в Израиле» вписываются микросюжеты, способные существовать как самостоятельные анекдоты. Адресованы они русскоязычному читателю, так как в основе этих анекдотов — архетипы русской культуры. Такого рода анекдот есть в рассказе «Под знаком карнавала»: бывший советский диссидент, по фамилии Ленский, поменяв страну, не поменял свой статус: для израильской полиции на Ленском клеймо мафиозности. Допрашивают студента, «обремененного грузом русской культуры»: «Полицейский: — Ты про Ленского слышал? Студент: — Да… конечно. Полицейский: — От кого? <…> От Пушкина. <…> — А где он сейчас — знаешь? — В каком смысле — где? — настороженно спрашивает молодой человек. — Его же это… убили… — Как убили?! — вскрикивает визави. — Кто убил?! <…> — Ну, как же… ну, этот… Онегин же…»3. Ибо жанр, в котором протекает жизнь Израиля и ее народа, по словам Рубиной, абсолютно совпадает с жанром, в котором она пишет, затрудняясь его определить: трагикомедия, печальный гротеск, драматический фарс, лирический памфлет4. В парадигму этих оксюморонных образований вписана тема террора в прозе Рубиной. Рождаемый террористическими фрагментами смех — это смех направленный, подразумевающий объект, который осмеивается, разоблачается, критикуется, 1 Зингер 2006а: 112–113. Рубина 2005а: 332–333. 3 Рубина 2002б: 27. 4 Рубина 2002б: 67. 2 91 осуждается, разрушается, и смех ненаправленный, не подразумевающий такого объекта1. Синтезирующий обе разновидности смеха есть амбивалентный смех, пришедший из глубокой архаики. По словам В.Я. Проппа, смех на фоне смерти, трагедии приобретает жизнедательную функцию, «этот смех есть акт благочестия, превращающий смерть в новое рождение»2. О том же пишет Фридрих Горенштейн, рассуждая о судьбах еврейства ХХ в. в романе «Псалом»: «Трагедия завершает жизнь или период жизни человека и нации, комедия — возрождает. <…> Тут плодоносит комедия, через комический характер начинается возрождение. <…> …Ибо комедия — это наиболее удачный для Господа жанр, а значит, наиболее человеческий»3. 1 Стеблин-Каменский 1978: 159. Пропп 1976а: 188. 3 Горенштейн 2001: 319–320. 2 92 Путешествие в Москву и из Израиля предместья (российский топос) Такой у него был обычай — держать во рту надрезанную черную маслину, запивать ее чаем и время от времени откусывать от спрятанного в пальцах маленького кубика рафинада, наслаждаясь мягкой смесью сладкого и горького: «Чай и маслины, Россия и Эрец-Исраэль»1. Меир Шалев. «Русский роман» Зачем же изображать бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства? <…> И вот опять попали мы в глушь, опять наткнулись на закоулок. Зато какая глушь и какой закоулок!2 Николай Гоголь. «Мертвые души» Пространство прозы Рубиной доэмигрантского периода не имеет собственно географического концепта. Оно обретает черты локального текста в эмигрантскую пору: израильское пространство, ташкентское, российское. Видимо, опосредованность и остраненность — необходимые составляющие для рождения собственно «географического текста» (история литературы знает немало аналогов, например, акцентированный «российский текст» гоголевских «Мертвых душ» создан в Италии). Аналогия с Гоголем неслучайна: она прежде других возникает при встрече с российским топосом Рубиной. На обвинение Рубиной в «очернении российской действительности» — хочется ответить: почитайте Гоголя! Собственно Россия как «текст» представлена в одном произведении — романе «Синдикат»: «…по зову сердца, по глупости, или хрен еще знает — как. Важно, что у всех, сидящих здесь, появились причины вернуться и за1 2 Шалев 2006: 33. Гоголь 1951: VII, 7. 93 ново пережить то, что каждому из нас хочется забыть… »1 — пожалуй, вот она, формула загадочного притяжения России, ничего, впрочем, не раскрывающая, но констатирующая вечную тягу россиянина к покинутой родинемачехе. «Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе?»2. Традиционными составляющими российского текста являются не пресловутые «дураки и дороги», а просто — дороги, «прописанные» еще Радищевым, Пушкиным, Гоголем (этот ряд можно без труда продолжить): «По счастью моему случившаяся на дороге рытвина, в которую кибитка моя толкнулась, меня разбудила»3; «Земля, насыпанная на дороге, сделав ее гладкою в сухое время, дождями разжиженная, произвела великую грязь среди лета и сделала ее непроходимою…»4 (А.Н. Радищев); «Летом дороги прекрасны; но весной и осенью путешественники принуждены ездить по пашням и полям, потому что экипажи вязнут и тонут на большой дороге…»5 (А.С. Пушкин); «Лежавшая на дороге пыль быстро замесилась в грязь, и лошадям ежеминутно становилось тяжелее тащить бричку. <…> Между тем Чичиков стал примечать, что бричка качалась на все стороны и наделяла его пресильными толчками… <…> Чичиков и руками и ногами шлепнулся в грязь»6 (Н.В. Гоголь). «Поля всегда затоплены, / Навоз возить — дороги нет, А время уж не раннее — / Подходит месяц май!»7 (Н.А. Некрасов). Дину Рубину дороги не особенно тревожат (может, они стали лучше?). Российский топос Рубиной — это абсурд, бездушие, вульгарность и межнациональные проблемы. (И не только на российском пространстве.) 1 Рубина 2004д: 38. Гоголь 1951: VI, 220. 3 Радищев 1938: 228. 4 Радищев 1938: 230. 5 Пушкин 1949: 243–244. 6 Гоголь 1951: VI, 42. 7 Некрасов 1982: 16. 2 94 Много схожего в израильском и российском пространстве, — возможно, в этом и есть феноменальное открытие Рубиной: не в стране дело, а в людях, человечестве: «…я думала — до каких пор меня будут сопровождать покойники, отсеченные руки, ампутированные ноги, оторванные головы, до каких пор наш разорванный мир будет выворачивать свои бездонные смрадные карманы со страшным содержимым, выкладывая чудовищные дырявые свои паззлы перед беззащитным человеком?»1 — такими сторонами поворачивается жизнь и в Израиле, и в России — повсюду. И несмотря на «давку в метро, огромный неохватный город, хамство российское, милицию-прописку2… И нашу беспомощность и бесправность…»3, Москва влечет и удивляет: «Даниловский рынок ее потряс. “Циркус?! — восклицала она звонко — Циркус?!” Впоследствии я не раз удивлялась этим детским восторгам израильтян. <…> …Именно Россия, и особенно Москва, всегда приводила их в состояние опьянения, — почему? Какие рассказы дедушек-бабушек о местечковых обычаях российской и украинской глубинки питали их представления о России?!»4. «Вообще потрясены и подавлены “дистанциями огромного размера”»5. «…Аркаша стал рассказывать, как, уехав в семидесятых годах из Ленинграда в Америку и вернувшись в Россию в конце 90-х в дипломатическом чине, он испытал странное и острое счастье: стал разыскивать людей, с которыми когда-то была связана его жизнь и с которыми он давно расстался»6. А вот собственно Москва, ее восприятие в рубинском повествовании вписывается в общекультурную парадигму: «было — стало»; приведенное ниже сравнение подтверждает это наблюдение: 1 Рубина 2004д: 488. См. легенду о пристрастии «москалей» к требованию «пашпорта» ниже – в главе «“Антисемитский” текст». 3 Рубина 2004д: 18. 4 Рубина 2004д: 165. 5 Рубина 2004д: 70. 6 Рубина 2004д: 237. 2 95 123 А. Пушкин «Москва!.. Многое переменилось со времен Радищева… <…> …Упадок Москвы есть неминуемое следствие возвы шен и я Пе т ер бу рг а . <…> …обеднение Москвы… <…> … Москва, утратившая свой блеск»1. В. Некрасов «Когда-то это был Большой Новинский переулок — узенькая улица, идущая от Новинского бульвара к Москве-реке. Сейчас это широкий проспект Калинина. Последнее здание переулка разрушалось на моих глазах — двухэтажный домик… Домик погибал на глазах, под ударами тяжелого чугунного шара, обливаясь кровью. Кровь — это красный кирпич, из которого он построен. Домик стонал, обливаясь кровью, и, мучительно сопротивляясь, умирал. Сейчас на его месте скверик…»2. Д. Рубина Москва: Петроколумб, Болотная площадь, Шемякин — «…все это вместе, по моему ощущению, — убедительно пошлое, — являло какую-то иную Москву, совсем не ту, что мы покинули когда-то: притягательный городмонстр, могучий цветастый китч, бьющий наповал заезжую публику золотыми кеглями куполов на свеженьких церквах»3. Отношение к Москве, к России у рубинской героини-рассказчика двойственное: отталкивание-притяжение: «Я смотрела на низкую и глубокую арку, на крытый черным толем сарай, на ствол огромной липы… <…> И все это было так трогательно и по-настоящему поэтично, — чего недоставало и пьесе и актерам, — что я смирилась с потерянным вечером, и долго еще этот тихий старый двор в центре города-монстра стоял у меня перед глазами…»4. Формула «отталкивания-притяжения», став концептом российского текста в литературном мейнстриме, прямо, без сантиментов, высказана другим (не рубинским) рассказчиком — участником виртуального диалога с ерофеевским Веничкой: «…я думал, Веня, что стоит мне вырваться из тесных объятий 1 Пушкин 1949: 245–247. Некрасов 2003: 138. 3 Рубина 2004д: 23. 4 Рубина 2004д: 410. 2 96 Родины, и моим легким сразу начнет хватать экологически чистого воздуха. А ментальность-то с ее врожденными спазмами куда девать?!.. Не зря же русский человек, подскакивая в холодном поту с постели, кричит звонкое и отчаянное “блядь!”, а не глухое и презрительное “фак”! <…> …Вряд ли я горжусь тем обстоятельством, что родился в стране, где чем хуже, тем лучше. Другое дело, жить теперь по-другому не могу. Нигде. Включая свою малую родину, которая вот уже десять лет как обычное байское ханство…»1. Феноменальны российские памятники, не столько сами изваяния, сколько их фольклорная семиотика, памятники как арте- и ментефакты фольклорной повседневности и, соответственно, отражение этого феномена в литературном тексте. «…Не все гранитные приметы прошлого были сброшены со своих постаментов: Ленин на метро “Октябрьская” — слободской громила в приблатненном полупальто, с извечной кепкой, как каменюка, зажатой в кулаке, — по-прежнему к чему-то молча и властно призывал… В хорошую погоду вокруг него каталось на роликах юное население, школьная программа которого уже не была устремлена в коммунистическое будущее»2. Указующий «перст», или просто рука вождя, а также других каменных кумиров, порождает в фольклорной повседневности свою, не имеющую никакого отношения к замыслу скульптора, семантику. Веничка из ерофеевской поэмы «Москва — Петушки» пытается спастись в направлении, указанном взглядом Пожарского, но попадает в ловушку. Куда смотрел каменный князь? На Лубянку? Возможно. Ведь именно люди в подкованных сапогах, снятых, чтобы не шуметь, с классическим профилем (аллюзия на римское воинство) казнят Веничку — тихо, в ночи, вдали от свидетелей. Указующий перст «главного» вождя российского текста не всегда выполняет заложенную скульптором идеологему: «По дороге в гостиницу я обратила внимание на огромную — несоразмерную для такого небольшого города (Серпухов. — Э.Ш.) — статую Ленина. Таксист скучливо сказал: — Он рань1 2 Миляев 2002: 31. Рубина 2004д: 23–24. 97 ше стоял с протянутой рукой… Потом на руке один тут повесился. Актер тут, местного драмтеатра… он Лениных всегда играл… Так, говорят, похож был… даже без грима… Ну, в общем… перестройка тут, всякое такое… Перестали представлять по театрам. Человек работу потерял… Пил, пил… потом пошел и повесился. Ночью, на руке Ильича. И руку убрали. — Как убрали? — воскликнул Яша. — Ну… отрубили и переделали. Сунули в карман. — А ну-ка, сдай назад… — попросил Яша. Таксист безропотно дал задний ход. Да, Ленин стоял в несколько развязной позе: одна рука слегка заведена за спину, другая — в кармане. Ну, и пресловутая кепка на затылке. — Тот еще типчик, — заметил Яша. Мы стали вспоминать все памятники вождю, виденные в разных городах. В Ростове, например, Ильич стоял, выставив левую ногу и протянув вперед руку, как бы указывая — какие он оторвал себе классные ботиночки. В Истре — домашний божок, метр пятьдесят, густо покрытый серебрянкой, он похож был на елочную игрушку. В Клину — видимо, незримое присутствие великого композитора в исторической ауре города действовало облагораживающим образом даже на Ленина, — он и внешне был похож на Петра Ильича. Стоял в сквере, в свободной позе, без этих навязчиво указующих жестов в неизвестном направлении, одной рукой держась за отворот пиджака, ловко на нем сидящего, другую опустив в карман брюк, тоже неплохо скроенных, — элегантный англизированный денди. И выкрашен не пошлой серебрянкой, как истринский, а краской цвета топленого молока, приятной на глаз. <…> Ленин по-прежнему оставался святым покровителем русской провинции. После года блужданий по российской глубинке Москва стала казаться мне миражом…»1. Советский мифологический «иконостас» карнавализируется в фольклорный артефакт: «…он стоял, гордо всматриваясь вдаль, на двух железных прутах (бетонные ноги молодежь аккуратно отбила, написав углем на постаменте: “Маресьев”) »2, а также в некий мистический абсурд: «Я миновала поляну с тремя соснами и разбитым джипом “Чероки” и попала 1 2 Рубина 2004д: 326–327. Рубина 2004д: 509. 98 на асфальтированную площадку перед ржавыми воротами. Здесь стояла скульптурная группа: почти целый мужчина, подпертый с обеих сторон двумя женщинами, одна из которых держала на руках неважно сохранившегося ребенка. Изпод ног этого многоженца рвались в вечное небо два лебедя с поистине орлиным размахом крыльев…»1. Если каменные изваяния в российском тексте по-прежнему вызывают у живых людей трепет и какое-то внеразумное поклонение («Ленин по-прежнему оставался святым покровителем русской провинции»2), то отношение к живым героям потрясает не меньше (рассказ-воспоминание Яши, персонажа романа «Синдикат» — см. с. 85). Формула российской загадочности уже выведена в XIX в.: «Умом Россию не понять, / Аршином общим не измерить, / У ней особенная стать, / В Россию можно только верить», — тем не менее путешественник вновь и вновь, до Тютчева, после Тютчева, не перестает удивляться: «Для того чтобы в этой стране понять ход событий, надо знать много тонкостей...»3: «…У! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!»4; «…Где больше ценят русского человека, по ту или по эту сторону Пиренеев? — Не знаю, как по ту. А по эту — совсем не ценят. Я, например, был в Италии, там на русского человека никакого внимания. Они только поют и рисуют. Один, допустим, стоит и поет. А другой рядом с ним сидит и рисует того, кто поет. А третий — поодаль — поет про того, кто рисует… И так от этого грустно! А они нашей грусти не понимают…»5. Абсурд, контрасты, карнавализация — приемы, участвующие в создании российского текста, и у Рубиной в том числе: старуха, отплясывавшая краковяк, а на самом деле плющившая для сдачи на лом банки от пива и колы6; конюшня, устроенная в церкви, церковь, устроенная в бывшем сельсовете7; списан1 Рубина 2004д: 484. Рубина 2004д: 327. 3 Рубина 2004д: 188. 4 Гоголь 1951: VI, 221. 5 Ерофеев 1990: 83.. 6 Рубина 2004д: 480. 7 Рубина 2004д: 319. 2 99 ный Израилем и приобретенный Россией автобус, мчащийся вдоль российских лесов с фирменной незакрашенной надписью «Эгед» («Скажите… а на каком языке тут… написано? <…> Да шут его знает! На турецком»1); справка, выданная безногому инвалиду за 25 долларов, что все конечности у него на месте2; национальная примета российской действительности — уличный туалет: «Монументальный кирпичный, с не запирающейся дверью, туалет во дворе зиял шестью черными, густо посыпанными хлоркой, пугающе большими отверстиями в полу. Как будто это помещение предназначалось не для охотников, а для крупной рогатой дичи. Это был заповедник нетронутой советской власти — весь город Серпухов. И было это, — продолжу былинным запевом, — в ста километрах от Москвы»3. «“Понастроили коробок и думают…” — говорили в 20–30-е годы. Попозже, в период излишеств, — “Понатыкали колонн и считают…”. Теперь мы говорим: “Куда ни глянь, везде башни ”»4, — писал Виктор Некрасов, совершая ностальгические городские прогулки. Героиня Рубиной, физически «выйдя» из российского пространства, отстранившись и остранившись, фиксирует слагаемые российского топоса: «Мы сидим, смотрим в окна на двор… Шестнадцатиэтажный унылый блочный дом серого цвета, швы между панелями заделаны черной смолой. Если б я жила в таком доме, говорю я, то тоже звонила бы всем с безумными речами. Боря в ответ: а ты, собственно, и жила в таком доме. <…> Шлейф безумия волочится за всей этой жизнью в Москве…»5. Несмотря на то, что героиня-рассказчик «Синдиката» раздражена словом «национальный» с вытекающими межэтническими проблемами, от них путешествующему из Израиля по Москве и ее предместьям никуда не деться: «Разговоры о русском духе повергали меня в уныние, украинские националисты наводили оторопь, от кавказцев и азиатов на московских рынках я шарахалась, как от чумы…»6. 1 Рубина 2004д: 479. Рубина 2004д: 362. 3 Рубина 2004д: 325. 4 Некрасов 2003: 153–154. 5 Рубина 2004д: 256. 6 Рубина 2004д: 505. 2 100 С официальной мифологемой о «дружбе народов» покончено1, а вот ксенофобские настроения — черта Российского текста рубежа XX — XXI вв.: «Марина увидела небольшую кучку демонстрантов, в основном молодежи, с хорошо выбритыми загривками, но были среди них и две старухи. Они курили, опираясь на большой транспарант “Жиды, выметайтесь из России!”, и выглядели гораздо более оживленными и полными жизни, чем квелая молодежь»2. Российский топос в рубинском дискурсе вырастает в Российский текст не без участия литературного и фольклорного мейнстрима: это прецедентные тексты, реминисценции, мифологические персонажи: «Я — чайка! чайка!»3, — произносит героиня чеховскую фразу, примеривая шляпу с полями, напоминающими ей крылья чайки — «дохлой». «На меня из зеркала… смотрела… всегда чужая мне, всегда незнакомая женщина»4. С одной стороны, контекст, в котором произнесена фраза из монолога Нины Заречной, настраивает на ироничное ее восприятие. С другой — как и чеховская героиня, которой вменено произнести в какой-то степени сакраментальные чеховские слова о катастрофе, случившейся в результате нелюбви, несогласия в мире, так и героиня-повествователь из романа «Синдикат», примеривая шляпу, в буквальном смысле находится на «пороховой бочке», которая взорвалась — не под ней, а под тем самым продавцом шляпы. («Пороховая бочка» — неугасаемый конфликт между израильтянами и арабами.) «– Злые люди, темные люди, — продолжал мальчик певучим речитативом. — Они не знают, что нуждаются в свете! — …Люди, львы, орлы и куропатки… — тем же тоном проговорил Борис…»5 (курсив мой. — Э.Ш.): прямая цитата из чеховской «Чайки» травестирует первоначальный пророческий смысл. Мальчик (юный пироман из сюжета Рубиной) неадекватным поведением провоцирует другого персонажа на «продолжение» — от «лица» «мировой души» — монолога. 1 Рубина 2004д: 29. Рубина 2004д: 274. 3 Рубина 2004д: 15. 4 Рубина 2004д: 15. 5 Рубина 2004д: 167. 2 101 «Восстановление народного тела, понимаешь, великая миссия. Красивое имя, высокая честь»1 (курсив мой. — Э.Ш.): слова из светловской «Гренады», полные пафоса социальной борьбы («Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать…»), сказаны у Рубиной в контексте авантюрной истории по поиску утраченных колен израилевых, который затеян чиновниками, удобно и красиво прикрывающими трату спонсорских денег. «…Угроза Расстреловна была той силой, что вечно хотела блага и вечно совершала зло…»2 (курсив мой. — Э.Ш.) — этой гетевско-булгаковской фразой, полной сакрального, демонического смысла, характеризуется чиновница, которая распоряжалась деньгами «синдиката» и наводила на сослуживцев ужас своими мужскими, воинскими замашками. Она же «железняк-матрос Роза Марселовна»3. Мифологическая фигура российской истории — матрос Железняк, начальник караула, разогнал Учредительное собрание, войдя в историю своей знаменитой фразой: «Караул устал». «Тятя, тятя, наши сети притащили!..»4 — эта пушкинская фраза из стихов («Утопленник»), заучиваемых в начальной школе, зовет к веселью. (О том же у Абрама Терца: Прибежали в избу дети, / Второпях зовут отца… Под этот припев отплясывали, позабыв об утопленнике5.) Рубинской героине на протяжении долгого времени вменяют прибыть в Монреаль и забрать тело утонувшего в Ниагарском водопаде в результате пьяных разборок якобы родственника — носителя одной с ней фамилии. Таким образом, пушкинская цитата предстает в виде комического перифраза рубинского текста. «Во дворе трое алкоголиков возводят странное и опасное сооружение — без чертежей, без инженера, без слез, без жизни, без любви»6 (курсив мой. — Э.Ш.) — пушкинская точная цитата используется для комического эффекта: дважды повторенный 1 Рубина 2004д: 128. Рубина 2004д: 132. 3 Рубина 2004д: 88. 4 Рубина 2004д: 285. 5 Терц 1992: 368. 6 Рубина 2004д: 406. 2 102 предлог «без» (перед цитатой) ассоциативно «подверстывает» под себя пушкинский текст. Реальные персонажи русской истории фольклоризированы повседневностью, будучи внедряемыми в виде обязательных фигур в образовательный процесс. Таковыми стали имена Пушкина, его жены Натальи Гончаровой, няни Арины Родионовны. Особенно интересна судьба имени няни, тиражируемого так часто, повсюду и много, что заняло место главной музы поэта. Скорее всего, это было обусловлено советской идеологической парадигмой: няня как представитель простого народа создавала баланс дворянскому происхождению «нашего все». У Рубиной в романе «Синдикат» есть фрагмент, где встречаются в ресторане две героини, одна из них Марина Москвина, она пришла на встречу, принеся с собой сшитую куклу — Пушкина: «– Это Пушкин?! — спросил восторженно шеф-повар. — А вы кито — Натали? – Да что вы, — сказала Марина скромно, — я — Арина Родионовна. Тут набежало еще ресторанной обслуги. – Это Пушкин, — объяснял новым зрителям один из поваров, — со своей няней…»1. Дина Рубина принадлежит к особой плеяде писателей, относимых ныне к транскультурному феномену: ее Израильский текст соткан «нитями» русской культуры (по большей части) и русского языка. «Я пыталась определить и обозначить словами разницу в душевном моем осязании двух моих стран — Израиля и России. Вся моя жизнь в Израиле, предметы, пространство и люди, — все, что меня окружает там, — была и есть ослепительная сиюминутная реальность. Все, что было со мной в России, что происходит сейчас и будет когда-либо происходить — все это сон, со всеми сопутствующими сну предметами. <…> И еще: никогда не могла понять психологии двоеженцев. И только когда вернулась в Россию и стала снова с нею жить, поняла: ты любишь в данный момент ту, которая перед глазами, но думаешь о той, которой рядом нет…»2. 1 2 Рубина 2004д: 466. Рубина 2004д: 71–72. 103 А вот другой писатель, Владимир Жаботинский, в общемто, находясь на тех же творческих позициях, что и Дина Рубина, «проговаривает» четко свои пристрастия и обиды — его, таким образом, не причислить к плеяде транскультурных авторов. Творчество Жаботинского складывалось вне границ «глобальной деревни» — надо было «окапываться», выстраивая свой, закрытый мир. «Не знаю, многие ли из нас любят Россию, но многие, слишком многие из нас, детей еврейского интеллигентного круга, безумно и унизительно влюблены в русскую культуру, а через нее в весь русский мир, о котором только по этой культуре и судят. И эта влюбленность вполне естественна, потому что мир еврейский, мир по Сю сторону границы не мог в их душе соперничать с обаянием “той стороны”»1. Еврей из простонародья, по словам Жаботинского, узнает свой, еврейский мир (не имея своей земли, страны) по его изнанке, а русский мир он узнает по его лицевой стороне: «И он вырастает влюбленным во все русское унизительной любовью свинопаса к царевне»2. Откровенная боль за свой народ читается в тексте Жаботинского, посвященном юбилею Гоголя: никто ни слова не сказал, что он, Гоголь, воспел «всеми красками своей палитры, всеми звуками своей гаммы и со всем подъемом увлеченной своей души» еврейский погром3, — речь идет о «Тарасе Бульбе». Упрек Жаботинского, и, возможно, справедливый, обращен почти ко всем знаковым фигурам российского текста: «Для Пушкина понятие “еврей” тесно связано с понятием “шпион” (это в заметке о встрече с Кюхельбекером). В “Скупом рыцаре” выведен еврей-ростовщик, расписанный всеми красками низости, еврей, подстрекающий сына отравить папашу — а яд купить у другого еврейчика, аптекаря Товия. У Некрасова “жиды” на бирже уговаривают проворовавшегося русского купца: “…нам вы продайте паи, деньги пошлите в Америку”, а сам пусть бежит в Англию… <…> По Достоевскому — от жидов придет гибель России. <…> Никогда ни один 1 Жаботинский 2004: 21. Жаботинский 2004: 22. 3 Жаботинский 2004: 72. 2 104 из… крупных художников не поднял голоса в защиту правды, растоптанной на нашей спине. <…> Между прочим, русскую литературу я очень ценю, включая и этого самого Гоголя, потому что литература должна быть прежде всего талантлива, и русская литература не в пример иным прочим отраслям русской национальной жизнедеятельности — этому условию удовлетворяет. Но вместе с тем надо помнить, что философию народа, его настоящую, коренную философию выражают не философы и публицисты, а художники, и в данном вопросе характер этой философии для всякого, кто не слеп и не глух, ясен без малейшей двусмысленности»1. Думаю, что полезно читать такие шокирующие строки: нашей отечественной ментальности порой необходим выход за рамки автомифологии, чтобы взглянуть на себя со стороны, остраниться: «…русская литература, та самая, что со времен еще Радищева славила свободу и милость к падшим призывала… пальцем о палец не ударила в их (евреев. — Э.Ш.) защиту…»2. Так или иначе, но русский/российский текст со всеми коннотациями, спектром оценок — ныне, в эпоху транкультурной ситуации, неотъемлемая часть литературного мейнстрима, а уж прозы Дины Рубиной тем более. Не случайно, отвечая на вопрос о родине-ностальгии-России, писатель отшутилась анекдотом: «Вы ностальгируете по России? — С чего это? Я что, еврей?»3. 1 Жаботинский 2004: 72–75. Жаботинский 2004: 71. 3 Рубина 2008: 315. 2 105 Мифологический текст прозы Дины Рубиной Мессия и мессианство На обочине круто несущейся вниз по склону дороги, неподалеку от огромного мусорного бака стоял белый осел. <…> — Ну, осел, — отметила я. — И что? – Как это — что! Он Спасителя ждет! – Когда?!.. – Всегда!.. 1 Дина Рубина. «Белый осел в ожидании Спасителя» Каждому воздастся по делам, грустным, и счастливым, и забытым. И когда ударит главный час и начнется наших душ поверка… Булат Окуджава. «Романс» Национальная картина мира, моделируемая в словесном творчестве (как сознательно, так и подсознательно), неотвратимо ведет к выявлению наиболее значимых и ярких «столпов» когнитивной образности. Таким стал концепт Мессии в словесности еврейского народа. Интенцией мессианского концепта, его аксиологическим спектром пронизаны еврейские сказки, притчи, литература, созданная на разных языках (на идише, иврите, английском, русском и др.). В утопическом метасюжете еврейской словесности Мессия — главный образ в мессианском процессе — выступает не только как спаситель, заступник (каковым он предстает в сюжете о «кровавом навете»). Как в советской мифологии человек «чистил себя под Лениным», так в еврейской — под Мессией. Праведность, благотворительность, согласно иудаистической морали, должны стать органичны для поведения человека, законом повседневной жизни. В одной народной еврейской песне представлен такой сюжет: персонажи (работник, собака, палка, огонь, вода, бык, мясник) поэтапно посылаются выполнить определенное поручение и попутно наказать своего предшественника за пре1 Рубина 2007а: 307. 109 дыдущее невыполнение. Все бесполезно: никто не хочет выполнять вмененную ему работу. Но появление ангела смерти сдвигает все с мертвой точки: И ангел смерти является в сад, Ко всем, что слушаться не хотят. Едва появиться ему случилось, Как все, что было, переменилось. И все готовы послушными стать: Мясник согласен быка напугать, Бык согласен ручей осушить, Вода готова огонь погасить, Огонь согласен палку спалить, Палка спешит собаку побить, Собака — работника укусить, Тот бросился яблоки рвать поскорей, Но сами они опадают с ветвей1. Ангел, несущий угрозу, — в данном тексте катализатор в процессе соблюдения порядка в человеческом общежитии, учрежденном Богом. Этот сюжет — параллель к мотиву Мессии. При выявлении национальных образов мира в литературном произведении необходимо воссоздать, насколько возможно, ментальную картину народа, с которым себя позиционирует писатель или в глубину жизни которого он пытается проникнуть, словом, нарисовать этническую картину мира. В когнитивном литературоведении «…познание идет через “отображение” известной “истории” в новом материале»2. Предмет данного рассмотрения — не концепт «прихода Мессии», противоречивый даже в рамках иудаики, а мифологема еврейской картины мира — Мессия (Машиах) и мессианство, отраженная в прозе Дины Рубиной. Надо отметить, что появление мотива Мессии и мессианства в прозе Рубиной связано с ее израильским периодом жизни и творчества. Именно в это время появляются и другие мотивы, сопряженные с картиной мира евреев. Почему прежде писатель не обращался к подобным мотивам? Ответить можно так: «не пелось!». Левиты, находившиеся в вавилонском плену, на просьбу поработителей исполнить какое-нибудь храмо1 2 КД 2004: 201. Лозинская 2004: 182. 110 вое песнопение ответили: «Как будем петь песнь Господню на земле чужой?»1. Как Агада (письменный еврейский фольклор) связана с родной землей, так и тексты Рубиной, посвященные еврейской тематике, рождены ментальностью народа, с которым связала свою судьбу писатель, ибо не верит «в бесполость, надмирность и прочую вымученную галиматью, а (верит) в этот плотный телесный пахучий мир, в горячо пульсирующий сгусток кровей, в узловатые корни, проросшие гены, в жадное друг к другу любопытство и страсть»2. И сюжет романа Рубиной «Вот идет Мессия!», и его заглавие построены на историко-мифологическом метатексте концепта Мессии в современной иудаке. Узловые положения его таковы: – версия о двух Мессиях — гибнущем и торжествующем3; – рассмотрение Мессии не как личности, а как процесса, разворачивающегося в истории4; – с одной стороны, Мессия — тот, от кого не следует ждать чудес, с другой — он наделен сверхъестественными способностями5; – все евреи ждут прихода Мессии: «…из 13 Догматов веры …самым известным стало: “Ани маамин, я всем сердцем верю в приход Машиаха, и хотя он может задержаться, я буду ждать его каждый день”»6. Спектр звучания мотива Мессии у Рубиной многогранен: комический, трагический, мистический, мифологический и индивидуально-авторский, нравственно-моралистический. Последний смысл заложен в названии: Мессия не придет (такова семантика мифологемы ожидания Мессии), а идет: он уже среди нас, проблема в том, как распознать его. И писателю, вероятно, удалось это — конечно же, в плоскости метафорической. По словам современного исследователя, богослова Й. Телушкина, «Традиция утверждает пять самых важных вещей 1 Агада 1999: 14. Рубина 2007а: 89. 3 Аверинцев 1992. 4 Аттиас, Бенбесса 2000. 5 Аверинцев1991а; Аверинцев 1992; Аттиас, Бенбесса 2000. 6 Телушкин 2002: 462. 2 111 относительно Машиаха. Он будет происходить из рода царя Давида, завоюет суверенитет над землей Израиля, соберет евреев с четырех сторон света, восстановит полное соблюдение Торы и, наконец, принесет мир миру»1. Героиня-рассказчик из рубинской повести «Камера наезжает!..» делится секретами писательской кухни, точно так же писатель Рубина воссоздает разные грани мессианского процесса, от комических до трагических: «Но персонаж можно сделать, создать, смастерить из мусорной мелочишки (подобно тому, как в дни прихода Мессии по одному-единственному шейному позвонку обретут плоть и оживут давно истлевшие люди)»2. Автор сосредоточивает внимание читателя не на собственно образе Мессии, а скорее на мессианском процессе, точнее — на ментальности3 народа Израиля (и вероятно, вообще еврейского народа), ведь концепт Мессии входит даже в обыденное анкетирование: «Верите ли вы в явление Машиаха?»4. «Менталитет складывается из умонастроений, мыслительных установок, коллективных представлений и т. п. Как правило, менталитет противопоставляется рационализированным мыслительным системам идеологии, обозначая сферу неотрефлектированной, стихийно развивающейся мысли, не отделенной от эмоций, привычек, приемов сознания. Менталитет5 — своего рода “фон” мышления, который остается 1 Телушкин 2002: 462–463. Рубина 2001а: 300. 3 «Одним из дискуссионных моментов в российской философии и литературоведении стало сосуществование двух вариантов термина – “менталитет” и “ментальность”, которые нередко различались по признаку “общечеловеческое” – “национальное”» [Большакова 2004: 251]. В данном тексте эти понятия не разводятся. 4 Рубина 2004д: 68. 5 «– А что такое менталитет? Со всех сторон слышу: “менталитетменталитет”, а что это такое? – Менталитет – это когда человек или группа людей живут так, как удобно им, но неудобно другим. Или любят то, что другие не любят. И наоборот. То есть если мы оба любим одесскую колбасу, то у нас общий менталитет. А те, кто любит есть собак или лягушек, нам не товарищи. Ты вот куда ботинки ставишь, когда ложишься спать? – На пол, – удивился Рейн. 2 112 скрытым от самого мыслящего субъекта; однако, в отличие от фрейдовского бессознательного, менталитет не “биологичен”, а культурно-исторически обусловлен»1. Мессианский процесс — один из ракурсов ожидания Мессии, высшей ценности в аксиологической иерархии народа Израиля — представлен в виде сознательного и подсознательного осмысления происходящего вокруг. «Хотя мессианская идея давно вдохновляет евреев и заставляет их работать ради тикун олам (совершенствования мира), но трезвое прочтение еврейской истории указывает, что, когда евреи думают, что Машиах вот-вот прибудет, результаты обычно катастрофические»2. Мотив Мессии и мессианства в еврейской литературе, можно сказать, повсеместен. Думается, что Рубина «проникалась» этой чертой еврейской ментальности не без литературного влияния. Французский писатель Эрик-Эмманюэль Шмитт создает художественную версию «Евангелия от Пилата», оригинальность концепции которого состоит в том, что главный евангельский персонаж — Иешуа — создан в контексте не противостояния своему окружению, а слияния с ним, еврейским народом. В атмосфере ожидания Мессии Иешуа сотворил Бога, любящего и всепрощающего. Он пошел по пути примирения всех и каждого, неся мир в души односельчан. Иешуа осознал, что он не такой, как все, он не создан для обычной жизни, потому отказался от личного счастья ради пропаганды всеобщей любви («Счастью я предпочел любовь»3): «Когда римляне огнем и мечом покорили Галилею, я стал истинным евреем. Иными словами, начал ждать. Ждать Спасителя. Римляне унижали нас, римляне унижали нашу веру. И единственным лекарством от стыда, который я испытывал, была надежда на Мессию. Галилея кишела мессиями. Не проходило и полугода, чтобы не объявился новый. И всегда “спаситель” являлся – А есть народы, которые ставят ботинки на стол, или даже такие, которые весь день ходят босиком, а на ночь – надевают и так спят. – Не может быть! – засомневался Рейн. – Это же неудобно. – Вот и я говорю: менталитет определяется удобствами» [Бершин 2005: 62]. 1 Большакова 2004: 251. 2 Телушкин 2002: 464. 3 Шмитт 2003: 25. 113 грязным, истощенным, с животом, приросшим к позвоночнику, с глазами, устремленными в одну точку, и с речами, понятными лишь стрекозам. Их никогда не принимали всерьез, но все же слушали, как говорила моя мать, “на случай, если”. — На случай, если что? — если вдруг его слова окажутся правдой. И неизбежно такой “спаситель” объявлял о конце света и мраке, который переживут лишь праведники, о ночи, которая избавит нас от всех римлян. Надо признать, что при неустанных наших трудах иногда было приятно остановиться и послушать пламенные речи этих озаренных. Они говорили такие безумные вещи…»1. Ярким образцом еврейской ментальности в литературе представляется творчество Исаака Башевиса Зингера. В рассказах для детей и взрослых, в романах Зингера одним из слагаемых еврейской картины мира предстает образ Мессии. Зингеровский рассказчик, повествователь, герой, где бы ни находился — в Польше, Америке, Израиле — во всех кульминационных поворотах микросюжетов соизмеряет происходящее с приходом Мессии. Диббуки, таинственные существа — все необъяснимое, присутствуя в поэтике произведений Зингера, мотивировано именно этой чертой ментальности еврейства — ожиданием Мессии. «В каждом еврее присутствует диббук Мессии»2 («Мешуга»). Созерцает ли зингеровский персонаж благостное состояние природы или, напротив, агрессивные катаклизмы в ней, везде видится ему знак — предупреждение о Мессии. «Река была в постоянном движении — она текла неведомо куда, с решительной целеустремленностью, внушавшей веру в возможность чудес и в приход Мессии»3 («День исполнения желаний»); «Градины падали огромные, аж с гусиное яйцо. Здоровый кусище льда проделал дыру в крыше и разрушил дом. Среди нас было несколько стариков. Они стали молиться о спасении, возносить покаянные молитвы Господу: были уверены, что Мессия уже здесь, рядом, а то, что происходит, — последняя война между Гогом и Магогом»4 («Мечта барона Гирша»). 1 Шмитт 2003: 18–19. Зингер 2001а: 28. 3 Зингер 2005: 53. 4 Зингер 2004б: 139. 2 114 Течет ли жизнь размеренно, по канонам иудаистской религии, или попадает зингеровский персонаж в «перевернутый» мир Нью-Йорка, где едят «горячих собак» — все соотносимо с состоянием ожидания Мессии или с его приходом: «Будни в доме были полны субботой, праздником, ожиданием Мессии и грядущего мира. И так возясь всякий день, старуха, кивая головой, непрестанно шептала что-то бледными губами, словно знала истину, явную лишь тем, кто не бывает ослеплен мирскими соблазнами…»1 («Люблинский штукарь»); «Нью-Йорк… <…> Город, в котором есть все для игры… <…> Прогуливаясь там и поглощая “горячих собак”… я неожиданно понял, что вижу будущее человечества, быть может, даже момент, когда придет Мессия»2 («Шоша»). Даже перед угрозой уничтожения зингеровские герои обеспокоены приходом Мессии: «А что мы будем делать, когда придут нацисты? — Мы умрем. — Вместе? — Да, Шошеле. — А Мессия не придет? — Не так скоро»3 («Шоша»). Когда герой Зингера видит умиротворяющую картину из живых цветов в Ботаническом саду, к нему приходит «мысль, что Еврейство было оранжерейным растением: его преуспевание в чуждом окружении лелеялось верой в Мессию, надеждой на грядущую справедливость, обещаниями Библии — книги, которая загипнотизировала их навсегда. Через некоторое время Герман и Маша пошли в зоопарк Бронкса. <…> Подобно евреям, животные были согнаны сюда со всех концов света, приговоренные к изоляции и тоске. Некоторые из них кричали, выли, другие оставались безмолвными»4 («Враги. История любви»). Так мирное и трагическое, будни и Катастрофа — все воспринято и воссоздано писателем через наиболее яркий образ еврейской ментальности — ожидание Мессии. В житейско-бытовом пространстве — в мифологии повседневности — идея о Мессии и мессианском процессе, идущая из древнейших верований, приобретает порой экстремальные формы, вплоть до форм «интеллектуального критицизма» 1 Зингер Зингер 3 Зингер 4 Зингер 2 2000: 74. 2002: 176–177. 2002: 294. 2001: 69–70. 115 (А.М. Панченко). Во всех культурно-этнических сообществах среди людей, живущих в рамках определенной социокультурной парадигмы, находятся личности, не вписывающиеся в общепринятые нормы. Не замыкаясь, не уходя от людей, они, тем не менее, демонстрируют своим поведением нежелание слиться с толпой. В христианской культуре это юродивые, в мусульманской — дервиши, в иудаистской — род странных людей, которых именуют то шлемилями, то мешугинерами (мешугами). Медиевист М.А. Кравцов объясняет эти параллели расцветом в границах различных конфессий мистических течений — исихазма, йоги, суфизма. «В подобные эпохи обнажается глубинная взаимосвязь различных культур и как бы манифестируется органическое единство человеческого рода»1. Исследователь говорит о сходстве течений, в поле которых появляются эти «странные» герои — о мировоззрении хасидских школ, до удивления совпадающем с мировоззрением раннего суфизма2. Исследования3, посвященные феномену юродства, в основных концептуальных моментах экстраполируются на родственные явления других культур. «Юродивому нужен зритель, которому предназначена активная роль. Ведь юродивый не только актер, но и режиссер. Он руководит толпою, превращает ее в марионетку, в некое подобие коллективного персонажа»4. От таких личностей, которым как бы по умолчанию дозволяется все, ждут откровений: «Отчуждая себя от общества, подвижник (юродивый) как бы получает право обличать»5. Активное начало юродивого складывается из его обязанности «ругаться миру», обличая грехи сильных и слабых и не обращая внимания на общественные приличия6. Христианские богословы7 трактовали юродство как самоизвольное мученичество, скрывающее добродетель. Эстетика юродства, по наблюдению А.М. Панченко, состоит в том, что жизнь «юродивого… это опровержение идеала пре1 Кравцов 1994: 249. Кравцов 1994: 252. 3 Лихачев 1984; Панченко 1990; Юрганов 2004 и др. 4 Панченко 1990: 4. 5 Панченко 1990: 10. 6 Панченко 1990: 3. 7 Святой Димитрий Ростовский [Панченко 1990:7]. 2 116 красного… перестановка этого идеала с ног на голову и возведение безобразного в степень эстетически положительного…»1. По словам А.Л. Юрганова, «Панченко сводит значение юродства к протесту против мирского образа жизни и его греховной сущности»2, «…действия юродивого непонятны, безумны…»3, «Цель юродивого — избежать “биографии”, быть никем для мира»4, «Гордыня в человеческом измерении — всякая “честь”, всякий авторитет, любое признание в этом мире»5, «Юродивый просто обязан в своем подвиге творить “пакости”, скрывая от людей свою святость»6. В юродстве исследователи усматривают скрытое мессианство. Значимо убеждение, что Мессия уже существует, хотя до поры «скрывается», ему предстоит не родиться, а «явиться», раскрыть свою тайну7. Так что не только православная культура знакома с институтом юродства — в иудаистской и мусульманской культуре есть и были аналоги юродивых8, возмущавшие народ своим антиобщественным поведением и высказываниями против власти. Аналог юродивого в иудаизме — это, скорее всего, хасид, представитель религиозно-мистического движения, сущность которого заключалась в некоем «религиозном пантеизме»9. «Основными добродетелями хасиды признают скромность, радость и воспламененность. <…> Отсюда вокруг отдельных цадиков культивируются веселые мелодии, песни, музыка и 1 Лихачев 1984: 80. Юрганов 2004: 98. 3 Юрганов 2004: 101. 4 Юрганов 2004: 108. 5 Юрганов 2004: 114. 6 Юрганов 2004: 115. 7 Аверинцев 1992: 142. 8 Типологическая аналогия юродства и дервишества мотивирована здесь на уровне обыденного сознания, так как по сути эти институты зиждутся на разных основах: юродство – это, скорее, стихийное явление, а дервишество – если до поры до времени и не осознанное, то все же предначертанное, организованное в систему неких мифологем, философем в сочетании с особыми духовными качествами и интуицией. 9 Вихнович 2002: 539. 2 117 танцы»1. Несведущему наблюдателю, далекому от учения хасидов, их молитвы «могут показаться сумбурными и неблагообразными. …Молящиеся иногда даже становились вверх ногами. Характерно, что Бешт (так сокращенно называют хасиды основателя своего учения Баал-Шем-Това. — Э.Ш.) защищал эту практику в хасидских службах, рассказывая такую притчу: глухой шел мимо зала, где праздновали свадьбу. Когда он заглянул в окно, то увидел людей, радостно и увлеченно танцующих. Но поскольку не слышал музыки, то принял их за сумасшедших»2. В некоторых хасидских преданиях содержатся притчи, повествующие о нежелании молящихся демонстрировать свое мастерство, дабы ими восхищались3, а потому отказывающихся делать это: лучше вызвать гнев прихожан, чем их восхищение4. Для хасидов характерно пренебрежение к житейским мелочам, к комфорту; но вместе с тем характерна преданность вере — «все остальное неважно: как я выгляжу, во что одет, что обо мне скажут, где я еду в поезде (в товарном вагоне или на крыше)... Такой ешиботник более походил на революционера-анархиста, чем на студента-буржуа. <…> О его приверженцах рассказывали, например, такое: чтобы показать, что любая насмешка их не страшит, они могли войти в аптеку и попросить гвоздей. На них показывали пальцем, говорили, что они неучи, невежды. И они все это принимали... чтобы укрепить в себе чувство уверенности в провидении Всевышнего… Они уходили в другие местечки, в другие общины. Не говоря ничего, приходили в синагогу, садились и учили Тору. Что будет с едой? Что будет с ночлегом?»5. Описание аксиологической парадигмы хасидов, таким образом, совпадает в главных пунктах с христианским юродством, мусульманским дервишеством. Хасид намеренно ставил себя в стесненные обстоятельства, 1 Вихнович 2002: 540. Телушкин 2002: 173. 3 Почти такой же вектор характерен для ментальности юродивых – об этом см.: [Юрганов 2004]. 4 Султанович: 166. 5 Султанович: 170. 2 118 «чтобы его унижали, а он бы выдерживал это, чтобы быть скромнее»1. Тождество хасида и православного юродивого констатирует М. Эпштейн: «Хасиды… и в этом они могут быть соотнесены с харизматическими движениями в других религиях (например, суфизм в мусульманстве, пятидесятничество в христианстве) — считали, что верующему дано воспринимать Бога полнотой своего умиленного и просветленного сердца»2; «Хасидская традиция в какой-то степени близка тому, что в России понималось под юродивостью: это обратный иудаизм, обратное христианство. Не священнослужитель, вещающий с амвона, а юродивый, заляпанный брызгами из лужи, живущий в обнимку со всем мирозданием, не огораживающий себя от мира и от мирского»3. М. Эпштейн, обнаружив истоки поэтического мира Б. Пастернака в хасидизме, формулирует ментальность хасида: «“Очумелый”, “одурелый”, “ошалелый” — характерно пастернаковские словечки, подходящие к мироощущению “блаженного чудака” хасидских историй, у которого “все не так”, “все наперекосяк”, который угоден Богу именно тем, что отклоняется от закона»4. О сути, эстетике хасидизма много поведало миру творчество И.Б. Зингера5: «Хасиды поют каббалистические поэмы праведного Исаака Лурии, написанные по-арамейски: о небесных слугах — все это в чрезвычайно эротических выражениях, которые могли бы шокировать и критиков, и читателей даже в наши дни»6. Связь между хасидом и мешугой (безумцем) в поэтике Зингера самая тесная. А раз «Мир превращается в безумие, в мешугу»7, то пророчествовать передоверено 1 Султанович: 170. Эпштейн 2000: 86. 3 Эпштейн 2000: 86. 4 Эпштейн 2000: 89. 5 Говорить о прямом влиянии И.Б. Зингера на творчество Дины Рубиной затруднительно (переводить на русский язык идишистского писателя стали в 90-х гг. ХХ в.), но параллели, «дух» еврейства, эстетические и этические принципы в создании национальной картины мира у двух писателей чрезвычайно схожи. 6 Зингер 2002: 304. 7 Зингер 2001а: 13. 2 119 ему — юродивому, мешуге; «…его (писателя) выдумки стоят больше, чем мои факты. В Гемаре говорится, что после того, как Храм был разрушен, пророчества были отобраны у пророков и отданы безумцам. А поскольку писатели — известные безумцы, то дар пророчества достался им тоже»1. Такими персонажами, архетипичными и юродивому, и хасиду, населено пространство романа Рубиной «Вот идет Мессия!»: «Танька Гурвич, которую все обитатели квартала “Русский стан”… называли Танька Голая, была женщиной в высшей степени порядочной и даже — не побоимся этого слова — высоконравственной. То, что она порой появлялась в местах скопления публики неодетой или, скажем мягче, — малоодетой, шло от внутренней ее чистоты и младенчески ясного восприятия жизни. <…> Раввин …объяснял этот феномен тем, что Танькина душа — по каббалистическим понятиям, совсем новенькая… — душа … не являлась … частицей души библейской Евы. <…> И стыда наготы не ведала. <…> Никогда не лгала. На чужую копейку не посягала. Чистейшая душа — никому не завидовала. Более того — не прелюбодействовала!»2. Сосед Таньки нравоучает ее: «Ты, Танька, среди религиозных людей живешь и ни хрена не знаешь. Хоть бы книжек каких почитала, что ли… Завтра Йом Кипур, ясно тебе? Положено об отпущении грехов молить. И трепетать! — А че мне трепетать? — удивилась Танька. — У меня грехов нет. И она говорила чистую правду»3. По словам А.Л. Юрганова, «Только святому открывается (в силу дарованной ему благодати) особое зрение. Он зрит то, что никто увидеть не в состоянии, а значит, действия юродивого непонятны, безумны…»4. Танька Гурвич, всем своим поведением и обликом не соответствующая социальным нормам и клише, — чистая душа из рода юродивых5. 1 Зингер 2001а: 43. Рубина 2001а: 196–197. 3 Рубина 2001а: 320. 2 4 Юрганов 2004: 101. «Каждый святой сам устанавливает меру собственного смирения. В житии Василия Блаженного подчеркивается, что он наставляем Святым Духом. “Во юродство претворися и обнажи тело свое”. Формой выражения юродства для Василия стало тело нагое» [Юрганов 2004: 106]. 5 120 Оттого, что все вокруг ждут пришествия Мессии («А между тем Машиах придет в две тысячи седьмом году!»1) и потому, «что евреи екнулись на пришествии Мессии (по-здешнему Машиаха)»2, он «появляется» в разных обличиях, одних раздражая, других удивляя и пугая. «Но то поголовное, повсеместное, профессиональное ожидание Мессии (ожидание с вокзальным, справедливо добавить, оттенком), с каким она столкнулась в этой стране, поначалу ее даже обескуражило. К счастью, она сразу поняла, что Ожидание является здесь образом жизни, основным ее содержанием, а она свято относилась ко всему, что составляло основное содержание жизни любого человека»3. Безумный Мустафа, со слегка прикрытой наготой, курсирующий по одному и тому же маршруту с банкой позвякивающих монет, ритмично, монотонно напевает: «Вот, вот идет Машиах…» — то ли как угрозу, то ли как предупреждение. Многочисленные знакомые и Зямы, и писательницы N., — по прежней и по новой жизни, потенциальные авторы газеты, прохожие, благочестивые и не прилежащие никакой вере, уголовники (персонажи, облик которых предполагает их социальный статус), все, ныне живущие и давно ушедшие4, — словом, множество персонажей, упомянутых раз или занимающих значительное место в сюжетном пространстве романа «Вот идет Мессия!», претендуют на роль Мессии или таковыми их видят окружающие. С первого взгляда, в таком обилии «мессий» видится авторская ирония, которой наделена ее героиня-рассказчик. Она, «Одежда его (Феодосия Печерского) была “худа и сплатана”. Родители не один раз уговаривали его одеться почище… и пойти играть с детьми, но он не слушался уговоров и по-прежнему ходил, словно нищий…» [Юрганов 2004: 107]. 1 Рубина 2001а: 7. 2 Рубина 2001а: 10. 3 Рубина 2001а. 4 Иерусалим – город, «материализующий» страхи и ожидание Мессии, город, где трансформируются «адреса электронной почты в человеческую плоть» [Михайличенко 2001: 232]. «Я пошла прочь по этому городу, где, как в фонтанчике Сулеймана, жизнь складывается из несовместимых элементов: психоза и пророчества, чуда и расчета, из прошлого, которое было, и прошлого, которого не было» [Михайличенко 2001: 241]. 121 будучи чужой, пришлой, добросовестно пытается понять народ, отныне ставший ее народом, слиться с ним, раствориться в нем. Но слепого, нерассудочного слияния не случается (а именно так, видимо, предполагает вера: без рефлексии и тем более без иронии). Рассказчик (как и ее героини Зяма и писательница N.) и верит вместе со всеми в приход Мессии, и не без удовольствия участвует в «стебе» на эту тему. Ее позицию не назовешь верой и не назовешь безверием — это некая промежуточная позиция. Философию такого медиаторного мировоззрения, столь популярного на рубеже XX — XXI вв., раскрывает М. Эпштейн, называя подобный взгляд на мир и подобную веру «ангелизмом». «Ангелизм — это следующая, постатеистическая стадия мировоззрения. Ангелы — не боги, они всего лишь посланники, забывшие о том, кто их послал, или скрывающие это от себя и от людей, и это посланничество без Пославшего придает им слегка растерянный и отчужденный вид. <…> Ангелы… в отличие от первобытных богов, лишены плоти и только блуждают на границах с землей, изредка, на собственный страх и риск, пересекая эти границы, и, в отличие от Бога иудаизма, христианства, ислама, лишены единой сущности и промыслительной воли. <…> Ангелы — это слухи о потусторонних мирах, но кто пустил эти слухи, чему они соответствуют, кто за ними стоит — нам не дано знать. Ангелизм… Это гипотетическое состояние религиозного ума, который ищет тесного промежутка между тезисом и антитезисом, между верой и неверием, находя, что и синтез между ними невозможен…»1. Один из главных персонажей этого «мессианского» карнавала в романе Рубиной так и назван: Ангел-Рая. Недвусмысленная семантика имени героини подчеркивается «дабл»-приемом: – «…сирая библиотечная пташка, книжная краснопресненская моль обернулась здесь всеблагой Жар-Птицей, семикрылым серафимом, являющимся на всех, без исключения, перепутьях, перед всеми, без исключения, томимыми жаждой…»2; – «…обаяние ее улыбки было не обычного, а какого-то радиоактивного свойства»3; 1 Эпштейн 2005: 347–348. Рубина 2001а: 66. 3 Рубина 2001а: 67. 2 122 – «Она улыбалась и стеснительно говорила, рассыпала горстями ксилофонные звоночки своего небесного голоса: “А что — я? Я — простой библиотекарь…”»1; – «Иногда вот задумаешься и даже испугаешься: а чего ж она, Ангел-Рая, в конце концов, хочет? Ну не миром же, в самом деле, править? Хотя еще пару-тройку таких вот ангелов… и чем не заговор сионских мудрецов?»2; – «…к счастью, ближайшей соседкой Рабиновича оказалась Ангел-Рая, и Сашка сразу сообразил, что рука об руку с этим гениальным режиссером можно закатывать такие грандиозные шоу, гала-концерты и вселенские оперы в природных декорациях Иудейской пустыни, что — согласно пророчествам — расступятся горы, выйдут потоки из Иерусалима, и соберутся в долине Иосафата все народы Земли, и будет их судить Великая русская алия»3. Такова концепция образа Ангела-Раи, такова ее роль — режиссера — в национальной космогонической-эсхатологической парадигме, по мнению автора. «И вдруг… Внезапно… Умерла Ангел-Рая»4. Но пророческая, «бессмертная» сущность Ангел-Раи метаморфизировалась: Ангел-Рая воскресла, — с одной стороны, по законам карнавализации, действующим в поэтике романа Рубиной, с другой стороны, по законам «промежуточных обрядов», исследованных А. ван Геннепом. «И наконец в один прекрасный вечер… из подъехавшей к Духовному центру машины вышла прелестная… рыжеволосая женщина…»5, «Веселись ныне и радуйся, Сионе!»6, «И Ангел-Рая взлетела…»7. И с третьей стороны — по высшим законам, интерпретированным средневековым мудрецом, автором «Зогара»: Бог делает Ангелов своими ветрами, в миг, «когда спускаются они вниз, одеваются в одежды этого мира, и если они не оденутся в одежды, под1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 6 Рубина 7 Рубина 2 2001а: 2001а: 2001а: 2001а: 2001а: 2001а: 2001а: 70. 71. 87. 90. 95. 96. 68. 123 ходящие для этого мира, не смогут они существовать в этом мире, и мир не вынесет их присутствия»1. Как утверждает А. ван Геннеп, «обряды перехода встречаются… в обрядах воскрешения и перевоплощения. Действительно, если душа была отделена от живых и приобщена к миру мертвых, она может затем перемещаться в обратном направлении и появиться среди нас либо сама по себе, либо по принуждению. Механизм этого очень простой: достаточно, чтобы душа поместилась в женщину и вновь появилась в образе новорожденного ребенка»2 (курсив мой. — Э.Ш ). Один из персонажей романа (Рабинович), удивившись голосу, ангельскому голосу Ангел-Раи, услышанному из телефонной трубки, вдруг осенен открытием: «Доктор… слушай… а ведь Ангел-Рая… — Ну? — Знаешь, кто она? <…> АнгелРая — Машиах! <…>. — Баба — Машиах?! Ты сбрендил! <…> — Машиах, Машиах! — настаивал Рабинович. — Царь иудейский. Царица»3. Вера и неверие, страх и надежда, будет — не будет, придет — не придет — все эти грани отражены в многоликом спектре персонажей-Мессий в романе Рубиной, в разных интонациях, которыми они окрашены. Думается, в этом ряду также проявлен тот самый ангелизм — «среднее, промежуточное звено в духовной иерархии… В этой иерархии срединное место занимают ангелы — они-то и оказываются в центре современного полурелигиозного сознания. Возвращение ангелов, как ни странно, подготовлено всем ходом истории. <…> Именно предельная технологизация и деперсонализация всей культурной среды раскрывает в ней присутствие “иных духов”, именуемых ангелами. <…> Нынешние ангелы — это вестники без Вести, суверенные духовные существа, над которыми нет никакого духовного единоначалия, никакой всемогущей и всеведущей воли. Интерес к ангелам — симптом современного состояния культуры, которая очень хочет — и никак не решается стать религиозной. Анатомия ангелического — это духовная эклектика постмодернизма… Все это уже 1 Кравцов 1994: 235. Геннеп 2002: 147. 3 Рубина 2001а: 340–341. 2 124 позади: и вера во Всевышнего, и неверие в Него… Что остается — так это общение с ангелами, чистыми духами, являющими такое же разнообразие запредельных разумов и воль, как разнообразны земные культуры в представлении постмодернистской теории “многокультурия”. Ангелизм — это и есть небесный извод плюрализма, религия постмодерна, когда утверждается множественность равноправных и самоценных духовных существ взамен одной истины, одного господствующего Сверхсущества»1. Повсеместное ожидание Мессии в романе Рубиной находит воплощение во «множественности равноправных духовных существ». Аналогию находим в романе Л. Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик», где повествуется о рожденном у немолодых родителей мальчике с синдромом Дауна. Родители отвергли специальную школу, где обучаются дети с подобными отклонениями, по сути отказавшись от того, чтобы мальчик научился читать, писать, общаться. И все потому, что отец мальчика, священник Ефим Довитас (несмотря на выбранный им религиозный путь православия) уверовал, что его сын — Мессия. «Сын Божий пришел в мир через плоть. На иврите благовестие “бесора” и мясо, плоть “басар” — родственные слова. Это и есть самая большая весть — Бог в нашей плоти. Истинно так. В плоти моего сына Ицхака. Этот мальчик соединил нас с Богом особым образом — моя плоть восприняла Божественную природу через него. Я сделал сыну обрезание не для того, чтобы он был иудеем, а для того, чтобы он стал Мессией»2. Рубина, меняя звучание, интонации, создает стилистическую палитру, окрашивающую образ Мессии в мессианский процесс: это и сакральное звучание, и комическое, и мистическое. Сакральное звучание не лишено религиозно-моралистического пафоса: «Водитель тель-авивского такси Эли Машиах обнаружил на заднем сиденье своей машины сверток с весьма солидной суммой денег. <…> Позвоните по телефону, и благородный таксист вручит вам вашу пропажу…»3. Так нарисована 1 Эпштейн 2005: 343–345. Улицкая 2006: 452. 3 Рубина 2001а: 172. 2 125 модель идеального поведения — не зря персонаж носит столь знаковое имя. Жена водителя автобуса, Сара, печет в любую погоду, невзирая на самочувствие, булочки, которыми ее муж наутро накормит солдат, нуждающихся в заботе и родительском внимании1. Так должен вести себя человек в ожидании Мессии. Хаим, муж Сары, инициатор ежеутренней акции с булочками, — чем не Машиах? В метапространстве романа образ Хаима составляет параллель образу женщины, живущей на улице (в щели), по которой, согласно устной традиции, пройдет, по пришествии, Мессия. «Машиах верхом на белой ослице, не бывшей еще под седлом, спустится с горы Мерон — видите ее в просвете? — и как раз по этой улице поднимется сюда, чтобы затем, через гору Меггидо, на которой и должна произойти будущая битва сынов Света с сынами Тьмы (так называемый Армагеддон), взять курс на Иерушалаим. Пересечь Иудейскую пустыню и войти в город через Золотые ворота. <…> Так вот, в самом низу этой улочки, в крайнем доме, живет женщина, ничем не примечательная женщина по имени Йохевет. <…> Каждый день она печет бурекасы. Потому что Машиах остановится у ее дома и попросит поесть. Тогда она вынесет ему горячие бурекасы, он поест и поедет своей дорогой. И так она в это верит, так истово верит, что каждый день печет бурекасы. Каждый день Йохевет готова к пришествию Машиаха»2. Комическое звучание отличает сцены, в которых являются почти нескончаемым потоком самозванцы-Мессии, искренне верящие в свое предназначение. Повторяемость, ритмичность и схожесть друг с другом этих сцен рождают комический эффект: – «Так что вот, живешь ты, живешь… и вдруг ощущаешь в себе концентрацию неких мощных сил… Так что опрощать не стоит… Ибо Машиах — это… <…> Это ты? — кротко догадалась его собеседница»3; – «Несколько раз являлись Мессии. Двое из них были в образе авторов и даже с рукописями в папках, а один — вскло1 Рубина 2001а: 181. Рубина 2001а: 272. 3 Рубина 2001а: 10. 2 126 коченный, с блуждающим темным взором, рванув дверь, рыдающим голосом спрашивал, не пробегала ли здесь молодая ослица, не знающая седла. И повторял жалобно: “Белая такая, беленькая, славная…”»1; – «…Лева был Божьим человеком, кое-кто даже полагал, что в свое время он будет взят живым на небо…»2; – «Обжора Витя приговаривал, поворачивая ключ в замке: “Явится еще, не приведи Бог, Машиах — куска проглотить не даст…”»3; – «…Рон Кац выдвигал новую научную теорию в области историко-этнографических изысканий. Рон, безусловно, был сумасшедшим. <…> Двадцатисемилетний Рон Кац был гением»4. Из эфира звучит вопрос радиослушателя: «Когда же явится Мессия? Известна ли вам дата? — Точная дата мне неизвестна, но мы должны надеяться, что он может явиться в любой день. — А как насчет великой войны между Гогом и Магогом, которая, согласно Писанию, должна предшествовать явлению Мессии? <…> — Значит, мирный процесс приближает явление Мессии? — Разумеется, — отвечал, улыбаясь, благообразный рав Баба Мотя, — нынешнее поколение евреев будет жить при Машиахе!”»5. Русскоязычному читателю хорошо знакомо это клише времен «развитого социализма». Мифологема ожидания, ее архетипичность та же, образное наполнение ситуативно и национально, — что и создает комический эффект. Посетительница в редакции обращается к Зяме: «Здесь написано о моем сыне. <…> Он разгадал секрет пепла красной коровы! <…> Вы понимаете — чем это пахнет? Увы, Зяма понимала. Это пахло очередным Машиахом»6. Стремление разгадать какое-либо хитросплетение (реальное или метафизическое), дарующее благодать, реализацию утопии, свойственно человеческой природе. В этот ряд можно поставить, казалось бы, совершенно разнородные вещи: алхи1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 6 Рубина 2 2001а: 2001а: 2001а: 2001а: 2001а: 2001а: 35. 29. 46. 48. 190–191. 206–207. 127 мию, perpetuum mobile, построение коммунизма, ряд может быть продолжен; тайна «рыжей телицы», или «красной коровы», попытка ее разгадать — той же направленности. Этот ритуал «библейского происхождения, отмененный после разрушения Храма, при котором забивалась и полностью сжигалась телица рыжей масти. Затем пепел животного смешивался с водой из источника, становящейся очистительной… и используемой для очищения предметов и людей, прикасавшихся к трупу. Однако эта очистительная вода загрязняла того, кто ее готовил или соприкасался с ней. Этот парадокс служил основанием для некоторых мудрецов зачислить притчу о рыжей телице в число божественных заповедей, тайну которых человек не может постичь»1. Эта тайна, наряду с другими, своего рода perpetuum mobile по наивному «выведению» очередного Мессии. В пространстве «мессианского» романа Рубиной воссоздана технология рождения фольклорного сюжета: врач рассказывает о якобы реальном факте из своей практики, но «законы» рождения сюжета, само сюжетостроение повествования отсылают слушателя (и читателя) к жанру анекдота. Возможно, так «зажил» романной жизнью у Рубиной уже существовавший анекдот или же описанный эпизод станет (непременно) анекдотом, фактом устной повествовательной традиции в пострубинском дискурсе (скорее, первое): «Доктор рассказал несколько своих коронных из серии “А вот у меня был пациент!”. В частности, об одном предпринимателе из Карачаевска. Тот приехал туристом, увидел, что Иерусалим обклеен воззваниями “Готовьтесь к пришествию Мессии!”, и придумал выпускать майки с надписью: “Ну, нате, я пришел!” Взял гражданство, вернулся на родину и создал совместную карачаевско-иерусалимскую хевру. Симпатичные такие маечки, чистый хлопок. Морда осла на груди и вокруг нее надпись. Ну, нате, мол, вот он я… Прилично, доложу я вам, мужик заработал. Что вы думаете? Во второй деловой приезд его долбанул иерусалимский синдром2, прямо в старом городе, на Виа Долороза… Дело ведь известное — у нас таких случаев до шестидесяти в год, палаты переполнены. Бился головой о тротуар, пена на губах, кри1 Аттиас, Бенбесса 2000: 152–153. «…Здешние психиатры ввели новый термин – “Иерусалимский синдром”. Это безумие на религиозной почве» [Улицкая 2006: 493]. 2 128 чал — я пришел, мол, я пришел, нате…»1. Мистическое звучание «мессианского текста» лежит в плоскости «веры-неверия», страха и сомнения, мотива «а вдруг!», что в русском фольклоре равнозначно поговорке чем черт не шутит: «…по ту сторону решетки, держась за нее обеими руками, стоял и смотрел на Витю большой и неудобный, странный человек с пронзительно красивым2 бритым лицом, несколько припухлым. Странным, в частности, казалось то, что, как и Витя, человек этот был полуголым, и каждый сантиметр его обширной, прекрасно развитой груди, а также предплечий и даже кистей рук был перегружен татуировкой. На разные темы. <…> — Сын человеческий! — Так, подумал Витя. Прелестно. Вот идет Машиах… — Я послан к сынам Исраэля, к коленам непокорным… — продолжал тот наизусть, — речей их не убоюсь и лиц не устрашусь, ибо они — дом мятежный… <…> — Что вам, собственно, угодно? — необычайно деликатно спросил Витя. — Мне? Посцать, — сказал Машиах вежливо. — Пусти меня, сын человеческий! Я вижу цель свою за твоей спиной. Витя вздохнул. — Ссыте на здоровье. На улице, — не менее вежливо посоветовал он… <…> — На улице?! — тихо и тоже необыкновенно кротко спросил Машиах. — Ты что, бля, тебя где воспитывали?! <…> — Что же вы сквозь решетку не проходите, если вы Машиах? <…> Просунув руку между толстыми железными прутьями, он как-то — glissando — скользнул пальцами по амбарному замку… и тот распался и с грохотом обрушился на пол…»3 (курсив мой. — Э.Ш.). Наутро этот «Машиах», каким-то образом сумевший пройти сквозь железную дверь и тем напугавший Виктора, сидел с ножом в животе и смотрел «уже совсем в иные дали»4. На вопрос полицейского, знает ли он этого человека, Виктор, обезумев от этих двух встреч, ответил, что знает: это — Машиах. 1 Рубина 2001а: 329. Представление о Мессии в иудаистской мифологии связано с Давидом, а внешности Давида в иудаизме уделено особое внимание: он был красив, «белокур, с красивыми глазами и приятным лицом… <…> В каббалистической книге “Зогар” говорится, что глаза Давида были цвета радуги и блестели…» [Шкунаев 1991: 345]. 3 Рубина 2001а: 351–352. 4 Рубина 2001а: 370.. 2 129 Собственно, Мессией, по словам одного из персонажей романа, может стать любой, ведь «Машиах — вполне телесный, реальный человек, полный сил и радости»1, а так как «весь народ, по своему обыкновению, ждет Мессию…»2, то все возможно. И неважно, случится это в преддверии Судного дня или в момент его кульминации, дело в том, что «Мессия идет», он, скорее всего, уже рядом: это и Хаим, раздающий булочки, и Йохевет, пекущая бурекасы, и Ангел-Рая, которая любит, «когда всем хорошо»3, и, возможно, этот красивый, татуированный бандит. В многозвучном мессианском спектре есть доля авторской иронической игры, в глубине которой запрятана (чтобы не выглядеть пафосной) морально-этическая позиция писателя: «А не перенести ли действие на канун Судного дня? Или наоборот — на вечер Судного дня»4, то есть в сущности — не все ли равно? Куда важнее сделать гуманистическую позицию внутренним законом, чтобы не трепетать в канун Судного дня, отстаивая многочасовой молебен, гадая, какой приговор будет вынесен тебе. «По традиции именно в эти дни лично и конкретно тебе выносится приговор. А в судный день наш, в Йом Кипур, приговор этот подписан и обжалованию не подлежит. Так что какая там пьянка. Если ты и знать не знаешь — то ли положен тебе крупный чек по ведомости, то ли вышка. Тут впору трястись мелкой дрожью, рыдать и каяться»5. И чтобы не трястись и не каяться, помни о Мессии, помни о человеческом долге, помни о заповедях Божьих — так нам видится семантика заглавия романа. В еврейской устной словесности6 есть притча, суть которой в том, что Мессия придет тогда, когда каждый, абсолютно каждый еврей соблюдет шаббат7. То есть условие для прихода Мессии – обязатель1 Рубина 2001а: 10. Рубина 2001а: 65. 3 Рубина 2001а: 71. 4 Рубина 2001а: 276. 5 Рубина 2001а: 318. 6 Истоки этой словесной традиции – в Исходе, Второй книге Моисеевой: Рабба 25, 12. 7 «Шаббат знаменует окончание акта Сотворения: “И благословил 2 130 ное выполнение Божьих заповедей. По сути о том же, но в иной стилистической палитре — цинично, приземленно — говорит персонаж из рассказа Рубиной «Коксинель»: главный бюрократ — сам Господь Бог. «Это его окончательную подпись в Книге Жизни мы ждем в Судный день ежегодно… и трепещем, как перед высочайшим чиновником, и толпимся в синагогах, и стараемся не раздражать Его, и желаем друг другу “Благоприятной подписи в Книге Жизни” — в огромном гроссбухе этой несправедливой, грязной, подлой, чудовищной, упоительной жизни…»1. Толкуя для русскоязычного читателя одно из правил иудаизма — цдака (справедливость, праведность, благотворительность), богослов Й. Телушкин приводит пример из своей социологической практики: «Два человека имеют одинаковые доходы и расходы. К ним обращается бедный, остро нуждающийся в пище и деньгах для своей семьи. Первый, выслушав рассказ о страданиях бедного, плачет и от доброты сердца дает ему 5 долларов. Второй тоже сочувствует, но не плачет и не хотел бы тратить свои деньги. Но поскольку религия предписывает ему отдать десятую часть дохода бедным, дает 100 долларов. Кто поступил лучше — тот, кто дал 5 долларов от чистого сердца или кто дал по велению религии 100 долларов? Оказалось, что от 70 до 90% студентов считают лучшим того, кто дал 5 долларов. <…> Стоило спросить тех же студентов: а вот если бы вы сами нуждались в деньгах, то что бы предпочли? И многие дали другой ответ. <…> “Иудаизм велит вам отдавать 10% своих доходов каждый год, и от всего сердца. Но если бы все зависело от ваших чувств, то в большинстве случаев ждать милосердия пришлось бы очень долго…”»2. Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал” (Бытие 2, 3). Он также напоминает об освобождении от рабства» [Аттиас, Бенбесса 2000: 206]. В течение шаббата (субботы) «верующий еврей не только воздержится от какоголибо труда: во время шаббата он будет передвигаться только пешком, в строго определенных пределах, он не будет прикасаться ни к огню, ни к электрическим приборам, ни к деньгам, он не будет готовить пищу (все должно быть приготовлено в пятницу), он не будет курить, писать, читать светские тексты и т. д. [Аттиас, Бенбесса 2000: 206]. 1 Рубина 2005: 146. 2 Телушкин 2002: 438–439. 131 Праведность, благотворительность, согласно иудаистской морали, — закон повседневной жизни. В авторской концепции романа Рубиной это требование присутствует в подтексте как гуманистическое слагаемое мессианского процесса, как залог ожидаемой утопии, утопии, без которой немыслимо существование еврейского народа. «Мессия же придет, когда евреи заслужат спасение благими делами»1, — рассуждают персонажи сказки о Големе, рассеивая сомнения по поводу того, не Мессия ли Голем. «Согласно нашим священным книгам, спасение придет к нам не отсюда. Наш Мессия будет святым человеком из плоти и крови, а не глиняным великаном»2. Таким образом, рубинский контекст, комментирующий ожидание Мессии, сродни фольклорному и мифологическому. И если мифологическая составляющая этой утопии оборачивается в сюжете романа Рубиной антиутопией, то ничего экстраординарного не происходит: трагедия финала также вписывается в мифологическую парадигму — искупительную жертву, сопряженную с приходом первого Мессии. Персонаж повести «Во вратах твоих» буквально, на уровне обыденности, повседневных реалий озвучивает «мессианскую» интенцию романа «Вот идет Мессия!»: «Смотри, в который раз Он напоминает нам: живите как люди, живите же, суки, как люди, не воруйте, не лгите, не лейте грязь друг на друга, — он махнул рукой... — Смотри, они думают, это называется — Саддам, Америка, ООН, то-се, прочая муйня. Ктото кого-то бомбит, противогазы, “скады-шмады”... А это просто Он в который раз дал нам по жопе... Напомнил... И что?! А ничего... Отпразднуют в Пурим победу над Амалеком и снова примутся воровать, мошенничать, лгать и хватать друг друга за грудки... И столько тысяч лет!.. Теперь скажи мне — ты встречала более тупой народ, чем мы?..»3. В сюжете романа «Вот идет Мессия!» каждому герою дано видеть своего Мессию (такова парадигма еврейской ментальности) или ощущать его в себе4. В этом процессе находит ме1 Зингер 2004: 592. Зингер 2004: 594. 3 Рубина 2004а: 359–360. 4 В рассказе «Иерусалимский синдром» [Михайличенко 2001] герои 2 132 сто и религиозное самозванство — «…голос Божий раздается в душе каждого человека неслышно для всех остальных, и только Богу дано отличать подлинных пророков от самозваных», по словам М. Эпштейна1. Для Зямы — это ее дед, ведь не зря, как рефрен, в пересказе о судьбе деда повторяются слова: «…дед умер, как праведник, незаметно, неслышно, во сне. <…> С вечера он вымыл ноги, как будто омыл с них земной прах…»2. Именно деда видит Зяма, погружаясь в метапространство Иерусалима: «“Отряхнись от праха, встань, воссядь, Ершолойм, — проговорил дед тоном, каким обычно произносил тосты на семейных торжествах. — Развяжи узлы на шее твоей, пленная дочь Сиона!” <…> — Деда, — спросила она изумленно и счастливо, — деда. Ты — Машиах? — Ну, Машиах! — сказал он. — Ай, мамэлэ, встань, не валяйся, я так рад тебя видеть! …И она поплыла над старыми ржавыми холмами Самарии, в молодом родниковом небе, между желтыми отмелями облаков. Чтобы через мгновение вынырнуть, очнуться и воочию узреть, как изо всех сил пляшет перед Господом Машиах — опоясанный льняным эйфодом красивый человек из дома Давида…»3 (курсив мой. — Э.Ш.). Зяма, и ее дед, и Ангел-Рая, и прочие персонажи, органика осознают себя жителями Города, построенного для жертвоприношений: «Что дышало мне в затылок с заднего сиденья? Как могло ОНО оказаться сильнее десятилетних водительских рефлексов? ЧТО может заставить обернуться перед светофором? <…> Это мягкая ласковая жуть, это присутствие того, что не может присутствовать» [Михайличенко 2001: 226–227], они физически начинают ощущать ЕГО присутствие: «Что это? – Ничего не знаю! Только чувствую, как он просыпается. <…> Из-за двери, из самой щели донесся протяжный НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ вздох» [Михайличенко 2001: 227–228]. В итоге, по прошествии тревожной ночи, с наступлением утра, с порцией телевизионных новостей, где передавали, что погиб юноша на дискотеке в Геенне Огненной (видимо, необходимая по приходе Мессии жертва), герой, Давид, «озвучивает» свою миссию ночной подружке: «Я не спасал твою жизнь. Или, если хочешь, я спасал не только твою жизнь. Я сейчас скажу тебе очень смешную вещь, – он болезненно скривился, – я, Белла, в общем-то, человечество спасал, – он вздохнул, – или даже больше, чем человечество…» [Михайличенко 2001: 240]. 1 Эпштейн 2005а: 202. 2 Рубина 2001а: 126. 3 Рубина 2001а: 384–385. 133 которых приближена к мессианской, — ангелы, замена, подмена: «И если есть у человека ангел-заступник, хотя бы один на тысячу, то пусть молвит слово в его оправдание и скажет: “Сжалься над ним, ибо вот за него выкуп”. “Это замена моя, это подмена моя, это искупление мое”»1. И когда воистину придет Машиах, тот, второй, то воскресит прежде тех, кто жил праведно, по закону Божьему: «…я, как обещано, подниму ее из мертвых — эту женщину с лебединой шеей, эту женщину, которая боялась темноты и пули, но не устрашилась лица своего народа»2. О том же читаем у еврейского писателя И.Б. Зингера: грешник, развратник, фокусник и чародей — люблинский штукарь Яша — уверовал в Бога, и люди потянулись к нему за советом с вопросом «Что делать? — По крайней мере не совершать зла. — Что это значит? — Не творить по отношению к другим несправедливости. Ни о ком плохо не говорить. Не держать на уме дурного. — И что будет? — Если все начнут так поступать, даже наш мир станет раем. — Люди не пойдут на это. — Каждый обязан делать что может. — И придет Мессия? — Иному не бывать»3. 1 Рубина 2001а: 386. Рубина 2001а: 385. 3 Зингер 2000: 245–246. 2 134 «Антисемитcкий» текст1 Ой, не шейте вы, евреи, ливреи, <…> Если будешь торговать ты елеем, Если станешь ты полезным евреем, Называться разрешат Россинантом И украсят лапсердак аксельбантом. Но и ставши в ремесле этом первым, Все равно тебе не быть камергером И не выйти на елее в Орфеи… Так не шейте ж вы ливреи, евреи!2 Александр Галич. «Предостережение» Мы руськие, а вы откель?3 Фридрих Горенштейн. «Псалом» Тема еврейства и антиеврейства в русской словесности ХХ в. во многом табуирована4. С. Довлатов выводит классификацию антисемитизма: государственный, бытовой, философский аспекты5. По мнению С. Чупринина, «еврейскую тему» лучше и не поднимать, «ибо зло, не названное по имени, еще не вызвано в этот мир...»6. В советской речи старались избегать слова «еврей», более допустимым был эвфемизм «лица еврейской национальности» в относительно нейтральной речи официоза, а в гневной, обличительной использовались эвфемизмы: «безродные космополиты», «сионисты» как варианты для обозначения «врагов народа»7. В предсоветском периоде также свято соблюдался 1 Под концептом «“Антисемитский” текст» имеется в виду не текст, создаваемый писателем (в чем иногда упрекают, совершенно безосновательно, Рубину, в частности, в связи с романом «Синдикат»), а текст, воссозданный автором на основании реалий повседневности, то есть «описываемый» антисемитский текст. 2 Галич 1977: 66. 3 Горенштейн 2001: 218. «Табу. Табу – о евреях. Дважды табу – еврей о России» [Иванова 2001: 10]. 5 Довлатов 2006: 356. 6 Чупринин 1993: 183. 7 Еленевская 2005: I, 78. 4 135 принцип — не портить русских газет еврейскими темами1. «Из-за того, что у нас считается очень distingué2 помалкивать о евреях, получилось самое нелепое следствие: можно попасть в антисемиты за одно слово “еврей” или за самый невинный отзыв о еврейских особенностях. <…> …Евреев превратили в какое-то запретное табу, на которое даже самой безобидной критики нельзя навести, и от этого обычая теряют больше всего именно евреи, потому что, в конце концов, создается такое впечатление, будто и самое имя “еврей” есть непечатное слово, которое надо пореже произносить…»3 (1909). «Слово “еврей” цензурно, но употребляется как бы в научном смысле, как латинское “пенис”. Сказать это слово бывает нужно, но при произнесении возникает заминка, говорящий пытается пробросить его незаметным пасом и тут же двинуться дальше. Человек называет себя русским, украинцем, татарином так же просто, как слесарем, пекарем, инженером, но каждый, кто говорит “я еврей”, так или иначе напрягается и — или выдавливает из себя как признание, или произносит с вызовом: да, я еврей, ну и что? Если русского еврея, как бы спокойно он ни относился к своей национальности, подвергнуть испытанию детектором лжи, он будет быстро, четко отвечать на любые вопросы, но при вопросе “кто вы по национальности”, непременно замнется, что будет прибором четко отмечено»4. По словам Б. Сарнова, официальный советский новояз заменил «стыдное» слово «еврей» на «лицо еврейской национальности» (эпоха перестройки позаимствовала эту парадигму — родилось «лицо кавказской национальности»), что стало калькой с «неприличного» языка (бывшая жидовская морда) на «приличный»5. Период 1990-х гг. — время массовой эмиграции в Израиль — сам собой снял этот «запрет». Писатели-эмигранты, пишущие по-русски, отлученные прежде от еврейского наследия, смогли наконец окунуться в еврейство — литературу, 1 Жаботинский 2004: 59. distingué – благородно (франц.). 3 Жаботинский 2004: 61. 4 Войнович 2004: 109–110. 5 Сарнов 2002: 225–226. 2 136 историю, культуру1; «антисемитский текст» также стал детабуированной темой в литературе на русском языке. Рассказ «Любка» (1987), пожалуй, наиболее откровенно в рубинском доизраильском творчестве поднимает тему антисемитизма. Характерной особенностью ее звучания представляется ни разу не «сказанное» — ни повествователем, ни персонажами — слово еврей. Из метапространства сюжета «Любки» вырисовывается фрагмент истории советского антисемитизма — «дело врачей» 1953 г., инициированное Сталиным. Надо сказать, что все «дела» мирового антисемитизма («дело Дрейфуса», «дело Бейлиса», «Протоколы сионских мудрецов» и прочие «кровавые дела») сводимы к парадигме антисемитского мифа — вопрос-ответ: «Кто виноват? — Жиды!». «…Русский вопрос: “Кто губит Россию?” — в полный рост встал, жжет и сверлит русского человека. …Когда русский обиды подытоживает, когда русская печь полна шипения и жужжания, “шши” да “жжи”, поди затеряйся… “Што… Жлоб… Шакал… Ж-ж-ж-жид…” <…> Ибо еврей в русском коллективе — это важная деталь для ощущения национального единства»2. Историко-юридический топоним «дело врачей» есть эвфемизм, лицемерно прикрывающий очередной виток антисемитской кампании — что и воспроизведено Рубиной в «Любке». «Дело в том, Люба… Может быть, вы не знали… Я ведь той же нации, что эти врачи… отравители»3. Читателю неизвестна фамилия героини, лишь ее имя — Ирина Михайловна, не названа ее национальность, зато есть портрет, в котором проступает мифологическая деталь этностереотипа: «Похожа была докторша на воспитанную девочку из ученой семьи. Некрасивая, веснушчатая. Нос не то чтобы очень велик, но как-то вперед выскакивает: “Я, я, сначала — я!”»4. Вероятно, фамилия у Ирины Михайловны нерусская, не зря так смешалась ее коллега: «Банду раскрыли, заговор врачей… — шептала Лена, оглядываясь на двери ординаторской. — Неужели 1 Вайскопф 2001. Горенштейн 2001: 301–302. 3 Рубина 2002а: 221. 4 Рубина 2002а: 200. 2 137 “Правды” не читали? Статья “Убийцы в белых халатах”… Отравители… — Нам “Правду” вечером приносят… — сказала Ирина Михайловна белыми губами. В животе было больно и пусто, непонятно даже, как эта пустота могла так болеть. — А фамилии?.. — Нерусские фамилии!1 — с жаром сообщила Лена, посмотрела на Ирину Михайловну и смешалась: — В основном…»2. Молодой врач Ирина Михайловна, любимица больных, в одночасье становится врагом: «Крюков, называвший Ирину Михайловну “девочка-доктор” и не забывавший при этом добавить “дай ей Бог здоровья”… заявил, что с сегодняшнего дня не желает подставляться шпионским наймитам для опытов над людьми»3. В антисемитском мифе нет логики, нет рациональной мотивации; бездна научных и публицистических трактатов, написанных «за» и «против», не внесла ясности, антисемитский миф жив, возможно, став экзистенциальной составляющей полиэтнической картины мира. Ф. Горенштейн в романе «Псалом» назвал этот миф «болезнью духа». Авторство термина «антисемитизм» принадлежит Вильгельму Марру, новое слово якобы было сконструировано взамен слишком откровенного «юденхасс» (Judenhaβ — ненависть к евреям). К семитам4, как известно, относятся не только евреи, но и арабы, ассирийцы, эламиты, арамейцы, потому, в сущности, термин неверен, так как, например, арабы, будучи семитами, могут быть антисемитами5 по сути. В своем повседневном бытовании смысл «антисеми1 В перечне имен по «делу врачей» были «еврейские фамилии: Фельдман, Эттингер, Вовси, Коган… Коганов было даже двое. И хотя упоминался в этом перечне и знаменитый русский врач – профессор Виноградов, – сообщение не оставляло ни малейших сомнений насчет того, КТО был душой и главной действующей силой этого вселенского заговора» [Сарнов 2002: 73]. 2 Рубина 2002а: 216. 3 Рубина 2002а: 223. 4 Слово «семиты» происходит от имени сына Ноя – Сем (Шем или Сим). 5 В отличие от агрессивного термина антисемитизм, на Западе в обиходе термин асемитизм – «Это не борьба, не травля, не атака: это – безукоризненно корректное по форме желание обходиться в своем кругу без нелюбимого элемента» [Жаботинский 2004: 61]. 138 тизма» тот же, что и у слов «юдофобия», «юденхасс», то есть «неприятие евреев, ненависть к ним»1. Истории антисемитизма, возможно, столько же лет, сколько и христианству2, хотя исследователи отсылают к конкретному веку — XII, так как одним из первых процессов по обвинению евреев в ритуальном убийстве принято считать тот, что проходил в г. Норвиче (Англия) в 1144 г.3 «“Христоубийца” — одно из последних слов, которое слышали десятки тысяч евреев перед тем, как быть убитыми»4. «Идеологические» разногласия двух религий породили жесткие и жестокие последствия. Но вряд ли в основании погромов, Холокоста и так называемого «бытового антисемитизма» лежит идеология. Мотив оппозиции «свой — чужой» — один из древнейших в словесности, именно к нему, думается, восходят истоки и суть антисемитизма. «Все “чужое” настороженно отрицается как неприемлемое и греховное, а всякий представитель иноэтнической группы воспринимается как существо опасное и потустороннее»5. Этноцентризм (и топосоцентризм) характерен для фольклора всех времен и народов (его палитра — от безобидно-комической до деструктивно-агрессивной). Этноцентризм прошлого, известный из традиционного русского фольклора (былины, исторические песни, баллады), с элементами ксенофобии, обостряется в контексте экстремальных событий — войн, политических конфликтов — что логично и мотивированно. Ксенофобия как тема фольклора то «дремлет», то становится чрезвычайно активной. Хотя ксенофобский фон (если исходить из перевода слова «ксенофобия» — боязнь, неприятие чужих) в повседневности присутствует всегда. Например, стереотипы: Питер не любит Москву, Москва — Питер; 1 Телушкин 2002: 400. «Хотя нацистское государство и отделяло себя от церкви, и многие христиане не только не одобряли убийство евреев, но и спасали евреев, но никуда нельзя уйти от факта, что двухтысячелетнее официальное христианство хотя и руководствовалось заветами христианской любви, но несло в себе неистребимую ненависть к евреям» [Улицкая 2006: 85]. 3 Дандес 2003: 208. 4 Телушкин 2002: 395. 5 Белова 2005: 7. 2 139 украинцы — «москалей», Москва — «хохлов»1; Москва — провинцию: «Понаехали тут!»2, провинция — Москву: «Зажрались там!». В «перестроечное» время (ближе к финалу) в республиках бывшего СССР, когда обострилось национальное самосознание, стали появляться листовки: «Русские, езжайте в Рязань, татары — в Казань!». Этническая консолидация (как один из мотивов зарождения классического эпоса) диктует и этнический статус богатыря и его врага. Богатырь всегда русский человек, его враг — чужанин, «басурманин», «злое татаровье» или «Литва поганая». Неоднозначно комментируемая на протяжении двухвекового былиноведения былина о Василии Буслаеве в метасюжете содержит неприятие героем состава нового города — Нова-города, многоэтнического торгово-ремесленного «Вавилона». Свою позицию — защиту старых устоев — Василий Буслаев демонстрирует также неприятием чужого города, чужих ему ценностей по дороге в Иерусалим и обратно. В русской исторической песне «Кострюк» аллегорически обозначена тема отношения Москвы к «матушке проклятой Литве»: умирающая царица завещает Ивану Васильевичу взять себе вторую жену лучше на Москве, пусть даже из татарской породы. «Москва до того отатарилась, что Иван Васильевич не побрезгует татарской родней», — говорит фольклорист XIX в. Ф.И. Буслаев. Но царь сделал еще хуже: он все же вывез супругу из «проклятой Литвы». Историческая песня не одобряет этой устремленности царя к чужеземице. И раз родство это, как виделось народу, было противоестественно, да притом чужеземка оказалась колдуньей, царь умертвил молодую жену3. 1 Одна из легенд, записанных в начале ХХ в. в Подолии, повествует, «что Бог сотворил сразу все народы – турок, татар, немцев, русских, не было только среди них “москаля”, сотворить которого попросил св. Петр… Бог велел поднять Петру камешек, из-под которого тотчас же выскочил “москаль”, схватил Петра за бороду и стал требовать у него “пашпорт”, угрожая при этом полицией. Петру пришлось дать “москалю” на горилку, чтобы тот отцепился…» [Белова 2005: 18]. С тех пор, по словам рассказчика, москали цепляются до всех людей, у кого нет паспорта. 2 По поводу соседа-еврея персонаж Горенштейна: «Понаехали в Москву. Даже в дворники лезут» [Горенштейн 2001: 285]. 3 Буслаев 2003: 112. 140 Неприятие иноплеменных, чужих (а потому «поганых») своеобразно выражено в русской фольклорной балладе «Татарский полон»: полоненная мать встречается с дочерью, увезенной в плен раньше. В балладе нет изображения ужасов неволи — плененная дочь не рабыня, а жена богатого татарина. Она довольна жизнью, не желает расставаться с мужем-татарином и со своими детьми. «Нет, матушка, обзавелась я малыми деточками»1. Варианты баллады (их три) предлагают два пути: уехать или остаться. Мать в двух вариантах баллады уезжает на «святую Русь», в одном — остается: «Не поеду я / На святую Русь, / Я с тобой, дитя, / Не расстануся»2. «Татарочка» никак не осуждается ни исполнителем баллады, ни всем строем балладного сюжета. В колыбельной, которую поет детям — свои внукам — мать «татарочки», выражена распространенная для эпического сознания позиция: «Мне дитей назвать — / Мне вера не та!»3. Если в эпосе (в былине и исторической песне) любые контакты с погаными резко осуждались (например, жена князя Владимира — в былине «Алеша и Тугарин», царь Иван Грозный, женившийся на Марье Темрюковне, — в исторической песне), то в балладе такая категоричность исчезает: для «татарочки» малые дети (неважно, что их отец татарин) дороже всего. И еще вспоминается яркий пример — уже из литературы: Иван Северьянович Флягин из лесковского «Очарованного странника», для которого дети, его дети, рожденные «татарочками», вовсе и не дети, потому что нехристи: «Позвольте, однако, спросить вас: почему вы их все называете “Кольками” да “Наташками”? — А это по-татарски. У них всё если взрослый человек — так Иван, а женщина — Наташа, а мальчиков они Кольками кличут, так и моих жен, хоть они и татарки были, но по мне их все уже русскими числили и Наташками звали, а мальчишек Кольками. Однако все это, разумеется, только поверхностно, потому что они были без всяких церковных таинств, и я их за своих детей не почитал. — Как же не почитали за своих? почему же это так? — Да что же их считать, когда они некрещеные-с и миром не мазаны. — А чувства-то ваши родительские? — Что же такое-с? — Да 1 Балашов 1963: 187. Балашов 1963: 185. 3 Балашов 1963: 184. 2 141 неужто же вы этих детей нимало и не любили и не ласкали их никогда? — Да ведь как их ласкать? Разумеется, если, бывало, когда один сидишь, а который-нибудь подбежит, ну ничего, по головке его рукой поведешь, погладишь и скажешь ему: “Ступай к матери”, но только это редко доводилось, потому мне не до них было»1. Традиционная кричалка антисемитских погромов ХХ в. — «Бей жидов — спасай Россию!» — на рубеже XX — XXI вв. сменила свою этно-ксенофобскую направленность: «Бей хачей — спасай Россию!» («хачи» — «лица кавказской национальности»). (Вспомним былинного Василия Буслаева.) Фольклористские опросы информантов при записывании нарративов с этностереотипными мотивами демонстрируют совпадение бытового антисемитизма с идеологемами его духовных вождей. Хотя иногда фольклор вносит свои коррективы, нелогичные, но объяснимые желанием переделать «чужого» в «своего». В повседневности образ «чужого» мифологизируется определенным фенотипом: одним из доминирующих признаков «чужого» представляется черный цвет волос, характерный для цыган, евреев и прочих инородцев. Один из фольклорных нарративов как бы реабилитирует Христа, выводя его за пределы родного ему этнического сообщества: «…уже доказано, шо сам Иисус <…> шо вин сам сроде як не еврэй. Чэрэз то, шо ў нэго буллы очи, очи буллы зэлэнковаты, сам буў рыжоватый, каштанового цвету буў волос, вот по ўсих сих датах…»2. Исследования этностереотипов показывают, что в любой культуре существует стандартная схема при описании фено- и этнотипа чужака, включающая внешность, запах, сверхъестественные свойства (способность к оборотничеству, магии и колдовству), «неправильное» поведение и другие черты3. Одна из многих типичных фольклористских записей об этностереотипах: «У ных во-о-о! воны хитрый народ, воны богато жыли. О жыды, я ж вам кажу…»4. Этот мотив воспроизведен Горенштейном: персонаж романа «Псалом», агрессивный антисемит Вася Коробков, не зна1 Лесков Белова 3 Белова 4 Белова 2 1989: 2005: 2005: 2005: 263. 41. 10. 42. 142 ет о своем еврейском происхождении: «Вот и наградил меня внешностью вроде бы жидовской... <…> Один я нос имею кривой, а глаза и волосы черные. <…> К тому же, братцы, я как раз гонорар получил и в ресторане… закусил водку хорошим украинским борщом с чесночными пампушками. Повернулся я к жиду, который меня, украинца, имел наглость за своего принять, может, из-за запаха чесночного»1. Встретившись с отцом, на которого похож как две капли, антисемит не может согласиться с правдой: какую угодно кровь он потерпит, хоть турецкую, но не еврейскую: «Ну… расскажи, сыночек, как ты ругал еврейского Бога своего? — Врешь, жид, — кричит Вася. — Украинец отец мой… С туретчинкой украинец. <…> И Бог мой православный. А жидовского Бога ненавижу. И нечистый жидовский хлеб ваш ненавижу»2. Покинув отца, антисемит, получив очередной попрек своей внешности («Куда прешь, жид, глаза повылазили, что ли?»3), пришел домой и удавился. Подобный феномен, связанный с переходом (сознательным в каком-то поколении и забываемым в последующих) еврея в христианство, по словам Жаботинского, породил фольклорную формулу — «дед ассимилятор, отец крещен, сын антисемит». В итоге у сына ничего не остается, «кроме глухой досады на всех евреев за то, что его еще все-таки иногда поругивают Judenbub’ом4. Забыть о еврействе ему не дадут, любить еврейство он не может — остается одно — ненавидеть…»5. Другой персонаж Горенштейна униженно выслушивает упреки своей жены-нееврейки: «Хватит уже, что ты наделил мальчика таким длинным носом… Его все дети дразнят на улице… — При чем тут я? — нервно покраснел Иволгин. — Посмотри, у меня нормальный нос, и у отца моего был не еврейский нос»6. В романе Рубиной «Синдикат» есть эпизод, где персонаж, по имени Яша, хранящий самые добрые воспоминания о любимом 1 Горенштейн 2001: 346–347. Горенштейн 2001: 390. 3 Горенштейн 2001: 391. 4 Judenbub (нем.) – еврейчик. 5 Жаботинский 2004: 85. 6 Горенштейн 2001: 282. 2 143 дедушке Мине («десятилетний Яшка высох от любви и тоски по нему»1), уже взрослым осознав, что дед был евреем, увидел в одном из южных городов сидящего на скамье старика, напомнившего своим сходством любимого деда. Подсев к нему и разговорившись, Яша спросил: много ли евреев в городе? Прежде было много — был ответ. И незнакомец стал рассказывать, как во время войны фашисты приняли его за еврея; убедившись же в его несемитском происхождении, ему предложили работу: сопровождать по дороге в газовую камеру машины с евреями. «Вот вы не поверите! — оживился он, — до чего хитрый же народ! Были такие, кто снимал рубашки, кофты, мочились в них и заворачивали лицо, и выживали, только притворялись мертвыми!»2. После такого откровенного, циничного признания Яша «становится» евреем: «Понимаешь? Сел на скамейку неким пареньком, а поднялся законченным евреем»3. Американский писатель Б. Маламуд в рассказе «Еврейптица» обыграл «схему» антисемитского фольклорного стереотипа еврея, представив еврея в виде черной вороны. Изображать этнотип чужака животным, в том числе птицей, насекомым — одна их характерных особенностей культуры вообще4. Залетевшая в открытое окно птица, ворона, оказалась говорящей, первая ее реплика возвестила тревогу — извечную тревогу евреев: «Гевалт, погром!». Птица попросила поесть — «кусочек селедки с корочкой хлеба» и, понравившись жене и сыну хозяина, но не понравившись самому хозяину, осталась жить, объявив себя «беженцем от антисемитов». Птица молилась, правда, «без Книги и без талеса, но со страстью», «без шляпы, без филактерий»5. Птица звалась «Шварц» («черный»: в обыденности «“чернявость” является отличительной внешней чертой евреев»6), она взяла на себя все заботы, связанные с учебой мальчика, и мальчик вскоре преуспел. Несмотря на это, Шварц раздражал хозяина дома: ему не нравился его 1 Рубина 2004д: 65. Рубина 2004д: 66. 3 Рубина 2004д: 67. 4 Еленевская 2005: I, 122; Белова 2005: 39–64. 5 Маламуд 2005: 432. 2 6 Белова 2005: 41. 144 «длинный шнобель», от него дурно пахло («Почему от тебя должно вонять, как от дохлой рыбы? — Я извиняюсь, мистер Коэн, но если кто-то ест чеснок, от него пахнет чесноком. Я три раза в день ем селедку. Кормите меня цветами, и я буду пахнуть цветами»1), словом, «свинская птица». Выселенный на балкон Шварц вел себя крайне деликатно, не желая причинить неудобство семье; и, тем не менее, ненавидящий его хозяин в день, ставший последним для Шварца, затеял с ним склоку, скрутил птице шею и выбросил в окно. «Весной, когда стаял снег, Мори (мальчик) нашел мертвую черную птицу на маленьком пустыре у реки: крылья были сломаны, шея свернута, и оба птичьих глаза выклеваны напрочь. — Кто это сделал с вами, мистер Шварц? — заплакал мальчик. — Антисемиты, — сказала потом Эдди (мать мальчика)»2. Уподобление еврея свинье в еврейской культуре звучит оскорбительно, так как свинья — нечистое животное3. Поэтому удивительным и парадоксальным выглядит ряд фрагментов еврейского текста в современной литературе — из романа Л. Улицкой: «Я вошел в дом — большой холл, зеркало, столик, все такое приличное и буржуазное, а на самом видном месте стоит скульптура — довольно порядочная свинья. Я немедленно спросил, почему он оказывает честь столь презираемому животному. Ответ был такой: — Я родом из Чехии. Когда немцы оккупировали Чехию, поначалу они давали евреям разрешение на выезд. Я подал бумаги на выезд в Палестину, а когда пришел получать разрешение, немецкий офицер, оформлявший документы, потребовал, чтобы я три раза прокричал: “Я — грязная еврейская свинья!”. Так что эта зверушка стоит в память о том событии»4. В рассказе Рубиной «Адам и Мирьям» героиня повествует о своей спасительнице — свинье, которая улеглась на ворох соломы в хлеву, как раз в том месте, куда зарылась умирающая девочка, буквально только что вылезшая из общей могилы расстрелянных фашистами евреев: «Это был мой личный Праведник Мира, — сказала Мирьям. — И 1 Маламуд 2005: 439. Маламуд 2005: 445. 3 Еленевская 2005: I, 122. 4 Улицкая 2006: 171–172. 2 145 с тех пор я никогда не ем свинины. Где бы ни оказалась, чем бы меня ни потчевали — я не притронусь к свинине. Обычно люди понятливо кивают — да-да, традиции, кашрут… Я отвечаю им: плевала я на ваш кашрут, на традиции и любые идиотские приличия! Просто не ем свинины. Точка»1. В связи с предметом разговора, вынесенного в заглавие, интересно толкование из словаря иностранных слов: «Антисемитизм… искусственно культивируемая среди малообразованных масс ненависть к евреям… причинами антисемитизма обычно являются зависть к евреям, стремление завладеть их имуществом или занять их места в государственном управлении, науке, культуре, промышленности, бизнесе и т. д.»2 (курсив мой. — Э.Ш.). Это толкование из новых времен (2002). А вот фрагмент советского толкования (1988): «Господствующие и эксплуататорские классы используют антисемитизм для разжигания национальной розни с целью отвлечь трудящихся от классовой борьбы. <…> В СССР антисемитизм, как и всякая проповедь расовой или национальной исключительности, вражды или пренебрежения, наказывается по закону»3. Как в «старом», так и в «новом» толковании антисемитизма есть доля лицемерия. Не только «малообразованные массы» — носители этого порока, медийное пространство «постперестроечных времен» изобилует примерами из уст образованных и власти предержащих идеологов антисемитизма, да и советская официальная история чрезвычайно богата антисемитским текстом, достаточно назвать эвфемизм «дело врачей». Что же касается формулировки «наказывается по закону» — она жесткая, видимо, единственно оптимальная, но не соответствует действительности, вероятно, поэтому и снята составителями «Новейшего словаря». Героиня-рассказчик романа Рубиной «Синдикат», как бы оппонируя составителям словаря, замечает: «…в России сегодня наблюдается возникновение антисемитизма вовсе не в той среде, в какой привычно было антисемитизм наблюдать, — в среде либерально настроенной интеллигенции. Она обанкротилась, 1 Рубина 2007а: 112. Новейший словарь иностранных слов и выражений. М.: АСТ, 2002. С. 66. 3 Словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1988. С. 44. 2 146 либеральная интеллигенция, потерпела провал на сломе эпох. Поэтому ненавидит и завидует всем, мало-мальски преуспевшим. А поскольку преуспевшие — как всегда — предприимчивые евреи, волна раздражения направлена против них…»1. Как это ни прискорбно, но такой вековечный вирус, как антисемитизм (да и вообще ксенофобия) вряд ли имеет шанс на изобретение антивируса2: это, вероятно, одна из составляющих, хоть и деструктивная, космогонии как таковой. Посему и столь значим, непримирим пафос прозы Дины Рубиной. В литературном потоке сложилась особенность литературного антисемитского текста: исповедующие антисемитизм (персонажи или авторы) стыдливо и опасливо используют в повествовании эвфемизмы, намеки, показывают «фигу в кармане» (в отличие от устного дискурса, где все называется своими именами). Интересна в связи с этим психология творчества Дины Рубиной как отражение всей палитры мифологемы еврейства в русской литературе: и в доизраильских текстах Рубина почти везде так или иначе касается темы еврейства — но как отличаются эти фрагменты от израильских текстов, пронизанных пафосом еврейства! Тексты Рубиной наглядно представляют движение к национальному самопознанию — как писал в 1903 г. В. Жаботинский: «Наша главная болезнь — самопрезрение, наша главная нужда — развить самоуважение: значит, основой нашего народного воспитания должно быть отныне самопознание»3. В «московской» повести «На Верхней Масловке» главный герой, Петр, приехавший в Москву из далекой провинции (пятеро суток езды на поезде), благородный и честный, усвоивший тезис своего учителя-библиотекарши: «Надо быть 1 Рубина 2004д: 269. По мнению М. Золотоносова, исследующего корни антисемитизма в русской культуре, этот «феномен» из мнения и поведения коллектива превратился в часть подсознания российского индивида, в его мучающую память [Золотоносов 1994: 270]. «Антисемитизм оказывается обязательным компонентом “русской идеи”, русской “веры и молитвы”, русской народности, а его всплеск – симметрическим и парным к всплеску (тоже позволенному) еврейской культуры в России: с одной стороны, Ханука в Кремле, с другой – “Бей жидов!”» [Золотоносов 1994: 270]. 3 Жаботинский 2004: 25. 2 147 честным мальчиком, Петечка», что въелось родимым пятном, стало узелком на память, вечную, — попадает в «переплет», спасая женитьбой свою пассию — Катю — от отцовского гнева. Интеллигентность Петра состоит, помимо прочего, и в том, что не включает никаких рассуждений об этническом происхождении Кати. Однако окружение Пети не преминуло ввести его в курс «дела»: «Я оттого и переживал, думал, что они с тебя алименты дерут. От них же всего можно ждать, от этого народца… — От… при чем — народца? Семен присвистнул весело, покрутил пальцем у виска, а остальными помахал, как птица крылом. — Муж! — сказал он. — Законный. Родственников не раскусил. Ты что, не знал, кто у Катьки мать?.. Вспомни, у них за столом всегда фаршированная рыба и форшмак. — Было что-то сладострастно-брезгливое в губах, когда он произносил последнее слово. — У них и пахло всегда этим. Как войдешь, так с порога разит. <…> — Разит от тебя, — сказал он осевшим, негнущимся голосом. — Но не фаршированной рыбой. <…> Из всех отечественных запахов безошибочно чуял Петя эту кислую вонь Охотного ряда. И — кровь бросалась в виски, и ходуном плясал на горле кадык, словно в такие минуты вдруг от него одного зависела участь целого народа, — да что народа! — словно вот сейчас наконец он мог защитить Давида Моисеевича…»1. В этом диалоге Рубина ни разу не употребила слово «еврей»/«еврейка». «Этот народец», «фаршированная рыба», «форшмак», «разит» — вот те эвфемизмы, которыми прикрыт откровенный антисемитизм, сформированный мифологией повседневности. У самого же Пети «еврей» ассоциируется с добрыми воспоминаниями об учителе музыки, который был для него «всего-навсего отцом»2, потому что настоящего он так и не узнал. Открыто об антисемитизме говорят писатели-евреи или не-евреи, позиция которых в отношении темы межэтнических отношений толерантная, гуманистическая и интернациональная (какой бы пафосный «шлейф» ни сопровождал это слово). В потоке литературы советской поры таких авторов, собствен1 2 Рубина 2004б: 144–145. Рубина 2004б: 146. 148 но, особенно и не печатали, не переводили. Так проигнорированы были лауреат Нобелевской премии 1978 г. Исаак Башевис Зингер, лауреат Пулитцеровской премии 1966 г. Бернард Маламуд, выборочно, с сокращениями переводился ШоломАлейхем. Практически не печатали Фридриха Горенштейна, вынужденного в связи с этим эмигрировать. В контексте мотива Мессии и мессианства есть алломотив, именуемый в еврейской словесности «кровавым наветом». Он возник как буфер в ответ на обвинение евреев в жертвоприношении христианских младенцев в ритуальных целях. Нарративы о кровавом навете — как с одной, так и с другой стороны — выпадают из общефольклорной парадигмы, их можно назвать «эндемиками», то есть текстами, характерными для локальной этнической общности. Американский фольклорист Алан Дандес дал психоаналитическое обоснование истокам этого противоречивого для двух культур (христианской и иудейской) мотива. В историческом документе 1911 г. — обращении «К русскому обществу» по поводу «Дела Бейлиса» — упоминается древнейшее христианское таинство евхаристии, из-за которого в первые века после Рождества Христова языческие жрецы тоже обвиняли христиан — якобы те причащаются кровью и телом умерщвляемого языческого младенца. Дандес в дискурсе о кровавом навете увидел «проективную инверсию», подкрепленную множеством исследований мировой фольклористики, а именно психологический феноментравестию, христианскую вину, переданную иудеям, за то и гонимым. «Это позволяет нам понять волну преследований христиан в Южной Франции в 177 г. н. э., когда толпы обвиняли христиан в каннибализме. Рассказы о евхаристии приводили к слухам, что христиане поедают человеческую плоть и кровь. <…> …После того как христианская религия стала господствующей, христиане обратили против других клевету, некогда адресованную им самим»1. Мотив о кровавом навете — один из главных в истории антисемитизма, без него «невозможен этнокультурный “портрет” еврея»2. Наиболее ярким литературным произведением 1 2 Дандес 2003: 226–227. Белова 2005: 112. 149 об антисемитизме представляется «Мастер» Б. Маламуда — роман о событиях в России, в Киеве, о деле М. Бейлиса — еврея, обвиненного в ритуальном убийстве христианского мальчика. «Чада мои возлюбленные, — взывал священник к русским, тиская сухие ручки, — если бы расселись недра земные и обнаружились все умершие от начала времен, вы поразились бы, как много среди них невинных христианских детей, до смерти замученных христоненавистниками евреями. Веками, как свидетельствуют о том их священные книги и всевозможные комментарии, голос крови семитской толкал их к кощунствам, к невыразимым ужасам — взять, например, Талмуд, который уподобляет кровь воде с молоком и проповедует ненависть ко всему роду христианскому, ибо христиане якобы и не люди вовсе, а не более как животные. “Не убий” — это к нам не относится, ибо не написано ли в их же книгах: “Убей среди христиан лучшего”? Такое же злодейство предписывает и Каббала, книга еврейской магии и алхимии, в которой даже имя сатаны призывается; вот почему столь много невинных детей было ими убито, и слезы не тронули палачей, и мольбы не умилостивили убийц. <…> Так, вместе с кровью нашей во время своей Пасхи пожирают они страждущее тело Христа живого»1. Истоком замысла романа Шолом-Алейхема «Кровавая шутка» также послужило «дело Бейлиса». Два одноклассника, русский и еврей, по окончании школы решили на год заключить пари: поменяться документами и начать новую жизнь в ином этническом обличье. «Былой» русский, ныне еврей, претерпевает все мытарства еврейской судьбы: гонения, унижение, высылку в черту оседлости, кровавый навет. Он даже хочет проверить, как евреи выпекают мацу — действительно ли с использованием крови христианских младенцев? «Рабинович-Попов, пришедший в подряд наблюдать, как евреи пекут мацу, решил глядеть в оба. В маце, именно в маце, казалось ему, разгадка тайны. Маца может разогнать все тучи, положить конец кошмару… <…> К тому же Рабинович начитался в газетах историй о немыслимых зверствах, творимых евреями над христианскими детьми в такое, как сейчас, время перед Пейсахом… <…> Из рук Боруха-Зейдла маца попадала на лопату к Залман-Беру, а потом лопату принимал Пейсах1 Маламуд 2002: 131–134. 150 Гершл, который самолично сажал мацу в печь. Минуту спустя доносился приятный своеобразный запах поджаристой мацы, которая, как представлялось Рабиновичу, должна соблазнительно хрустеть на зубах… И это все? А где же ритуальная церемония? Где же раввины и судьи, резники и канторы? Где же песнопения и пляски, мистика и черная магия? — думал Рабинович. Стыд и угрызения совести за недавние сомнения наполнили его. <…> Какой позор! Он, культурный человек двадцатого века, мог поверить в этот дикий бред!..»1. Несмотря на многочисленные папские буллы, фирманы исламских султанов, отвергающие «кровавый навет», он продолжает жить2 и создавать питательную среду ксенофобии и «юденхасс»3, так как «фольклор не так-то просто 1 Шолом-Алейхем 2002: 146–151. «…Шесть миллионов евреев, погибших в войне, это космическая катастрофа, какое-то злодеяние планет, а вот те сорок два еврея, которые погибли в Кельце уже после войны, в июле 46-го года, на совести поляков. <…> Говорят, что погром организовал комитет госбезопасности, польский или советский. Значения не имеет. И милиция, и армия были замешаны. Какая разница? Убийства были совершены польскими руками. Все как в Средневековье – опять пущен был слух о похищении христианского младенца. Кровь, маца, еврейская пасха…» [Улицкая 2006: 132–133]. 3 «Как бы исторически и культурно ни различались обвинения, выдвигаемые против евреев, они всегда и без всякого исключения являются выражением той пакости, которую антисемит несет в себе самом. Для труса или того, кому нужно подстегивать свою храбрость, – евреи трусливы. Для алчущего денег – евреи жадны. Для плетущих мировые заговоры – они мировые заговорщики. Для агрессивных евреи агрессоры. Для нетерпимых – они религиозные фанатики. Для воров – евреи вороваты. Для носителя охранной психологии евреи – лишенные всякой гибкости догматики и начетчики. А для беспринципного конформиста евреи – пролазы. Тот, кто засоряет культурное пространство своей бездарной продукцией, кричит, что евреи засоряют “нашу национальную культуру”. Для глашатаев “народа-богоносца” евреи больны национальной мессианской спесью – это не «богоносцы», а евреи мечтают о том, чтобы подмять под себя весь мир. Шизофрения русских красно-коричневых и прочих “почвенников-державников” трансформируется в шизофреническую деятельность евреев – евреи виновны в большевизации России и евреи виновны в крушении большевистской системы. А тот, кто на человека похож не более, чем обезьяна, а в своих чувствах, помыслах и поступках будет куда погрязнее свиньи, утверждает, что еврей – помесь обезьяны и свиньи. <…> Антисемит приписывает еврею то, что сам он носит в своей душе, но в чем он смертельно не хочет себе признаваться» [Черняк 2006]. 2 151 подавить законодательными мерами»1. Собственно мотив кровавого навета в рубинском повествовании не стал сюжетообразующим2, но «антисемитский текст» пронизывает сюжеты-путешествия по Германии, Франции, России. В Романе «Синдикат», героиня которого командирована в Москву для работы с российскими евреями по их ориентации на «восхождение», она услышала от своего патрона, румынского еврея, воспоминания военной поры: «Немцы гнали на расстрел колонну, в которой шла одна семья, и самая младшая у них, трехлетняя, была такая беленькая. Совсем арийская девочка. Немец, офицер, который сопровождал колонну, увидел ее, спрашивает — а этот ребенок откуда? — вышвырнул из строя и прогнал. Всю семью через полчаса благополучно расстреляли. А девочка побрела назад и, когда подошла к дому, увидела в окно, что за столом уже сидит и дружно выпивает соседская большая семья. И эта кроха, эта умница, как-то поняла, что домой заходить не нужно. Она подошла к синагоге, но синагогу сожгли накануне… И тогда она — трехлетний ребенок! — пришла в церковь. И священник спрятал ее в подвале. И четыре года держал в подвале, по ночам только выпускал подышать воздухом. У нее отросли чудные белокурые волосы, в темноте они были как ангельское сияние вокруг головы… Ну, и скоро поползли слухи, что по ночам по городу бродит последний еврейский ребенок. И что на самом деле это ангел, который спасает людей… Там, понимаешь, недалеко был лагерь… И тех, кому удавалось бежать, она провожала до старого римского моста, там у священника был тайник… <…> …Она осталась жива. Я эту историю знаю от брата, он там у нас, в Яд ва-Шем, принимал эту женщину, и они сажали в честь священника дерево, знаешь, в Аллее Праведников?»3. Сюжет этого нарратива становится мифологизированным в дискурсе ХХ в. В фильме Стивена Спилберга «Список Шиндлера» есть фрагмент — единственное цветное пятно (красное 1 Дандес 2003: 210. В рассказе Рубиной «Итак, мы продолжаем!..» упомянут персонаж – художник, «гой», подрабатывающий на «заводике» по производству мацы: «Недавно руку поранил, как раз правую – кровища, говорит, хлестала… <…> Пусть теперь, говорит, доказывают, что не добавляют в мацу кровь христианских младенцев…» [Рубина 2001в: 250]. 3 Рубина 2004д: 297–298. 2 152 пальтишко) черно-белого фильма — камера следит за безмолвным передвижением маленькой, 4–5 лет, девочки, за тем, как она пытается спрятаться от опасности, облавы на еврейское гетто. Следующий кадр — полная телега трупов, и в палитре чернобелого фильма красное пятно на ней. Христианский священник из рубинского нарратива, спилберговский Оскар Шиндлер1 — праведники, заслужившие в памяти еврейского народа статус святых. Этот типологический ряд продолжен отцом Понсом, персонажем Шмитта. Э.-Э. Шмитт обращается к этому мифологизированному мотиву в повести «Дети Ноя»: действие происходит в оккупированной нацистами Бельгии. Еврейскому мальчику Жозефу грозит уничтожение. Католический священник Понс, рискуя жизнью, спасает еврейских детей в своем пансионе, делая им фальшивые документы. Жозеф отчетливо не понимает, что такое еврей и почему за это убивают. «У нас в семье все евреи. Если хочешь знать, я тоже еврей. <…> А ты тоже еврейка? — Нет. Я бельгийка. — Я тоже бельгиец! — Да, ты тоже. Но я христианка. — Христиане — это которые против евреев? — Которые против евреев — это нацисты. <…> Значит, христианкой быть лучше? — Смотря для кого»2. Мальчик страдает, обвиняя своих родителей: «Как же я злился на них! Злился за то, что был евреем, за то, что это они меня сделали евреем, за то, что подвергли нас опасности»3. Инстинкт выживания подсказал Жозефу, что быть католиком в его ситуации полезно и безопасно, и он решил стать католиком. Но отец Понс не позволил ему этого сделать, мудро объяснив, что даже став католиком, он останется евреем, и поведал библейскую историю о Ное. «И вы берете пример с Ноя?» — сообразил Жозеф, поняв, что священник, уважительно относясь ко всем вероисповеданиям, пытается сохранить хотя бы через него, Жозефа, религию его народа. «Если потоп еще продлится и в мире больше не останется ни одного еврея, говорящего на иврите, я смогу научить тебя этому языку. А ты передашь его другим»4. 1 Главный персонаж фильма С. Спилберга «Список Шиндлера». Шмитт 2005а: 308–309. 3 Шмитт 2005а: 367. 4 Шмитт 2005а: 352. 2 153 Так мальчик, шмиттовский персонаж, через уроки, преподанные католическим священником, открывает своего Бога: «Быстро оглядев помещение, я убедился, что скамей для всех нас было достаточно. Но куда же сядет Бог? <…> Где в этом доме обитает Бог? <…> В мгновение ока я все понял: Бог был здесь. Повсюду вокруг нас. Повсюду перед нами. Это был Он — воздух, который трепетал, пел, взмывал ввысь, под своды, и изгибался под куполом. Это был Он — воздух, расцвеченный витражами, сияющий, ласковый, пахнущий миррой, воском и ладаном. Сердце мое было полно, я сам не понимал, что со мною. Я вдыхал Бога всеми легкими, я был на грани обморока»1. И принимает от своего учителя эстафету — сохранения и уважения чужих святынь, эстафету коллекционера, эстафету Ноя, спасшего человечество: уже будучи взрослым, посетив друга из того, военных лет, пансиона, в Израиле, Жозеф «подобрал еврейскую ермолку и палестинский головной платок»2. В романе «Синдикат» есть персонаж, тождественный отцу Понсу своей культуртрегерской ролью, — отец Сергей Конопляников. Он «славился своим подчеркнутым юдофильством, из-за которого, по слухам, давно пребывал в опале в епархии…<…> Он даже иврит немного знал, что сближало его с израильтянами…»3. В фольклоре иммигрантов одним из факторов, подтолкнувших к эмиграции, называется растущая в городах публичная антисемитская кампания: митинги, «разоблачения», расшифровывающие истинные фамилии политических и государственных деятелей, «оказавшихся» евреями. Из рассказа иммигранта: «Возле Казанского собора. У них были такие огромные полотнища, и на них были написаны настоящие фамилии. Там, Свердлова, там, я не знаю… Ну, в общем, откопано было…»4. В соответствии с этой же парадигмой неугодные по самым разным поводам публичные люди (политики ли, культурные деятели) записываются антисемитской молвой в евреи5. Так у Рубиной в «Синдикате» смоделирована картин1 Шмитт 2005а: 335–336. Шмитт 2005а: 401. 3 Рубина 2004д: 303–304. 4 Еленевская 2005: I, 58. 5 «Когда-то еврея не любили за то, что он еврей. Сейчас еврея пред2 154 ка Москвы 1990-х гг., когда «разоблачается» глава города: «Потом сзади, с громкими криками: — Скотина, скотина еврей Кац, — ты такой же мэр, как я пьяная! — с нами поравнялась и обогнала нас совершенно пьяная, на опухших старых ногах, с седой стрижкой… фурия»1. «Последствием изгнания евреев из общественной жизни бывала, как правило, деградация государства и утрата им былого могущества»2, — пишут составители словаря. Авторы, мировоззрение которых явно оппонирует антисемитской толпе и апологетам публичных лозунгов («Жиды, выметайтесь из России!»3), как бы предостерегают от ксенофобии, подытоживая толкование термина «антисемитизм» мифологически-эсхатологическим предупреждением, которое вряд ли будет услышано. «Каждое утро я читаю своеобразные новости, несколько однобокие, правда, — этого демократического государства. Подожженные синагоги… оскверненные кладбища… ну, и прочие мелочи еврейских будней великой страны»4; «По версии ведущего антисемита Цесаревича и его многочисленных последователей: а хоть бы и повторилось… и хорошо бы, чтоб жиды заткнулись со своим вековечным ором, отвалили из России, оставили всех в покое»5 — есть в «антисемитском тексте» у Рубиной не только фрагменты экстремизма, но и так называемый «бытовой антисемитизм»: «кормясь» от еврейского культурного центра «Синдикат», наемные неевреи нет-нет да и обмолвятся, вроде бы беззлобно, по поводу своих работодателей фразой, которая слышна из включенной рации их начальника: «Коля… жиды в доме?.. дай сигаретку »6. Трудно найти название феномену, когда в еврейскую орполагают в том, кого не любят. Десятки людей утверждают, что Сталин был грузинским евреем. Брежнева считают евреем чуть ли не половина уголовников в лагерях. Даже невинного Хрущева подозревали в еврействе» [Довлатов 2006: 356]. 1 Рубина 2004д: 383. 2 Новейший словарь иностранных слов и выражений. М.: АСТ, 2002. С. 66. 3 Рубина 2004д: 274. 4 Рубина 2004д: 97. 5 Рубина 2004д: 187. 6 Рубина 2004д: 12. 155 ганизацию обращаются за помощью учреждения и личности, не замеченные в любви к евреям: «Потом ко мне приходили… с предложением оплатить моноспектакль по рассказам Василия Белова…»1; «Христианская организация “Твердыня Веры” много лет сотрудничала с Синдикатом. Основным постулатом их религиозного направления была установка на то, что Спаситель придет тогда, когда все евреи соберутся на Святой Земле»2. Такой травестийный феномен, впрочем, вписывается в карнавальную поэтику романа-комикса. В той же стилистике звучат фрагменты текста с анекдотической интенцией: «…антисемитизм давит! — воскликнул Павлик. — Много еще антисемитизма, слепой ненависти. А ведь в Писании сказано: за полу одного еврея уцепятся десять неевреев. И спасутся!»3. О том же в анекдотах советской поры (1970–90-х гг.): «Объявление: “В интеллигентную русскую семью требуется зять-еврей на выезд”»4; «Еврей подал документы на выезд в Израиль. В ОВИРе его уговаривают: — Зачем вам уезжать? У вас хорошая, нужная специальность, отличная квартира в центре, на работе вас ценят… Чего вы там не видели, на проклятом Западе? — Понимаете, жена очень хочет ехать… — При чем тут жена? Вы, в конце концов, мужчина, глава семьи, последнее слово должно быть за вами. — Да, но и все родственники жены тоже мечтают выехать в Израиль. — Ну вот они пускай себе и едут, а вы оставайтесь! — Видите ли, я единственный еврей в семье…»5; «Горбачев — Рыжкову: — Сколько у нас евреев? — Миллиона два будет. — А если разрешим выезд, много уедет? — Миллионов пятнадцать-двадцать»6. В романе-комиксе «Синдикат» подхвачен этот анекдотический мотив, столь важный для автора: «Покопайтесь в родословной, пошукайте какого-нибудь прадеда-кантониста, какого-нибудь Семена Ивановича Матвеева, полного георгиевско1 Рубина 2004д: 262. Рубина 2004д: 212. 3 Рубина 2004д: 405–406. 4 Шахназарова 1994: 238. 5 Шахназарова 1994: 234. 6 Шахназарова 1994: 230. 2 156 го кавалера, бывшего Шмуля Мордуховича… Ищите, говорю я вам, и обрящете… В девяностые годы, годы Великого Восхождения, мандаты покупались в синагогах, подделывались в паспортных столах, возвращались во многих семьях из небытия, из выкрещенного прошлого, из кантонистских легенд, из бегов, из потерянных паспортов, из подделанных военных билетов…»1. Дина Рубина не пытается докопаться до истоков антисемитизма — ответа, логического, адекватного, найти невозможно. Ответ кроется, скорее всего, в области метафизической, или же «вирусологической». Дина Рубина воссоздает фольклорную повседневность, в которой сосуществуют ее персонажи и слагаемым которой, увы, является антисемитизм. 1 Рубина 2004д: 83. 157 Еврей в мифологии повседневности Быть евреем — просто значит обладать памятью. Скверной памятью1. Эрик-Эмманюэль Шмитт. «Мсье Ибрагим и цветы Корана» Ненависть людей друг к другу не так уж редка в падшем мире. Но только один Господень народ удостоен чести быть ненавидимым вселенской плодотворной ненавистью более двух тысяч лет неизменно и на протяжении более чем десяти империй — Вавилонских башен. Ничем он не выделен от остальных народов, и ничем он не лучше, но этой неизменной ненавистью выделен и этой ненавистью лучше2. Фридрих Горенштейн. «Псалом» Мировая литература предлагает как минимум три парадигмы образа еврея: еврей в антисемитском пространстве; еврей, трагически осознающий свое еврейство в нееврейском контексте (принимает его или отталкивает); персонаж, никак не позиционирующий свое еврейство, — в собственно еврейской литературе, но это случается только в текстах конца ХХ в., когда евреи, наконец, обрели свою страну и когда появляется русско-израильская литература, а также переводятся на русский тексты еврейских иноязычных писателей, находившиеся фактически под запретом для советского читателя (И.Б. Зингера, Б. Маламуда, М. Рихлера и др.). Наряду с этими появляются и в русской литературе произведения, где еврейская тема трактуется иначе. Хотя, по мнению М. Вайскопфа, та юдофобская традиция, которая была заложена в русской литературе в 20–40 гг. XIX в., существует до сих пор3. Например, в повести В. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана» (2003) присутствует неприкрытый ксенофобский пафос. Распутин (в духе и стиле советской «политкорректности» и «деликатности») ни разу не называет своих персонажей евреями (в отличие от других названных этнотипов — китайцев, кавказцев), но создает эвфемистический дискурс с подсказкой, которая родом из 1 Шмитт 2005б: 275. Горенштейн 2001: 433. 3 Вайскопф 2003: 334. 2 158 ксенофобии повседневности: это не только имена и фамилии («плохих» персонажей), но и ряд фенотипических стереотипов: следователь Цоколь с «толстыми вывороченными губами», падкий на деньги, его антипод — «хороший следователь» с русской фамилией Николин, за что его и убили; это освободившийся поселенец с нерусским именем Ефроим — хозяйственный, богатый, а значит, «плохой», так как вокруг все бедные, и неизвестно и темно происхождение его состояния; учительница истории Изольда Иосифовна, «решительная пацифистка»1. «Весь преступный мир мы поделим пополам, на узбеков и русских. Дадим одного еврея — подпольного цеховика2, сочините смешной диалог его допроса…»3, — наставляет героиню редактор Фаня Моисеевна («Камера наезжает!..»), апеллируя к тем временам, которые ее «выковали»: «Вы какого года рождения? — Какая разница? — раздраженно спросила я. — Понимаю, о чем вы. Да, я родилась в послесталинское время. — Вот видите, — усмехнулась она, — а я родилась гораздо, гораздо раньше… — А Торквемада4 еще раньше, — грубо сказала я»5. «Национальный вопрос» в Советском Союзе декларировался таким образом: «Социалистическая революция и социалистическое преобразование общества позволяют уничтожить национальный гнет и национальное неравенство, решить национальный вопрос, унаследованный от прошлого, обеспечить установление дружбы народов, расцвет экономики и культуры всех наций и народностей и их сближение. Коммунисты ведут решительную борьбу с национализмом и шовинизмом, за торжество принципов интернационализма»6 (курсив мой. — Э.Ш.). 1 Распутин 2003. Существует обязательный «набор» профессий для персонажа-еврея, поэтому так странно реагирует «не-еврей», глядя на Дана, сына Иакова: «…работает ночным сторожем… профессия для еврея редкая, и самый, наверное, он глупый из ихнего брата, который всегда удачно устроится» [Горенштейн 2001: 230]. 3 Рубина 2000: 242. 4 Фома/Томас Торквемада (1420–1498) – глава испанской инквизиции, инициатор изгнания евреев из Испании в 1492 г. 5 Рубина 2000: 244. 6 Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров; 2-е изд. М.: Сов. энциклопедия, 1983. С. 867. 2 159 Эти благие намерения не имели ничего общего с реальностью, во всяком случае, в поле «еврейского вопроса». Столь утопическое содружество наций вряд ли возможно — обозримое прошлое и настоящее тому подтверждение. Наряду с утопизмом «национальный текст» российской/советской действительности полон лицемерия. Этот «феномен» воплотила Рубина в рассуждениях своей героини — рассказчика-писателя. «Надо только верно расставить национальные акценты»1, — говорит ее коллега, которая по роду своей ментальности из той, советской, «двуморальной», действительности. Если в XIX в. Россия публично проводила политику юдофобии, то ХХ в. — с его «делом врачей», «отказниками», бутафорской еврейской автономией — эпоха иезуитского лицемерия. Так, в эпоху «застоя» в текстах рубинской героини вычеркивали еврейские имена, заменяя их на русские: «…в одном популярном журнале как раз в эти годы целомудренный редакторский карандаш переправил в моем рассказе балбеса Семку Бахмана на балбеса Петьку Сидорова. <…> В другом рассказе редакторская рука, не дрогнув, вычеркнула имя Лазарь, тем самым отказав персонажу в самом факте существования. Лазарь приказал долго жить, зато в мое гражданское мировоззрение влилась дополнительная струя иронии»2. Если не еврейские имена, то уж неблагозвучные для русского уха отчества лучше было бы заменить: «Все остальные дочери… Катя, Рахиль, Вера и Маня, разъехались из Золотоноши кто куда, сменив место жительства и заодно уж и отчество; новое время потребовало некоторой смены фасада, и почтенный прадед Пинхус слегка преобразился: Рахиль и Вера переделали его в Петра, Берта и Маня нарекли отца Павлом (тем самым придав и без того библейскому его облику нечто апостольское). Что же касается старшей, Кати, — та вообще почему-то стала Афанасьевной»3 («Душегубица»). В эпоху «гласности» в Ташкенте, где «национальный вопрос» травестировался, то есть титульная нация «вдруг» ощутила себя освобожденной, предпочтение отдается если и 1 Рубина 2000: 240. Рубина 2004г: 243. 3 Рубина 2007а: 48. 2 160 не узбекскому, то родственному — «тюркоязычному» имени: «…в нынешнюю прекрасную эпоху повальной гласности дело обстоит иначе. Например, недавно в одном передовом журнале, широко внедряющем идеи демократизации в различные слои общественного сознания, мне предложили даже поменять в рассказе Петрова на Шапиро! Но… характер ли портится с годами, усталость ли, побеждая молодую иронию, точит душу — только я не приняла столь дорогого подарка. Тогда, уже в гранках, два молодых, смышленых и очень прогрессивных редактора переплавили неприкаянного Петрова-Шапиро в нейтрального Хабибуллина… О, отечество мое!»1. Сменяются эпохи, правители, а «еврей» в русской словесности звучит по-прежнему — стыдливо, гневно, презрительно: 234 Рубина. Камера наезжает!.. «Еврей! — воскликнула Анжелла радостно, как ребенок, угадавший разгадку. Она произнесла это слово твердо и хрустко, как огурец откусывала: “яврей”. — Ну конечно, яврей, тото я чувствую — чего-то такое… <…> — Я вижу теперь — что она хотела устроить из моего фильма! Она синагогу хотела устроить! Все явреи!!»2. Рубина. Вот идет Мессия! «…В этот момент перед ним (Виктором) вдруг вихрем протащили его детство в огромном дворе на Бесарабке, свору мелких дворовых хулиганов, вечно допекающих его воплями “жидяра”, “жидомор”… как еще они его называли? По-всякому…»3. 1 Рубина 2007а: 244. Рубина 2000: 240. 3 Рубина 2001а: 231. 4 Горенштейн 2001: 147. 2 161 Горенштейн. Псалом «Ух, жид, ненавижу… Жид… Не всегда так произносит это слово простой русский человек, а только на пределе. Чаще же простой русский человек слово “жид” произносит, точно сочным яблоком закусывает, вкусно произносит, с хрустом. Словом “еврей” тоже неплохо горло прополоскать, и от гнева осипшее, и от радости вспотевшее. И все же слово “еврей” со словом “жид” не идет в сравнение... Нет в слове “еврей” той краткой творческой остроты, которой стакан водки отличается от кружки кваса»4. Какие стереотипы выработала русская литературная традиция в изображении еврея? — алчный торгаш, ростовщик, контрабандист, шпион, предатель, вражеский лазутчик, соглядатай, отравитель, «трусливый жидок»1. Сатанинский портрет еврея вписывался в парадигму чужака, тождественную цыгану, немцу2, «…еврейство en masse в текстах 1820–1840-х гг. утрачивает элементарные антропологические приметы, набирая взамен свойства сатанинских рептилий и хтонических монстров…»3. Иным изображать еврея просто запрещалось — еврей исключался из состава общечеловеческой семьи, объявлялся «врагом рода человеческого»4. «При Николае I… свыше половины законодательных актов, принятых в его царствование, посвящены евреям. <…> …Цензура запрещает изображение положительных еврейских персонажей, ибо “жиды не могут и не должны быть добродетельными”, — ограничение, которое нельзя не учитывать при изучении еврейской темы в русской литературе»5. Для доэмигрантской прозы Д. Рубиной характерно создание образа еврея, трагически осознающего свое еврейство среди неевреев. Несмотря на новый контекст, образ еврея в израильской прозе Рубиной создан с позиции повествователя, «ушибленного» антисемитским прошлым, хотя теперь изображение еврея в Израиле у Рубиной сопровождается метатекстом истории еврейства, пронизано пафосом судьбы еврейского народа — вероятно, в этом сказывается специфика судьбы писателя, медиаторной, находящейся в долгом инициальном состоянии приобщения к своим исконным этническим корням, от которых автор был оторван не по своей воле — по воле исторического рока. В текстах Рубиной советского периода тема еврея «проговаривается» «вполслова», перифразом, эвфемизмом, — отразив, таким образом, повседневный стереотип полузапретной, «неприличной» темы, полуофициально табуированной, то есть 1 Вайскопф Вайскопф 3 Вайскопф 4 Вайскопф 5 Вайскопф 2 2003: 2003: 2003: 2003: 2003: 308. 317. 329. 300. 307. 162 еврей в системе персонажей «свой — чужой» занимает свое «законное» место. Ирина Михайловна из рассказа «Любка», помня о судьбе репрессированного отца и ощущая новую волну в «деле врачей», которая коснется ее — она врач, сетует на судьбу: «Это проклятое, виноватое от природы выражение глаз! <…> …Проклиная себя за то, что родила на свет еще одну окаянную, вечно гонимую душу, еще одного изгоя. …ради нее надо было… жить дальше… пока твою жизнь не возьмут в щепоть и не разотрут между пальцами, как пыльный комочек моли…»1. Персонаж рассказа «Терновник» (1983), мальчик, взрослея, постигая мир, понимает, скорее, ему это дают понять: что-то не так в его жизни: «Знаешь, Сашка говорит, что я — еврей, — выговорил он наконец, пристально глядя на мать. — Да. Ну и что? — Марина, я не хочу быть евреем… — признался он. — А кем ты хочешь быть? — хмуро осведомилась она. — Я хочу быть Ринатом Хизматуллиным. Мы сидим с ним за одной партой, он хороший мальчик»2. Мать никак не комментирует тревогу и желание сына. «Я тебе про все объясню, только завтра, понял? — Почему завтра? — Долгий разговор. Много сил отбирает»3. Тема еврейства не продолжена в рассказе. «Долгий разговор» состоялся, но уже в контексте всего последующего творчества израильского периода Рубиной. В рассказе же есть такая деталь — ветка терновника, вырастающая в метафизический терновый венок Христа и, отсюда, в концепт, прочитываемый в заглавии «Терновник», — в тяжелую участь быть евреем. «Колючки видишь? Это тернии. Из таких колючек люди однажды сплели венок и надели на голову одному человеку… — За что? — испугался он. — А непонятно… До сих пор непонятно…»4. Многосмыслие тернового куста в библейской мифологии — свидетельство присутствия Бога, его всемогущество, несгораемость куста5 — включает также 1 Рубина 2002а: 218–220. Рубина 2002: 93. 3 Рубина 2002: 94. 4 Рубина 2002: 65. 5 «Представляешь, что есть такая наука – библейская палеоботаника, эти ученые восстановили картину здешней природы, какой она была две и три тысячи лет тому назад. Когда мы осматривали этот сад, пришел как раз ботаник, местный араб Муса. Он показал такое растение, с 2 163 символику выживания евреев — народа, который враги сжигали в буквальном смысле, но он продолжал жить1. Персонаж романа Шмитта «Евангелие от Пилата» — юный Иешуа — полагал, что он Бог. «Я ощущал себя царем, всемогущим, всезнающим и бессмертным… Считать себя Богом — обычный удел детей, которых никогда не наказывали. <…> В семь лет ребенок окончательно перестал быть Богом»2. Когда римляне проходили через Галилею, Иешуа узнал, что он — еврей. Узнал об этом, так как его оскорбили римляне, они «вели себя нагло… как ведут себя те, кто считает себя высшими существами»3. Не случайно, думаю, так схожи сюжетные ходы ряда произведений мировой литературы приблизительно одного времени, — есть некая культурно-архетипическая «канцелярия», распыляющая мотивы и темы: пришло их время, они созрели для разговора. Другой шмиттовский персонаж (тоже мальчик, потому что осознание своего еврейства — если оно не тайна — совпадает с инициальным периодом), Жозеф из «Детей Ноя», взвешивает «за» и «против» еврейства и понимает, что быть евреем опасно: «…я чувствовал, что стать католиком очень полезно: это избавляло от опасности. Или того лучше — делало меня нормальным ребенком, как все. Быть евреем в данный момент означало, что мои родители не могли меня воспитывать, что мою фамилию лучше сменить, что мне следовало постоянно контролировать свои эмоции и вдобавок лгать. Что же в этом хорошего? В общем, мне очень хотелось стать сироткой-католиком»4. Если это случается позже, как с персонажем Горенштейна, когда процесс вхождения во взрослую жизнь уже позади, а мировоззрение сформировано — антисемитское, герою не оставиду ничего особенного, но оно очень похоже на тот куст, из которого с Моисеем говорил Бог. Оказывается, у этого растения очень высокое содержание эфирных масел, и даже, как он сказал, если очень аккуратно зажечь спичку, тогда масла будут выгорать, и вокруг куста будет пламя, а сам куст останется цел. Неопалимая Купина!» [Улицкая 2006: 145]. 1 Телушкин 2002: 31. 2 Шмитт 2003: 11–12. 3 Шмитт 2003: 18. 4 Шмитт 2005а: 334. 164 ется ничего, кроме как удавиться. Другой горенштейновский персонаж — Иволгин, благодарный своим предкам, что выкупили когда-то русскую «птичью» фамилию вместо говорящей «Кац», но при этом все же краснеющий всякий раз при слове «еврей», — страдает: «…он задумался кисло-сладкими мыслями о том, как хорошо бы было ему родиться от славян, аборигенов, или в крайнем случае хотя бы от татар или якутов. Каким бы хорошим, гуманным неевреем он был, как много бы он сделал для тех, кому не повезло с рождением от еврейского отца с матерью, и главное, что ничего уже нельзя изменить. Если уж ты родился евреем, то это так же навек, как если бы умер русским. <…> А ведь если б ему, Александру Иосифовичу, только разрешили быть русским, каким бы русским патриотом он был… Однако он знал, что есть немало русских, которые даже недовольны, когда еврей любит Россию, которые ревнуют его к России и которым больше нравится, когда еврей России — враг»1. Слово «еврей» в пространстве культуры повседневности (прошлого и настоящего), обозримом сознанием и знанием, звучит неприлично, как брань. «Если сравнение перевести в плоскость кожно-венерологическую (а оно почему-то просится именно в эту плоскость), то так примерно: не сифилис, нет, но неприятный некий грибок»2. Хотя вполне безобидное слово, впрочем, неоднозначно трактуемое, — темно его происхождение. Существует ряд предположений: «еврей» происходит от имени Евер/Эвер (правнука Сема); от слов «другой берег» / «эвер ха-на-хар» — другой берег Евфрата, откуда шел Авраам в Палестину, землю Ханаанскую, переселенцев прозвали «евреями», то есть «заречными»; слово «еврей» созвучно древнеегипетскому «апире», то есть «чужак, иноземец»; «еврей» восходит к аккадскому «хабиру» — «те, кто проходит, пересекает», то есть непостоянный статус в обществе3. Суммируя все версии, можно сказать, что слово «еврей» в устном нарративе приобрело прочную коннотацию мифологии повседневности: другой, чужой, странный, клейменый. «Разве ж соседи наши 1 Горенштейн 2001: 282–283. Рубина 2004г: 243. 3 Аттиас, Бенбесса 2000; Дубнов 2001; Поликарпов, Лысак 2004. 2 165 виноваты, что они евреи, разве по доброй воле, сами от себя они евреи?..»1. Шмиттовский персонаж Ибрагим — пожилой суфий — спрашивает у подростка: «Момо, а что означает для тебя — быть евреем? — Уф-ф, понятия не имею. Для отца это значит ходить весь день подавленным. А для меня… это просто какая-то хрень, которая мешает мне быть другим»2 (курсив мой. — Э.Ш.). Рубинский Яша из «Синдиката» несколько запоздало (в сравнении со шмиттовскими юными героями, хотя инициальный период — затяжной, вплоть до двадцати лет) постигает свое еврейство: «…Яша Сокол был не вполне евреем. Можно даже сказать, он им и вовсе не был в том смысле, в каком это понимает традиция»3. У Яши был любимый дед, который был евреем, но никогда на эту тему с внуком не говорил. « Образ Мини… совсем не монтировался с этим коротким, чужим, почему-то неловким словом»4 (курсив мой. — Э.Ш.). Дед умер, и Яша остался в неведении о своем еврействе. Надо отметить, что в мировой литературе присутствует мотив, связанный с парой персонажей «ребенок — дед/бабка»: в нем содержатся все экзистенциальные вопросы инициального возраста и ответы умудренной опытом старости. «Старик и дитя более растворены в жизни всем своим душевным составом: один еще не выделился из нее, другой уже готовится быть поглощенным ею. Для ребенка мир невыводим за пределы фантазии, для старика почти весь введен в пределы памяти »5. Рубинский Яша в возрасте шестнадцати лет в случайном встречном в парке на скамейке вдруг увидел своего дедушку Миню. Этот встречный, так похожий на деда, оказался антисемитом. «Инициация» состоялась: Яша «сел на скамейку неким пареньком, а поднялся законченным евреем»6. И совершил этот ритуал именно дед, хоть и умерший, но любимый, а потому живущий в памяти внука. 1 Горенштейн 2001: 219. Шмитт 2005б:276. 3 Рубина 2004д: 65. 4 Рубина 2004д: 65. 5 Эпштейн 1981: 238. 6 Рубина 2004д: 67. 2 166 Дилемма (характерная для судьбы еврея в мировом дискурсе) — быть как все или отличным от всех — терзает становящуюся личность: шмиттовский герой, находясь в церкви, больно переживает свое скрытое еврейство: «Я боялся, что стоит мне коснуться святой воды, как под сводами церкви гневно грянет грозный глас: “Это не христианский мальчик! Пусть уйдет! Он еврей!”»1. Мальчик хочет стать католиком. Но отец Понс — он же Ной — своей библейской мудростью удерживает его от скоропалительного решения: «Ты еврей, Жозеф, и даже если предпочтешь мою религию, ты все равно останешься евреем. — А что значит “быть евреем”? — Быть избранным. Происходить из народа, который Бог избрал тысячи и тысячи лет тому назад. — А почему он нас избрал? Потому что мы были лучше других? Или, наоборот, хуже? — Ни то ни другое. У вас не было ни особых достоинств, ни особых недостатков. Просто это выпало вам, вот и все. — Да что же такое нам выпало? — Миссия. Долг. Свидетельствовать перед людьми, что есть только один Бог, и с помощью этого Бога побуждать людей уважать себя и других»2. Если же быть как все, то необходимо «прогнуться»: в мировом еврействе есть понятие — «ненавидящие себя евреи»3. В сюжете повести Рубиной «Яблоки из сада Шлицбутера» есть фрагмент, связанный с этим феноменом — отказом от еврейства во имя желания слиться со всеми (каждая историческая эпоха варьирует это желание — от стремления креститься до отказа от сионистской идеи)4. Героиня-рассказчик везет в Москву в еврейское издательство рассказ на «еврейскую тему»: старый еврей делится с соседом своей бедой — сын едет в Израиль. Пафос «закадрового» текста безымянного автора — 1 Шмитт 2005а: 335. Шмитт 2005а: 338–339. 3 Богослов Й. Телушкин в качестве самого известного примера приводит фигуру Карла Маркса, внука двух ортодоксальных раввинов [Телушкин 2002: 404–406]. 4 В фольклорных нарративах израильских русскоязычных иммигрантов прослеживается тема, связанная с желанием скрыть свое еврейство при жизни в СССР и, тем более, с отсутствием намерения эмигрировать, что было реакцией на советскую пропаганду, где эмигрант клеймился как изменник родины [Еленевская 2005: I, 71, 264]. 2 167 узбекского писателя-«интернационалиста» — скорее всего, в осуждении этого факта. «Тема осуждения отъездов нам сейчас очень нужна, как никогда. …Советские еврейские патриоты гневно осуждают тех отщепенцев, ту мизерную часть нашего народа, что рвет кровные связи с родной землей и устремляется на землю якобы каких-то своих праотцов…»1, — заявляет издатель, старый еврей, так и не сумевший освободиться в период «гласности и перестройки» от анахронизма советской ментальности — враждебности к так называемым «отщепенцам»2. «По-видимому, Гриша неплохо поднаторел в подобных выступлениях. Он говорил жарко, убежденно, взмахивая кулачищем…<…> — Что они там забыли?!.. И что найдут эти выродки и предатели? Вредную сионистскую пропаганду! Блеф и миф!»3. «И только в одной ситуации герою позволялось быть евреем: когда он клеймил тех предателей и подлецов, которые, бросив Родину, уезжают в Израиль. Тут у героя открывались безбрежные возможности для монологов, диалогов и эпилогов, тут он узлом завязывался, чтобы доказать свою преданность Отчизне, свою ненависть к изменникам и свое заветное желание как можно меньше самому быть евреем, и если Родина позволит, то и вовсе отвести от себя эту неприятность»4. Да и сама героиня нет-нет да и обнаружит в себе «Верноподданного Еврея»/«В.Е.», которого, тем не менее, на глазах у читателя «по капле выдавливает из себя»: «Неплохо, неплохо, — повторила она. — Только вот герой на “Узбекфильме” не должен быть евреем…<…> — С чего вы взяли, что он еврей? — дружелюбно спросила я наконец»5. 1 Рубина 2004г: 257. «Отказники» – так называли советских евреев, которым не давали возможности выехать из СССР без объяснения причин, но при этом подвергали общественной и моральной обструкции. «Организовывались “показательные процессы”, где еврейским активистам предъявлялось обвинение в антисоветской пропаганде или… в государственной измене» [Телушкин 2002: 386]. 3 Рубина 2004г: 258. 4 Рубина 2004г: 243–244. 5 Рубина 2000: 238–239. 2 168 Героиня, рефлектируя, останавливает свое и читателя внимание на том, как она малодушно пытается смягчить это «табуированное», это «непристойное» слово: «С чего вы взяли, что он ивре?»1 (курсив мой. — Э.Ш.) 2. В свете всего сказанного — а также в контексте истории антисемитизма — может быть воспринят анекдот, спроецированной победой евреев в Шестидневной войне — совершенно новой гранью в статусе еврейства: «В битком набитый автобус влезает мужик. Слегка, конечно, поддатый, богатырского телосложения и весьма при этом агрессивно настроенный. Обводит пассажиров мутным взором, находит среди них еврея, проталкивается к нему и рявкает: — Еврей? Тот испуганно втянув голову в плечи, признается: — Еврей. И тут наш богатырь протягивает свою мощную десницу. Хватает руку этого испуганного еврея, крепко жмет ее, трясет и громогласно, на весь автобус провозглашает: — Мо-ло-дец!»3. Феномен «непривлекательности» еврейства, рожденный в многонациональном многовековом обитании, объясняет Жаботинский: «…еврейство мы… узнаем с раннего детства не в высших проявлениях, а именно в его обыденщине и обывательщине. Мы живем среди этого гетто и видим на каждом шагу его уродливую измельчалость, созданную веками гнета, и оно так непривлекательно, некрасиво… А того, чтó поистине у нас высоко и величаво, еврейской культуры мы не видим. Дети…<…> …не знают о его (еврейского народа) исторической роли просветителя народов белой расы, о его 1 Рубина 2000: 239. Этим комплексом – «Верноподданного Еврея»/«В.Е.» – страдали многие, и именитые личности в том числе – так уродует сознание людей государственный антисемитизм. Б. Сарнов приводит в связи с этим такой пример из жизни Б. Пастернака, сообщенный О. Ивинской: «Помню, когда уже я вела все его литературные дела во всех издательствах, а он работал, он звонил мне из Переделкина на Потаповский и предупреждал: – Тебе, Лялюша, придется, может, анкету там заполнять, – (шел разговор о договоре на перевод Кальдерона), – так запиши мои паспортные данные. Он продиктовал мне, что нужно, но когда зашла речь о графе “национальность”, он несколько замешкался и затем пробормотал: – Национальность смешанная, так и запиши… (Ольга Ивинская. В плену времени. Годы с Борисом Пастернаком)» [Сарнов 2002: 222]. 3 Сарнов 2002: 75. 2 169 несокрушимой духовной силе, которая не поддалась никаким гонениям… А что они видят? Видят они запуганного человека, видят, как его отовсюду гонят и всюду оскорбляют, и он не может огрызнуться. А что они слышат? Разве слышат они когда-нибудь слово “еврей”, произнесенное тоном гордости и достоинства? Разве родители говорят им: помни, что ты еврей, и держи выше голову? — Никогда. Дети нашего народа слышат от своих родителей слово “еврей” только с оттенками приниженности и боязни. Отпуская сына из дому на улицу, мать говорит: “Помни, что ты еврей, и иди сторонкой, чтобы никого не толкнуть”. <…> Так поневоле связывается у него имя “еврей” с представлением о доле раба, и ни о чем больше. Он не знает еврея — он знает жида; не знает Израиля, а только Сруля… <…> …он несет на себе свое проклятое еврейство, как безобразный прыщ, как уродливый горб, от которого нельзя избавиться…»1. Таковы фольклорно-мифологические грани «еврея», воссозданные Д. Рубиной не без влияния литературной традиции. 1 Жаботинский 2004: 21–22. 170 Советская мифология Меня неизменно восхищает вечная неуемная страсть моего народа к социальной справедливости. И это — единственная черта, которую я в нем ненавижу. Мне кажется, в этом нет противоречия1. Дина Рубина. «Последний кабан из лесов Понтеведра» Когда зрительно и «на вес» сопоставляешь историко-культурологический комментарий к роману «Евгений Онегин» (не говоря уж о его прочтении) и сам роман, очевидна пропасть, отделяющая современного читателя классического романа от того контекста пушкинской поры, из которого, собственно, и соткано произведение. Набоковский комментарий, адресованный изначально англоязычному читателю, не менее востребован современным русскоязычным читателем, нуждающимся в «переводе» пушкинского культурно-исторического контекста. Аналогично обстоит дело и с восприятием современной литературы, в которой присутствует мифология советского периода. Современную литературу отделяет от советских времен не столь большой период, как комментарии к Пушкину от Пушкина. Тем не менее поколение, родившееся в «перестройку» (и позже), совершенно оторвано от мифологии советской повседневности. Необходимо специальное «сопровождение», комментарий к литературным произведениям, и к рубинским в том числе. Рубина обращается в своем повествовании к клишированным текстам, созданным медийными средствами советской поры: теле- и радиоэфиром, кино, пропагандистскими агитками разного рода — плакатами, школьным преподаванием — неким «лозунговым универсумом» (по словам Ю.И. Левина). Иронический стиль прозы Рубиной рождается на глазах у читателя посредством авторской эвристики — «нахождения истины», сочетающей черты еврейской ментальности и анахронизмы мифологии советской повседневности, от которой, по словам писателя, никуда не уйти: «Метастазы прошлого»2, 1 2 Рубина 2000а: 126. Рубина 2001а: 144. 171 «Тяжкая печать на судьбе, как клеймо конезавода на тощем крупе изъезженной клячи…»1. «Лозунговый универсум» рубинского повествования представляет собой советский «новояз», ретранслированный в иной хронотоп. Адресант (то есть автор) лозунгов может быть известен или нет2, это для лозунгового универсума неважно. Важно то, что интенция лозунгового жанра семантизирована авторитетностью адресанта: будь то начальник, КПСС или господь бог. Отсюда вытекает магия лозунгов, используемая Рубиной в создании комического пафоса при изображении мессианского процесса как главной составляющей картины мира евреев. В романе «Вот идет Мессия!» звучит в эфире вопрос от радиослушателя: «Когда же явится Мессия? Известна ли вам дата? — Точная дата мне неизвестна, но мы должны надеяться, что он может явиться в любой день. <…> …Нынешнее поколение евреев будет жить при Машиахе!”»3. Клише хрущевской поры «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме» представлено как разомкнутое: вместо «советских людей» у Рубиной «евреи», вместо «коммунизма» — «Мессия» — таким образом создается комическое звучание главного мотива романа. Мифологема ожидания Мессии, ее архетипичность те же, что и во времена «развитого социализма», когда предвкушали наступление коммунизма, образное наполнение — ситуативно и национально. Эта фраза («Нынешнее поколение евреев будет жить при Машиахе») беспокоит героя романа, и он не может себе ответить — почему, но неожиданно вспоминает из своего «кукурузного» детства обложку старенького учебника за четвертый класс — и лозунг на нем4. Еще один текст-сигнал — «кукурузное» детство, отсылающий опять к хрущевским временам, которые породили целый пласт «кукурузного» фольклора5. 1 Рубина 2001а: 139. Левин 1998: 551. 3 Рубина 2001а: 190–191. 4 Рубина 2001а: 193. 5 Популярная фольклорная песня той поры: «Как по Советскому Союзу, / Кукуруза-твист, / Стали сеять кукурузу, / Кукуруза-твист, / “Кукуруза для людей, / Кукуруза-твист, / Кукуруза для свиней, / Кукурузатвист”, – / Сказал нам лысый коммунист, / Кукуруза-твист!». 2 172 «Дело в том, что Машиах не придет и… даже не позвонит. Пока эти суки будут вразнос торговать страной — он и носа не кажет»1. «И писем не напишет, и вряд ли позвонит» — слова из песни советской поры приходят на память по прочтении этих строк, участвуя в создании рубинского пастиша, иронического модуса, назначение которого, по словам И.П. Ильина, «разоблачить сам процесс мистификации, происходящий в результате воздействия медиа на общественное сознание, и тем самым доказать проблематичность той картины действительности, которую внушает массовой публике массовая культура»2. Воззвание «Готовьтесь к пришествию Мессии!» порождает другое — надпись на майках «Ну, нате, я пришел!»3. Автор «вписывает» газетный лозунг «перестроечных» времен — «Смотрите, кто пришел!» — в комически осмысленный мотив мессианства. Так советская ментальность — свойство репатриантов из СССР — комически обыгрывается Рубиной4. Когда жена одного из персонажей находилась при смерти, ее муж «вбежал в приемный покой вслед за носилками с телом жены и, выхватив табельное оружие, закричал, что лично и немедленно перестреляет сейчас всех проклятых жидов, врачейвредителей»5. Миф сталинской поры о «врачах-вредителях», читай «евреях», явно исторически деструктивный, выполняет в сюжете рубинского романа комическую функцию: персонаж-еврей, находясь в еврейском государстве, называет виновными евреев — так транслируется один из пропагандистских сюжетов советской мифологии. Клишированные фразы, прецедентные тексты, тексты-сигналы — мифология советской повседневности — участвуют в комическом пафосе рубинского повествования. 1 Рубина 2001а: 292. Ильин 2004: 309. 3 Рубина 2001а: 329. 4 По мнению фольклористов, записывавших и исследовавших нарративы иммигрантов из СССР, те не только не желали ассимилироваться, демонстрируя свое равнодушие к израильской культуре, но и всячески демонстрировали советские стереотипы [Еленевская 2005: I, 52, 192]. 5 Рубина 2001а: 92. 2 173 1234567 Источник Клише / сигнал / прецедент Текст Рубиной Здрави ц ы-заготовки, провозглашаемые во время праздничных торжеств Спасибо товарищу Сталину (Ленину / Брежневу) за наше счастливое детство!1 Спасибо товарищу Моцарту за нашу счастливую старость2. Агитационная поэзия, растиражированная в виде идеологических лозунгов (здесь: Маяковский) Мы говорим Ленин — подразумеваем партия, говорим партия — подразумеваем Ленин. Мы говорим «город» — подразумеваем «Матнас3», а говорим «Матнас» — подразумеваем «город»!!4 Лозунги, взятые из текстов классиков марксизма-ленинизма Искусство принадлежит народу… Искусство принадлежит сами знаете — кому...5 Лозунг на стене столовой (И. Ильф, Е. Петров) Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу! Из «Кодекса строителя коммунизма» Каждому по потребностям, от каждого по способностям! Матнас — обществу, общество — человеку6. Каждому — по комнате в доме-клинике для слабоумных престарелых7. 1 Анекдот: На первомайской демонстрации колонна глубоких стариков несет плакат: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» К ним подбегает человек в штатском: – Вы что, издеваетесь? Когда вы были детьми, товарищ Сталин еще не родился! – Вот за это ему и спасибо! [Шахназарова 1994: 263]. 2 Рубина 2000а: 11. 3 Матнас – дом культуры в Израиле. 4 Рубина 2000а: 46. 5 Рубина 2000а: 163. 6 Рубина 2000а: 89. 7 Рубина 2001а: 221. 174 Официальная пропаганда – обыденное сознание Мозг Ленина (текстсигнал представляет гипертрофированную синекдоху, отсылающую к «масштабности», «сакральности» Ленина как тотема) Такую ценную штуковину упустила… (имеется в виду мозг Ленина — в прямом, не метафорическом смысле. — Э.Ш.) Балда! И главное, под это все бы дали1. Радио-эфир — обыденное сознание Голос Левитана (текст-сигнал ассоциируется у носителей советской мифологии с судьбоносными событиями, звучащими из эфира) Он включил радио. Протикало шесть, и в тишине — ее до сих пор охватывал озноб при первых звуках — голос диктора, до жути похожий на голос покойного Левитана не только тембром, но и этой продирающей кожу интонацией: “От Советского Информбюро”, — вступил густым чеканным басом: “Шма, Исраэль! Адонай элохэйну, Адонай э-хад!” («Слушай, Израиль! Господь Бог наш, Господь един!»)2. 12 Молва гласит, что человек, переезжая, перевозит «себя», то есть все, к чему привык, все то пространство, которое зовется мифологической повседневностью, включая и праздники. Советский календарный праздник Нового года с его непременным атрибутом — Дедом Морозом3 породил богатый новогодний фольклор — от официально-торжественного до обсценного. Дед Мороз как персонаж праздника «советской елки» — относительно молод: как известно, в 1935 г. происходит «окончательное и бесповоротное» превращение немецкого праздника елки в советский новогодний обряд, породивший соответствующие клишированные тексты, ритуалы с участием 1 Рубина 2001а: 220. Рубина 2001а: 183. 3 См.: Душечкина 2002. 2 175 Деда Мороза: «Добрый дедушка Мороз, он подарки нам принес!». Известно, что в Израиле нет обычая отмечать Новый год с советским/российским размахом1. Но архетипически Персона, наделенная функцией приносить подарки, удивлять, ассоциируется у репатриантов из СССР с фольклорной фигурой Деда Мороза: «О! Что положительного в миллионере было, так это что выпивки много привез. <…> — Принес, принес, наш милый Дед Мороз! Они разлили водку и, поправляя друг друга грозящим пальцем, дружно исполнили безобидный стишок из студенческой молодости. Сначала хором, потом разделились на голоса: — Здравствуй, дедушка Мороз — борода из ваты! Ты подарки нам принес, пидорас лохматый?»2. Наблюдения израильских фольклористов свидетельствуют, что советский «Новый год» импортируется в 1990-х гг. в Израиль: с елкой, Дедом Морозом, Снегурочкой, новогодним застольем3. Вот как описано восприятие израильтянами ритуала привнесенного советского празднества: «Детское новогоднее представление в матнас (общинный центр — иврит). Снегурочка объявляет выход Деда Мороза. Свет погас, бьют в барабаны. Когда на сцене вновь вспыхивает свет, там стоит Дед Мороз с большим мешком подарков в руке. Дети зачарованы чудом и смотрят на него в полном молчании. И вдруг из зала раздается детский голос: “Има, ми зе?” (Мама, кто это? — иврит). “Ани йодаат? Улай Машиах” (Откуда я знаю? Может быть, Мессия? — иврит)»4. Вспоминая советское детсадовское прошлое, один персонаж романа воспроизводит слова воспитательницы: «Нашим детям подарки приносит Дед Мороз, а американским — Ку-КлуксКлаус…»5. Такой, казалось бы, далекий от советской идеологии и политики персонаж совершенно искренне вписывался советскими людьми в благостную социалистическую парадиг1 Однако «бывшие советские люди с ностальгическим удовольствием вспоминают любимые советские праздники, а некоторые продолжают отмечать их» [Еленевская 2005: I, 259]. 2 Рубина 2001а: 344. 3 Еленевская 2005: II, 74–78. 4 Еленевская 2005: 74. 5 Рубина 2001а: 252. 176 му, контекстуальным противовесом ему у Рубиной предстает гротесковый Ку-Клукс-Клаус (Ку-Клукс-Клан+Санта-Клаус). Типично не имя, а парадигма советского сознания — противопоставление нашего, «счастливого», детства, и «их», ужасного. Комизм здесь — в сопряжении двух созвучных и непонятных воспитательнице «имен». А другая народная мудрость гласит, что человек ко всему привыкает. Не было до поры на Руси празднования Нового года, не было праздника русской елки, не было советского Деда Мороза, — и вот, прижилось, воспринимается не обремененным особыми познаниями обывателем как космогоническая составляющая бытия. Это и подтверждает рубинская героиня-рассказчик из «Уроков музыки»: «И это была уже не чахлая елочка, к которой долго и кропотливо привязывали ветки, прихваченные мною за полтинник в загончике, это была Ель — прекрасный Идол, знак, мета, дошедшая до людей через тысячелетия…»1. Так и еврейская старушка из романа «Вот идет Мессия!» — ровесница советской власти — давно смирилась с тем, «что вместо Песаха последние лет семьдесят отмечала со всей страной Международный день трудящихся…»2. А все потому, что «Мир всегда один и тот же», — говорит молодой раввин из того же романа, цитируя Экклезиаст — «“Но то, что было, то будет снова, и что свершается, то и свершится, нет ничего нового под солнцем”. <…> Время никуда не движется… время — кольцо…»3. Извечной архетипической составляющей мировидения представляется идеализация будущего/прошлого, ожидание возврата ушедшего «золотого века». Таковы космогонические мифы, в «памяти» которых сохранено представление о первом миропорядке — «золотом веке» (или библейском Рае, или «добрых старых временах», или «благополучной советской эпохе»4), восстановить который стремится каждый космогонический миф. Е.М. Мелетинский называет миф древнейшим 1 Рубина 2002: 134. Рубина 2001а: 156. 3 Рубина 2001а: 257–248. 4 Неклюдов 2005: 15. 2 177 способом концепирования окружающей действительности, первичной моделью всякой идеологии1. В эту парадигму вписывается ожидание Мессии еврейским народом (и бывшим советским), в данном случае — многочисленными персонажами рубинского повествования. В качестве прецедентного текста советской мифологии и советского фольклора присутствует в романе «Вот идет Мессия!» такой текст-сигнал, как «мозг Ленина». Текст-сигнал бытует в мифологии ХХ в. вместо развернутого, уходящего из практики устного бытования сюжетного нарратива, которому пришло на смену клише как фрагмент нарратива — в виде намека, аллюзии, отсылки к событию или рассказу: клише, не столько передающее информацию, сколько указывающее на нее. Такой процесс — коллаж вместо повествования — соответствует, по словам К.А. Богданова, аксиологии современной культуры, где важна и востребована не столько ценность сюжета, сколько эффективность образа и факта2. Героиня романа «Вот идет Мессия!» — Писательница N. — отказала в гостеприимстве некоему исследователю мозга Ленина, везшему его частицу в Израиль, — тем самым вызвав бурю негодования у друзей-соратников: «Такую ценную штуковину упустила… Балда! И главное, под это все бы дали»3. Опрос современной студенческой аудитории — о чем говорит им текст-сигнал «мозг Ленина» — показал: ни о чем. А читателю, вышедшему из советской поры, этот «текст» говорит о многом — клишированные сравнения: «умный, как Ленин», «большой лоб — как у Ленина» и проч. У истоков советской мифологии, обожествившей Ленина, а именно «мозг Ленина», стоит созданный по смерти вождя научно-исследовательский институт по изучению мозга Ленина (в 1925 г. была организована специальная Лаборатория, преобразованная в 1928 г. в Институт мозга). Мифологизации мозга Ленина сопутствовали медийные выступления. Из речи Г.Е. Зиновьева на заседании Ленсовета рабочих и крестьянских депутатов 7 февраля 1924 г.: «Лучшие представители науки <…> лучшие светила 1 Мелетинский 1998: 419. Богданов 2001: 63–65. 3 Рубина 2001а: 220. 2 178 науки сказали: этот человек сгорел, он свой мозг, свою кровь отдал рабочему классу без остатка». Из речи Л.Б. Каменева 26 января 1924 г. на траурном заседании II Всесоюзного съезда Советов: «Ильич связал себя с рабочей массой не только идеей. Нет! <…> Он отдал этой связи свой мозг. Врачи, которые достали из мертвого тела Владимира Ильича пулю <…> …эти врачи раскрыли и его мозг, этот удивительный, поразительный мозг, мощность которого не знает себе равного. И они сказали нам сухими словами протокола, что этот мозг слишком много работал, что наш вождь погиб потому, что не только свою кровь отдал по капле, но и мозг свой разбросал с неслыханной щедростью, без всякой экономии, разбросал семена его, как крупицы, по всем концам мира, чтобы капли крови и мозга Владимира Ильича взошли потом полками, батальонами, дивизиями, армиями…»1. Советской ментальностью спроецирован такой фрагмент рубинского текста: «Я готов платить налоги… чтобы хоть изредка видеть работающего еврея»2. Еврей в русско-фольклорной повседневности — образ материально состоятельного человека, без особого труда, благодаря уму и сметливости, организующего свой «гешефт». «Одним из печальных результатов антисемитской пропаганды стало принятие самими евреями многих антисемитских стереотипов, далеко не исчезнувших в Израиле»3. Из биографических рассказов эмигрантов исследователи «высветили» стереотипы самовосприятия еврейского этнотипа — вот «реальный» диалог врача и оперируемого пациента — из фольклорного нарратива: «“Почему ты такой скучный? Ты же пришел за жизнью, за здоровьем! <…> Кем ты работал?” Он ему говорит, что, значит, на шахте работал. А он говорит: “Еврей-шахтер? Такого быть не может!”»4. А вот еврей из анекдота советской поры: «Рядовой Рабинович! Возьмите эту лопату и выкопайте вон там яму метр на метр. Рабинович берет лопату и начинает придирчиво изучать ее со всех сторон. — Рядовой Рабинович, что вы ищете? — Моторчик. — 1 См.: Спивак. Рубина 2001а: 252. 3 Еленевская 2005: I, 82 4 Еленевская 2005: I, 74. 2 179 Где вы видели лопату с моторчиком? — А где вы видели еврея с лопатой?». Именно такой анекдотический еврей (один из небольшого числа этнических персонажей, порожденных, в общем-то, ксенофобией) стал неотъемлемой составляющей ментальности бывших советских граждан, которую они благополучно «перевезли» в землю обетованную. Цитаты из классической литературы, растиражированные школьным образованием, пополнили фольклорно-прецедентный фонд современной речи советских эмигрантов. «Не случайно русскоязычная пресса Израиля широко использует аллюзии на русскую литературу и фольклор. Воспринятые в СССР представления о различиях цивилизаций мобилизуются для интерпретации нового израильского опыта…»1 и, благодаря медийному пространству, их тиражированию. В рубинском повествовании цитация прецедентных текстов выполняет функцию ироническую/комическую, придавая речи персонажей — евреев из бывшего СССР — особую стилистику, с одной стороны, с другой — органично вписывается в иммигрантский дискурс с его подсознательным желанием сохранения культуры страны исхода2. «Белеет парус одинокий, как метко выразился аднажды выдающийся поэт, в тумане моря голубом… — начинал свой комментарий новостей Вергилий. — Адиноким выглядел вчера министр иностранных дел Израиля в тумане засиданья Савета Безапасности Арганизации Абъединенных Наций…»3 (курсив мой. — Э.Ш.) — дословная цитата из Лермонтова («Парус»), использованная в неожиданном «наивном» контексте в виде сравнения. «А что же вы солдата не прихватили? — спросил доктор Писательницу N. На что она, мать солдата, ответила: «…я б хотел забыться и заснуть»4 (курсив мой. — Э.Ш.) — дословная цитата из Лермонтова («Выхожу один я на дорогу…»), использованная в прямом назначении, но, в отличие 1 Еленевская 2005: I, 313. Еленевская 2005: II, 160. 3 Рубина 2001а: 98. 4 Рубина 2001а: 373. 2 180 от первоисточника, где эта строчка имеет метафизической смысл, у Рубиной она «обытовлена». «Постепенно гости съезжались-таки на дачу»1 и в другом произведении: «…Конференция была подготовлена на высшем уровне, грянула дата открытия, гости съезжались на дачу…»2 (курсив мой. — Э.Ш.) — почти прямая цитата из светской повести Пушкина «Гости съезжались на дачу…». Нейтральная фраза посредством частицы таки окрашивается стилистикой еврейского анекдота, которая служит одним из самых характерных признаков еврея в анекдотах3. «Приходит человек устраиваться на работу. Его спрашивают — “Кто вы по национальности?” Он отвечает: “Таки да…”»4. «Как мы дошли до жизни такой? — вопрошал политический обозреватель… и сам себе отвечал: — Под гнетом власти роковой!»5 (курсив мой. — Э.Ш.) — прямая цитата из пушкинского «К Чаадаеву». «Нет ничего страшнее русского бунта»6, — резюмирует рубинский рассказчик по поводу объединения евреев в партию репатриантов из России. Пушкинская фраза из «Капитанской дочки» — «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный» — с одной стороны, неточная цитата, с другой — явная аллюзия на пушкинский текст, но введенная в иронический контекст, так как под «русским» бунтом подразумеваются евреи, ставшие «русскими» в пространстве Израиля. Таким образом, прецедентные тексты, получившие статус хрестоматийных именно в советскую пору, имеют разное происхождение, но в большинстве своем характеризуются явно выраженной идеологической направленностью. Пережив свой замысел, найдя нишу в виде «разомкнутого клише»7, они стали составной частью ментальности людей постсоветского про1 Рубина 2001а: 327. Рубина 2004д: 90. 3 Шмелева 2002: 56. 4 Еленевская 2005: II, 68. 5 Рубина 2001а: 367. 6 Рубина 2001а: 325. 7 Размыкание клише – преобразование формы и значения клише при сохранении его парадигматики [Клубков 2003]. 2 181 странства (в данном случае — эмигрантов), география которого простирается дальше границ бывшего СССР, что и изображено в прозе Рубиной. Советская ли мифология вписалась в иудейскую, иудейская ли в советскую? — скорее, и та и другая суть архетипические структуры мифологического мышления как такового, с одной стороны; с другой — ориентированность иммигрантского фольклора на советскую мифологию, или советские стереотипы, служит механизмом объединения русскоеврейской диаспоры, упрощая взгляд на мир, или, напротив, поддерживая нежелание попасть в «плавильный котел» ассимиляции1. Не только прецедентные тексты, но и само массовое сознание российско-советского человека (с его коммунистическими «идеалами») не могло не эмигрировать вместе с его носителями. Впрочем, это, по мнению Рубиной, не только черта «русских» репатриантов, а черта национального еврейского характера — самодур Альфонсо из «Последнего кабана…», репатриант из Аргентины, напоминает рассказчице коммунистического лидера, борца за мировую революцию, которых она вдоволь навидалась в СССР. «Интересно, что израильтяне, будучи в сфере материальной людьми вполне практичными, в сфере эмоционально-идеологической продолжают, в сущности, строить коммунизм, в то время как уже во всех остальных местах планеты все бросили это идиотское занятие. Ну что ж, евреи, как известно, издревле отличались особенным идеологическим упрямством»2. Созвучен рубинскому восприятию этой черты израильтян диалог из текста Елены Толстой — между израильской «училкой» и парой — рассказчицы с мужем: «Ципи: Мы воспитаны на русской классике. Моей первой книгой был “Цемент” Гладкова. Как у вас перековывали человеческий материал! Мы: Какой ужас вы говорите. Человек не материал. Человеческий материал — это когда берут людей и варят из них мыло3. Разве можно? 1 Еленевская 2005: I, 118, 200; II, 160. Рубина 2000а: 45. 3 Как заметила Е. Толстая, текстам свойственно пересекаться в стратегических точках [Толстая 2003: 109]. Вот одно из таких пересечений: 2 182 Ципи (не слушая): А как Маяковский наступил на горло собственной песне! Мы: Лучше бы не наступал. Ведь все самое лучшее он написал до! Ципи (не слушая): Поэзия должна служить. Мы: Поэзии нет без свободы! <…> Это Ципи сказала запоминающуюся фразу: “Вы преподаете? Литературу? Так вы такие же люди, как мы?” Я рванулась опровергнуть, муж наступил мне на ногу»1. Тот же пафос, вероятно, ставший стереотипом в изображении еврейской харизмы, присутствует и в прозе Л. Улицкой: «Исаак считал, что она советская шпионка. Он всегда говорил, что евреи — одержимый народ: рьяных евреев, особенно хасидов с их шелковыми шляпами, нелепыми кафтанами, латаными и перештопанными чулками, и еврейских комиссаров, пламенных коммунистов и чекистов, относил к одному психическому типу»2. Советская мифология как составная часть массового сознания — свойство не только репатриантов, не только иммигрантского фольклора. В рубинских текстах, воссоздающих советское пространство, расставлены акценты именно на таком мифологизированном сознании, для которого характерна некая историко-ритмическая парадигма. Выбрасывая из «капища» былых «тотемов», культурных героев, советский, или бывший советский, человек на место старого кумира устанавливает нового, хоть и с иной идеологемой, но так же «тотемизируемого» и до абсурда тиражируемого: «…по ночам на меня частенько падал заказанный отцу очередным совхозом портрет Карла «Умейте любоваться жизнью… Если б вы знали, как нежно пахнет мыло, сваренное из человеческого жира… Такой тонкий аромат и в то же время сильный запах, – продолжал он, – что вот, если б открыл здесь коробочку – изящную такую керамическую коробочку, – то вы бы за десять шагов почувствовали этот нежный запах… Я держал коробочку с таким мылом в руках, когда мы освободили Равенсбрюк… И с тех пор не терплю никакого парфюмерного запаха. Для меня это – запах смерти. Понимаете? Ни жена, ни дочь никогда, бедные, из-за меня не пользуются духами… Так что, дружочек, умейте любоваться жизнью, как бы по-идиотски она ни выглядела, каким бы пóтом и пошлостью от нее ни разило…» [Рубина 2000а: 175]. 1 Толстая 2003: 88–89. 2 Улицкая 2006: 17. 183 Маркса, неосторожно задетый во сне моей рукой или ногой»1 («Камера наезжает!..»); «…историю в школе нам преподавала суровая такая тетка по фамилии Колено. Говорила: “Учите предмет по учебнику истории ВКП(б) 46-го года. Замените, — говорила, — Сталина на партию и народ, и учите, — хороший учебник»2 («На солнечной стороне улицы»); «…ты… хотел выиграть у меня замечательную марку, великую марку: Сталин и Мао пожимают друг другу руки, а за ними реют советские и китайские знамена. (Мы уже знали, что марка уникальна. Потому что на ней — разоблаченный злодей Сталин, но еще не знали, что она уникальна вдвойне: неразоблаченный злодей Мао Цзе-дун был жив-здоров, а культурная революция только на подходе.)»3. Обожествлялись не только политические/идеологические персоны, но и писатели, возведенные в национальные тотемы. «Тотемы» иногда выручают: «Он отбывал срок в Колыме с 36-го, ему, председателю Пушкинской комиссии, инкриминировались “попытки срыва юбилея Пушкина”. Кстати, Пушкин его и спас: когда, еще живого, Оксмана свезли в морг, служитель обнаружил на ноге у него бирку, где было написано, что он — из Пушкинского Дома. На эту бирку, на слово “Пушкин” служитель морга и отреагировал, и спас доходягу, откормив сливочным маслом, — вроде крутился на кухне. Что это доказывает? Благородство простого русского человека? Не обязательно. Но то, что Пушкин — поистине национальное достояние…»4; они становятся матрицей поведения (и со стороны объекта, и его субъективного восприятия): «Он встал на скамейку, в резиновом плаще до пят, — как Ленин на броневик, — и гаркнул луженой своей, натренированной на “политинформациях”, глоткой…»5 («На солнечной стороне улицы»). Такова мифологическая парадигма массового сознания, его уникальной разновидности — советской мифологии. 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 2 2000: 2006: 2006: 2006: 2006: 230. 363. 222. 325. 218. 184 Герой прозы Дины Рубиной е …Кто я и что в этом полном челяди замке славного рыцаря Альфонсо? Всем чужой пришелец — трувер? трубадур? миннезингер? хуглар!..1 Дина Рубина. «Последний кабан из лесов Понтеведра» Дина Рубина принадлежит к типу писателей, создавших свой художественный мир, — с пространством, мотивикой, аксиологией, героями, способом повествования. Если вычленить из всей рубинской прозы некоего героя-универсума, то это будет героиня-рассказчик. Не повествователь, а именно рассказчик, субъектная организация и психологический, нравственно-этический портрет которого обнаруживается в любом произведении. Как в лирическом творчестве от текста к тексту накапливается некая эмоциональная информация о лирическом герое, например в лирике Лермонтова, так и в прозе Рубиной: все ее рассказы, повести, романы, эссе — слагаемые пространства, где обитает все та же героиня. Находится ли она в Израиле, Москве, Ташкенте, путешествует по Европе, сидит ли на уроке или дает «урок» другому, выстраивает ли взаимоотношения с коллегами, неважно, кто они — бывшие советские граждане или израильтяне, — повествование везде организуется единым ироничным субъектом, даже в тех текстах, где рассказчик не объективирован, выключен из сюжетного действия (например, в «Терновнике», «Любке», «На Верхней Масловке» и др.). Но складывающееся повествование не бесстрастно, оно преломлено через сознание рассказчика (в таких текстах гендерная составляющая отсутствует). В тех текстах, где рассказчик объективирован, это всегда героиня — с биографией, выстроенной сюжетами всего рубинского творчества. Нравственно-этические приоритеты героини так или иначе выявлены в предыдущих главах; главной составляющей ее портрета в концепции данного исследования является трепетное, любовное отношение к своему народу и к самому феномену еврейства, любовь к которому усилилась близостью Ие1 Рубина 2000а: 55. 187 русалима, где писатель Дина Рубина вместе со своей героиней ощущает «всю тысячелетнюю толщу прав» ее народа, и имя Иерусалим ласкает ее российский слух1. Романы и повести Дины Рубиной отличает многогеройность, среди персонажей нет ни главных, ни второстепенных. Тем не менее для ряда произведений, особенно последних романов, характерно присутствие главных героев: «На Верхней Масловке», «Последний кабан из лесов Понтеведра» — этот роман вырос как бы из недр еврейской мифологии, ее архаической стадии, «На солнечной стороне улицы», «Почерк Леонардо», «Белая голубка Кордовы», «Синдром Петрушки». 1 Рубина 2004в: 320. 188 Герой-трикстер А для тебя секрет, что евреи — сумасшедшие?1 Дина Рубина. «Синдикат» В творчестве Рубиной одним из выразительных по наличию собственно героя — в его литературоведческом понимании — является роман «Последний кабан из лесов Понтеведра». Герой — Люсио — проходит в развитии сюжета романа стадии от комического статуса шута, озорника в завязке — до трагического «делателя» своей судьбы в развязке. В метатексте мировой словесности парадигма образа комического персонажа строится на архетипе трикстера. Остановлюсь на ключевых моментах «трикстерного контекста», который станет преамбулой к рассмотрению рубинского героя. Мифологический трикстер — это двойник культурного героя, но его «низкой» ипостаси; трикстер — плут, озорник, он бестолков, неуклюж, недотепа, обжора и развратник; в мифологии часто представлен в облике животного. Пол Радин подробно разбирает образ трикстера-кролика, у которого всегда «две ипостаси — божественного культурного героя и божественного шута»2. Трикстер мифологических повествований всегда путешествует, при этом он голоден, «у него нет обычных представлений о добре и зле, он либо обманывает людей и животных, либо сам становится жертвой их обмана»3. Исследования о трикстере послужили основанием для концепции Е.М. Мелетинского о «низком» герое в сказочном нарративе. Образ «низкого» героя встречается в мировом фольклоре: у североамериканских индейцев это образ грязного мальчика — Обожженное пузо, Грязный парень, у тюркских и монгольских народов это Лысый паршивец, или Плешивый, в западноевропейской сказке — Золушка, скандинавский Запечник, «низкий» герой русской сказки — Иван-дурак. Сказки о нем имеют типичное начало: «Было у отца три сына, двое умных, а третий дурак; старшие работают, а третий ле1 Рубина 2004д: 45. Радин 1999: 181. 3 Радин 1999: 221. 2 189 жит на печи да в камешки с котом играет». Специфическая черта Ивана — пассивность, он ждет своего часа. Эстетика «низового» начала, ставшая стержневой в создании «низкого» героя, распространяется в сказке и на предметы, служащие герою. Чудесный помощник или чудесный предмет также неприглядны: конек-горбунок, нищие-советчики; герой в ситуации «экзистенциального» выбора останавливается на самом невзрачном предмете, который и оказывается чудесным. Все неприглядное рядом с героем и в нем самом превращается в «высокое». Не объясняя магически-ритуального значения золы, лежания дурака на печи и прочего, сказка показывает, как герой, «не подающий надежд», бедняк, сиротка, младший, некрасивый, грязный, достигает сказочных целей, недоступных его «умным» соперникам1. Нарративы о герое-трикстере в еврейском фольклоре и еврейской литературе вписываются в соответствующую парадигму мировой словесности: это повествования о хелмских мудрецах (в фольклоре и литературе), о своеобразном, эпатажном поведении хасидов, тексты о дураках. Такое разнообразие персонажей, выбивающихся своим поведением, образом мышления из общепринятого, традиционного, сопряжено с их потенциальной амбивалентностью — ведь с момента разрушения Храма провидческий дар отнят у пророков и передан безумцам и детям2. Одной из ярких тем подобных нарративов является тема глупости, наиболее наглядно представленная «хелмским текстом», в котором идет речь о жителях Хелма (или Хелома, или Хелмна — местечко в Польше) — коллективном герое. В мировом фольклоре существуют сказки и анекдоты о «коллективных дураках» (в отличие от сказок и анекдотов о «дураке-индивидууме»). «Коллективные дураки» обитают в некоем хронотопе, где время условно-фольклорное, а пространство имеет конкретное название (как реально-географическое, так и вымышленное). «В Древней Греции — это жители Абдеры, абдериты, у немцев недалекими слывут швабы. <…> У нас недалекими почему-то слывут жители бывшего Пошехонского уезда Ярославской губернии. Впрочем, возможно, что это приурочение идет вовсе не от фольклора, а от книги 1 2 Мелетинский 2005: 203–211. Рубина 2004д: 172. 190 В. Березайского “Анекдоты древних пошехонцев с присовокуплением забавного словаря” (1798). Ни в одном из русских сказочных сборников пошехонцев нет, о них не упоминается»1. Причем статус этих «коллективных дураков» в их собственных глазах — противоположный, травестированный: они ощущают себя мудрецами. В русском фольклоре герой (например, в сборнике «Народных русских сказок» А.Н. Афанасьева), сталкиваясь с глупостью своих близких, отправляется в путешествие: найду кого глупее, тогда вернусь — такова цель его странствия. И находит. Локус глупцов не имеет географического названия — это лишь глупые люди какой-то деревни, какого-то села. Герой-пришелец и местные «мудрецы» находятся в отношениях антитезы: они глупы — герой умен. (Хотя в русском фольклоре ХХ в. появились повествования с конкретным локусом — деревня Киндасово и его обитатели — киндасовцы, производящие «лапшу».) Еврейские фольклорные повествования о хелмских дураках — это не калька с иноязычных текстов на подобную тематику. В них воссоздана ментальность еврейского народа, национальная картина мира. Бытие евреев в «локусе дураков» соответствует парадигме реальной жизни народа, с ее уставом и обычаями. Так, по еврейской традиции, восходящей к Талмуду, считается, что «мир держится на присутствии в нем 36 цадиков»2, праведников; о том же и афоризмы Агады: «Грейся у огня мудрецов», «Мудрец важнее царя израильского: умрет мудрец — нет ему замены, а на царство годится любой израильтянин», «Мудрец лучше пророка» и проч.3 С одной стороны, именно этим мотивом еврейской ментальности объясняется обязательное присутствие в «локусе дураков» мудрецов (т. е. лидеров глупцов), с другой — именно «семь мудрецов», живущих в Хеломе, восходят к фольклорно-мифологическим мудрецам: «…первые шильдбюргеры (персонажи немецкого фольклора, «родственные» хеломским. — Э.Ш.) были родом из Греции и происходи1 Пропп 1976: 88. Телушкин 2002: 442. 3 Агада 1999: 363–364. 2 191 ли не от кого иного, как от одного из семи мудрецов»1. Позже «разбрелись они по всему белу свету с женами и детьми, поселились в разных местах — одни там, другие здесь, — и всюду нравы свои дурацкие насаждали»2. В антологии «Книжкин дом»3, вобравшей фольклор и литературу еврейских, а также русских писателей о персонажахевреях, не случайно широко представлена тема глупости как одна из выразительных в еврейской словесности. Ей посвящено как минимум девять произведений двух авторов: это тексты Овсея Дриза4 и И.Б. Зингера, развивающие тему хеломских глупцов. В оригинале они написаны на языке идиш. Если можно предположить факт влияния на творчество Овсея Дриза русского фольклора, то в связи с Зингером таковое представляется сомнительным. Язык восточно-европейских евреев — идиш, «немецкий еврейский», выполнил роль медиатора, став носителем фольклора, впитавшего темы и мотивы немецкого устного творчества. «Хеломский текст» Дриза и Зингера изобилует мотивами немецкого средневекового фольклора — шванков, повествований о шильдбюргерах, вошедших в средневековые «Немецкие народные книги»5. Шильдбюргеры, жители Шильды (сначала деревни, потом города), — те самые «коллективные дураки», что сеют соль, носят свет в мешках, загоняют на крышу корову, чтобы попотчевать ее выросшей там травой. В стихотворении Дриза «Может быть, да, а может быть, нет» повествуется об истории, случившейся в старом Хеломе: «Реб-Нухем увидел огромный сугроб. / А из него поднимается пар, / Как будто под снегом кипит самовар»6. Когда же любопытного Ребе вытащили из сугроба, он оказался без головы. Стали выяснять у жены: была ли у Ребе голова. «Когда он ел утром / Картошку с селедкой, 1 Шванки 1990: 426. Шванки 1990: 502. 3 КД 2004. 4 Овсей Дриз – еврейский писатель советской литературы (1908–1971). 5 «Немецкие народные книги» публиковались в XVI в., в XIX в., перевод на русский язык появился в конце ХХ в. 6 КД 2004: 647. 2 192 / Я помню, / Что тряс он / Седою бородкой. А вот была ль / У него голова…/ Никак не припомню! — / Сказала вдова»1. Аналогичную парадигму находим в немецком фольклоре. Когда шильдбюргеры пожалели дерево и решили его напоить, они так его наклонили, что веревка вырвалась, и один из шильдбюргеров, сидевший на дереве, лишился головы. «Шильдбюргеры тут не на шутку перепугались и стали совет держать. Начали вспоминать: была ли у того шильдбюргера голова, когда он на дерево полез, или не было? Но точно никто ничего вспомнить не мог. <…> Пошли шильдбюргеры к жене и спросили ее, но она тоже толком ничего не знала. Вот на прошлой неделе в субботу она мужу голову мыла, значит, тогда голова была и уши были, она еще за ушами грязь отмывала»2. Как видим, эти фрагменты фольклорно-литературного текста немецкого Средневековья и стихотворения Дриза мало чем отличаются. В сказке Дриза «Хеломские обычаи» повествуется о том, как «В Хеломе водились мыши с незапамятных времен, / Не одна, не две, не тыща, а, наверно, миллион! / Мыши на дорогах, / Мыши на порогах, / Мыши на крылечках, / На чердаках, на печках, / На лавках, на перинах, / В корытах и корзинах…/ Вот какое горе, / Просто-таки горе!»3. В немецком литературно-фольклорном тексте читаем4: «Надо сказать, что в городе Шильде никогда не водилось кошек, а мышей там развелось видимо-невидимо, они даже в хлебный ларь постоянно залезали. Что рядом с ним ни положь, все они тут же сожрут или изгрызут, так что очень они шильдбюргеров допекали»5. И в немецких текстах, и в сказке 1 КД 2004: 651. Шванки 1990: 494. 3 КД 2004: 652. 4 О том же в другом литературно-фольклорном тексте: «И обратились они (простодушные жители деревни Ганслозен. – Э.Ш.) к мошеннику с вопросом: “Послушай-ка, дорогой земляк, что за невиданного зверя ты несешь?” А тот им отвечает: “Этот зверь называется мышья погибель”. Услыхав такое, оба мужика очень обрадовались, потому что в деревне было полно мышей, которые жрали и портили зерно, ячмень, пшеницу, овес и всякое такое, а мышьей погибели не было…» [Шванки 1990: 217]. 5 Шванки 1990: 500. 2 193 Дриза появляется мышья погибель. Но в фольклоре немцев кошку приносит путник (или мошенник), а в еврейской картине мира кошка должна появиться по совету семи мудрецов (в которых травестированы семь пророков1 — по числу планет2 — или семь праведников): «И собрались семь старейших и умнейших на совет, / Чтоб решить: ну что же делать? От мышей спасенья нет! / Рассуждали, обсуждали и гадали семь ночей. / Наконец решили: кошки нас избавят от мышей!»3. Шильдбюргеры строили ратушу: о трех углах, без окон, без печи. Аналогично строят баню хеломцы из стихотворения Дриза «Как в Хеломе построили турецкую баню», но под предводительством своих мудрецов. «Турецкая баня / Стоит возле речки, / Стены сосновые, / Пол земляной! / <…> И постепенно / Все оказались / В грязи по колено»4. Настелив доски, но строганой стороной вниз, хеломцы успокоились: «Трудно поверить, / Но в бане турецкой / Моются люди / С тех пор потурецки: / С железными шайками, / Как в облаках, / Сидят они… в валенках / И в башмаках»5. В прозаическом повествовании Зингера «Хеломские дураки и глупый карп» присутствует та же связь с немецким средневековым текстом. Еще живой карп, поднесенный хеломцем мудрецу, хвостом шлепнул его по щеке. Задумал мудрец наказать карпа. Перебрав множество вариантов наказания, решил карпа утопить. «Гронам Вол и прежде выносил немало умнейших приговоров, но ни один из них не мог сравниться с нынешним. Даже его враги были поражены мудростью вердикта»6. В немецком фольклорном тексте повествуется о том, как шильдбюргеры поймали диковинное существо — рака. «Тут один из них (шильдбюргеров) любопытства ради потрогал рака рукой, а рак как хвать его клешней! Стал тут шиль1 Семь пророков – по числу семи мудростей: «Что, если я отыщу воду, которая любого может сделать мудрецом и открыть ему все секреты? Или сам пророк Илия придет учить меня Семи Мудростям Мира?» [Зингер 2005: 88]. 2 Патай 2005: 95. 3 КД 2004: 652. 4 КД 2004: 659. 5 КД 2004: 661. 6 КД 2004: 613. 194 дбюргер вопить: “Караул! Убивают! Убивают!” Когда другие это услыхали, чаша их терпения переполнилась, сотворили они тут же скорый суд над чудовищем, что их земляка чуть не убило, и вынесли такой приговор: <…> “И казнить того зверя самой суровой казнью, то бишь утопить в реке”»1. Таким образом, тексты еврейских писателей о хеломских дураках вышли из фольклора, который, в свою очередь, является симбиозом немецких и еврейских устных традиций. Но при этом еврейские тексты адаптированы к ментальной картине мира еврейского народа. Наряду с «групповым» дураком популярен в еврейском фольклоре герой — недотепа-одиночка, именуемый Шлемиль, или шлемазл (от немецкого Schlemihl — неудачник). Сама по себе популярная оппозиция (мотив) ума и глупости в еврейском фольклоре довлеет, возможно, в силу приоритетной роли интеллекта в еврейской аксиологии2. (Одним из полюсов этой оппозиции в еврейской ментальности не случайно является институт пророчества.) В отличие, к примеру, от фольклора русского с универсальным сказочным Иваном-дураком, в еврейском фольклоре (восточно-европейском) чуть ли не каждое местечко имело своего шлемазла: Гершеле Острополер, Шмерл Снитковер, Мотька Хабад, Лейб Готсвиндер, Шая Файфер, Колев Лец, Фроим Грайдигер, Бинька Дибек, Иос Маршалик, Шлойме Людмирер, Беня3, а также множество безымянных героев. Парадигма этих образов варьирует: как русский образ Ивана-дурака в одних случаях метаморфизируется, в других — остается неизменным в своей глупости, так и еврейский шлемазл в ряде нарративов вдруг освобождается от своей недотепости, вознаграждаемый или богатством, или властью, или всеобщей любовью. Внезапно открывается окружающим своими талантами, как реальными — ремеслом, так и метафорическими — это его простота, открытость и бесхитростность. В фольклорной сказке «Мудрец и простак», рассказанной раби Нахманом из Браслава, в образе простака представлен классический шлемазл: «Был этот простак радостным и веселым, но 1 Шванки 1990: 498. Дымшиц 1999: 449. 3 см.: Райзе 1999. 2 195 люди подтрунивали над ним кто во что горазд, найдя в нем удобную мишень для шуток: ведь в их глазах он выглядел сумасшедшим»1. Простак жил «полной» жизнью: ел-пил что хотел, наряжался: попросит у жены хлеба — она приносит, попросит супа — она приносит… опять хлеб, попросит мяса — она приносит хлеб; скажет жене: неси полушубок — жена несет полушубок, попросит шубу — жена несет полушубок. Простак беден и неприхотлив, довольствуется тем немногим, что есть, в отличие от своего богатого, претенциозного друга-мудреца. Простак спрашивает мудреца: «Почему ты всегда страдаешь? Ведь ты так умен и богат! Отчего тогда я всегда весел? <…> — Таким как ты я стану только тогда, когда Всевышний лишит меня разума… Ведь ты сумасшедший! Со мной ты никогда не сможешь сравняться…<…> Сказал ему простак: — У Всевышнего… все возможно. Ему ничего не стоит сделать и меня мудрецом, равным тебе»2. После ряда перипетий простак становится первым министром при царе, посрамленный мудрец со своими амбициями оказывается ни с чем. Вот пример литературной параллели метаморфозы шлемазла: визави Жозефа, шмиттовского героя «Детей Ноя», — подросток Руди: «…меня сглазили, я неудачник. Если в кастрюле с кашей окажется камешек, он достанется мне. Если сломается стул, то только подо мной. Если упадет самолет, то наверняка на меня. Я сам непрушник, и другим от меня непруха. <…> Я вселенское бедствие, ошибка природы, катастрофа, ходячее горе луковое, настоящий шлемазл»3. Однако по прошествии ряда лет шлемазл Руди становится респектабельным гражданином Израиля, внеся лепту в его строительство, он продолжил эстафету Ноя-Понса по спасению евреев: отец и дед двенадцати человек: «Все правильно, Жозеф. У тебя сколько детей? Четверо. А внуков? Пятеро. Спасая тебя, отец Понс уже спас еще девять человек. А в моем случае — двенадцать. В следующем поколении получится еще больше. И дальше — все больше и больше. Через несколько веков окажется, что он 1 Браславский 1989: 118–119. Браславский 1989: 124–125. 3 Шмитт 2005а: 331. 2 196 (отец Понс) спас миллионы людей»1. В парадигме этого варианта шлемазла видится главный герой романа Рубиной «Последний кабан из лесов Понтеведра»2 — Люсио. «В двери Матнаса вкатился уморительно смешной человек. Он переваливался с боку на бок, энергично притоптывая ножками, а коротенькими ручками как бы отталкивался от невидимых стен по бокам. — Забавный… — пробормотала я, провожая взглядом человечка и пытаясь понять, кого он мне напоминает. <…> — Вообразите, дети его очень любят. Он большой шутник, артист, забавник, мастер на все руки…»3. «Он выписывал вокруг стола кренделя… <…> Люсио подскочил к директору, заведя руку за спину и приговаривая: “Поделись с Люсио, дай кусочек вкусненький!”»4. «Животная» составляющая «трикстерности» Люсио подчеркнута как метафорой заглавия — «Последний кабан…», так и развернутыми сравнениями в ходе повествования: «Я… вдруг услышала за собой дробный топот. Так бежит по лесу дикий кабан. Оглянувшись, я увидела карлика Люсио. Он и вправду был на удивление похож на кабана: сдвинутые к переносице створки заплывших глазок, широкие ноздри, срезанный подбородок. <…> И гундосый голос, идущий как бы через ноздри, и кабанья голова, привинченная к нелепому тельцу хромого поросенка »5; «…маленький Люсио стоял перед моими глазами, похожий на карликов Веласкеса, например на дона Себастьяна де Мора. Кабанья голова, привинченная к телу хромого поросенка6. Культурологическая семантика кабана отсылает к мифологии — египетской, индийской, японской, греческой, где это животное выполняет агрессивно-мстительную, карающую 1 Шмитт 2005а: 399. Иная грань трикстерности рассмотрена в главе «Мотив Мессии и мессианства» данного исследования. Действие подобных персонажей – лжемессий, шутов, лжепророков, лжебогов – строится на зрелищных образах, их представления-сценки разыгрывают мнимое как настоящее; они пародируют, глумятся, передразнивают [Фрейденберг 1978: 234–235]. 3 Рубина 2000а: 14. 4 Рубина 2000а: 30. 5 Рубина 2000а: 23. 6 Рубина 2000а: 109. 2 197 функцию, а также является жертвенным животным. «В зависимости от перемены ролей он превращался то в быка, то в матадора, сменяя утробный рев на мягкую объясняющую скороговорочку»1; «…ел, странно и непроизвольно подмигивая, — очевидно, было это вызвано раскоординированностью лицевых мышц. Один глаз его закрывался, другой, полузакрытый, смотрел вбок. При усиленном прожевывании особенно крупного куска Люсио вскидывал левый глаз и страшно подмигивал им в самом неопределенном направлении. Вообще, когда он ел, казалось, что рука невидимого кукловода, изнутри распялив на пальцах его лицо, выкручивает губы, сворачивает на сторону нос, подергивает кадык и сводит щеки к подбородку»2. Артистизм, веселье, карнавальное поведение — свойство хасидизма. Хасидская традиция, как известно, близка в какой-то мере поведению юродивого — не столько в философском, мировоззренческом плане, сколько во внешних проявлениях, когда в жестах, в словах содержится вызов власти, провокация, доходящая до розыгрыша, порой и агрессивного3. «Его асимметрично оплывшее лицо со срезанным подбородком, стекающим в жирную шею, сейчас не казалось мне таким отталкивающим, — это был миг, когда я поняла, что Люсио, пожалуй, умнее не только своего господина, но и всей дворни, этой своры бездельников и прихлебателей…»4. «Люсио делал вид, что спит: положив голову на стол, тихо, 1 Рубина 2000а: 60. Рубина 2000а: 44. 3 Аргументируя хасидское и талмудистское начало поэтики Пастернака и Мандельштама, М. Эпштейн обращает внимание на имеющееся в литературном творчестве сравнение обоих поэтов с животными: «У Мандельштама находили сходство с задравшим голову верблюдом, Пастернака уподобляли арабскому коню – такое удлиненное было у него лицо и стремительность в походке, жестах, словах. Оба сравнения порознь отчеканены Цветаевой. “Внешнее осуществление Пастернака прекрасно: что-то в лице зараз и от араба и от коня: настороженность, вслушивание, – и вот-вот… Полнейшая готовность к бегу. – Громадная, тоже конская, дикая и робкая роскось глаз”… О Мандельштаме: “Глаза опущены, а голова отброшена. Учитывая длину шеи, головная посадка верблюда. Трехлетний Андрюша – ему: “Дядя Ося, кто тебе так голову отвернул?”» [Эпштейн 2000: 90]. 4 Рубина 2000а: 57. 2 198 но внятно похрапывал. И эта кабанья голова на столе…»1. Лидер и основатель хасидизма Баал Шем Тов, или Бешт, изрекал следующее (Бешт не оставил письменных трудов, но его ученики и последователи многое записали): «…во всем, что существует в мире, заключаются божественные искры, даже в деревьях и камнях, во всех делах, совершаемых людьми; даже в грехах человеческих есть искры Божии, только искры тлеющие, тусклые, которые, однако, могут снова воспламениться и вознестись ввысь через покаяние»2. Бешт считал, что мир надо постигать в радости, в творчестве. Таким творческим началом обладает рубинский Люсио, способный буквально дробить мир на мельчайшие частицы — «искры». Следуя логике Эпштейна (в обнаружении у Пастернака хасидского метатекста), который вычленяет единицу творчества, — это «капли, снежинки, пушинки, листья, ветки, искры, слезы, цикады… <…> Да и человеческое существо разбито на губы, ключицы, локти, ладони, пальцы, запястья, суставы, позвонки — на мельчайшие части телесного существования»3, — можно выделить «единицу» творчества Люсио: это также части телесного существования, но обнаженные до агрессивности — макеты мозгов, которые шевелятся (ведь к тому призывает начальство в лице Альфонсо — «Шевелите мозгами, хеврэ!»), мастерски изготовленная отрубленная рука, изъеденная червями, вываливающиеся кишки и иные обезображенные части тела. В тексте есть недвусмысленный намек на хасидскую подоплеку шалостей Люсио: «…в один из дней Люсио явился… в полном облачении хасида, в черной шляпе… с двойным дном в высокой тулье»4. Люсио разыгрывает кукольный спектакль: две куклы — одна он, другая — его жена. Он напоминает ей о сцене из их молодости: нищий, глазеющий на пару молодых влюбленных: «Ну и что?! — крикнула истерично куколка. — Что ты хочешь сказать этой дурацкой сценой? — То, что я — нищий, который годами смотрит на ваши ласки, нищий, которому не полагает1 Рубина 2000а: 33. Вихнович 2006: 156. 3 Эпштейн 2000: 87. 4 Рубина 2000а: 78. 2 199 ся ничего, кроме жестяной баночки с несколькими жалкими грошами… Любовь моя, когда человеку ничего не остается — ему остается только смерть…»1. Известно, что хасидская харизма возникла из смеси бедности и радостного выражения любви к Богу, так что сравнение Люсио себя с нищим рождено хасидским метатекстом. А имя лидера хасидов Баал Шем Тов (в переводе «обладатель доброго имени»), целителя и духовного вождя, часто применяется в еврейской традиции к кудесникам. Люсио соответствует своему архетипическому предшественнику: «В белом венчике из роз впереди — Иисус Христос. Процессии “мотэков” и правда всегда возглавлял Люсио, как и все оглушительные забавы. Надо отдать ему должное — Люсио был прирожденным вожаком, любимым атаманом жалких, наглых, жестоких и несчастных существ, какими бывают, как правило, подростки... Что-то он различал в их душах, помогая не только укрыться от этого безжалостного мира, но и совершать из своего укрытия внезапные набеги...»2. Мим, шут, любитель розыгрышей, Люсио, как истинный художник, «человек-фейерверк»3, творит сюжет своей жизни, своей любви и смерти4. «Вдруг я увидела, какой это уютный домашний человек: он был хозяином пространства, неуловимо и ненавязчиво он его создавал… ощутила в себе необыкновенное расположение к этому маленькому, некрасивому, но чем-то притягательному человеку»5. «…Я впервые услышала, как мастерски он владеет интонацией, жестом, паузой. Впервые я поняла — как чертовски он талантлив, каким выдающимся актером, режиссером, художником мог бы он стать. Если б не его любовь к маленькой изящной женщине с блудливой полуулыбкой на лице резной девы Марии»6. Сюжет о Люсио развивается на фоне авторских аллюзий, 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 6 Рубина 2 2000а: 2000а: 2000а: 2000а: 2000а: 2000а: 142. 58. 154. 137–138. 137. 208. 200 упоминаний, параллелей из мирового мейнстрима: «Кармен», «Жизель», «Дон-Кихот», которыми Рубина создает синхронизм разорванных веками событий, имен и преданий, потому что слышит обертона времени1, или же предстает как «переводчик и толкователь некоего первичного текста» (как сказано о другом авторе)2. «Что-то мне все это страшно напоминало, и когда Моше почтительно зазвал всех под навес… («Жизель»? Что? Что?), — я еще не нащупала, не напала на след, меня еще не ослепили две-три детали…»3. «И Моше, похожий на лесничего из “Жизели”, выходит встречать своего господина»4. Это не напоминание о сюжете «Жизели», как и о сюжете «Кармен», не метафора к любовной коллизии в романе — героиня-рассказчик подобными реминисценциями создает атмосферу тревоги, интриги, грядущей драмы. «Музыка обнажила ненависть, содрала покровы со старой раны»5. В «Жизели» гибнет Жизель, не вынеся измены и обмана Альбера, в «Кармен» Хосе убивает Кармен из ревности и мстя за обманутые надежды. У Рубиной Люсио, любящий и обманутый, пытается отомстить своему сопернику, но гибнет сам. Интрига сюжета еще и в том, что окончательного ответа нет — погиб ли Люсио сам или был убит (ведь у предполагаемого убийцы было безусловное алиби, как иронично замечает рассказчик, тем самым его постылая любовница привязала Альфонсо окончательно). Парадигматика этих трех сюжетов различна. Но накал страсти, который сопровождает сюжеты «Жизели» и «Кармен», необходим автору для воплощения «музыкального» жанра — «испанской сюиты». Предчувствие трагедии, заданное заглавием — «Последний…», возрастает от частотности аллюзий: – «…Славный рыцарь Альфонсо, сеньор, со всем своим двором выехал на охоту в своих угодьях. При нем телепался шут Люсио, умный, нервный и злой; шут Люсио, так напоми1 Мандельштам 1987: 148. Эпштейн 2000: 91. 3 Рубина 2000а: 54. 4 Рубина 2000а: 56. 5 Рубина 2000а: 183. 2 201 навший мне карликов великого Веласкеса; тут были и благородные дамы, и знатные господа, и прочие вассалы… И каждому, каждому из нас — дворни — можно было подыскать подходящее занятие и должность при дворе сеньора Альфонсо, рыцаря»1; – «…В программе каждого концерта так или иначе присутствовала “Хабанера” из оперы “Кармен”. <…> … Это было наваждение, как будто в стенах Матнаса обитал беспокойный призрак, непременный жилец всех рыцарских замков, бесплотный меломан, питающий слабость именно к этой арии из оперы Бизе и неведомым мне образом заставляющий каждого музыканта исполнять на бис полюбившиеся рулады. Во всяком случае, призраки по Матнасу ошивались. И дело тут было не только в “Кармен”»2. Все детали прошлой и настоящей жизни Люсио: профессия бутафора, работа в театре, в музее мадам Тюссо; работа над декорациями к «Кармен» в испанском театре «Люсео»; старинный напев о загнанном последнем кабане — «песня о родовом проклятье»; кукла, изображавшая повесившегося Люсио, — в конце концов выстраиваются в некий мистический орнамент и «реальную» картину, которую когда-то, в своей испанской жизни, нарисовал Люсио: «…Висела картина-примитив… в гробу, аккуратненько сложив маленькие ручки на груди и разведя острые носки туфель, лежал тореадор. В головах гроба, закинув руки в истоме медленного танца, стояла с веером Кармен. Над гробом страшной клыкастой головой завис… кабан. Хотя бык по сюжету был бы уместней»3. «Странно, почему там вместо быка — кабан изображен? Жутковато, знаешь… Я с самого начала думала — кого этот кабан мне напоминает? Пока не поняла: наш художник его с самого себя срисовал. Не буквально, конечно, но до дрожи напоминает…»4. «Прочитывается» картина в сюжете рубинского повествования не буквально. «Кабан»-победитель на картине — метафора образа Люсио: Люсио неожиданно 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 2 2000а: 2000а: 2000а: 2000а: 54. 104–105. 147–148. 155. 202 для всех «восстает» против Альфонсо и побеждает его, заставив испугаться и прятаться за Брурию. Люсио должен был погибнуть — таков паратекст романа — таково проклятие рода. «Глубокая рана в боку — вот наша смерть… <…> Один из моих предков на охоте преследовал вепря, в азарте погони оторвался от остальных и пропал. Нашли его через день, мертвого, со страшной раной в боку — очевидно, от кабаньего клыка. <…> Через поколение… эта смерть настигает мужчину из моего рода. Последним был дед»1. Образ Люсио дан в развитии: из шута и озорника, еврейского шлемазла, он к финалу превращается в собственно героя — «Трагический герой, жонглер, канатоходец, шут — он сочинил себе балладу своей жизни, своей любви и своей смерти и неукоснительно следовал сюжету. Ловко управляя крестовиной страшной марионетки, он вел свою смерть на ниточках к последнему прибежищу»2. Герой-художник, герой-мститель, восставший против своего господина и соперника, Люсио одновременно следует роковой, фамильной интенции и творит собственный орнамент жизни, вопреки предначертанному. «…Сорванные карликом с себя части рыцарского снаряжения… <…> …они валялись на земле, как ненужная отныне мерзкая шкурка земноводной твари, в которую был заколдован прекрасный рыцарь, освободившийся наконец от заклятья»3. Люсио осознанно идет на гибель, так как в тех краях, где он вырос, к смерти особое отношение, дружеское и уважительное, и Люсио, по словам тех, кто его знает давно, способен на многое («…ты знаешь — на что из-за нее способен Нано!»4). «Смерть… это настоящее торжество духа <…> …настоящие мужчины должны жить так, словно каждую минуту они готовы принять ее в объятия, как подружку. И еще… еще мне кажется, что художник… ну, я имею в виду человека, что видит толпу не изнутри… <…> …сам должен сочинить сюжет своей жизни, любви, смерти… так же как сочиняет он его для 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 2 2000а: 2000а: 2000а: 2000а: 75–76. 217. 212. 120. 203 своих персонажей. Великий художник ведет на ниточках, как послушных марионеток, не только своих героев, но и… собственную смерть »1. Древняя еврейская словесность создала уникальную двухполюсную парадигму: с одной стороны, тексты пророков, с другой — тексты о шутах. В литературе ХХ в., в том числе в повествовании Рубиной, эти два полюса присутствуют на одной площадке. В сюжете «Последнего кабана…» есть женский персонаж Таисья, мифологическим архетипом которого видится иудейская богиня. «И только двое в этой тишине отваживались вставлять свои замечания или возражения: Люсио — на правах баловня-шута, и Таисья — на правах невменяемой правдолюбицы»2. 1 2 Рубина 2000а: 138. Рубина 2000а: 32. 204 Иудейская богиня Таисья Таисья — директор консерваториона в Матнасе — предстает с первых страниц романа «Последний кабан…» красивой: «… ее красивое лицо приобрело еще большее сходство с молодым орлом»1, полуобнаженной: «Она была по пояс голой. На обеих ее ладонях лежали богатейшие груди»2, царственной, властной особой: «Таисья сказала сурово…»3 (курсив мой. — Э.Ш.). Она так же, как и Люсио, сама творит сюжет своей жизни: «Она как бы говорила себе: с этим все, отыграно. Сегодня… сегодня у меня будет вот что: любимая подруга, с которой пройдены огонь, воды и общие мужики, умирает от рака. И я подниму на ноги всех врачей “Хадассы”, я достану такое лекарство, которым лечат президента Америки, я выбью для ее сыновей такую пенсию, о которой они и не мечтали… <…> Сидела ночами у постели умирающей, организовывала похороны, пристраивала дряхлую мать покойной в престижный дом для престарелых, остервенело и навзрыд добиваясь последнего: чтобы окна комнаты, куда вселят старушку, выходили на море, именно на море и только на море… <…> Наступало новое утро, сочинялся новый сюжет»4. Существующий в метатексте еврейства институт пророчества имеет социально-критическую функцию, еврейские пророки — участники политической и социальной жизни государства. Одному из пророков — Михею — принадлежат слова: «Вершить правосудие, и любить милосердие, и скромно ходить перед Богом твоим»5. В этой парадигме развернут в сюжете романа образ Таисьи — пророчицы, богини. Так как Бог — дух, то не имеет тела, физических признаков и, соответственно, гендерной атрибуции. Мужчина Бог или женщина — сказать не представляется возможным6. Однако, 1 Рубина 2000а: 19. Рубина 2000а: 25. 3 Рубина 2000а: 28. 4 Рубина 2000а: 18. 5 Поликарпов, Лысак 2004: 16. 6 Патай 2005:12–13. 2 205 вопреки отсутствию гендерной телесности, к Богу издревле обращались чаще как к существу мужского пола, женского — реже. Присутствие Бога в существующем мире обозначает Шехина — любящий, веселый, материнский и одновременно страдающий, оплакивающий аспект божества1. Другое ее имя — Матронит, Матрона. «До сегодняшнего дня во всех еврейских храмах и синагогах ее приветствуют в пятницу вечером словами “Приди, невеста!” — хотя это старое приветствие уже давно лишено мистического значения и рассматривается как некое поэтическое выражение неопределенного значения»2. Шехина приходит к больным, утешает их, помогает нуждающимся3, наказывает и прощает4. В иудаизме, таким образом, скрытно существует мысль о трансгендерности Бога5. Черты Шехины/Матронит — целомудрие и распутство, материнская забота и кровожадность, она с легкостью меняет любовь на ненависть, преумножает стада и богатство, помогает зачатию, дарует легкие роды и молоко женщинам; большинство каббалистов воспринимают ее как богиню6. Реликт тотемного начала — как первоначальной субстанции всех божеств — характерен и для Шехины/Матронит: в книге «Зогар» она изображена в виде огромного чудовища, уподобленного Бегемоту. Это животное поедает каждый день траву с тысячи гор и глотает многих животных, пасущихся на склонах, может за раз выпить всю воду Иордана и полноводной реки, текущей из рая, Иавал7. Если же Царь/Бог желает отомстить народам-идолопоклонникам, он передает Шехине свою воинственность, и она жестоко наказывает грешников при помощи мириад сверхъестественных воинов8. Все указанные черты и свойства иудейской богини присущи образу Таисьи, ее действиям, сентенциям, характери1 Патай Патай 3 Патай 4 Патай 5 Патай 6 Патай 7 Патай 8 Патай 2 2005: 2005: 2005: 2005: 2005: 2005: 2005: 2005: 17. 18. 101. 107. 135. 142–145. 155. 154. 206 стикам, — по архетипике еврейской ментальности или по сознательной воле автора (имя Таисья не случайно — это имя греческой богини мудрости и плодородия; Таисья посвящена Изиде — мстительной богине плодородия) — не суть важно. «…Она умчалась присутствовать при родах одной своей немолодой педагогини, которую в прошлом году впервые выдала замуж на тридцать пятом году жизни»1. «Да люди ли мы?! Наш товарищ, который не может сейчас ни слова сказать в свою защиту, прикован к больничной койке… Он лежит, беспомощный, под капельницами, и никто из врачей не скажет — как долго он протянет!.. И в это самое время его коллеги спокойно соглашаются выкинуть беднягу на улицу, оставляя его детей без куска хлеба! — Голос ее сорвался, она замотала головой и зарыдала, выкрикивая что-то бессвязное о гуманизме, о солидарности и о смерти под забором»2. Правда, спустя мгновение рассказчик замечает перемену позиции Таисьи или же ее полное безразличие к сказанному ранее, — тем самым подчеркивается двойственность героини, противоречивость, истоки коей, с одной стороны, в Шехине, с другой — в излюбленном приеме Рубиной: в травестировании образов, ходов. Тем более что роман «Последний кабан…» создан как карнавальный текст, кульминацией которого является иудейский праздник Пурим. «Мы с Таисьей деловито облачились в костюмы. Красный корсаж, как на блюде, подавал публике богатейшие груди Таисьи. Белый чепец кружавился вкруг ее каштановых кудрей. Черная в красных цветах юбка разбегалась от талии немыслимым количеством складок. Я залюбовалась Таисьей и вдруг поняла, что ни один из дорогих ее пиджаков, ни одна блузка от Версаче не идут ей так, как этот театральный, сшитый на живульку, простодушный наряд молочницы из Бретани»3. «Была она человеком беспредельной ласковости к тем, кого любила, — неистовой матерью, любящей женой, преданной подругой — и индейского хладнокровия к снятию скальпа 1 2 3 Рубина 2000а: 144. Рубина 2000а: 32. Рубина 2000а: 197. 207 с врага. <…> Двум-трем любимым подругам Таисья буквально устраивала судьбы: она выдавала замуж, заставляла беременеть… Когда же решала, что подруге пришло время покупать квартиру, начинала регулярно просматривать бюллетени маклеров»1. При любви Таисьи воевать и быть «выдающимся стратегом»2, при ее качествах «виртуоза придворных интриг»3 она наслаждается самим подготовительным процессом, инкубационным периодом уничтожения врага. Строя коварный план дискредитации Альфонсо, с вдохновением идя к цели, Таисья в решающий момент теряет интерес к врагу и оставляет его поверженным, но не уничтоженным до конца — поистине благородная, высокая героиня. 1 Рубина 2000а: 69. Рубина 2000а: 123. 3 Рубина 2000а: 108. 2 208 «Инцестуальный» Альфонсо В критике на роман «Последний кабан…» (а также на повесть «Высокая вода венецианцев») неоднократно с негативной оценкой упоминается обращение Рубиной к теме инцеста1. Однако инцест в рубинской прозе не модная, конъюнктурная тема, а также не обусловленная плотностью и «домашностью» Израиля2, а напрямую связанная с иудаистическим метатекстом. Мифологические истоки темы инцеста — в концепте тетрады. Тетраграмматон Яхве (YHWH) — символическая аббревиатура четырех ликов Бога: буква Y — Отец, подразумевает мудрость; буква H — божественная Мать, символ заботы; буквы W и H — двое детей, Сын и Дочь, коронованные их Матерью3(Зогар). Подобные тетрады имеются в различных древних культурах — египетской, шумерской, хеттской, ханаанейской, греческой, римской, иранской, индийской, японской4. Отношения Матери и Отца в каббалистической тетраде Яхве отчасти рассмотрены выше — в образе иудейской богини. Старшая пара членов тетрады, согласно мифам, удаляется и оставляет заботы о человечестве молодой божественной паре5, члены которой становятся мужем и женой. Трактуя этот миф, каббалисты считали, что на небесах всякие союзы позволены: брата и сестры, сына и дочери, там нет ни инцеста, ни развода, ни разлуки, ни расставаний6. В отличие от прочного союза Отца и Матери, для любовного союза детей характерны ссоры, 1 «Вот какие темы разрабатывает автор. Он хочет воспеть Венецию и благословить инцест. Что же, поэту нет законов, а большое искусство издавна питалось от ущербности и тайны» [Вяльцев 2000]; «…ничем иным, кроме как моветоном, инцестуозную линию в “Венецианцах” не назовешь…» [Быков 2000: 204]. 2 «…Я вижу в этом инцестуальном… уклоне… отражение тесноты Израиля, почти физическое ощущение всеобщей породненности» [Быков 2000: 202]. 3 Патай 2005: 118. 4 Патай 2005. 5 Патай 2005: 130. 6 Патай 2005: 131. 209 временные расставания и воссоединения, «отчего их, не греша против истины, называли “любовниками”»1. В сюжете «Последнего кабана…» такой инцестуальной парой стали Альфонсо и его сестра, жена Люсио. Ссоры, клятвы, расставание, воссоединение, обман, предательство мужа, Люсио, — все эти страсти сопровождают отношения и архетипической пары. В метатексте сюжета об этой паре видимым выражением разлуки между ними было разрушение Храма — брачной спальни. Их разлука оборачивалась бедой для Израиля2. Однако Рубина травестирует инцестуальный миф. Если в метатексте об инцестуальной паре ее воссоединение провоцирует земную благодать, то союз Альфонсо с сестрой провоцирует трагическую гибель Люсио. Божественная архетипика Альфонсо также травестирована в демоническую, она отталкивает. Сын в мифологической тетраде: «Сына называют Царем, Священным и Благословенным, Зогариэлем (то есть “Сияние Ариэля”, тогда как Ариэль — название алтаря со значением “лев Эль”3), Адириароном (“Могущественный поэт”), Актариэлем (“моя корона — Эль”), Тетразией (“четыре Бога”, что имеет отношение к Тетраграмматону, или Богу как правителю четырех элементов: воздуха, земли, воды и огня), а также Небом… »4. Альфонсо у Рубиной: «…Это был человек с обложки журнала — красавец лет тридцати восьми, безупречная модель; у него были все данные, чтобы стать идолом Голливуда. Он был рыцарственно красив, словно откован природой по давно забытой, но вдруг случайно найденной форме, по какой в средние века ковали сюзеренов и королей»5. «Как же он был хорош! Густые пепельные волосы, красиво распадающиеся на лбу, крупные чеканные черты лица, вообще — некоторая излишняя даже в лице чеканность, разве что 1 Патай 2005: 131. Патай 2005: 131–132. 3 Эль – одно из имен Бога. 4 Патай 2005: 130–131. 5 Рубина 2000а: 29. 2 210 ускользающий взгляд каштановых глаз несколько контрастировал с этими выбритыми до голубоватого оттенка литыми формами»1. «Он маньяк, поняла я внезапно, сумасшедший»2. Альфонсо воспринимается в одном типологическом ряду с персонажем романа «Синдикат» — Клещатиком. Оба — влюбленные в себя до самодурства, оба — комичны-демоничны, благодаря излюбленным Рубиной приемам карнавальной поэтики и эстетики. Клещатик сравнивается с быком, Альфонсо с красивым жеребцом3; «завиральным», прожектерским идеям Клещатика по нахождению десяти потерянных колен — анализ крови, морской круиз на восхождение, созвучны планы Альфонсо по «окультуриванию» израильтян: «А еще… — хотелось бы при Матнасе организовать яхтклуб и в будущем устраивать соревнования яхтсменов. Выговорив это, я замерла. Даже безнадежно сумасшедший должен был по крайней мере поинтересоваться — где именно в Иудейской пустыне я собираюсь проводить соревнования яхтсменов. Но Альфонсо откинулся в кресле, мечтательно задрав к потолку кудрявую голову. — Гран-ди-о-о-зно!.. — простонал он»4. «О, это будет грандиозно!!. восклицал Альфонсо. <…> Я предвкушаю музыку Баха среди этих пустынных гор!! Мы соберем колоссальные средства! К нам будут стекаться на концерты толпы туристов из Франции, Англии, Америки!! Мы заработаем мешки денег!! <…> Вот так, подумала я, и тамплиер, восклицая религиозные лозунги, вел свою братию в крестовый поход на нашу разоренную землю — отвоевывать у сарацин Гроб господень. Мешки денег и Гроб господень»5. «Здесь мы организуем музей трех религий. Восковые фигуры с лампочками в глазницах будут глядеть из каждого угла! Богатый турист сможет сфотографироваться с нашим предком Авраамом, с лихим сарацином и Ричардом Львиное Сердце!! 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 2 2000а: 2000а: 2000а: 2000а: 2000а: 31. 39. 27. 39. 52. 211 Нас завалят мешками денег, стоит только пошевелить мозгами и приложить интеллект!»1. «Давайте помечтаем!.. Представьте себе туристов, которые по дороге к Мертвому морю на часок заворачивают к нам — отведать настоящего бедуинского завтрака. <…> К нам поплывут мешки денег! <…> Его манили планы грандиозных будущих завоеваний»2. Финал сюжета архетипической для фольклора пары — богач–бедняк / мудрец–простак / самодур–шут, представленной в романе «Последний кабан…», также травестируется. «Жилы вздувались на его атлетической шее, он багровел, стучал кулаком по столу, брызгал слюной и обещал всех “спустить с дерева” и “срезать голову”. Это был самодур в кристально чистом виде. В другом месте и в другое время он был бы идеальным коммунистом»3. «..Его… боялись, конечно, но так, как боятся буйных припадочных: лучше не возражать, а то сейчас стол перевернет, чашки побьет…»4. По законам этой парадигмы самодур терпит фиаско, шут вознаграждается — так и у Рубиной, но с трагической коннотацией: самодур ретируется туда, откуда и «явился» в сюжет — в Аргентину, шут погибает, но героем, отстоявшим свое достоинство, мужскую честь. Глупость самодура, «моллюска в красивой твердой оболочке раковины»5, обнажена в рыцарском поединке. Таким образом, герои Рубиной: Люсио, Таисья, Альфонсо — «вписаны» в контекст «мира всеобъемлющей Книги»6 — иудаистской мифологии. Такая цитатность — «способ существования текста среди других текстов, точнее, способ вобрать их в себя, воссоздать в микрокосме одного произведения. Это все та же губчатость поэтического вещества, которое не фонтанирует из собственных водоносных недр, как в “нутряном” творчестве, а “всасывает и насыщается” всей системой мировой культуры»7. 1 Рубина 2000а: 83. Рубина 2000а: 100. 3 Рубина 2000а: 45. 4 Рубина 2000а: 46. 5 Рубина 2000а: 95. 6 Эпштейн 2000: 91. 7 Эпштейн 2000: 92. 2 212 Герой-художник: тема творчества Один из существующих стереотипов восприятия евреев — их поголовная талантливость. Как и прочие стереотипы — феномены мифологии повседневности, этот — лишь клише массового сознания, не подкрепленный ни фактами, ни реалиями действительности, хотя вполне безобидный и комплиментарный. Известны ведь и иные, негативные стереотипы, связанные с еврейством, например, «кровавый навет», — что не дает оснований воспринимать их как объективные. Мифологические и фольклорные мотивы, в том числе сопряженные с этностереотипами, могут иметь как позитивную, так и негативную «закваску», далекую от объективной реальности. Тем не менее стереотип, связанный с талантливостью евреев, живет и питает сюжеты, как фольклорные, так и литературные. Времена активной эмиграции евреев породили такой анекдот: «…если в руках спускающегося по трапу самолета нового репатрианта нет скрипки, значит он — пианист»1. Этот «реальный» сюжет воспроизведен Рубиной в ряде текстов — в романе «Последний кабан из лесов Понтеведра»: «Таисья, — говорит Арье, — наша гордость, а созданный ею консерваторион — кузница еврейских талантов. Стада диких хвостатых мотэков заходят в двери консерваториона, а выходят оттуда приличными людьми, знающими, кто такой Моцарт»2; в романе «Почерк Леонардо»: «…в деле скрипки и фортепиано от евреев уже в глазах рябит. А вот фагот от них пока свободен. <…> А жаль, ибо есть в легких этого народа звучная тоска, совершенно необходимая для извлечения из фагота настоящей музыки»3. По этой ли причине (мифологически-генетической), по причине ли индивидуально-авторской, но так или иначе в большинстве рубинских текстов присутствует персонаж, одолеваемый тягой к художеству: или собственно творец, или 1 Еленевская 2005: II, 69. Рубина 2000а: 124. 3 Рубина 2008а: 96–97. 2 213 страдающий от творческой несостоятельности, или обывательски ориентированный на «художество», не будучи способным к творчеству. Тема творческой личности, таким образом, одна из главных в прозе Рубиной. Возможно, еще и потому, что в метатексте рубинского повествования присутствует Главный Творец, заведующий «небесным путевым ведомством»1. «В библейской поэме о сотворении мира сказано, что Господь творил, а человек придумывал названия сотворенному, ибо ради немощи человеческой Божье должно быть унижено через слово и наименование, то есть через искусство»2. И не столь важно, в какое время доведется жить и творить художнику, — мифологема его взаимоотношений с временем (а именно — с властью, модой, толпой) одна на все времена. Истинному художнику важнее всего: счастья, семьи, уюта, покоя — извечных субстанций блага — возможность отдаться своему ремеслу без остатка. Оказавшаяся после ряда перипетий, успешных для нее, в убогом, безденежном, но привычном старом пространстве, Вера Щеглова («На солнечной стороне улицы») намеревается продолжить свое ремесло с того, с чего начинала: «…необходимо выползти из норы, наведаться во Дворец текстильщиков, или еще какой-нибудь дворец, где подадут художнику несколько преподавательских часов в неделю, заодно угол в мастерской… М-да… зависимость художников от дворцов, похоже, остается все той же, вне связи от смены империй и валют…»3. В «Воскресной мессе в Толедо» содержится метафора, суть которой в сопоставлении судеб художника и судеб еврейства: «…за каждым из нас молчаливо встали две разные ветви наших предков — тех, что приняли нищету, чуму, рабство, смерть ради памяти и чести, и тех, кто, отрекшись от себя, сохранил дома, имущество, родину и язык…»4, — представляющаяся перифразом традиционного для русской литературы антитетичного концепта писателя (Гоголь о двух типах писателей в «Мертвых 1 Рубина 2006: 72. Горенштейн 2001: 444–445. 3 Рубина 2006: 371. 4 Рубина 2002б: 238. 2 214 душах», Некрасов о том же в стихотворении «Блажен незлобивый поэт»). В «Холодной весне в Провансе» это сопоставление продолжено сравнением двух уделов художника (письма Ван Гога брату Тео): «Я вижу двух братьев, гуляющих по Гааге… Один говорит: “Я должен сохранить определенное положение; я должен остаться на службе у фирмы; я не верю, что стану художником”. Другой говорит: “Я буду собакой; я чувствую, что в будущем сделаюсь, вероятно, еще уродливее и грубее; я предвижу, что уделом моим до некоторой степени будет нищета, но я стану художником”. Итак, один — определенное лицо и положение в фирме. Другой — живопись и нищета… Говорю тебе, я сознательно избираю участь собаки: я останусь псом, я буду нищим, я буду художником, я хочу остаться человеком — человеком среди природы»1 (выделено Рубиной. — Э.Ш.) В пределах рубинской прозы выстраивается концепт творчества, он складывается из ряда алломотивов: творчество и «вéдение» им; творчество и псевдотворчество (искусство и псевдоискусство); «меченость» искусством; искусство как образ жизни. Творчество и «вéдение» им Автор в ряде текстов иронично противопоставляет собственно художника, творца, — и критика, «веда» всякого рода, паразитирующего на чужом творчестве, — множественное упоминание этой антитезы позволяет говорить о ней как о концептуальной для мировоззрения автора: «Делать из этого профессию? Быть, как Виктор, каким-нибудь искусство-ведом или литературо-ведом? Да ты что, па, ты меня не уважаешь, сказал я ему. Всю жизнь насиловать искусство только потому, что у меня неплохо подвешен язык и я прилично разбираюсь в живописи?.. Нет уж, спасибо. Существовать в искусстве достойно можно, только создавая что-то свое. А понимание — это всего лишь неплохие мозги, разве можно понимание искусства делать профессией? И потом, я как услышу это слово — искусствовед, мне смешно становится. Представляю себе этакого типа, который искусством ведает, вроде завхоза со связкой ключей. Нет и нет!»2 («Двойная фамилия»); «И что за дело избрал он себе, прости Господи, — театро1 2 Рубина 2005а: 161. Рубина 2002: 9–10. 215 вед? Кто бы объяснил ей, что это значит! <…> Он умен, будем справедливы, и жаждет что-то делать в искусстве, но кому и когда, со времен сотворения мира, ум заменял талант? Да, талант, талант… богоданная способность рожать, вечное диво на вечно живой земле… И вьются бесплодные умницы вокруг блаженных рожениц, и толкуют, и судят, и взвешивают дитя, свивают его и качают: горькое, вероятно, занятие — нянькать чужое дитя…»1 («На Верхней Масловке»); «…вы воображаете, что взращены на богатом культурном слое, и всю жизнь скачете на этом слое, как расшалившиеся дети на пружинном матрасе. Или раскапываете его и роетесь в нем. А все потому, что добавить ничего к этому слою не в состоянии. Работать простую здоровую работу вы не желаете, всю жизнь, как навозные жуки, жужжите вокруг искусства, воображая, что влияете на его ход»2 («На Верхней Масловке»). Героиня романа «На солнечной стороне улицы» — художник Вера Щеглова — откровенно и с неприязнью говорит о таком «ведении»: «Терпеть не могу всех этих, объясняющих мне, что я хочу сказать своими картинами»3. Творчество и псевдотворчество (искусство и псевдоискусство) В романе «Последний кабан из лесов Понтеведра» некто Белоконь безвозмездно предлагает свои услуги — выступить на празднике Пурим. Свой «рецепт» творчества он расшифровывает тут же, во время выступления, выдавая на публику одновременно и «творческую» кухню и само «творение»: «Берем романс “Хари, хари, моя звезда!”, — предложил он, вперясь в публику горящими глазами. — Его же ж так любой дурак может спеть! Нет, ты сначала осознай себя частью еврейской культуры, пропусти через сердце всю скорбь своего народа. А потом — пой! <…> Белоконь изрыгал какие-то частушки на еврейской подкладке, хлопая клешней по клавиатуре, а ботинком по полу. <…> …На мотив “Дорогая моя столица” пропел что-то вроде… “Дорогие мои аиды, я привязан к вам всей душой!”»4. Псевдотворчество персонифицируется во всех текстах: так, 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 2 2004б: 38–39. 2004б: 149–150. 2006: 341. 2000а: 169–170. 216 в повести «На Верхней Масловке» рядом с талантливым, но неимущим художником Матвеем подвизается Костя Веревкин — материально преуспевающий «художник» (вечная оппозиция в концепте творчества). Двадцать лет бездарный Веревкин (семантизированная фамилия: веревка-удавка, обвитая вокруг Матвея, который всю жизнь должен быть благодарен Веревкину за предоставленную когда-то мастерскую), «эквилибрист от искусства»1, эксплуатирует Матвея, вынуждая его «подправлять» хорошо продающиеся после Матвеевой «правки» полотна: «Я хотел, чтоб он забежал сегодня… Что-то рука у меня на место не встает. — Обратись к костоправу (вступается жена Матвея, желая поставить точку в их взаимоотношениях. — Э.Ш.). <…> Научись рисовать, Костя. Это может тебе пригодиться в жизни»2. Пушкинский текст, ставший прецедентным, гласит, что «не продается вдохновенье, но можно рукопись продать». Рубина решает, к чести художника, эту дилемму иначе. Нагрянувшие к Матвею греки, «любители» живописи, одну за другой отвергают картины художника: «У нас ценится реализм, втолковывали они, чтоб как на фотографии, не хуже. Но портреты идут плохо — кому они нужны? <…> Что идет? Лес хорошо идет…»3. Мифологическая антитеза «художник — толпа» нарисована традиционно («Печной горшок тебе дороже: / Ты пищу в нем себе варишь» — Пушкин. «Поэт и толпа»), однако итог ее нетрадиционен: Матвей отказывается продать понравившийся грекам натюрморт — он не нравится самому художнику, так что не только вдохновенье, не продается и «рукопись». Ложная (или спорная) в мифологии повседневности установка о благостном влиянии искусства на человека иронично подана на материале колонии: к заключенным время от времени для воспитательных целей приглашаются писатели, культурные деятели. В рубинском рассказе «Концерт по путевке “Общества книголюбов”» такую миссию выполняет молодая героиня, писатель, которая тщетно пытается увлечь безликую аудиторию своим творчеством: «Лиц не было. Я их 1 Рубина 2004б: 63. Рубина 2004б: 70–71. 3 Рубина 2004б: 65. 2 217 не видела. Страх и отвращение слепили глаза. Были серые, тусклые, бритоголовые рожи. Без возраста. Все это гудящее месиво удерживали несколько воспитателей, снующих вдоль рядов. Начальник колонии… зычно крикнул в зал: — Значить, так!! Здесь сейчас выступит… пру…про… заик… Чтобы было ша!»1 (курсив мой. — Э.Ш.). Но к прозе публика осталась равнодушной, так как не имела тяги к вдумчивому прослушиванию: с ней надо было говорить на понятном ей языке. И героиня это поняла: песни, которые она вдруг запела, были уникальны, во-первых, потому, что шли вразрез с официозом (они были запрещены цензурой), а во-вторых, были сложены на понятном этой аудитории языке. Не случайно реальные бывшие зеки вспоминают, что песни Галича тайком переписывались заключенными, а первый вопрос каждому вновь прибывшему в лагерь был о новых песнях Галича с воли2. Наивный и «кондовый» офицер-воспитатель, недалеко ушедший в своем эстетическом развитии от подопечных, представляет аудиторию молодому писателю: «Значить… вот что я скажу… Народ у нас молодой, искусство люблить… Люблить искусство, — повторил он твердо и замолчал»3. Воспитатель и воспитуемые — одного поля ягода: говорят на одном языке, радуются по схожим поводам. Та же парадигма воспроизведена С. Довлатовым в «Зоне». Зеков собирают по случаю празднования 7 ноября, политработник начинает ритуальную речь: «Вот уже шестьдесят лет… »4, из зала отвечают: «Шестьдесят лет свободы не видать»5. Речь официоза сродни речи зеков: «Революционные праздники касаются всех советских граждан… Даже людей, которые временно оступились… Кого-то убили, ограбили, изнасиловали, в общем, наделали шороху… <…> Короче, да здравствует юбилей нашего Советского государства!.. А с пьяных и наку1 Рубина 2002: 194. Буковский В. «И возвращается ветер…» [Галич 1977]. 3 Рубина 2002: 193. 4 Довлатов 1993: 148. 5 Довлатов 1993: 149. 2 218 ренных, как говорится, будем взыскивать…»1 (курсив мой. — Э.Ш.). Это — речь майора, воспитателя, политработника. После собрания в честь праздника дается спектакль — о Ленине. «Артисты» в «Зоне» — заключенные и вольнонаемные — прекрасно дополняют друг друга как вполне органичная театральная труппа; сидящее в зале вместе с зеками офицерское начальство в едином порыве реагирует на родную всем блатную отсебятину — единый амбивалентный мир зоны, как и у Рубиной. Начальник колонии обращается к зекам: «Чтобы было ша!»2. Героиню начинают слушать, когда она наконец предупреждает: «Если… если будет ша!»3. 45 Рубина Довлатов «Я спою! — выкрикнула я в отчаянии. — Я спою вам “Первача я взял ноль восемь, взял халвы”… <…> Взяла три дребезжащих аккорда и запела Галича. <…> …бросила взгляд на ватники в зале. И вдруг увидела лица. И увидела глаза. Множество человеческих глаз. Напряженных, угрюмых. Страдающих. Страстных. Это были мои сверстники, больше — мое поколение, малая его часть, отсеченная законом от общества. …это были люди с Судьбой. Пусть покалеченной, распроклятой и преступной, но Судьбой. <…> Они хлопали мне стоя. Долго… Потом шли за мной по двору и все хлопали вслед»4. «Из темноты глядели на вождя худые, бледные физиономии. – Кто это? Чьи это счастливые юные лица? Чьи это веселые блестящие глаза? Неужели это молодежь семидесятых?.. <…> Неужели это славные внуки революции?.. Сначала неуверенно засмеялись в первом ряду. Через секунду хохотали все. В общем хоре слышался бас майора… <…> Владимир Ильич пытался говорить: – Завидую вам, посланцы будущего! Это для вас зажигали мы первые огоньки новостроек! Это ради вас… Дослушайте же, псы! Осталось с гулькин хер!.. <…> — Поехали!.. Взмахнув ружейным шомполом, он начал дирижировать. <…> Сначала один неуверенный голос, потом второй, третий. <…> Впервые я был частью моей особенной, небывалой страны»5. 1 Довлатов 1993: 147. Рубина 2002: 194. 3 Рубина 2002: 195. 4 Рубина 2002: 195–196. 5 Довлатов 1993: 152–154. 2 219 В этих двух отрывках схож финал — зеки объединяются в едином порыве «великой магией» искусства (ради этого и сделано сопоставление). Хотя концепция этих схожих сцен разная: у Рубиной — искренне-серьезная, у Довлатова — горький «стеб» по поводу «антимира», перевернутой страны. «Я вообще далека от мысли, что искусство способно вдруг раз и навсегда перевернуть человеческую душу. Скорее, оно каплей точит многовековой камень зла, который тащит на своем горбу человечество. И если хоть кто-то из тех бритоголовых моих сверстников сумел, отбыв срок, каким-то могучим усилием характера противостоять инерции своей судьбы и выбраться на орбиту человеческой жизни, я льщу себя мыслью, что, может быть, та давняя капля, тот мой наивный концерт тихой тенью сопутствовал благородным усилиям этой неприкаянной души…»1. Приобщение к искусству тоже требует таланта, прикосновения Творца. Талантливая своей биографией Анна Борисовна из повести «На Верхней Масловке» не зря произносит фразу о том, что у Творца были наполеоновские планы относительно ее персоны, которые не осуществились, — вероятно, у Бога тоже могут быть творческие неудачи2. Поэтому приобщение к искусству, не отмеченное печатью Творца, не всегда продуктивно: «Я вообще убеждена, что знакомство человека с нотной грамотой, и даже владение музыкальным инструментом, и даже глубокое знание музыки, ее шедевров, ее истории, не делают этого человека ни глубже, ни интеллигентнее, ни добрее. Смотря что понимать под глубиной, добротой и интеллигентностью»3 («Уроки музыки»). Всеядность толпы — возможно, и хороша, но к искусству это вряд ли имеет отношение: «Но ведь им и Дебюсси нравится? — и Дебюсси, — кивнул он, — и Дебюсси нравится. В этом-то и штука… Перед этим-то, милая, всегда художники руки опускали — пред всеядностью толпы. <…> Он дурак и пошляк. Но он прекрасен, как прекрасна жизнь…»4 («Последний кабан из лесов Понтеведра»). 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 2 2002: 198. 2004б: 149–150. 2002: 116–117. 2000а: 174. 220 «Меченость» искусством В аксиологии художественного мира Рубиной искусство занимает видное место. По аналогии вспоминается художественный мир Тургенева, где через любовь, отношение к искусству и природе испытываются герои. Как отказывает в счастье своим романным персонажам — достойным людям — Тургенев, так и Рубина «меченых» талантом персонажей наделяет сложной судьбой, странной, анормальной, с точки зрения обыденности. Старуха скульптор Анна Борисовна, прожившая творческую жизнь, но не сумевшая построить отношения со своими родными как принято («На Верхней Масловке»); Петр — одинокий, бездомный, бездеятельностью «похоронивший» свой талант (там же); Люсио — «трагический герой, жонглер, канатоходец, шут» — загадочно погибший, отстаивая свою любовь; преподаватель Гольдрей, ученик Бродского, был «человеком ядовитым и одиноким» («На солнечной стороне улицы»)1; судьба художника Веры Щегловой (из того же романа), которую с юности предупредили: «…привыкай к одиночеству. Это надолго, на всю жизнь. <…> Потому что, как всякий художник, ты будешь невыносима. Ты и так не сахар, а будет и хуже. Профессия эта не галантная, с годами вырабатывает тяжелый характер… думаешь и говоришь только о своей работе, а это скучно…»2. Тем не менее Вера выбрала этот путь, поступив в училище — «художества и судьбы!»3, совершенно осознанно отказываясь от семьи, детей: «Жаль, что у меня не может быть детей… <…> Я имею в виду совсем иное. Ребенок должен расти в любви… <…> Наверное, где-то там, по ремесленному ведомству, всю мою душу целиком безжалостно посвятили смешению красок на палитре и замазыванию холстов…»4. Все талантливые люди — рубинские персонажи — «…обычно такие тяжелые люди»5 («День уборки»), они «всегда чрезвычайно опасны в обществе кожаных спин…»6 («На Верхней Масловке»). 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 6 Рубина 2 2006: 70. 2006: 65. 2006: 69. 2006: 331. 2002: 167. 2004б: 123. 221 Склонность рубинских персонажей к творчеству граничит с демонизмом: «Музыка обнажила ненависть, содрала покровы со старой раны»1 («Последний кабан из лесов Понтеведра»), потому что предполагает особый жизненный орнамент, особую биографию: «…он сочинил себе балладу своей жизни, своей любви и своей смерти и неукоснительно следовал сюжету. Ловко управляя крестовиной страшной марионетки, он вел свою смерть на ниточках к последнему прибежищу»2 («Последний кабан из лесов Понтеведра»). Вера Щеглова («На солнечной стороне улицы»), художник, слыла неприветливой, «неулыбой», «волчонком», потому что привычные этикетные «мины» и «реверансы» не даны ей автором не только по причине воспитания (или его отсутствия), для них нет места в парадигме образа таланта; а все, что есть, окрашено и направлено в одну сторону — творчества. Вера «чувствовала себя наблюдателем. Будто смотрит на людей издалека, в бинокль, и по-всякому может увидеть — может крупно, вблизи… А может охватить человека дальней цельной панорамой… все в этом пространстве, созданном ее взглядом, делается живым, шевелящимся, теплым…»3. Как Анна Борисовна («На Верхней Масловке»), скульптор, всех новых знакомых «пропускает» через свои руки, нисколько не деликатничая: «Петя, глянь, какую модель отхватил себе Матвей, — сказала старуха. — Простите, милая, опять забыла ваше имя… <…> Нина очень черная, ты не находишь, Петя?»4; так и Вера Щеглова «прощупывает» понравившиеся ее взгляду живописца лица: «Однажды увиденное лицо — не каждое, а лишь то, которое просило воплощения в другую жизнь, — не оставляло ее никогда, вдруг всплывало во сне или за работой, и она мысленно — как слепой легкими беглыми пальцами — ощупывала лепку этого лица, его строй, конструкцию, настроение и цвет…»5. Художник доверяет в жизни (а жизнь для него — ремесло) не обывательской мудрости, а своим пальцам, глазам: 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 2 2000а: 183. 2000а: 217. 2006: 56. 2004б: 15–16. 2006: 56. 222 12 Анна Борисовна («На Верхней Масловке») Вера Щеглова («На солнечной стороне улицы») «На стене висит скульптура: домик, в окошечко смотрят человечки. <…> Когда никто не видит, Аня залезает на стул и долго водит пальцем по глянцевым изгибам окошка. Пальцы чутки и жадны: вот так бы смяла и слепила заново, почему-то кажется — не хуже… »1. «Она и потом будет так же вынашивать картины — сначала бесцельно кружа по дому, машинально касаясь рукой предметов, пробуя поверхность на ощупь, словно бы знакомясь с неведомым веществом мира, незнакомым составом глины… Наконец ложилась, заваливалась, как медведь в берлогу, закукливалась, как бабочка в коконе»2. Ощущение предстоящего близкого ухода Анна Борисовна связывает не с количеством прожитых лет, а с состоянием своих пальцев, которые отказываются, немея, мять ком влажной глины. Искусство/творчество как образ жизни Все рубинские персонажи, так или иначе причастные к искусству/творчеству, тем самым «обречены». Ненормальна жизнь, то есть жизнь художника, у Матвея: его первая жена «…не выдержала вдохновенного сожительства с гением и улизнула к нормальному человеку, не то к шоферу, не то к слесарю… <…> Вторая, если не дура, поступит так же»3 («На Верхней Масловке») (курсив мой. — Э.Ш.); потому что жизнь в искусстве жертвенна: «Вот оно, проклятое неблагодарное ремесло, — ничего не остается, если ежедневно не бросать в его алчущую пасть многочасовую, каторжную работу»4 («Уроки музыки»). Жизнь художника сродни «пороку» или каторжному труду: «Ты не употребляешь наркотики? — Употребляю, — сказала я, — но более тяжелые: я пишу книги»5 («Последний кабан из лесов Понтеведра»); о буднях-творчестве циркачей: «Притягивала меня эта вселенная… с обреченной невозмож1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 2 2004б: 36. 2006: 60. 2004б: 12. 2002: 106. 2000а: 132. 223 ностью жить иной жизнью»1, «Каждодневный рабский труд — вот твой удел!»2 («Почерк Леонардо»); «…Правда — всюду, и художник всю жизнь намывает ее, как старатель, по крупинкам! Если же он с юности требует от жизни немедленного предъявления правды как некоего служебного удостоверения, то он не художник, потому что не сострадает себе подобным, а поминутно тащит их на Божий суд»3 («На Верхней Масловке»). «Володя писал свою первую пьесу, денег не было ни гроша. Боже, что за время было чудесное, голодное, счастливое!.. Володя, помню, ходит, ходит по комнатушке этой, попишет немного и снова ходит. Потом вдруг бросится на диван, руки за голову заломит и восклицает трагически: “Почему я так много работаю?! Ну почему я так много работаю?! Потому что мне лень остановиться”»4 («День уборки») (курсив мой. — Э.Ш.). «Все, что сделано в искусстве и науке, сделано единоличниками»5 («Двойная фамилия»). «Картины мне ее нравились, была в них какая-то сильная странная жизнь никому не подотчетной души, — а ведь в этом и заключается основная ценность искусства…»6 («На солнечной стороне улицы»). «Говорят — искусство, искусство! Работники искусства… А я гляжу — не очень-то у тебя чистая работа…»7 («На солнечной стороне улицы»). Катя, Катька-артистка из романа «На солнечной стороне улицы» наделена талантом перевоплощения, который был открыт, взлелеян ее сожителем — мафиозным Семипалым. Его устам передоверяет автор свое видение пушкинской антитезы: «Леня все восхищался мастерством хозяина, повторял, что для него в жизни важнее всего — уровень мастерства, которым человек владеет… — Берегитесь… Это не лучшая шкала для определения человеческих качеств»8. 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 6 Рубина 7 Рубина 8 Рубина 2 2008а: 175–176. 2008а: 214. 2004б: 39. 2002: 162. 2002: 11. 2006: 356.. 2006: 23. 2006: 319. 224 Катька прикидывалась, представлялась, страдала, когда рядом был зритель. На базарной толкучке она разыгрывает горе, продавая якобы семейную реликвию, надувая публику: «Если не продам сегодня… не знаю… руки на себя наложу… Она не притворялась; она верила и мысленно представляла маму, их квартиру… <…> Слезы лились, не переставая. Катя не знала — как это объяснить, но она вдохновенно плакала настоящими слезами о своей судьбе только здесь, работая. Никогда — наедине с собой»1. «Он любил наблюдать за ней искоса… когда она рассказывает о ком-то, изображая интонацию, движения, походку человека… И видно было, что совсем не задумывается над этими жестами и гримасами, то есть движима только природным даром. <…> Лежа на кровати… Семипалый смотрел на Катю, которая становилась то гармонистом, со съехавшей на ухо фуражкой, то окаменелым от ярости водителем, то пьяной бабой, отплясывающей на ступеньке троллейбуса… Даже лица пассажиров, мгновенно сменяя одно другим, она вмиг изображала… <…> А ты актриса, волчонок. <…> У тебя большие способности»2. Талантливая в своем ремесле (доросшая до уровня наркобарона), Катька была бездарна в реальной жизни, став врагом своей дочери, убийцей своего сожителя, да и не только его. «Артистизм ее подвел, азарт… актерское вдохновение…»3. Во зло ли (как в случае с Катькой), во благо ли (как в случаях с другими персонажами) эксплуатируют свой талант рубинские персонажи, — все они особенные люди уже потому, что обречены быть другими, не такими как их окружение: «… жалкое существо, угнетенное служением прекрасному искусству, будь оно проклято…»4, — сказано о героине романа «На солнечной стороне улицы», alter ego автора. Но слова эти у Рубиной звучат как приговор, выносимый любой творческой личности, обреченной, меченной Творцом, но потому, возможно, и счастливой — по иной, неземной, шкале ценностей. 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 2 2006: 2006: 2006: 2006: 104. 119–120. 315. 198. 225 Синдром таланта («Почерк Леонардо») В обыденности расхожим слывет умозаключение, что писатели как личности, наделенные «третьим глазом» — даром пророчествовать, порой предшествуют тем открытиям и констатациям, которые делают ученые. Этот стереотип, по меньшей мере, интригует при осмыслении романа «Почерк Леонардо». В романе и, в частности, в героине как бы «сошлись», задавая загадку, несколько линий из области фольклорно-мифологических представлений: о левше, или леворукости, о способности читать/писать справа налево, о мистическом мире, который открывает зеркало. Вспомним лесковского Левшу — символический самородок, талант из простого народа. И в то же время леворукость — признак нечисти: все «шельмы» низшей демонологии, как правило, мечены этим «недостатком». Леонардо да Винчи, талант Средневековья, обладатель почерка своего имени, мог писать не «по-людски» — справа налево (на том строится интрига романа Дэна Брауна «Код да Винчи»). А в широко известном фильме «Изгоняющий дьявола»1 («Exorcist») священники слышат из уст девочки, или вселившегося в нее дьявола, странную речь, непохожую ни на один из известных им языков, — ею оказалась речь наоборот. Долго и умеючи глядя в зеркало, можно попасть в мир «Зазеркалья», где все протекает как в антимире, — о том поведало путешествие кэрролловской Алисы. В «Зеркало» смотрит рассказчик из фильма Андрея Тарковского, «прочитывая» свою жизнь, судьбу из глубин подсознания. Роман «Почерк Леонардо» — о героине, с детства обожавшей зеркала, видевшей в них то, чего не могли видеть окружающие, а ее мать погибла от нелюбви к зеркалам и ревности к ним, потому что их так любила ее приемная дочь. Героиня — левша, но насильно переученная в правшу, а потому обладавшая каким-то уникальным набором навыков; умевшая изначально читать и писать наоборот. 1 Фильм 1973 г., режиссер – Уильям Фридкин. 226 С фольклорно-мифологическими персонажами все маркируется и воспринимается однозначно: если левша, если речь (письменная или устная) «задом наперед» — то явно присутствие нечисти: дьявольская мета. Не так просто и не столь однозначно с литературными персонажами. Героиня романа Рубиной — талантливая девочка, девушка, женщина; способная любить, быть верной и благодарной. Но так ли всем, кто с ней, уютно и хорошо? Она и сама сознает свою особость — страдает от нее, свое одиночество, несмотря на присутствие рядом влюбленных в нее и завороженных ею. Дина Рубина — в который раз в своем творчестве — поднимает тему таланта, бремени таланта, природы и генезиса его. В обиходе часто можно слышать: «дьявольски талантлив!», «чертовски гениален!». И, видимо, не случайно: из подсознания идет информация об истоках такого дара. Ведь известно из истории, что все гениальные, талантливые личности имели далеко не простую судьбу, были далеки от благосто-идеального узора жизни. Такова судьба талантливых людей — большинства рубинских персонажей. «…Как увидишь, что человек левой рукой ест али крестится, — беги от того без оглядки. Это не божий промысел, а дьяволовы забавы. Это он, леворукий, наплодил своих последышей…»1. Вспомним финал фильма «Изгоняющий дьявола» («Exorcist»): священник, понимая, что иначе, как заставить дьявола переселиться в его тело, девочку не спасти, становится вместилищем для нечисти, но при этом успевает остатками здравого смысла принять решение и выброситься в окно, убив себя и нечисть. Анюта Нестеренко, рубинская героиня, была «Свободная, дикая… другая!»2; школьники-одноклассники сразу «почувствовали ее… нездешность… Будто тень другого мира мимо… проплыла беззвучно, как корабль в ночи…»3; «…у нее была страсть к цифрам. И большие способности к математике… <…> Эти возможности, бóльшие, чем требуется человеку для 1 Рубина 2008а: 83. Рубина 2008а: 44. 3 Рубина 2008а: 159. 2 227 счастья…»1. Играя под столом, она без труда переводит с непонятного языка разговор взрослых подружке: «Она что, понимает идиш? Эта девочка? И Фиравельна невозмутимо ответила с некоторой даже гордостью: — Она понимает все!»2. Все началось с детства, с потерей матери, которая «…в зеркало ушла»3. С тех пор в голове как бы образовалось «зеркальце, в котором, если сильно сосредоточиться, отражается все, что хочешь запомнить..»4, для Анюты «это было, как… как потусторонний мир!»5. И те, кто был привязан всю жизнь к Анюте, воспринимают ее (например, возлюбленный Сеня) как пришедшую оттуда, из зеркала: «…она, пятилетняя, по коридору топочет, прямо из зеркала мне навстречу выбегает…»6. Способная, вопреки законам физики, видеть на порядок дальше во времени, чем обычные люди, Анюта заранее знаетвидит судьбу окружающих. Кто-то ей это показывает, этот кто-то — какая-то высшая сила — по мере накапливающихся трагедий становится враждебен ей. «Нет… Нет! Ты можешь убить меня. <…> Ты больше не потешишься… Не развлечешься мною. Нет!»7. Она не может предупредить несчастье, ничего поменять в сценарии чужой судьбы: «…я просто зеркало. <…> Иногда мне что-то показывают, но мне не позволено ничего исправить, я только отражаю…»8. Она «…о неотвратимости знает заранее, чувствует ее… И значит, как-то принадлежит неведомой вышней силе…»9. И «…чем дальше, тем больше ее сторонились… А под конец… среди людей она чувствовала себя прокаженной»10. С детства и до конца жизни свое земное пространство Анюта ощущает-видит как промежуточное звено, как зеркальный 1 Рубина 2008а: 161. Рубина 2008а: 116. 3 Рубина 2008а: 75. 4 Рубина 2008а: 51. 5 Рубина 2008а: 43. 6 Рубина 2008а: 45. 7 Рубина 2008а: 206. 8 Рубина 2008а: 423. 9 Рубина 2008а: 76–77. 10 Рубина 2008а: 264. 2 228 коридор между этим миром и небесным: «Сфера небесная и сфера морская двумя гигантскими зеркалами отражались друг в друге до самозабвенной обоюдобездонной голубизны»1; «Володька, представь, — говорила, — два гигантских естественных зеркала: черное зеркало неба и черное зеркало залива...»2; «И в мощных всполохах салюта пульсировало выпуклое черное зеркало залива, смыкаясь с черным зеркалом ночного неба»3. И в свой последний путь Анюта отправляется по этому зеркальному коридору. Но прежде она все чаще мучается вопросом: «Элиэзер… — сказала она вдруг. — Для чего — я? <…> — Наверное, для того, — проговорил он, помедлив, — чтоб показать, какими люди могут быть. <…> — Ведь я — чудовище. Я в гроб вогнала своих родителей. <…> Зеркала — вот что меня волновало. Вот моя суть… Ни капли радости не принесла никому. Одно только горе. <…> Может, ты — такой привет Создателя, его улыбка, солнечный зайчик, который Он, как ребенок, пускает на землю — играет каким-то своим небесным зеркальцем, пытается обратить на себя внимание людей?»4. Все, ее любящие, в конце концов приходят к одному: Сеня «уверял, что она — ангел. …Мол, природа ее родственна неким существам, которые в народном сознании фигурируют как ангелы-архангелы всякие… Что люди в них верят, потому что время от времени такие существа действительно появляются на земле среди людей… Например, Христос»5; «Ты — самый сильный и самый цельный человек из всех, кого я встретил в жизни: Ты отринула навязанный Тебе дар небес с великолепной брезгливостью»6; следователь: «Не может быть, чтобы все эти люди, которые бог знает что мне о пропавшей рассказывали, были чокнутыми? С другой стороны, положа руку на сердце: а четыре евангелиста — они не чокнутые? Но мы же читаем, как Он шел по воде, аки посуху, и за давностью тысячелетий 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 6 Рубина 2 2008а: 2008а: 2008а: 2008а: 2008а: 2008а: 20. 42. 431. 411–412. 266–267. 445. 229 отлично все это кушаем…<…> …никто ничего не нашел, хоть убейте»1; Элиэзер, ее друг и единомышленник, родственная зеркальная душа: «Боже, какое идиотство вся жизнь этой дорогой девочки! …эти знаменитые идиотские шоу — разве для этого создан ее беспощадно ясный, мгновенный, острый ум? Разве для того точат на божественных станках столь выдающиеся экземпляры человеческой породы?»2. Этот экземпляр человеческой породы — Анюта Нестеренко — стала циркачкой, каскадером, удивляя зрителя невиданными трюками, поражающими воображение зеркальными мистификациями. Ее необычный дар стал ее бедой, «…она оказалась человеком, ежеминутно готовым отбыть. Куда? <…> …в небеса»3. Анюта, понимая, что не может распорядиться во благо своим талантом, делает смертельный каскадерский трюк на мотоцикле: «…понеслась по зеркальному коридору между черным, сверкающим огнями заливом Святого Лаврентия и черным заливом золотого салютного неба…»4. Ни тело, ни мотоцикл найдены не были. «Она исчезла. Если хотите — вознеслась»5. «В романе героиня не может исчезнуть без следа. Такое только в жизни случается. Только в жизни у этого парня, который весь ею переломан, она все летит по небу на мотоцикле! До сих пор все летит и летит… летит и летит…»6. Речь идет о бывшем муже Анюты, любившем ее при жизни и после… И какая любовь сильнее — та или последующая — сказать трудно. Вспомним тургеневскую повесть «После смерти» («Клара Милич») — любовь «после» оказывается сильной, страстной, роковой, демонической — разумом не постижимой. Вне racio и рубинская героиня, ее чувства и привязанности, весь узор ее жизни и финал — так, может, действительно талант вне racio, а потому Анюта не могла умереть по законам земной логики. 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 6 Рубина 2 2008а: 2008а: 2008а: 2008а: 2008а: 2008а: 440–441. 409. 300. 432. 441. 443. 230 «Синдром Петрушки» Проблема таланта, главная в романе «Синдром Петрушки», выведена за рамки рационального. К заглавию стягиваются все линии сюжета — в итоге словосочетание «синдром Петрушки» становится метой гениальности. Упомянутый однажды, как бы всуе, медицинский диагноз («…“Синдром Ангельмана”, или “синдром смеющейся куклы”, а еще — “синдром Петрушки”. <…> Маска такая на лице, вроде как застывший смех, взрывы внезапного хохота и… слабоумие, само собой»1) становится метафорой, а потом и контекстуальным символом гениальности в мире одержимых искусством перевоплощения, кукольников. Главный герой романа — Петр Уксусов, Петрушка, но не кукла, а кукольник, управляющий куклой. Петр с детства производил на окружающих впечатление очень странного мальчика2, его интересовали только куклы: «…он был замкнут и скрытен — во всем, что не касалось главного: его зачарованности куклами, какой-то обезумелой погруженности, безжалостной… тиранической — влюбленности в ирреальное пространство кукольного мира. …Не была ли его тяга к выражению себя через куклу преодолением частичного аутизма, способом как-то обратиться к миру? Недаром он и сейчас совершенно преображается, когда берет куклу в руки… кажется более высоким, необъяснимо более значительным…»3; «…его обычное косноязычие исчезает с первым же появлением в разговоре кукольной темы. Тут с ним происходил ряд поразительных, чуть ли не физиологических превращений: язык начинал иначе двигаться во рту, будто некто разом снимал с него заклятие. Его скованные руки обретали невозможную до того, летучую и лукавую свободу… когда становились частью куклы»4; «…у Пети всегда в руках был ком пластилина… Он постоянно мял этот ком, быстро-быстро вылепливая фи1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 2 2010: 2010: 2010: 2010: 33. 39. 39. 51. 231 гурки и снова их сминая и опять вытягивая из плотного пластичного месива чью-то руку, ногу или голову. <…> …Еще … выдавал длиннейшие цветистые тирады, с выражением и на разные голоса, когда “показывал театр”: надевал на указательный палец пинг-понговый шарик с нарисованной рожицей на нем… меняя грустного человечка на веселого…»1. Невзрачный, неяркий в обыденности, он становится живым, красивым, одухотворенным, когда держит в руках куклу, когда наделяет ее душой, когда по его руке и по организму куклы начинает течь одна кровь. Будучи еще мальчиком, он крадет из оставленной у магазина коляски маленькую огненноволосую девочку — живую куклу. Кражу пришлось вернуть, но детская привязанность к этой «кукле» впоследствии вырастает в любовь: став взрослыми, Петя и «кукла», Лиза, поженились. Лиза становится партнером Петра и по сцене — он сделал с ней танец, в котором она изображала куклу, потрясая зрителей. Когда же Лиза не смогла выходить на сцену (по причине беременности, а потом болезни), Петр сделал куклу, точную копию своей огненноволосой жены. Ревность Лизы к этой новой страсти Петра становится одной из интриг романа. Жизнь вокруг интересует Петра лишь такая, которая чем-то напоминает мир кукол: «…из будки охранника по пояс высунулся черно-глянцевый парень… похожий на куклу Балтасара, последнего из тройки рождественских волхвов… Он водил его в театре…»2; «А если еще укрыться гигантским уютным плащом доктора Горелика, закутаться в него, закуклиться…»3; «Он никогда не интересовался политикой и тем, что обычно именуют “жизнью общества”; ему вообще всегда было наплевать на общество и, боюсь, на людей тоже. Тем более непонятно — как мог он так гениально учуять главные мотивы общественной жизни тех лет… Короче: он сделал двух кукол, двух перчаточных кукол, которые… должны были подменить традиционного Петрушку русского балагана. Вернее, он разделил Петрушку на два персонажа. Это были Атас и Кирдык»4. Даже его обыден1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 2 2010: 2010: 2010: 2010: 105. 15. 17. 206. 232 ность была «заточена» под кукол: «Здесь, на углу, в глубокой кирпичной нише поживали-жили два его дружка, два больших и богатых мусорных контейнера, к которым состоятельные жильцы окрестных домов и обслуга ресторанов и лавочек сносили полезные кукольные вещи… сырье для тел и дел»1; «… знаешь… зачем он прицепил Карагезу этот идиотский протез? <…> Затем, что без протеза тот просто пес, живой трехногий инвалид. А с протезом — кукла. Его интересуют одни только куклы…»2; «…она стояла к нему спиной: ювелирная работа небесного механика, вся, от затылка до кроссовок, свершенная единым движением гениальной руки»3 (курсив мой. — Э.Ш.) — таков мир Петра — кукольный мир. И так же, как когда-то Петр полюбил живую куклу-младенца, свою Лизу («Сыну… <…> Что тебя пришибло? Ты кого-то встретил? Я кивнул… — Это девочка, — сказал старик. И я снова кивнул. — И что, она тоже призналась тебе? — Н-нет… — выдавил я. — Она не может говорить. — Матка боска! Она немая?! — Н-нет… Она… она очень маленькая, — выговорил я с трудом. — Она такая маленькая… как кукла»4), он предвкушает появление на свет своей будущей дочери: «Я сам ее видел вчера на экране, Борька, видел! Плавает, как рыбка: еще страшилище, но такая красотка — просто куколка!»5 (курсив мой. — Э.Ш.). Когда в школьном детстве Петр знакомится с профессиональным кукольником Казимиром Матвеевичем и тот делает неожиданное открытие — и для себя, и для Петра (кукла Петрушка именуется Петром Уксусовым так же, как и завороженный ею «живой» Петр), судьба Петра обретает свое единственное направление: он становится кукольником. Уже тогда Казимир Матвеевич наставлял Петю: «…если ты, старичок, хочешь заниматься куклами, ты должен спятить, перевернуть мозги, научиться инако мыслить. Кукольным делом должны заниматься фанатики….»6; «Лишь много лет спустя Петя по1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 6 Рубина 2 2010: 2010: 2010: 2010: 2010: 2010: 164–165. 210. 18. 342. 421. 138. 233 нял, что их роднило с Казимиром Матвеевичем. Тот тоже был и охотником, и ищейкой, чей нюх натаскан на тусклый чарующий запах инобытия; следопытом был в пожизненной экспедиции, в вечных поисках прорехи в нездешний мир…»1; «Синдром… Петрушки», ты сказал?.. — и вдруг рассмеялся: — Так это мне и подходит. Я ж и сам — Петрушка!»2. Мир кукол — мир нездешний — одна из главных интриг не только романа Рубиной, но и вообще всего кукольно-фольклорного дискурса. Во всех культурах кукла — архаический фольклорный артефакт. Кукла сопровождала многие обряды: земледельческие, сезонные, семейные — почти везде она несла сакральный смысл, часто отвлекая «нечистую силу», обманывая ее, тем самым оберегая человека. Кукла, по источникам XVII в. (а возможно и раньше), становится персонажем театрально-балаганных представлений. Наиболее популярна в России кукла по имени Петрушка — театр Петрушки до сих пор разыгрывает спектакли: как в уличных представлениях, так и на театральных подмостках. В XIX в. на сцену выходили два персонажа (это были две руки петрушечника): Петрушка и цыган, Петрушка и невеста, Петрушка и доктор, Петрушка и немец, Петрушка и музыкант, Петрушка и капрал. Петрушка был одет в красную сорочку, плисовые штаны и лаковые сапоги, на голове — колпак. У него, как у человека, были отчество и фамилия: Петр Иванович Уксусов. Такая «съедобная» ономастика имеет архаическое происхождение. Родо-племенные группы соотносили своего тотема-трикстера с каким-либо яством, национальным блюдом — об этом свидетельствует ряд родственных кукол: у французов — Жан Потаж (похлебка), или Жан Фаринь (мука); у немцев — Ганс Вурст (колбаса); у итальянцев — Джованни Маккарони (мучное блюдо); у англичан — Джэк Пуддинг (тоже мучное блюдо); у голландцев — Ян Пиккельхеринг (маринованная селедка); у русских — Петрушка (овощ). Название съедобной травы-приправы — петрушки, да еще сдобренной уксусом, — вызывало у зрителей улыбку и обыгрывалось в распространенное у русских имя — Петр (Петрушка — уменьшительное). Сценки Петрушечного театра имели социально-сатирическую направлен1 2 Рубина 2010: 113. Рубина 2010: 46. 234 ность, а прежде, еще не став детским репертуаром, изобиловали эротическими непристойными эпизодами. Оберегательные действия куклы, по соображениям архаического сознания, провоцировали «нечисть», которая, будучи «обманутой», легко вступала с ней в контакт — так кукла защищала человека. Вероятно, срабатывал механизм симпатической и контагиозной магии, а потому кукла мыслилась персонажем потустороннего мира, персонажем не рукотворным, а сотворенным Кем-то. Не случайно Петр, творящий своих кукол, настораживает окружающих: «…вы похожи на средневекового алхимика или даже на раби Лева перед созданием Голема»1; «…в вашей внешности тоже есть нечто потустороннее. Глаза: подозрительно светлые. Уж не воронки ли это — в никуда? <…> О, какой характерный нос, и этот жесткий римский подбородок, и непроницаемая улыбка… вы сами могли бы играть Петрушку, божественного трикстера!»2; пугает: «Искусство ваше проклятое, магическое — это что? не ворожба? Когда расписная деревяшка в ваших руках оживает, это как называется? не ворожба? <…> И что такое интуиция в вашем деле, если не предтеча свершения, созидания? <…> Интуиция, она и есть — ворожба…»3. А умирающая мать Петра зрит в корень: «…уже не вставая, мама призналась мне, что жалеет о своем попустительстве: мол, нельзя было в детстве пускать меня в Южный к Матвеичу, нельзя было позволять настолько “прилепиться” к кукольному делу, настолько в нем “пропасть”. Почему, спросил я… Потому, сказала она… что тебя унес Лесной Царь…»4 (курсив мой. — Э.Ш.). Как не вспомнить строки «Дитя, я пленился твоей красотой: / Неволей иль волей, а будешь ты мой» (В.А. Жуковский)? «Как, спрашивал он [Хонза] себя, могут они [туристы, зрители — люди] чувствовать издалека? Неужели этот человек, само его мускулистое гибкое тело, его мастерство, его талант на расстоянии излучают особую магнетическую силу?»5. 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 2 2010: 2010: 2010: 2010: 2010: 257. 261. 289–290. 335–336. 425. 235 Но «Лесной Царь» делает своим, неземным существом не только Петю, теперь и сам Петр наделен лесноцарскими полномочиями. Сначала он из Лизы делает куклу, затем «в его голову… пришла идея “создать другую Лизу: сделать перевертыш, номер — наоборот, одушевить куклу до такой степени, чтобы ни у кого из зрителей не возникло сомнения в ее человеческой природе»1, «…Петька хохотал как дьявол, не отпуская куклу, прижимая ее к себе…»2. Из разговора Петра с другом Борисом: «С ней [Лизой] уже все случилось. Самое ужасное. Когда человек чувствует и говорит, что у него забрали душу… <…> …коллекционер кукол, историк, античник. <…> Цитировал старинный манускрипт… Там — об одном маге, что создал мальчика из воздуха и взял к себе на службу. <…> Там даже процесс описан: из воздуха в воду, из воды — в кровь, из крови — в плоть… <…> И, мол, это гораздо труднее того, что сделал Создатель, слепив человека из глины. <…> Да, он создал из воздуха мальчика и душу его взял к себе на службу, тем самым убив в нем человека, личность. <…> …Бывают минуты… когда я чувствую себя именно тем мальчиком, созданным из воздуха… чью душу Создатель или Тот, другой — кто-то из них двоих, — взял к себе на службу. А вот к кому из них я взят на службу, в чем этой моей службы смысл и, главное, чья я собственность… этого в отличие от Лизы не знаю»3 (курсив мой. — Э.Ш.). Мать Петра была права: свою сопричастность иному, нездешнему миру почувствовал и сам Петр. Когда Лиза из ревности казнит одухотворенное существо — куклу Эллис, Петр делает «заменитель» из воздуха: «Он танцевал… Невесомая тень погибшей Эллис плыла на его руке… …И он плыл… будто вызывал, вытанцовывал духа из царства тьмы»4, то есть сотворял Эллис из воздуха. «Он танцевал… будто и сам он — всего лишь воздух, уплотненный в плоть, всего лишь божья кукла, ведомая на бесчисленных нитях добра и зла. И, прошивая сердце насквозь, от головы его тянулась в небо бесконечная 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 2 2010: 2010: 2010: 2010: 57. 57. 410–412. 425. 236 золотая нить»1. Вероятно, та самая нить, которая соединяет гения с Творцом. Или с его антиподом? «Я и сам — Петрушка, — повторил он… Черт сидел тогда на его остром плече и неслышно посмеивался!»2; «…фразы на псевдоиностранных наречиях, что вылетали у него по ходу представлений, были результатом таинственной утробной способности, которую она считала бесовской»3; «…оживлял он и разные предметы: мою кепку, Лизину перчатку, забытую на стуле шаль пани Дрыбци-маленькой, даже электрический шнур от настольной лампы, — каким-то сумасшедшим чутьем извлекая из них “настроение”»4. Не случайно Петр — странный, загадочный, гениальный — выбирает для себя соответствующее своему ремеслу место жительства. Сначала это был Львов: «Лики и фигуры — эти куклы — были тут везде: на фасадах домов, над брамами и окнами, в основании круглых, как бокал, узорных балкончиков, в нишах, на портиках… …Театр вырвался на улицу и правил бал… <…> Мальчик был очарован, покорен, счастлив: наконец-то он оказался там, где и должно жить людям. Таким и должен быть настоящий кукольный город. Такой — кукольной — и должна была оказаться добрая волшебная Бася»5, потом Прага. Почему Петр выбирает Прагу? «Потому что Прага — самый грандиозный в мире кукольный театр»6, «…какой родней считал все скульптурное народонаселение пражских зданий — все, что обитало вверху, над головами прохожих: эти тысячи, тысячи ликов… <…> Вся эта несметная рать, облепившая каменным вихрем окна и двери, балконы и портики… вся эта живность и нечисть… <…> Щедра и избыточна ты, Прага, неуемным своим, карнавальным весельем!»7. Именно в Праге Петр находит воплощение своего очень недолго прожившего сына: «…на торце углового здания… жил себе и никогда не 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 6 Рубина 7 Рубина 2 2010: 2010: 2010: 2010: 2010: 2010: 2010: 426–427. 51. 13. 50. 147. 53. 166–167. 237 умер… Словом, это было лицо ребенка, с раскрытыми в смехе губами и безмятежно смеженными глазами, — лицо ребенка, рожденного для вечного смеха. Он всегда с ним здоровался, даже если бывал не один. Не поднимая головы, буркал: “Привет, сынок!”…»1. Так или иначе, но Петр все, любимое им, оживляет, приспосабливает к своему кукольному миру — первым делом оживил отца: «..и с тех пор Ромка, будто вырвавшись на свободу, участвовал во многих представлениях…»2, так как он был его первой «куклой». Помимо главной сюжетной линии «Петрушка и Творец», есть еще одна интрига романа, связанная с другой куклой — Корчмарем. Из рода в род персонажей романа передавалась эта заговоренная кукла-оберег — толстый старый Корчмарь, в брюхе которого хранилась маленькая куколка. В проклятом одним из обиженных предков роду рождались мальчики с болезнью Ангельмана: смеющееся лицо, слабоумие, смерть в младенчестве. Но если роженица загодя умыкала куклу Корчмаря, то рождались жизнеспособные огненноволосые девочки, так как Корчмарь обеспечивал «рождение именно дочерей, по которым и бежит чахлый ручеек несчастного проклятого рода»3. Лиза, Петина жена, была носителем именно такого «гена». Семейные предания, интриги, тайны вокруг этой родовой куклы лежат в развитии сюжета романа. И это не случайно — мир кукольного мастера и должен быть населен куклами. В неземном, ирреальном мире кукол и их главного кукловода иная, своеобычная шкала ценностей, иной водораздел между добром и злом, счастьем и несчастьем; «…мир кукол так же необъятен… как и целый земной шар… Что в нем есть тайна… какой-то другой жизни… и что открывается она далеко не всем… а только избранным, зачарованным, себя забывшим людям»4. Д. Рубина из романа в роман о талантах-творцах-гениях педалирует свой концепт счастья: не может быть счастлив гений — по земной, человеческой шкале. «В своей империи он 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 2 2010: 2010: 2010: 2010: 167. 107. 282. 133. 238 был могуществен и абсолютно счастлив. Самый счастливый властелин самой счастливой из всех когда-либо существовавших на свете империй. Его несчастливость в реальной жизни, его неизбывная, неутоленная любовь к единственной женщине в эти минуты и часы полностью исчезали, едва он вступал под своды своего рая…»1; «…человека, чья жизнь связана с куклой, вполне нормальным не назовешь…»2; «…а ведь я никогда невидел, чтобы он приласкал ее даже мельком… Ни разу не видел, чтобы он, хотя бы шутливо, поцеловал ее… Я никогда не видел, чтобы он провожал ее спокойно-любящим взглядом… <…> Эти двое стали жертвой особо свирепого вида любви: страстной, единоличной, единственной; остались в живых, но уже навсегда были мечены неумолимо жестокой любовью…»3. Счастье гениев иное — во всяком случае, именно так структурирован концепт счастья в рубинских романах. Кто организует такое счастье: бог ли, дьявол? у кого в услужении гений? — ответов нет, но вопросы поставлены. «Он артист такой, что на Карлов мост не выходит, чтобы не испортить день другим кукольникам. Из благородства! Потому что, если он появится — все, сворачивай удочки: пока он на мосту, ни один турист от него на шаг не отойдет и на остальных артистов даже не взглянет. У него такие руки, что едва он прикасается к кукле, та оживает. Можете мне поверить, она оживает и двигается, как человек… Я говорю ему: “Петька, когда я сдохну, приди и просто коснись меня своей животворящей лапой. Я тогда сразу поднимусь…” Помните, в какой это книжке мертвецу кричат: — “Лазарь, пошел вон!” — и тот подымается и идет к себе? Я представил эту картину: мой друг в образе Иисуса, воскрешающего крашеную… нелепую старуху: “Хана, пошла вон!”»4. В отношении окружающих к искусству Петра с нарастающей частотностью мелькают, контрастируя с восторженными, демонические эпитеты и сравнения: проклятый, ворожба, магнетический, как дьявол, бесовской, ужасный. Чем выше мастерство Петра, чем совершеннее его создания — тем несчастнее близкие, а 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 2 2010: 2010: 2010: 2010: 315. 265. 318. 325–326. 239 именно Лиза — его главная живая кукла. «Сначала он сделал из меня куклу… Потом он достиг наивысшего совершенства: сделал из куклы — меня…»1, это об Эллис, точной копии Лизы: «Ее боятся, разве я тебе не говорил? Ее люди боятся, как… сушеных голов на поясе твоих австралийских бушменов. Или как мумию… Восхищаются и предпочитают держаться подальше. Ее можно забыть на остановке трамвая, в супермаркете… Ничего не случится. Видел, как осторожно тыкал в нее пальцем таксист?»2; «…этот андроид: гениально сработанная им, очаровательная, ужасная кукла Эллис, копия Лизы»3. Разные ракурсы судьбы талантливых персонажей Рубиной («Последний кабан из лесов Понтеведра», «На Верхней Масловке», «На солнечной стороне улицы», «Почерк Леонардо», «Белая голубка Кордовы») способны встроиться в своеобразную авторскую формулу: непременное сочетание гениальности и дьяволизма, проявляющегося в одержимости, инаковости. Мысль неновая, так же, как не новы любовь, жизнь и смерть, добро и зло — все эти темы мирового дискурса проходят по разряду вечных, нерешаемых. Автор не дает ответа на поставленные вопросы, но, во-первых, в очередной раз поднимает тему другого (в нашем случае — странного своим талантом), непонятого, во-вторых, погружает в таинственный, малознакомый широкому читателю кукольный мир. Не случайно герой рассуждает о другом гении, пушкинское осмысление которого подарило миру беспрецедентный (ставший прецедентным) текст о гении и злодействе, — о Моцарте: «…заговорили о Моцарте — почему, несмотря на всю легкость, даже восторг, даже иронию… его музыка всегда — “мементо мори”, всегда “помни о смерти”? Наверное, потому, что он — гений… а гений всегда видит конечность не только отдельной жизни, но и целого мира»4. «Синдром Петрушки» — это и есть формула гения, завораживающего и отталкивающего, восхитительного и ужасающего одновременно. Не все талантливые персонажи Рубиной наделены подобным синдромом: другой Петр — из повести «На Верхней Мас1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 2 2010: 2010: 2010: 2010: 211. 412–413. 55. 320. 240 ловке» — живет по законам чести и долга, потому и не входит в обойму одержимых своим ремеслом персонажей. А вот Петр-Петрушка в прозе Рубиной появляется закономерно — образ вызревал от текста к тексту. Самым близким «родственником» рубинского Петра Уксусова, носителем «синдрома Петрушки», является Люсио из «Последнего кабана из лесов Понтеведра». «…Он был хозяином пространства, неуловимо и ненавязчиво он его создавал…»1; «…положив руки на стол, он невозмутимо поигрывал кончиком ослиного хвоста, который тянул из-под скатерти якобы со стороны нашего директора…»2; Люсио в унисон Петру рассуждает о смерти: «Смерть… настоящее торжество духа… <…> …Я с детства… думал о смерти. Мне кажется, настоящие мужчины должны жить так, словно каждую минуту они готовы ее принять в объятия, как подружку. <…>…Художник сам должен сочинить сюжет своей жизни, любви, смерти… Великий художник ведет на ниточках, как послушных марионеток, не только своих героев, но и… собственную смерть»3. Такое концептуальное сходство образов — Люсио и Петра — свидетельство индивидуальной, авторской картины мира. 1 Рубина 2000а: 137. Рубина 2000а: 102. 3 Рубина 2000а: 138. 2 241 Львовский текст в романе «Синдром Петрушки» Локальный текст как фольклорно-мифологический срез, состоящий из образов, персонажей — реальных и вымышленных, особенностей ландшафта, культовых мест, характерных артефактов, афоризмов и проч., тиражируется, помимо устной трансляции, литературными произведениями — как художественными, так и жанрами, проходящими под рубрикой нонфикшн. Не каждый топос, или город, в истории культуры способен породить свой локальный текст. Почему? — пока не могу ответить на этот антропологический вопрос. Очевидно лишь, что только тот город, который воспринимается его обитателями или гостями как замкнутое, уютное, любящее и любимое пространство, способен сотворить свой текст. Много ли таких городов? Немало. Но и немного. Петербург, конечно, занимает в череде локальных текстов первое место: термин «локальный текст» запущен в научный оборот благодаря исследованию В.Н. Топорова о Петербургском тексте. Москва, Одесса, Пермь, Прага, Венеция, Иерусалим, Ташкент, Крым — вот неполный список уже исследованных в отечественном научном дискурсе, хотя и не до конца, локусов, претендующих на наличие локального текста. В этот ряд необходимо, на мой взгляд, поместить город Львов. Поводом к разговору о Львове в аспекте локального текста послужил роман Дины Рубиной «Синдром Петрушки». Писатель вправе селить своих персонажей где угодно — в любом, интересном ему, автору, географическом пространстве. В романе Рубиной представлена широкая географическая палитра: Львов, Сахалин, Ленинград (Питер), Самара, Иерусалим, Прага. Историко-смысловая мотивация, закрепленная за этими топосами в сюжете романа, в общем-то, понятна. Сахалин — удаленное от столиц место, куда бросали якорь ссыльнопоселенцы, отбывшие наказание в ходе сталинских репрессий («…над Сахалином и посейчас витает дух каторги»1), — там оказываются рубинские герои (Каземир Матвеевич, отсидевший по 58-й статье за безобидную сценку с куклой, похожей на Сталина; родители Петра — Ромка, его отец, проходивший на Сахалине службу в 1 Рубина 2010: 113. 242 ранге капитана погранвойск, комиссованный по причине травмы и оставшийся, на все махнувший рукой (одной), доживать на Сахалине: «…финита, как сам он любил повторять, Кончита…»1); Ленинград (Питер — так в романе) — город, где учился Петр в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) — этим фактом мотивированы не только природная способность к лицедейству Петра, а его высокий профессионализм; Самара — не далеко от столиц и не близко (туда бежит из Львова тетка Лизы, Вися Вильковская, скрываясь от своего зятя и «мужа» одновременно; поселившись в старом купеческом доме; Вися, возможно, стала обладательницей каких-то зарытых в доме прежними, дореволюционными хозяевами сокровищ — потому и купеческий дом, потому и Самара — торговый узел на Волге); Иерусалим — город-маркер 1990-х, куда случился исход огромного количества советских граждан, город (и страна), за которым закреплен в русской повседневности высокий уровень медицины, — в тамошней клинике лечится героиня романа — Лиза. Но почему Львов? Почему именно во Львове началась история мастерства, таланта, гениальности, любви Петра Уксусова? Львов — город «кукольный»2, именно здесь должен был бы взрасти талант Петра Уксусова. Впервые герой попадает во Львов восьмилетним — но его кукольная «мания» уже при нем. Тогда при чем здесь Львов? Откуда дар мальчика? В сюжете все логично — от отца: отец стал и «первой куклой» для Петра, «причем поломанной куклой: у всех пап были две руки, у Ромки — одна…»3, и «первым кукольником. Дело не в том, что он умел смастерить игрушку из пустяка — он умел ее оживить»4. А отец — львовянин: «…Роман Петрович Уксусов был глумливо азартен… Русским был лишь наполовину… Зато вторая, взрывоопасная половина вмещала в себя бог знает какую экзотику: были там и пленный итальянец, и тихая осетинка, привезенная дедом невесть откуда и прожившая рядом с ним бессловесную жизнь; бушевал у него в крови заядлый западэнец и выпить-не-дурак, дядька по матери Петро Галиц1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 2 2010: 2010: 2010: 2010: 98. 146. 97. 98. 243 кий, да и мало ли кого еще могло занести в то мутное русло загульной, разливанной материнской его родни1. По логике автора, львовский «замес» смыслообразующ и судьбоносен, как в линии отца, Романа, так и в линии главного героя — его сына Петра Уксусова. Да и мать Петра тоже львовянка, Катажинка Желеньская, полька, и сахалинский учитель-кукольник, Казимир Матвеевич, тоже львовянин, поляк (и женой Петра станет львовянка, полька Лиза Вильковская). Именно в этой нише сюжета романа и начинается собственно львовский текст, то есть воссоздается его «кукольность», карнавальность, праздничность, мистицизм. Откуда черпает такой Львов Рубина? Думаю, с одной стороны, из тех образов-впечатлений, которые транслируют все, пишущие о Львове, с другой — из собственных впечатлений — вкупе все это и составляет собственно львовский текст, проживающий в русской словесности (как устной, так и письменной). «Кукольность», или миниатюрность, города присутствует в метафорах Львовского текста: «Это город-дом…» (Ольга Балла), «Город-корабль» (Юрий Андрухович); «…Львов — город, как нарочно созданный для очень внутренних и субъективных отношений с ним»2; «…Львов — очень человеческий, человекосоразмерный, с грустной иронией умного частного человека. Он — город для неспешного хождения пешком, для частных мыслей, для тесно устроенных внутренних диалогов. Он не перекрикивает человека. Он его чувствует. Он вообще очень чуткий»3; «Львов — мудрый город, много думавший, много чувствовавший, все помнящий. И у него много-много горькой и темной памяти. Но он, деликатный, никого ею не насилует: прячет всю темноту и горечь в своих внутренних складках»4. Во всех приведенных цитатах присутствует ипостась города камерного, отнюдь не мегаполиса. Потому здесь уютно, а деталями такого уюта становятся «кофе» и «кофейня». Марина Курсанова в своем «Путеводителе по литературной карте 1 Рубина 2010: 99. Рубина 2010: 412–413. 3 Балла 2010. 4 Балла 2010. 2 244 Львова»1 упоминает эти сигнатуры (артефакт и локус) неоднократно: «Большую часть времени папа проводил в своей любимой кофейне при магазине номер 17 с многообещающим названием “Нектар” — и не один, а в компании…»2; «…матово звякнет серебряный век — мундштуком и четками над чашкой в кофейне…»3; «И — нет синих необозримых просторов, вбирающих двойную небесно-земную реку, ну и что: зато кофе умеет варить пятилетний ребенок, в турке или в джезве, с кардамоном или с корицей»4; «Жены торговцев, принарядившись, пьют кофе пятидесяти шести сортов в роскошных кондитерских с фотографиями видов старого Львова по стенам. <…> А магазинов и кафушек даже больше, чем можно предположить, это общеизвестно, и сюда ездят “на каву” — традиционно, всегда». Кофейни, описанные Курсановой, изобилуют известными именами, лицами, ставшими предметом разговоров или участниками оных во львовских кофейных посиделках (Мандельштам, Аполлинер, А. Галич, Тарковский, Феллини, Стругацкие, Булгаков5). И Дина Рубина не может не упомянуть в своем романе столь ярко выраженный львовский артефакт: «Мы сидели в кавярне на Армянской, где кофе варили в турках на раскаленном песке. Над узкими горлышками вспухала пенка, пузырясь по бокам турки, если сбегала, так что в крошечном помещении витал божественный аромат. <…> Нет, все же о кавярне на Армянской надо подробнее! Надо бы найти особенные слова, — ведь в пряно-охристом воздухе этого неприглядного помещения остался витать лохматый призрак нашей юности, наше кофейное братство. Не знаю, кем и когда рождена была легенда, что кофе на Армянской — это лучший кофе в мире. Чужим там вполне могли подать порядочное пойло. Просто чужие-то почти и не забредали…»6; «Но я там родился, вырос, каждый переулок найду с закрытыми глазами... К тому же роль пуповины ино1 Курсанова Курсанова 3 Курсанова 4 Курсанова 5 Курсанова 6 Курсанова 2 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 245 Деревья С и г н атуры гда играют самые разные вещи: звон бидона молочницы или запах кофе из соседней кавярни…»1. К сигнатурам города (термин введен в научный оборот литературоведом Т.В. Цивьян — это некий «минимальный набор признаков», которые «тиражировались в бесчисленных словесных и несловесных, художественных и нехудожественных текстах»2) львовского текста отнесем ряд описаний из письменных (точнее, электронных) свидетельств. (В данном случае вполне убедительна выборка из небольшого числа текстов, в итоге приводящих эти описания в статус сигнатур города Львова; к слову, устные воспоминания моих собеседников совпадают с приведенными авторскими фрагментами.) Авторы «свидетельств»-сигнатур — Юрий Андрухович, Ольга Балла, Юрий Издрык, Марина Курсанова, Андрей Содомора — это фон, аргументы, подтверждающие наличие львовского текста в романе Дины Рубиной.3 Авторы Фрагменты3 Ю. Андрухович «Даже растительность Львова хранит неоспоримые признаки этой всепричастности. Балтийская сосна и крымский кипарис мирно соседствуют в львовских садах, любой из которых можно смело назвать ботаническим». А. Содомора «…Особняк с роскошным садом…». Сад, «который так пышно расцветал весной…». Ю. Издрык «…Только во Львове есть такие места – с густыми зарослями кленов и тополей, на которых гнездятся стаи черных ворон, с обманчиво лесным ландшафтом, в котором легко заблудиться… потерявшиеся уголки, где лишь звонки невидимых трамваев подтверждают существование города». 1 Рубина 2010: 44–45. Рубина 2010: 227. 3 Андрухович 2009, Балла 2010, Издрык 2011, Курсанова 2003, Рубина 2010, Содомора 2008. 2 246 Архитектура Д. Рубина «Город Львов в Петином воображении – от маминых рассказов, а главное, от милых рисунков пером в ее зашорканном блокнотике – всегда возникал в густой узорчатой гриве не сахалинских, а других, пышнокронных деревьев…». «…Город …вскипая округлыми кронами деревьев и вспухая лиловыми и белыми волнами всюду цветущей сирени…». А. Содомора «…“Бам”… часов с башни львовской ратуши». «…Широкая панорама Замка: от Кривчиц и до западных склонов, где, собственно, и был княжеский замок, а теперь – тот грот со львами». «…Каменные дома, теряя вес, проступают из этого тумана своими шпилями, башнями и куполами, аттиками и орнаментальными решетками, – звучат причудливой игрой форм, всегда неожиданными акцентами (да и есть ли музыка, поэзия или даже язык без ударений?)...». «Готические окна». «…Город с его… шпилями и куполами, аттиками и орнаментальными решетками, островерхими кровлями, кариатидами и маскаронами…». Ю. Издрык «…Со старыми облупленными домами – с крепкой, однако, кованой оградой: на каждом доме еще различались остатки барельефов или химер, у каждого были свои неповторимые пристройки, башенки с флажками и флюгерами, у каждого фасада еще оставалось выражение лица прежнего хозяина или, по крайней мере, ржавые часы)…». «…Ступени были темные, истертые, шаткие, скрипучие… такая древесина – просмоленная, выдержанная под многолетней нагрузкой – лучше всего подходит для изготовления музыкальных инструментов… у меня была когда-то виолончель, сделанная именно из такой древесины… очень хорошая виолончель…». 247 О. Балла «Этот город хочется любить чувственно и подробно: в его запахах, деталях, в спотыканиях на его брусчатке, в застарелой обшарпанности и пропитанности временем его стен, в ритме пешего хода». Д. Рубина «В те годы все “брамы” – то есть ворота в длинную, как бинокль, арку каретного въезда – на центральных улицах Львова бывали непременно заперты. Жильцы и гости давили на кнопочки звонков на панели с номерами квартир и ждали, пока выйдет... дворник, ибо он не только подметал двор, натирал мастикой паркет, надраивал до огневого блеска – чтоб горели на солнце! – медные ручки на дверях, но и исполнял обязанности консьержа». «Город Львов… всегда возникал в… кружении куполов, колоколен, балкончиков с коваными решетками, каменных львов с пожилыми пропитыми лицами, что сидят на задних лапах, передними обхватив щиты гербов. Там тренькающие трамваи плавно огибали статуи на цветочных клумбах… там с круглой высокой колонны слетал к бронзовому Мицкевичу пернатый вестник небес…». «Еще они с Басей ездили на гору Высоки замэк, и панорама, та, что открывалась с первой террасы, оставила Пете предпочтения на всю жизнь: настоящий Город – волшебный кукольный город – должен стоять на холмах, вздуваясь куполами, щетинясь остриями и шпилями церквей и соборов… в россыпях трамвайных трелей, в цоканье каблучков по ухабистой булыжной мостовой... И всю жизнь потом ему снилась плавная, как развернутый свиток, трамвайная дуга: мимо площади Мицкевича, мимо кафедрального собора и дальше, дальше, все вверх и вверх, – в сторону Русской улицы, где вдали возникает острый силуэт Костела кармелитов». Ю. Андрухович «Мне много чего не хватает – и ежегодных львовских карнавалов…». 248 Карнавальность, праздничность, мистичность О. Балла «У него, лишенного столичной бравурности и столичных претензий, – праздничный и немного все-таки бравурный центр». М. Курсанова «...По верхнему слою земли сухой поземкой струятся церкви, и нигде так не соблюдают храмовую обрядность, да и как не сохранять – тут же впадешь в соблазн темного мистицизма: картины выйдут из рам, каменные женщины надгробий зашевелят ножками в сетчатых чулках, помутненная луна выпадет несозревшим ребенком из стакана улицы, отбиваясь от двух составленных глаза в глаза окошек». «Здесь, в крутом мистико-политическом вареве украинско-польско-австро-венгерских легенд, историй, страстей, амбиций и трагического фарса». А. Содомора «А влечет меня сюда тот странный мир, живущий между стеклами окон, – мир межоконья: расцветшие вазочки, обращенные лицом к прохожему детские игрушки, куклы, паяцы и всевозможные создания, и, даже среди лета, – елочные украшения: время, а в нем и само предместье, словно остановилось, затрепетав здесь – в мире вчерашней сказки...». Ю. Издрык «…Львов – это город, который граничит с краем света. И край этот – не какой-нибудь хтонический провал, не межа между возможностью и воплощением, и даже не воспетое поэтами Ничто. Это просто конец». Д. Рубина «Львов... <…> Загадочный город... Сырой климат, туберкулез, камень, узкие улицы... Сплетение показной набожности и скрытого порока – средневековая мораль. Помню, едешь в трамвае, и какие-нибудь тетки начинают друг с другом браниться. Вдруг – собор за окном! – и они истово крестятся. Мистические углы там встречались, прямо-таки пугающие закоулки...». 249 Люди: особенные и странные; полиэтничность М. Курсанова «Сначала – горожане, потом – поляки, украинцы, русские, евреи, армяне... Здесь с пятнадцатого века – Магдебургское право, то есть право на самоуправление, а значит, здесь с пятнадцатого века живут совершенно особенные горожане, которые с пятнадцатого века понимают глубинный смысл экономических приливов-отливов и пожизненное умение ладить с соседом». Ю. Издрык «В них [помещениях] обитало “добрых полтора десятка” странных людей…». Ю. Андрухович «…Город исповедует сразу несколько культур, целиком не принадлежа ни одной из них». «…Имбирь, кардамон, шафран, перец, мускус, корица: именно армяне придали пряность львовской жизни». «Кто же еще плыл на этом корабле? Немцы, или, как их тут называли, “швабы”, оставили след в искаженных названиях львовских предместий. <…> Кто еще очутился тут, в каютах и трюмах, на палубах и мачтах? Может, достаточно одного только перечисления? Итак: сербы, далматинцы, арнауты, аргонавты, татары, турки, арабы, скотты, чехи, мавры, баски, скифы, караимы, хазары, ассирийцы, этруски, хетты, готы, белые и черные хорваты, кельты, анты, гунны, курды, эфиопы, циклопы, агриппы, лестригоны, андрогены, ариане, цыгане, кинокефалы, элефантофаги, африканцы, мулаты и метисы, малороссы, москвофилы и мазохисты. Францисканцы, капуцины, кармелиты босые и – соответственно, прошу прощения – обутые, бернардинцы, клариски, урсулянки, сакраментки, цецилиянки. Доминиканцы, василиане, растафариане, редемптористы, а еще иезуиты, а до них тринитарии, что выкупали из восточного рабства невольников-христиан. Розенкрейцеры, студиты, тамплиеры, раскольники, православные и левославные». «Мне не хватает во Львове синагоги Золотая Роза. Мне не хватает татарской мечети и татарского кладбища, что находилось где-то под Высоким Замком – в XVII в…». 250 Д. Рубина «А население, которое веками настаивалось, бродило, как вино? Согласитесь, довольно пряный рецепт: треть поляков, треть евреев, русины, немцы, армяне, цыгане... При зажатости и тесноте – какое могучее извержение жизни! А язык – певучий, не совсем польский, польский язык Львова... <…> …Поляков выслали Советы “в рамках обмена населением” – симпатичная формулировочка, да? такая себе шахматная рокировка... А армяне где-то растворились, разъехались... К тому же Сталин решил превратить торговый, культурный, мистический Львов в индустриальный город... Ну, и туда хлынуло окрестное село, те самые крестьяне, которым “за Польски” вообще запрещалось появляться на центральных улицах, запрещалось ходить по ним босиком, так что сапоги они несли в руках до въезда в город, а там надевали. И не зря: моя тетка рассказывала, что сцены, когда деревенские бабы присаживались на виду у сконфуженной городской публики, были совсем не редки. А с предприятиями приехали советские спецы, и расселась повсюду напористая властная Россия – все пришлая публика, другая компания... Город стоял будто контуженый, сам себя не узнавая». «Дело в том, что мой дядька был одним из известных в городе адвокатов. Залман Щупак – не слышали? Кроме прочего, он был знаменит своим острым языком. По Львову в качестве городского фольклора гуляли его остроты, шуточные эпитафии на могилы еще живых друзей и убийственные прозвища его недругов. Непростой человек, и не скажу, что добряк, и не скажу, что святой. Он вынужден был там остаться, как сам говорил – “в свирепых эротических объятиях Софьи Власьевны”». «…Молочники, дворники, шоколадницы, зеленщики…». 251 Женщины М. Курсанова «Еще – красивые женщины. В городе всегда жили особенные – таинственные красавицы-зверюшки, хрупко-неправильные, с очерненными по всему кругу тонкой глазничной кожи лемурскими глазками, с переломанными специально, в раннем детстве и дальше, многажды, по мере школьного продвижения, ключицами. Красавицы с серебряными браслетами, надетыми с кровью вкруг хрупких запястий в пору созревания, с перьями, нарощенными поверх шляпных мохнатых ушек, с прикипевшими, приваренными мехами поверх суженных намеренно плеч. Суженных – благодаря переломанным ключицам, суженных и переломанных намеренно, все в тот же период пол. созревания, из-за того, что в узких витражных коридорах иначе никак – в узких витражных коридорах, переходящих в витые лестницы, переходящих с этажа на этаж... Впрочем, это уже чистый модерн – или сецессия, как тут принято говорить, садо-мазохистические заморочки, вполне понятные именно здесь – еще бы: знаменитый Захер-Мазох родом из Львова! Девушка Лера, страшная красавица, написала: “Люблю притворяться, менять платья, скучать, лениться, гулять с собакой, не ходить в гости, люблю, когда меня не любят, люблю эротичных мужчин, роскошные обеды и качественную музыку...”». Д. Рубина «Еще встречались на улицах странные польские пани с прозрачной кожей на лицах». «…Там счастливо обитали грациозные пани в шляпках с вуалями…». Ю. Андрухович «Что касается евреев, то они появились во Львове еще раньше, чем армяне, примерно в конце ХIV в., и были в их числе тряпишники, шинкари и ростовщики, которых из XVI в. с благородным возмущением клеймил 252 Холокост Ю. Андрухович раздольным латинским виршем Себастьян Фабиан Кльонович: Как ржа разъедает железо, а моль одеянье, Так и бездельник еврей все разрушает вокруг. Но находились среди них и ученые талмудисты, и астрологи, и чернокнижники, и, надеюсь, знатоки халдейской мудрости, обладатели тайного знания. В сороковые их уничтожили фашисты, те же, что вскоре заполнили опустевшую нишу, были обычными, советскими, денационализированными. Исчезнувший тип галицкого жидовства породил выдающихся писателей: это и Йозеф Рот, которого мы уже вспомнили, процитировав, и ностальгический эссеист Юзеф Виттлин, и, без сомнения, Бруно Шульц – загадочный буйно разросшийся овощ, противоестественно-сладкий на вкус». Д. Рубина «Но с приходом русских в тридцать девятом и позже, после войны, произошла... как это в компьютерных терминах? – перезагрузка населения: евреи были уничтожены…». Многочисленные кофейни и мастерски, по-особому заваренный кофе в них, обилие деревьев, сохраненная архитектура (дворцы, площади, брамы, чугунное литье и проч.) прошлых XVII — XIX вв. («Ах, какой у нас был дом... Такие дома во Львове называли “австрийскими”; а еще этот стиль носил имя “сецессия”, и ни в одной другой европейской стране я больше не встречал подобного названия»1), ощущение праздника, карнавала, множество жанров устного нарратива с мистическими сюжетами, «особенные и странные» люди разных национальностей, красивые женщины, уничтоженное нацистами еврейство — вот сигнатуры Львова, составляющие Львовского текста. Ощущение спектакля, мистической игры присутствует во внешнем облике города: «Лики и фигуры — эти куклы — были тут везде: на фасадах домов, над брамами и окнами, в основании круглых, как бокал, узорных балкончиков, в нишах, 1 Рубина 2010: 36. 253 на портиках… …Театр вырвался на улицу и правил бал… <…> Мальчик был очарован, покорён, счастлив: наконец-то он оказался там, где и должно жить людям. Таким и должен быть настоящий кукольный город»1. Помимо кукол на фасадах, были и такие, которые можно было потрогать руками и надеть на них: «Перчаточных кукол отец привез из Москвы (во Львов. — Э.Ш.)… <…> …Мой гость (речь о Петре Уксусове. — Э.Ш.) плюхнулся на коленки возле этой кучи тряпья и стал разбирать, раскладывать кукол на ковре, бережно расправляя мятые балахоны…»2. Куклы были и внутри жилищ, куда доводилось заглядывать рубинским персонажам: «Мне-то жилье нашего дантиста Моти Гердера казалось забавным — из-за бормашины. <…> …Их жилье было вполне типичной польской довоенной квартирой: старая тяжелая мебель, тяжелые портьеры, темные старые картины и этот, помните, львовский фаянсовый рукомойник. И — всепроникающий запах корицы... И вот там, за стеклом больших напольных часов, я и увидел эту куклу. И остолбенел. Поразительная была кукла: явно старый еврей — ермолка, лапсердак, пейсы, — все как полагается, да так скрупулезно все сработано! И такое значительное, я сказал бы, мрачное лицо, несмотря на то что еврей улыбался. Но во всей этой фигуре — вот что меня особенно поразило — не было ничего привычно пародийного. Кроме разве большого живота, но и тот совсем не был смешным. Помню, я ревниво спросил: “Вися, с чего это вы держите еврейскую куклу?” Она отрезала: “Никакая не еврейская, а наша! Наша женская родильная кукла”. Я расхохотался и спросил: “Почему женская, это же мужчина!” Она разозлилась и ответила: “Не твое дело, глупчэ, я сказала — женская, значит — женская! ”»3. «Кукольность» города в развитии талант Петра сыграла не последнюю роль. Дарованный ему талант мог произрасти по-разному, в любом другом мастерстве/искусстве. Но именно такой, как у Петра Уксусова, мог случиться, будучи выпестованным атмосферой, ментальностью, зрительным рядом именно Львовского текста. Потому присутствие его (Львова) в романе Рубиной вполне мотивировано. 1 Рубина 2010: 147. Рубина 2010: 41. 3 Рубина 2010: 236–237. 2 254 Плохой хороший человек, или — роман о творчестве и мести («Белая голубка Кордовы») Романы Дины Рубиной, выходящие с четкой периодичностью, словно ограняют или живописуют одну из вековечных проблем. «Гений и злодейство» — так озвучена она в отечественном дискурсе. Писатель под стать художнику, который в очередной раз ставит на мольберт свое полотно под названием «Талант», берет в руки палитру, кисть, чередуя с любимым инструментом — мастихином, чтобы добиться полноты, убедительности, звучания своего полотна. И так же, как рубинский персонаж, создает некий ритм в огранке «Таланта», «когда следующий слой краски должно класть на просохший, но не на пересохший слой…»1, завершая картину/текст «великолепием естественного, равномерно-мелкого, небесной красоты кракелюра»2. Тема таланта — «гения и злодейства» — не отпускает писателя Рубину. Несмотря на утверждение классика, что эти две субстанции несовместные, искусство вновь и вновь поднимает их, сталкивает, разводит, чтобы еще раз убедиться в правильности пушкинского вывода. Но Дина Рубина от книги к книге («Вот идет Мессия!..», «На Верхней Масловке», «Последний кабан из лесов Понтеведра», «Воскресная месса в Толедо», «На солнечной стороне улицы», «Почерк Леонардо» и др.) не соглашается. Совместные! Цикл ее романов о творчестве предлагает разные «дозы», разные грани «злодейства» в поражающем коктейле под названием талант, сочетания в нем всех степеней таланта с высокими и низменными чувствами, страстями. И делается это все не с кондачка. Дина Рубина как человек и как писатель формировалась в творческой атмосфере: ее консерваторское образование, «семейный континуум» (ее отец и муж — художники). Все это так или иначе обусловливает присутствие в большинстве рубинских текстов персонажей, одоле1 2 Рубина 2009: 322. Рубина 2009: 370. 255 ваемых тягой к художеству: либо творцы, либо люди, страдающие от творческой несостоятельности или обывательски ориентированные на «художество», не будучи способны к творчеству. В метатексте рубинского повествования присутствует и Главный Творец: он «и билеты выдает, и сам же их компостирует»1. В романе «Белая голубка Кордовы» более откровенно, чем прежде, даже с вызовом, автор не просто создает плохого хорошего и талантливого человека, но взрывает устойчивую для культуры парадигму. Вести разговор о действиях главного персонажа романа Захара Кордовина, художника, реставратора, копииста, в регистре «что такое хорошо и что такое плохо» — банально. Куда интереснее рассмотреть причины, как внешние, так и внутренние, способствовавшие рождению такого героя. Время повествования — нулевые годы (точнее — 2003 г.2), хотя в воспоминаниях Захара Кордовина, а также в хитросплетениях, выстраиваемых повествователем, читатель становится свидетелем не только событий более чем полувековой давности (предвоенные годы, блокадный Ленинград, послевоенная Винница, «застойные» годы — время художнической юности героя), но и времен испанского Средневековья. Место — везде: Иерусалим, Испания, Рим, Винница, Ленинград, Москва, Стокгольм, Амстердам. Хронологически фабула романа завязывается в послевоенной Виннице, где у Ритки — Риориты — рождается мальчик, названный в честь деда Захара Мироновича, бывшего офицера НКВД, служившего в иностранном отделе на Литейном, выезжавшего часто в Европу (чем и объясняется его коллекция живописи) и пустившего себе пулю в висок накануне ареста — чтобы спасти семью от уничтожения. Мальчика воспитывает мать и «дед» Сёма, взявший на себя такую миссию, — соперник Захара Мироновича. Хотя завязывается, конечно, всё куда раньше — в Виннице среди «могильных плит старого еврейского кладбища… стоит единственный памятник с выбитым на нем кораблем»3, где покоится дед того деда, энкавэдэшника и коллекционера. «…Прой1 Рубина 2009: 372. Один из персонажей предлагает такую арифметику: дом куплен в 1949, ему уже 54 года, получаем 2003 год [Рубина 2009: 142]). 3 Рубина 2009: 193. 2 256 доха и бандит. И кличка у него была “Испанец”…»1. По ходу развития сюжета выяснится, что этот испанец — потомок испанских евреев, выдворенных из дома указом короля Испании и ставших пиратами, мстящими за безвинно убиенных сородичей. Собственно такого — линейного — изложения событий в романе нет. Сюжет строится кругами, концентрически: разбросанные и время от времени встречаемые детали, как бы сообразуясь со структурой оркестрового сочинения, выглядят музыкальными партиями или лейтмотивами, которые зазвучат в финале-апофеозе — кульминации произведения. Серая папка, которой накрывали бочку с капустой в подвале винницкого дома и которая служила «подстилкой» для любовных схваток подростка Кордовина, — в итоге оказывается семейным наследством — коллекцией деда, собранием уникальных рисунков, впоследствии переданных в библиотеку Иерусалимского университета. Винницкие соседи — сумасшедшие, шлимазлы, эвербутлы — так глубоко вошли в сознание Кордовина, что не мог не родиться из-под кисти молодого художника цикл картин «Иерусалимка» — «вереница персонажей его и маминого детства, над которыми он постоянно работал все студенческие годы, возвращаясь то к одной, то к другой…»2: «Глейзер», «Говночист», «Капитан Рахмил», «Цар! Вкрал! У Пушкина. Жыну!», «Банный день» и др. И именно эти родные лица сумасшедших, а также близких — мамы, деда Сёмы и прочих родственников — приводят Захара к мысли, что «…типов внешности не так уж много… всевышнему довольно быстро прискучила мелкая работа по индивидуальным эскизам, и, наняв скульптора по оснастке, он запустил поточные линии»3. Вот и его уже называют «испанец» (и деда его так же звали — испанец): «Обедать ведешь, испанец… — Почему — испанец? — поинтересовался он. — Типаж…»4, а деда Сёму — «несчастным Иовом»5. «…Как немного, в сущности, типов внешности на земле. <…> …Нет никаких народов… и стран никаких нет, и религий. 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 2 2009: 2009: 2009: 2009: 2009: 333. 365. 487. 367. 402. 257 Есть только люди, вот эти, я с детства их знаю…»1, — не раз посещает эта мысль Кордовина, а уж ему, художнику, копиисту, как никому другому память на лица не изменяет. В юной танцовщице фламенко в Кордове он видит до боли знакомое лицо своей матери, а в нем, Кордовине, Мануэла узнает своего брата. Но самое мистическое — это лицо святого (или пирата, мстителя?) на картине, тоже до сжатия сердца знакомое: «…этот невероятный святой с кортиком, похожий и на меня, и на тебя…»2. Кубок (серебряная рюмка), сбереженный в голодное время ленинградской блокады Жукой, теткой Кордовина, потому как отец ее завещал ей: «…это наш с тобой удел»3, был им, ее племянником, воровски продан в комиссионке, ради амбиции — стать собственником уникального книжного издания, а точнее — не уступить пальму первенства в обладании Плавтом неприятному, но притягательному снобу — Босоте, который в итоге сыграл дьявольскую роль — искусителя и погубителя — в судьбе Захара. На кубке, помнит Захар, были какие-то письмена. Ему, не знавшему в молодости чужих языков, всю жизнь снится и грезится эта надпись, а с нею крепнет чувство вины за утерянный удел, который становится и его уделом. Незадолго до конца жизни Захар случайно находит второй кубок — близнеца, пару того, утерянного. И тут Кордовин, теперь профессор университета, эксперт международного класса, знаток не одного языка, может прочесть ту самую надпись на рюмке: «Князьям изгнания братьям Кордовера Заккарии и Иммануэлю дабы не разлучались во мщении отлил эти два кубка из священной чаши иерусалимской в день отплытия галеона мастер Раймундо Эспиноса»4. «Имя его предков, как дерзкая ящерица, сбрасывало хвосты, петляя меж столетиями, оставляя в дураках врагов и преследователей; сутью же оставалась Кордова, исток и корень, основа, дух, удел: ослепительный свет и черная тень на белой стене, и могучая жажда жизни, и воля к действию, и хладнокровное мужество, и собственное понятие о законе и беззаконии»5. 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 2 2009: 2009: 2009: 2009: 2009: 340–341. 524. 79. 512. 512–513. 258 Вот это — закон и беззаконие — стало собственно концепцией жизни Захара Кордовина, музыкальным ключом, определяющим звучание его поступков, его оценок происходящего в мире. Плотская любовь с Танькой в ранней юности вызывала у него чувство беззакония. Этот свой, собственный кодекс с годами укрепился и стал кордовинским кредо. Подделывать картины незаконно? Нет, с этим Кордовин не согласен: во-первых, сама игра с подделыванием его дразнила, подвигала на создание художнических мифов — провенансов, а во-вторых, люди, в большинстве, так порочны, что не грех их разыграть. Да и не только порочны — жестоки, мир несправедлив, законы придумываются этими же алчными и несправедливыми. «Дед, ты слышишь меня? Ты меня чуешь? Я благословляю тебя тысячу раз со дна этого невежественного, безнравственного и алчного мира!»1; «Скучный бездарный мир копошился, как обычно, издавая гнусную вонь на всю вселенную: очередное заседание Европарламента… забастовка портовых рабочих по всей Франции… серийный маньяк в окрестностях Монако… Серьезные финансовые проблемы Ватикана»2. Лицемерными и столь же порочными видятся Кордовину религиозные деятели — они ведь тоже только люди, но взявшие на себя миссию судить, изгонять, сжигать, убивать. «Эта запекшаяся вечность, где когда-то оживленно и полнокровно существовали три великих религии, замерла, умолкла, обездвижела, осиротела… Дух одной из них витал неслышно над Худерией, по ночам оплакивая давно исчезнувшие тени… Дух второй, изначально рожденной любить, закостенел и облачился в помпезные ризы, выхолостив сам себя настолько, что неоткуда ждать даже капли семени той самой первородной любви. Дух же третьей извратился и остервенел, изрыгая угрозу и рассылая посланников смерти во все пределы мира…»3. Мир, полный обманок, вынуждает Кордовина соответствовать: его мастерская в Иерусалиме представляет собой старый каменный дом, который «за годы приобрел обманчи1 Рубина 2009: 112. Рубина 2009: 137. 3 Рубина 2009:120. 2 259 во-сиротливую внешность то ли сарая, то ли амбара, какую имеют многие здешние дома времен Британского мандата»1. На самом деле внутри этот дом был великолепной мастерской, начиненной всеми нужными и архисовременными средствами для работы художника-реставратора. «…Ветхая калитка на деле была цельнометаллической, но самолично и виртуозно раскрашенной рукою хозяина под деревянную, со змеистыми трещинами по доскам и глазками от спиленных сучьев»2. Повсюду фальшаки и подделки. Даже на святой земле: в Старом городе Иерусалима «хитроумные умельцы лудят и паяют древние монеты времен Второго храма, оправляют в серебряные оклады щепочки от подлинного Святого распятия и старят лоскутья подлинной Туринской плащаницы»3. Есть спрос — появляется и предложение. Подлинность художественного произведения пасует перед сверхсовременной экспертизой; преимущество — в наличии провенанса — легенды, мифа, сопровождающего предмет или рукопись. И на такую потребу откликается Кордовин. «…Какая печаль, что на протяжении человеческой истории исчезли тысячи, сотни тысяч рисунков, картин, рукописей, нот… если б можно было, каким-то образом вывернув время наизнанку, обнаружить их где-нибудь в незаметном сарае, в забытых ящиках, в подвалах библиотек, на чердаках старых домов… Или просто, подумал он, просто воссоздать шедевры, тщательно изучив технологию, по которой работал Мастер, — ведь каждый из них изобретал свою технологию, каждый становился богом самому себе, своим холстам и картонам. Становился богом в своей вселенной, подумал он, а если не богом, то и незачем искусством заниматься…»4. И одним из главных профессиональных дел Кордовин считает создание художнических мифов. «Картина была завершена, и вот уже покрыта слоем лака… но не готова. То есть она могла бы украсить собой любую выставку и стену любого музея… но не была готова зажить подлинной жизнью: еще не при1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 2 2009: 2009: 2009: 2009: 45. 60. 46. 320–321. 260 думана была, не найдена история находки, не выбраны приемные родители, не намечен покупатель. Три-четыре года пройдут, пока усядется живописный слой… Три-четыре года, в течение которых будут выплетаться искусные узоры случайных встреч и любопытных знакомств, вестись переписка с владельцами, осуществляться медленные рокировки на шахматной доске обстоятельств. Плавная паванна, его любимый период сотворения мифа, как микроскопический скол сотворения мира: созревание ситуации, наполнение картины плотью и кровью судьбы. <…> Все еще было у нее, у воздушной красавицы, впереди…»1. По наблюдении — в течение всей своей жизни — Кордовин понял, что «качество живописи никого из западных галеристов и кураторов давно уже не интересует. Искусство сегодня — это политика и бизнес. Интересуют миф, легенда, направление…»2. Захар Кордовин, конечно, художник от Бога, но его дар состоял еще и в умении перевоплощаться в того, другого художника, чьими картинами жаждали обладать люди: «… долгая мучительно-сладостная работа над самой картиной, когда ты не то что погружен в манеру художника, не то что живешь ею, а просто становишься им, этим единственным мастером, с его единственным стилем, его взглядом на свет и предметы, в которых свет этот преломляется, способом держать кисть или мастихин, привычкой работать только в утренние или полуденные часы… — одним словом, когда ты, подобно Всевышнему из космогонической теории каббалы, сжимаешься и умаляешься сам в себе, дабы освободить место рождению новой сущности…»3. А вот деньги его интересовали в последнюю очередь, главное — самому насладиться перевоплощением, второе — посмеяться над человеческой глупостью, а уж «деньги никогда не были тем оселком, за который цеплялась его душа. Разве что великое имя, в чьем отзвуке будет жить толика и его труда?»4. Кордовину, возможно, был уготован иной удел в искусстве. Еще до встречи с Босотой, вынудившим его заняться поддел1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 2 2009: 2009: 2009: 2009: 52. 373. 53. 431. 261 кой, которая привела к гибели единственного друга, Захара не раз «призывали в ряды какой-нибудь группы, потому как известно: в искусстве, как и на поле боя, лучше двигаться “свиньей”. Он неизменно отклонял любое предложение, работы развешивал сам, группируя их отдельно, и прослыл закоренелым единоличником»1. Мучился вопросами: «Золотое сечение искусства? Но тогда — что есть индивидуальность художника? В чем она заключается? И где та грань, за которой ее можно разглядеть?»2. Гибель друга стала пределом в поисках собственной индивидуальности. Отныне весь мир становится единым пространством мести, улицы и повороты — дорогами единого топоса. Где бы ни находился Кордовин, мысли были об одном: «Миновав справа угол Пестеля и Моховой, он с усилием заставил себя повернуть налево, к улочке, ведущей к Храму Гроба Господня; вот еще поворот, и еще один — налево… Не дать снова затащить себя в сторону их с Андрюшей мастерской, то — другое, другое… Сейчас по курсу корабля — лавка Халиля»3. Кордовинская «Иерусалимка» была истерзана и порезана на куски любителями «подлинной живописи». Отныне Захар дает обет — никогда больше не писать картин, потому как нет больше рядом его единомышленника, соратника по цеху, друга Андрея. (Обет был нарушен только раз — почти перед смертью, да и то, написав портрет Пилар, Кордовин «подарил» картину другому автору — своему предку, Саккарию Кордовера.) Всю оставшуюся длинную, зрелую жизнь Захар посвящает мести за друга, поиску исчезнувшего дьявола-искусителя, Босоты. Решение убить, вызревшее по его — кордовинскому — закону, крепнет день ото дня, да и встречающиеся знаки закона укрепляют запланированную миссию: «Он отпрянул… пропуская восьмерых “косталерос”, влачащих на плечах тяжелый помост, на котором в средневековых отблесках огней плыл знаменитый толедский Христос, уронивший с перекладины креста руку в знак подтверждения некой клятвы…»4. Картина, на которой при первом просмотре увиден святой, 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 2 2009: 2009: 2009: 2009: 372. 376. 217. 429–430. 262 монах, в сюжете романа становится главной интригой. Чем дальше, тем больше этот святой удивлял: «Семнадцатый век, неизвестный персонаж… отчего кажется, что ты смотришь на портрет самого себя? На портрет самого себя — в тот день, когда нашел замученного Андрюшу?»1; «…кинжал в рентгенограмме картины? Да плевать на кинжал, какая разница, что художник делает на уровне подмалевка: замышляет одно, а в процессе работы часто выходит другое… Да, но отчего… этот святой глядит с таким странно непреклонным, даже отпетым выражением в глазах?»2; «…святой как святой, обычное дело, расхожая для художника того времени тема. Смиренный молодой человек, черная сутана, истощенный, как после долгого поста, вид. Разве что глаза какие-то несвятые… Однако рентгенограмма показывает в подмалевке совсем другие намерения художника. …Все равно, что мастер сначала решил изобразить Марию Магдалину в период ее бурной молодости, а потом раздумал и поверх подмалевка бросился возводить ей очи горе, всучил в руки молитвенник, а рядом, на приступочек скалы, водрузил череп, дабы сокрушалась о своих грехах»3; «С… мольберта на него неотрывно смотрел этот немыслимый святой — только последний идиот не заметит, какая отпетая у него рожа! Смотрит беспощадно… неумолимо, неотступно!»4. Все становится прозрачным, очевидным, решение вызревает окончательно, когда Кордовин оказывается в Кордове и слышит домашнюю легенду семьи своих, как оказалось, предков. И все хитросплетения, перипетии биографии Захара Кордовина стекаются к этой легенде, рассказанной Мануэлой, в сюжете которой «всегда действовали два благородных рыцаря: дон Мануэль и дон Саккариас. <…> И при всем их благородстве это были изрядные головорезы. <…> Так вот, дон Саккариас, несмотря на то, что братья дали клятву никогда не расставаться во мщении, вернулся один в Кордову, переодетым в сутану монаха, ухитрился пробраться в покои епископа и! …и заколол его! <…> Сутана монаха, заколотый епископ… Зачем, 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 2 2009: 2009: 2009: 2009: 431. 343. 357. 433. 263 вдруг подумал он со странной, неизвестно откуда налетевшей тоской, зачем я отдал его — туда?»1. Картина продана в Ватикан, а по сути — врагу, тому, на которого направлен взгляд «святого», а спрятанный наточенный кинжал скрыт, как показала рентгенограмма, под слоем краски. Только теперь Кордовину стало понятно его предательство, только теперь он осознал цену всем своим провенансам, легендам, кракелюру и проч. И если искать свое место на той самой поточной божьей линии, то он не может не поступить как его дед, спасший не только своих близких, но и коллекцию рисунков кисти гениальных художников, пустив себе пулю в лоб. Захар «читает» историю своей семьи и поступает по ее законам: «И разбираться с Босотой будут не ваши заплечных дел мастера, не ваши ублюдки. Нет, мы не допустим беззакония! Аркадий Викторович, не волнуйтесь, — вы умрете от руки мстителя, использующего закон. А умереть вам уже пришло время: Андрюша заждался…»2. Говорящие знаки в более учащенном ритме стекаются к Кордовину в финале романа и его жизни: брат Мануэлы — сестре: «Понимаешь, иха, есть такие моменты в жизни, когда мужчина сам себе должен стать законом, иначе незачем жить»3. И Библия открыта на странице с эпизодом жертвоприношения Авраама: «Ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня»4. И дежавю, случившееся с Мануэлой: «Мне снилось, что ты гасил горящую пшеницу…. Поезд остановился в степи, ты выскочил, кричал и сбивал огонь своей чуваскеро…»5 — ситуация с дедом накануне самоубийства повторена с предельной точностью. И звучащая во время концерта фламенко песня трогает и «читается» по-своему Кордовиным: «Когда придет моя смерть… / Ко мне слетит на плечо / Белая голубка, / Белая голубка Кордовы…»6. 1 Рубина 2009: 498–499. Рубина 2009: 425. 3 Рубина 2009: 501. 4 Рубина 2009: 509. 5 Рубина 2009: 525. 6 Рубина 2009: 486. 2 264 Белая голубка — тотем Захара Кордовина, по его же словам, а также авторский знак, оставляемый на его шедеврах-подделках, — blanka paloma, в «народе так называют образ Богородицы из городка Росио, недалеко от… <…> …Севильи»1. Голуби стали тотемом Кордовина тоже не случайно — в памяти винницкого детства крепко засел сюжет о Вите-Голубе, шестидесятилетнем подростке, «голубином боге» с его голубятней. А все загадочные мистификации с фамилией Кордовин приводят Захара в испанскую Кордову — город-голубятню, подаривший ему прощальное «пуховое, невесомое, как последний вздох, перо…»2. Захар Кордовин прощается с жизнью сознательно, как уже было в романе Дины Рубиной «Почерк Леонардо». Иерусалимский дом-мастерская Кордовина продолжался садом, в котором, помимо прочего, росли «два гранатовых деревца у самой террасы»3. Зачем упоминает повествователь о гранатах? Может, аллюзия на райский образ-сад, где, как известно, цветет гранат? На память приходит финальный кадр из кинопритчи Тенгиза Абуладзе «Древо желания», где на фоне разрухи, забвения расцветает гранатовое дерево, звучит голос за кадром: откуда приходит в мир красота? куда она уходит? Мануэле, душеприказчице Кордовина, пришлось уничтожить мастерскую, но оставить «гранатовое дерево», что значило «сохранить ценность множества превосходных полотен, которые я (Кордовин) подписал не своим, а чужими знаменитыми именами и которые находятся сейчас в музеях и в частных коллекциях в разных странах. Чтобы их не выкинули на помойку люди — эти жалкие снобы и невежды, ни черта не понимающие в искусстве»4. Роман написан великолепным языком — сочным, колоритным: все рубинские сравнения, метафоры, эпитеты словно бы можно вдыхать, пробовать на вкус, ощущать их объемность и выпуклость. В том, как тиражирует повествователь расхожие прецедентные фразы повседневности (родом из школьного литературного дискурса, фольклора), читателю не может 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 2 2009: 2009: 2009: 2009: 42. 537. 46. 553. 265 не импонировать авторская ирония. А фрагменты, связанные с воссозданием локального текста — Питера ли, Винницы и других локусов, говорят о высоком мастерстве автора: если читатель был покорен Ташкентским текстом, родным для Рубиной, в романе «На солнечной стороне улицы», то здесь, скажем, такой город, как неродная для нее Винница, показан не менее детально, живым и объемным. То, что новый роман Дины Рубиной соткан как мифологический узор, не вызывает сомнений. Очевидно и то, что этот роман — ее новый дом, но дом, архитектура которого воссоздает облик и композицию города как целого1, а имя этому городу — Динабург, как удачно выразился Михаил Юдсон2. Роман содержит все стадии генезиса мифа (или провенанса) и его бытования (прекрасная иллюстрация для научных изысканий в области современной мифологии). И, несмотря на то, что образ главного героя Захара Кордовина выбивается из кодекса главных нравственных критериев современного социума (и даже противоречит ему), читатель, думаю, все же с ним, героем, — так убедительно расставлены акценты на дружбе, верности, красоте, справедливости — основных скрепах кордовинского закона жизни. 1 Или, другими словами, с полной основательностью можно говорить о художественном мире писателя Дины Рубиной. 2 Юдсон М. Вера в Ра, или Новый Динабург. Вести. [Электронный ресурс.] URL: http://dinarubina.com/critique/yudson2007.html 266 Ташкентский текст прозы Дины Рубиной На стекла вечности уже легло Мое дыхание, мое тепло. Запечатлеется на нем узор, Неузнаваемый с недавних пор. Пускай мгновения стекает муть, – Узора милого не зачеркнуть. Осип Мандельштам На протяжении последних десятилетий в литературоведении активно обсуждается проблема локального (городского) текста. Вокруг этой проблемы сформировался лагерь апологетов городского текста и лагерь его противников, несогласных с проблемой как таковой, считающих, что кроме Петербургского текста нет и не может быть иного. Противники приводят в качестве аргумента следующее: В.Н. Топоров, написав о Петербургском тексте, настаивал на его уникальности и не уставал повторять, что никаких других городских текстов в русской литературе не было создано. Но плотину уже прорвало. Один за другим стали появляться локальные тексты русской литературы/культуры. Ташкентский — из этого ряда. Отвечая умозрительным оппонентам, можно сказать, что в случае с городским текстом возможно использовать и другие термины, скажем, лексический слой, сопряженный с городом; городские нарративы; фольклорно-мифологическое сюжетное пространство города; культурная семантика городского пространства; смысл образа города N.; культурные реминисценции в образе города и проч. Все они мало удобны, в чем-то ограниченны. Текст в исконном переводе с латинского — «связь, соединение», потому представляется наиболее удачным обозначением совокупности сюжетов, образов, стереотипов, лексики и проч., связанных с определенным географическим локусом. Ташкент входит в пространство русского дискурса во второй половине XIX в., а «уходит» из собственно официальных русских пределов в конце ХХ в. Этот небольшой, с исторической точки зрения, период, тем не менее, породил определенный фольклорно-литературно-мифологический слой в русской культуре. Угаснет ли репродуктивность Ташкентского текста или нет (скорее, да), перейдет ли он в иную стадию — покажет 269 время. Но зафиксировать его бытование в русской культуре, его разновидности и формы представляется целесообразным. В связи с Ташкентским текстом в русскоязычном культурном пространстве можно выделить несколько уровней его присутствия/бытования: – есть Ташкентский текст, бытующий/бытовавший в русскоязычном дискурсе без географических ограничений; – есть Ташкентский текст эндемический, присутствующий в виде фольклора в литературных произведениях и требующий комментария для непосвященного читателя; – есть Ташкентский текст локально-географический, тиражируемый миграционными процессами (и литературой в том числе). Ташкентский текст в русской литературе ХХ в., как художественной, так и мемуарной, публицистической, нуждается в комментировании ввиду того, что этот город советских и постсоветских времен уникален как билингвальное, бикультурное, биментальное пространство. Если изучение города как текста имеет уже прочную традицию в современной гуманитарии, то текст города как культура пограничья — назревшая проблема. Таким «пограничьем» в русской культуре/литературе был Ташкент. Тексты А. Ахматовой и К. Чуковского, А. Солженицына и Вен. Ерофеева, А. Неверова, Е. Мелетинского, современных авторов — Дины Рубиной, Евгения Абдуллаева и ряда других содержат эндемическую лексику, внутрилокальные и транслокальные стереотипы и сюжеты — что вкупе свидетельствует о наличии Ташкентского текста. Локально-географический Ташкентский текст периода разрушения империи, рубежа XX — XXI вв., тиражируется и благодаря активным миграционным процессам, а также блогам, форумам в интернете (и, конечно же, гастарбайтерам — но это отдельная, пока мало исследованная область фольклора). В подтверждение мысли о том, что концепт Ташкентского текста много шире конкретной географии города, мною был проведен блиц-опрос на наличие/отсутствие Ташкентского текста в русском культурном пространстве. В двух блогах1«Живого журнала» был помещен вопрос: «Ташкент — какие ассоциации, 1 Электронный ресурс. URL: http://nora-shafran.livejournal.com/20419. html; http://miklukho-maklay.livejournal.com/166189.html 270 культурные, исторические, ментальные и проч., возникают тут же?». Ответить предлагалось неташкентцам — в итоге получено более полутора сотни комментариев, подтверждающих наличие Ташкентского текста в русской культуре. Ответы содержали повторяющиеся ассоциации, то есть штампы, что и предполагалось в замысле опроса. Штампы выглядели следующим образом: – как артефакты: арыки, белые штаны, дыня зимняя, казан, косички, лимоны (?), мечеть, нават, острый нож (?); памятник Ленину, который заменили на шар «глобус Ташкента»; пиала, парварда, плов, тюбетейка, урюк (и сушеный), фонтаны, халат; – как проявление ментальных и обрядовых свойств города: поедание плова руками, купание в фонтане, хозяин дома льет гостю на руки воду из кувшина, психологическая черта — хитрость (хитрый взгляд) и проч.; – имена собственные — знаки-символы культурного и исторического пространства города: ансамбль «Ялла», Ахматова, «Господа ташкентцы» Салтыкова-Щедрина, Александр Грищенко (современный писатель, пишущий о Ташкенте), Дина Рубина, Ислам Каримов, генерал-губернатор фон Кауфман, В.Э. Рецептер, А. Солженицын, футбольная команда «Пахтакор», песня «Сияй, Ташкент», песня «Учкудук», К. Симонов, Тезиковка, Черубина, Чирчик, Л.К. Чуковская, А.З. Вулис, «Мастер и Маргарита», Родион Нахапетов, фильм «Влюбленные», журнал «Звезда Востока»; – метео-, био-, гео-особенности: жара («ташкент» как имя нарицательное в значении жара), желтая глина, землетрясение, знойная тишина; необъятное небо, залитое солнцем; солнце; – «институты»: базар, «город хлебный», эвакуация (навет о том, что евреи отсиживались в Ташкенте), чайхана. Многие ответы сопровождались спорами, расширяющими пространство ассоциаций: например, «ташкент» в значении жара1. Блогер пишет, что так говорили прежде, ныне уже не говорят, на что поступили возражения: 1) «…из расхожего речения автоумельцев, починяющих мне печку в авто: тут уже 1 Неоднократно цитированное в текстах Л.К. Чуковской высказывание Анны Ахматовой, склонившейся над больной Л.К.: «…у вас в комнате 100 градусов: 40 ваших и 60 ташкентских» [Чуковская 2007: II, 25]. 271 ташкент должен быть…»; 2) и более компетентное: «Это ассоциация уже вполне себе общерусская. Даже попала в “Словарь коннотативных собственных имен”1, написанный аж в Донецке»; 3) читаю в «Московских сказках» А. Кабакова: «…предложил отдохнуть возле маленького костерка… вообще ташкент будет…»2. Анализ ответов показал, что ассоциативный ряд носит поколенческий характер (и не только — он проиллюстрировал и социально-культурный ценз информантов). В частности, на предложенный такой же вопрос аудитория первокурсников филологического факультета дала нулевой ответ (у половины опрашиваемых не было никаких ассоциаций, у другой половины — лишь одна — «город», и то с неверным административно-географическим уточнением). Таким образом, можно говорить о Ташкентском тексте в русской культуре как уходящем явлении. Пожалуй, этот текст проживет сравнительно недолгую жизнь — благодаря поколениям, так или иначе связанным с советским периодом. И, тем не менее, этот феномен интересен как объект культуры прошлого. Эндемический дискурс Ташкентского текста XX — XXI вв., присутствуя в литературных произведениях, также требует комментирования для непосвященного читателя. «Уходящий» из русской культуры феномен можно позиционировать как genius loci и mentalis loci. Современных культурологов, фольклористов, этнографов, литераторов 2000-х гг. объединяет единый порыв сохранить в исследованиях и художественных текстах образ этого города. Порыв-проект превращается в историкокультурологическую миссию: «заархивировать» культурный пласт города, который физически невосстановим, но будет жить в литературе и исследованиях как документ эпохи. Топоним Ташкент переводится как «каменный город»: было время разбрасывания камней, настало время их собирания. Может быть, «время», сотворив этот странный кульбит — Ташкент ХХ в. — совершило ошибку? И напрасны были хитросплетения и перипетии в жизни людей, трагикомично воссозданные в русской литературе, как прошлой, так и современной, в частности в прозе Дины Рубиной? 1 2 Отин 2006: 350–352. Кабаков 2005: 66. 272 Скрещение двух разных ментальностей, двух культур не всегда приводит к благостным итогам. Они, итоги, очевидны не только в «финале» этого скрещения, но в его истоках. М.Е. Салтыков-Щедрин со свойственным его прозе сарказмом и прозорливостью называет проект «русского Ташкента» цивилизаторским, предвидя все нестыковки, противоречия разных культур. Но таких, как Щедрин, было немного, в основном даже мыслящие, элитные люди России видели в этом проекте благую миссию. Художник В. Верещагин, один из первых участников «русского Ташкента», при виде нравов и мироустройства азиатов, говорил о гуманитарно-социальной необходимости русской миссии: «Новое положение, введенное русскими, делающее почти все должности избирательными, без сомнения, не по вкусу будет деревенским аристократам, зато байгуши (бедняки) вздохнут свободнее...»1. И он же в своих очерках отмечает, что не просто пройдет внедрение русских форм общежития, предстоит побороться: «Из новостей, ходивших на базаре, была одна крупная: именно рассказывали, что эмир Бухарский в Самарканде и готовится воевать с Россиею. Я посмеялся тогда вздору, каким показалось мне это известие, но оно оказалось вскоре, если не совсем справедливым, то близким к тому»2. Верещагин совершенно справедливо показывает благотворность европейского проникновения в быт азиатов, но только нужно ли оно было? «…Матери, жены, дочери среднеазиатских дикарей разве не испытывают медленного, но неотразимого влияния на положение и судьбу кяфирских (“кяфир” — неверный) законов и всех кяфирских порядков? Без сомнения, да, и чтобы не ходить далеко, достаточно послушать осторожные, но горькие жалобы, которые изливает в беседе со мной хозяин моего дома, старик аксакал. “Последние дни приходят!” — говорит он и машет отчаянно рукой. — Что так? — “Да как же! чего же еще ожидать, и жену свою муж не поучи: станешь бить — стращает, что к русским уйдет”»3. Анонимный автор (под псевдонимом Энпе) в журнале «Средняя Азия» начала ХХ в. однозначно выразил официаль1 Верещагин 1883: 75. Верещагин 1883: 85. 3 Верещагин 1883: 52. 2 273 ную точку зрения на «цивилизаторство» Средней Азии: «Бухара (читай: Туркестан. — Э.Ш.) должна быть русской, и в этом я не сомневаюсь»1. Какими выглядели «цивилизаторы» в глазах туземцев? «… Темному народу внушалось, что русские — это даже не люди, а какие-то одноглазые или двухголовые чудовища, чуть не людоеды. <…> …Что русские — удивительные трусы, и что стоит только мусульманскому воинству встретиться с русскими в открытом поле, и русские, как испуганные зайцы, бросятся бежать в разные стороны. <…> Однако ложь азиатских хитрецов быстро обнаружилась: жестокие чудовища оказались добродушными людьми самого обыкновенного вида, только в большинстве русые и сероглазые. Те же люди в бою оказались львами, а не трусливыми зайцами, как их рекомендовали пристрастные ценители русского мужества»2. Так случился «русский Ташкент». Город, который, как говорят нынешние официальные источники Узбекистана, отметил свое 2200-летие, а «русский Ташкент» — всего лишь небольшая фаза в его жизни, а это не одно поколение людей, связавших свою жизнь с Ташкентом, значит — уже история. Ее необходимо собрать, воссоздать, сконцентрировать — хотя бы в таком аспекте, который я назвала Ташкентским текстом в русской культуре. Время Ташкентского текста — прошедшее. Зафиксированный, воссозданный современной литературой, он не только «оплакивает» былой город, уходящий из русской культуры, но и создает языком литературы и фольклора прецедент запоминания, рисует историко-культурологический этюд своеобразной цивилизации, специфического «этноса» — процветавшего и вдруг исчезнувшего. В публицистике (на бумажных и электронных носителях) последнее время встречаются риторические восклицания-вопросы — где он, Ташкентский текст русской культуры? «Подумайте только: ведь добрая половина советской творческой интеллигенции пересидела в Ташкенте (войну пересидела или просто пересидела — в окрестных лагерях), а где он — Таш1 2 Энпе 1910: 112. Лыкошин 1916: 7–8. 274 кентский текст русской литературы? Так что-то, мельком — в мемуарах эвакуированных и этапированных. “Раковый корпус”, написанный по впечатлениям от ташкентского онкодиспансера, не в счет — там нет ташкентских реалий. А ведь какие авансы были выданы этому городу нашей великой словесностью! Ташкент — это же просто русская Утопия. Это и мифический заповедник российской полицейско-бюрократической вольницы в “Господах ташкентцах” Михаила Салтыкова-Щедрина. И рай земной для крестьянского мальчика, едущего туда за хлебом из голодающего Поволжья, в экспрессионистской повести Александра Неверова “Ташкент — город хлебный”…<…> Однако в последние 80 лет никто из отечественных писателей почему-то не разрабатывал всерьез золотоносную ташкентскую жилу»1. Тут же хочется ответить: а Ахматова? а Симонов? а Рецептер? а мемуарная проза о войне? как же нет ташкентских реалий у Солженицына? они есть! О том, что якобы не повезло Ташкенту как объекту, не освоенному русской литературой, пишет и П. Вайль: «Русским Востоком был Кавказ… Мавераннахр вовсе не вошел в русскую художественную традицию. Не успел: слишком поздно началось завоевание Туркестана»2. Восток в лице Кавказа был прославлен в русской литературе писателями — одновременно русскими офицерами, туркестанская же эпопея совпала с разночинским периодом русской литературы, сменившей не только сословную принадлежность, но и тематику, пишет П. Вайль. Безусловно, масштабы у ташкентской темы иные, но, тем не менее, и тема была, и резонанс у нее был немалый, да и страна, где все же сложился Ташкентский текст, другая — по всем параметрам. В нынешнюю эпоху собирания ли камней, или их разбрасывания — как посмотреть? — наблюдается стремление к диалогу многих, имеющих отношение к Ташкенту (как в прошлом, так теперь). Тому свидетельство всевозможные интернет-сообщества, закрытые и открытые, сайты — один из ярких «Письма о Ташкенте» (модератор Е. Скляревский). Их участники безошибочно узнают друг друга по различным эндемическим культурным знакам. Но это, собственно, не Таш1 2 Толстова 2006. Вайль 2007: 394. 275 кентский текст. Ташкентский текст — это те признаки, которые равноправно существуют в культурном пространстве как среди ташкентцев, так и неташкентцев. Самый яркий выразитель (созидатель, реконструктор) Ташкентского текста (в потоке русской литературы — с XIX и по XXI вв.), получившего планетарное звучание, — это проза Дины Рубиной. Сотворив «большекнижный» ташкентский роман «На солнечной стороне улицы» из безымянных голосов — род коллективного фольклорного автора, Дина Рубина выполнила свою историческую миссию (без пафоса не получается). Собственно «ташкентским» в рубинском творчестве является роман «На солнечной стороне улицы». Тем не менее Ташкентский текст cкладывается в объеме всей прозы Дины Рубиной. Условием для возникновения текста Города является рождение и существование некоего «синтетического сверхтекста»1– единообразного и повторяющегося от автора к автору, от произведения к произведению, провоцирующего некие «штампы» в описании Города как в литературе, так и в фольклоре. Говоря о Петербургском тексте, В. Топоров делает акцент на особом значении духовно-культурной сферы: «мифы и предания, дивинации и пророчества, литературные произведения и памятники искусств, философские, социальные и религиозные идеи, фигуры петербургского периода русской истории и литературные персонажи…»2. Во внутренней структуре текста Города важны отношения природы и культуры — их оппозиция, как в случае с Петербургом, а в случае с Ташкентом — в чем-то гармоничное сочетание, в чем-то — «подминание» природы культурой. Если миф о Конце стал сутью Петербургского текста изначально, который как дамоклов меч висит над городом, порождая психологический тип ожидания катастрофы3, то в случае с Ташкентом возникновение текста Города связано не с началом его истории (несравнимо с Петербургом древней), а с его периодом вхождения в Российскую империю в XIX в. и одновременно в русскую словесность. На той стадии Ташкентский текст мар1 Топоров 1995: 275. Топоров 1995: 287–288. 3 Топоров 1995: 295–296. 2 276 кировался как маргинальный локус, теплая ссылка на окраину Империи (среди «ссыльных» имена: А.Ф. Керенский, А.Л. Бенуа, Великий князь Николай Константинович, Черубина де Габриак). Иная стадия Ташкентского текста — ХХ век. Город превращается в спасительный локус в период судьбоносных перипетий уже другой Империи. В экстремальные времена — голода, войны — в Ташкент стекаются народы со всех концов империи (среди знаменитых людей имена: А.А. Ахматова1, Н.Я. Мандельштам, С. Михоэлс, Е.С. Булгакова, Н. Погодин, И. Уткин и др.; мэтры литературоведения: В.М. Жирмунский2, В.Ф. Шишмарев3, Б.С. Мейлах4, Е.М. Мелетинский5, И.З. Серман6), и позже, когда город превращается во всесоюзную стройку после землетрясения 1966 г., становясь в официальных речах символом «дружбы народов», а по сути — в метатексте — Вавилоном. Вот здесь и кроется до времени скрытая интенция Города — грядущей катастрофы. В этой точке метапространства парадигма Ташкентского текста пересекается с Петербургским. «В 90-е годы топос смерти заиграл новыми страхами. “Исламские фундаменталисты”. “Русских бьют”. <…> Эти двадцать лет ташкентцев рассеивало по миру. Город Камней разбрасывал свои камни. Москва, Иерусалим, Питер, НьюЙорк... Ташкент… Камни заговорили. Началось оправдание Города в русской культуре. Порой за пределами Ташкента и России. Как правило, даже без упоминания. Едва ощутимое оправдание Города. Его собственной и уже не принадлежащей ему русской литературой»7. 1 А.А. Ахматова прожила в Ташкенте с ноября 1941 г. по май 1944 г., однако Город не удостоил именем поэта ни одну из своих улиц. Хотя, как сообщают ташкентские информанты, вот уже несколько лет в городе существует небольшой музей Анны Ахматовой. 2 Жирмунский Виктор Максимович (1891–1971) — литературовед. 3 Шишмарев Владимир Федорович (1874–1957) — филолог, переводчик. 4 Мейлах Борис Соломонович (1909–1987) — пушкинист. 5 Мелетинский Елеазар Моисеевич (1918–2005) — литературовед, фольклорист. 6 Серман Илья Зеликович (1913) — литературовед, лермонтовед. 7 Абдуллаев 2001: 74. 277 Во все времена Ташкенту как тексту присуща черта «города хлебного»: «Верно говоришь… в Средней Азии не умрешь, в Средней Азии можно прожить. Сам я там не был, а вот мой друг Тихонов — был. Он говорит: идешь, идешь, видишь — кишлак, а в нем кизяками печку топят, и выпить ничего нет, но жратвы зато много: акыны1, саксаул2… Так он там и питался почти полгода: акынами и саксаулом. И ничего — приехал рыхлый и глаза навыкате…»3. (Ерофеевский рассказчик — Веничка — использует тюркоязычные слова не по назначению: по принципу — «каждое лыко в строку», раз они связаны с Азией.); «Вышел на улицу Мишка, мужики Ташкент поминают. Хлеб очень дешевый там, только добраться трудно»4; «Опять мужики на улице говорили про Ташкент. Кружились в мыслях около невиданного, слушали про сады виноградные, дразнили себя пшеницей двух сортов: поливной и богарной. Цены невысокие. Рай! <…> Как в сказке стоял перед ним Ташкент — город хлебный. Сады виноградные — во! Шутя можно урюку карман нарвать»5; «Цветущая земля… обеспечивала и несколько большую сытость по сравнению с большинством других мест. В городе было пять или шесть богатых и пестрых восточных базаров, где можно было за деньги купить все, начиная с бесконечных и разнообразных ароматных овощей и фруктов, всевозможных окороков, плова, баранины вплоть до засекреченных билетов, заготовленных для школьных экзаменов. Фрукты в сезон стоили дешево и очень нас поддерживали»6. Переплет романа «На солнечной стороне улицы» (2006), выполненный художником А. Ходаковским, входит в пространство сюжета романа: начало «текста» переплета — заставка: девочка-подросток смотрит в оконный глинобитный проем (как такового окна еще или уже нет), читатель/зритель видит (в отличие, возможно, от персонажа видеоряда) только голу1 Акын – поэт-певец-импровизатор. Саксаул – кустарниковое растение пустыни – пища для верблюдов. 3 Ерофеев 1990: 81. 4 Неверов 1961: 5. 5 Неверов 1961: 9. 6 Мелетинский 1998: 512. 2 278 бое небо; концовка — окно (вполне фешенебельное) закрыто: сквозь стекла видно также только небо. И никто уже в окно не смотрит. В такой видеоантитезе, обрамляющей романный текст, заложена интрига. В чем же она? (Вернусь к этой теме в финале главы.) Ташкентский текст Рубиной сосредоточен на особой цивилизации — другой: это тип культуры, сформированной смешением языков, этносов, обрядов, ментальностей; такое утопически благостное сосуществование в какой-то период истории (ХХ в.) было, но прошло; и это не только ностальгия, не только воспоминания о детстве, юности, как воспринимает роман «На солнечной стороне улицы» критика: «…роман… написан для тех, кто еще помнит свое детство»1. Это роман о существовавшей не так давно нации — ташкентцах, проживавших в городе-мифе, затонувшей ныне Атлантиде. Ташкент как географический объект существовал и существует — и на карте, и в реальности. Но это не тот город, который воссоздает Рубина. Ушедший Ташкент воспроизведен памятью не только автора, но и бывших жителей города, как субъективированных, так и существующих в рубинском повествовании в виде безымянных голосов — неким фольклорным автором2. «…С детства варясь в нашем Вавилоне этносов, наций и народностей, мы знали, что человек может быть другим, более того: что он всегда другой, но надо, надо сосуществовать, раз некуда друг от друга деться, что важнее всего — сосуществовать, что жизнь на этом стоит! И вот это самое умение понимать другого, как выяснилось в экстремальных условиях самых разных эмиграций, и есть — одно из лучших качеств блядской человеческой натуры… То, что на Западе называ1 Копылова 2006. Современная фольклористика рассматривает фольклор не только как явление коллективной, массовой культуры. Фольклорный дискурс обнаруживается в границах микрокоммуникативного или персонального дискурса: между мужем и женой, друзьями [Богданов 2001: 60], фольклор может носить индивидуальный характер – в виде нарратива, связанного с событием, местом, к которым имеют отношение многие люди, но поразному позиционирующие себя. Таким образом, к коллективности как хрестоматийной черте фольклора примыкает антитетичное понятие – индивидуальное начало, но тиражированное, клишированное, а потому узнаваемое. 2 279 ют безликим словом “толерантность”... Да не толерантность это, а — вынужденное милосердие, просто-напросто смирение своего “я”, — когда понимаешь, что ты не лучше другого, а он — не выше тебя...»1. Семиотически этот симбиоз культур выражен Рубиной «ташкентским антуражем»: «рядом с рюмочкой — пиала»2. «В ранней юности (а прошла она в Ташкенте, городе, по многим причинам, особом…), варясь в крепком бульоне, настоянном на ста четырех национальностях, я была глубоко убеждена, что чувства, реакции и этические посылы всех на свете людей соответствуют более или менее единому образу. Сейчас я понимаю, что Ташкент был уменьшенной моделью того самого плавильного котла, о котором так тоскуют американские и израильские социологи»3 («Майн пиджак ин вайсе клетка»). «Я училась в обычном классе обычной ташкентской средней школы. Он был ковчегообразен…»4. Этапы, складывающие ташкентский Вавилон, разбросаны по роману не в хронологии — она автору неважна: этапы эти представлены в виде фольклорного дискурса, который напоминает альбом с фотографиями. Они как бы разбросаны в беспорядке, кучками сложены снимки разных лет: и родные лица, и с трудом вспоминаемые. «И нет мне дела до хронологии этого повествования, ибо не существует хронологии в том океане, куда навеки погружаются города…»5. Вот они, эти «фотографии» Вавилона разных лет, — Ташкент, отразивший экстремальные вехи империи: тридцатые годы, военную пору, послевоенную, всесоюзную стройку после землетрясения 1966 г.: – «По соседним дворам у нас много лепилось раскулаченных русских, старообрядцев, были татары, армяне, евреи… Во время войны эвакуированные жили даже в мечети…»6; – «Представьте, что на некий азиатский город сваливается миллион вшивого, беглого оборванного люда… На вокзал 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 6 Рубина 2 2006: 366. 2006: 339. 2002б: 144. 2002б: 145. 2006: 228. 2006: 32. 280 прибывают эшелоны за эшелонами, город уже не принимает. <…> И все-таки горемычные толпы вываливались из поездов и оставались на привокзальной площади, расстилали одеяла на земле и садились, рассаживались целыми семьями в пыли под солнцем. Ступить уже было негде… »1; – «…Решили сделать из землетрясения… апофеоз дружбы народов, не понимая, что настоящая дружба народов — это и было то золотое равновесие, которое являл старый Ташкент, великий Ноев ковчег, в котором ругались, любились, дрались, воровали и праздновали — каждый свои, а заодно и чужие — праздники, и плыл он себе в океане вечности, рассекая волны; плыл, неся на своих палубах всю свою живность, всех чистых и нечистых, равных и неравных, а главное, всех, кому в нем было хорошо и кто не помышлял покинуть его, палимые зноем, палубы…»2. Официальный Ташкент советского бытия был признан символом «дружбы народов» — ее пик пришелся на землетрясение 1966 г. Народная молва придает этому природному катаклизму коннотацию в виде раздутого повода для всесоюзной стройки, предпринятой Ш. Рашидовым3. От текста к тексту (и не только писателя Дины Рубиной) упоминаемый катаклизм — ташкентское землетрясение 1966 г. — превратил этот хронотоп в сигнатуру Ташкентского текста ХХ в. — тиражируемую, узнаваемую. Где бы — далеко за пределами Ташкента — ни находилась героиня Рубиной, она, сопоставляя, сравнивая, вспоминает о Ташкенте и о том самом землетрясении — например, в рассказе «Душегубица» (2007): «Между тем ташкентская почва копила в недрах горючую ярость, которая взыграла апрельской ночью 1966 года несколькими мощными толчками, не слишком заботясь о вла1 Рубина 2006: 25–26. Рубина 2006: 178. 3 Рашидов Шараф Рашидович (1917–1983) – глава Узбекской ССР, Первый секретарь КП Узбекистана с 1959 г. до конца жизни, писатель – об этой составляющей личности политичекого деятеля есть упоминание в рассказе Рубиной «Цыганка»: «…он (чиновник) хотел считаться и писателем на всякий случай, в подражание тогда еще здравствующему хозяину республики. Тот тоже писал книги. На востоке это бывает: сатрапы сочиняют поэмы…» [Рубина 2007а: 74]. 2 281 дельцах глиняных особнячков, вроде того, в каком обитала Берта. Не то чтобы дом рухнул вдруг кому-то на головы, нет. Правда, одна стена треснула и пошла вбок, и соседи подперли ее двумя толстыми бревнами. Но этот катаклизм так удачно взбодрил вялую “партейную” тему дружбы народов, что весь центр города на всякий случай пустили под бульдозер. Над палатками развевались транспаранты с именами городов — Новосибирск! Челябинск! Ростов! Гигантская стройка развернулась в пыли среди ревущих экскаваторов. Исполинычинары, под кронами которых столетиями клубилась лиловая тень, падали с грохотом на пустырях, где вчера еще вдоль улиц струился тихий лепет арыков»1. Многонациональный Ташкент после каждого исторического, политического и природного катаклизма расширял свой этнический состав. В Ташкенте, наряду с другими народами, проживали в большом количестве и евреи. Согласно статистике, во время Второй мировой войны в Узбекистане нашли кров 200 тысяч эвакуированных евреев2, почти все — в Ташкенте. К этому количеству присоединялись местные евреи, как ашкеназийские, так и бухарские. «И уж евреи в Ташкенте были всех мастей: ашкеназские, бухарские, горские, крымские. Моя подружка, “крымчачка” Хана, спросила однажды: “А вы какие евреи? Русские?” — “Да, а что?” — “Вы русские, а мы настоящие”. — “Так и мы не игрушечные!” — я никогда не оставляла за кем-то последнее слово»3. Как и по всей стране (СССР), в Узбекистане подспудно присутствовала антисемитская парадигма (правда, несколько смягченная, как и все прочие, не прописанные, но функционирующие социальные механизмы). На руководящие должности, в число передовиков могли претендовать лица титульной национальности, то есть узбеки, но уж никак не евреи: «Только вот герой на “Узбекфильме” не должен быть евреем…»4. Узбечке/узбеку зеленая улица — таковы были (возмож1 Рубина 2007а: 62–63. Вексельман 2005. 3 Рубина 2006: 175. 4 Рубина 2000: 238. 2 282 но, и остались) хитросплетения «национальной политики» на Востоке, поэтому нечего героине-еврейке, автору сценария («Камера наезжает!..»), соваться со своими авторскими амбициями: «А то, что Анжелла — первая женщина-режиссер-узбечка! <…> Правда, она татарка…»1, — то есть имеет право, а ты — не узбечка — не имеешь. Таков национальный алгоритм Ташкента (да и, собственно, национальной политики в советских республиках). Евреи торговали газводой — расхожий стереотип Средней Азии: у большинства ташкентцев послевоенные воспоминания связаны с такой деталью, как вывезенная неизвестно откуда тележка с газводой, а «…за этими лотками сидели еврейские старики, причем одного типа, причем парой, он и она?.. — Да-да, точно: она, одетая в какие-то шматы, и поверх белый фартук, обычно отпускала. Он молча сидел на табурете чуть в стороне… — Сейчас бы их назвали еврейской мафией… — Тогда тоже изгалялись кто как мог…»2. Поэтому рубинская героиня, слушая рассказы своего учителя о библейских персонажах, ассоциирует их с этими персонифицированными тележками: «…он… долго рассказывал не только о библейских казнях… Вера не запомнила всю эту вереницу людей с простыми именами продавцов газводы: Исаак, Яков, Сара, Ривка, Лия…»3. Алгоритм «каждый-знай-свое-место» становится «генетическим» национальным комплексом, всплывающим из глубин подсознания героя «На солнечной стороне улицы» Лёни Волошина: узнав вместе с Верой о ее «высоком» происхождении, он шутя произносит: «А мне-то, мне-то как везет: то баронесса, то русская дворянка… Ты, случаем, не вышлешь меня в черту оседлости?»4. Город не раз в Ташкентском тексте (не только рубинском) сравнивается с Вавилоном — многоголосым, шумным, дружным; но в архетипе Вавилона заложено грядущее разрушение: 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 2 2000: 2006: 2006: 2006: 247. 91–92. 287. 406. 283 «…Ташкент постепенно пустел…»1; «…мы часа два сидели… перебирая Ташкент, как четки, нащупывая друзей, знакомых, соседей… Я говорила — как все-таки они, наши ташкентцы, не теряются нигде! А он исправлял меня — да не ташкентцы, не просто, не Сызрань какая-нибудь, не Кинешма… — “колониальные белые”! — это же особый тип людей, всегда готовых к неизведанному, гибких, покладистых к обстоятельствам, и — рисковых… <…> И, в отличие от таких же бакинцев-тбилисцев-ереванцев… каким русским языком они говорят, а?.. А все потому, что город буквально кишел странными пришельцами: какими-то нищими полуживыми дворянами, белогвардейскими китайцами, сиделыми по лагерям профессорами… Ё-моё! Как вспомнишь сейчас — кого у нас только не было! Не-е-ет, эти “колониальные белые” с детства жизнью обкатаны, — как вот море камешек катает…»2; «…нас, бывших ташкентцев, по всему свету разбросано немало, — может, вам отдельный роман наговорить, роман своей жизни»3; «Вот живешь ты у себя в Солт-Лейк-Сити лет эдак тридцать, а снится тебе ночами Шейхантаур, сине-лазурный орнамент на мавзолее шейха Хавенди Тохура… кладбище, мечеть»4; «…эта выставка — некий рубеж не только твоей жизни. Это свидетельство конца такой вот странной цивилизации, которая короткое время по ряду сошедшихся причин существовала в некоем месте, в Средней Азии… И исчезла! Была — и нет ее…»5; «…особо-то слезы лить по нашей рухнувшей вавилонской башне смысла я не вижу. Ну, жили и жили… Город как город…»6. Из фольклорного нарратива: «Узбеки относились к русским с уважением. Вспоминаю, как молодая узбечка-молочница очень привязалась к моей маме, любила ее, доверяла ей свои тайны, иногда они вместе плакали или радовались, угощали друг друга. Уже в 1993 г. в июльскую жару я ехала в трамвае. Уже начинались всякие неурядицы. Трамвай остановился надолго: не было тока. 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 6 Рубина 2 2006: 2006: 2006: 2006: 2006: 2006: 356. 365–366. 29. 30. 393. 362. 284 И одна седая узбечка закричала во все горло: “Что? Допрыгались? Русских выгнали? Евреев выгнали? Скоро будем ездить на арбе, на ишаках! Так нам и надо”. Никто не возразил. Все тягостно молчали» (инф.: Валентина Л.). Тоска по прежнему Дому, по родному городу, — свойство иммигрантского дискурса, утверждают исследователи устных нарративов; идеализированный в сознании город ассоциируется с царством мертвых1. В рубинском Ташкентском тексте, безусловно, также присутствует этот мотив. Но все-таки этот Город (в отличие от других «малых родин») феноменален в «ностальгической географии»: породив в русскоязычной культуре именно Ташкентский текст (благодаря особому геополитическому статусу, климатическим особенностям, месту пересечения многих «путей»: торговых, культурных, исторических), Город создал особое, неповторимое, не вписывающееся ни в какой типологический ряд ни бывших советских столиц, ни собственно узбекских городов, пространство. Мировая мифология бесконечно перетасовывает такие космогонические архетипы, как дерево, глина, солнце, вода, однако каждая цивилизация, каждая культура приобретает свой неповторимый облик, «выстраивает из них новую последовательность»2. Эклектичный топос, вобравший в себя элементы разных эпох, стилей, идеологем, этнотипов, — все вкупе соседствовало в топонимике Ташкента (как официальной, так и фольклорной), в архитектуре, в ментальности ташкентцев. Болгарские огороды (микрорайон), Корейский базар, Карасу, где изначально поселилась корейская диаспора — депортированные с Дальнего Востока корейцы, Греческий городок. «– Иисус был грек! — утверждал он. — Почему? — удивлялись мы все, ибо уверены были, что Иисус, конечно же, был русским»3. Эти этнотопонимы сохранили былую, хотя и недолгую, историю города. «Жили на нашей улице и узбеки»4, — без иро1 Еленевская 2005: I, 309. Рубина 2006: 421. 3 Рубина 2006: 427. 4 Рубина 2006: 176. 2 285 нии сообщает рассказчик, однако такой «месседж» воспринимается комично — речь-то идет об узбекском городе. Из фольклорного нарратива: «Ташкент — город интернациональный. Когда я заманивал Сашу погостить у меня, то обещал ей: я познакомлю тебя с моими друзьями — Мишей Джалаляном, Левоном Авакяном, Тиграном Петросяном... — А узбеки в вашем городе есть?.. В Ташкенте жило много корейцев и татар. Много греков. Когда в Греции власть захватили “черные полковники”, Советский Союз принял множество политэмигрантов, которых разместили в Ташкенте, видимо, по причине “теплолюбивости”. После переписи населения в 1978 г. я узнал, что в Ташкенте среди тысяч, сотен и десятков людей живет один француз. Я ему до сих пор почему-то сочувствую»1. А соседство имен из колониальной истории с советскими именами и символами тоже не редкость в «доперестроечном» Ташкенте: Тезиковка2 и Сквер Революции, Переушка3 и улица Карла Маркса. Глинобитные постройки, улицы в ширину одной арбы — соседствовали с монументальными площадями и дворцами советско-брежневского стиля. «Вера никак не могла привыкнуть к этому прогулочному 1 Кагаров 2000. Тезиковка – географический район Ташкента: от фамилии легендарного негоцианта И. Тезикова (ни в одном энциклопедическом справочнике советской поры нет информации об этой личности, хотя устно существует). 3 Переушка – фольклорное название переулка, изначально – Первушка, по имени И. Первушина: «В 1866 г. отпрыск солидной московской купеческой семьи – в то время совсем молодой Иван Иванович Первушин – получил от отца доверенность на ведение дел в Туркестанском крае. Он начал с устройства мануфактурных магазинов в Ташкенте, запустил здесь шелкомотальную и табачную фабрики, построил первый винзавод. <…> Уже в первый год ташкентская фирма “И.А. Первушин и сыновья” вложила в торговлю и промышленность Туркестана более миллиона золотых рублей. <…> И.И. Первушину принадлежит также честь называться первым спонсором разведки и эксплуатации полезных ископаемых Туркестана. <…> Большие прибыли позволили Первушиным вкладывать средства и в строительство общественных сооружений. До наших дней сохранилось историческое здание военного госпиталя… Нынешний кафедральный собор в Ташкенте (в прошлом госпитальная церковь св. Пантелеймона) тоже был воздвигнут торговой фирмой Первушиных на частные пожертвования» [Голендер 1997в]. 2 286 стилю, к небольшим залам (почти комнатам!) западных галерей, и втайне тосковала по огромным площадям выставочного зала Союза художников на проспекте Ленина. В городе Ташкенте»1. «…Улицы послевоенного глинобитного Ташкента… — глинобитные извилины безумного лабиринта, порождение неизбывного беженства, смиренная деятельность по изготовлению библейских кирпичей… <…> какие лепили в египетском рабстве мои гораздо более далекие предки. Вот он, вечный рецепт кирпичей изгнания: смешиваем глину с соломой и формуем смесь руками. Руками, господа, руками…»2. Все локусы Ташкента, присутствующие в рубинской прозе (в основном в романе «На солнечной стороне улицы»), приведены ниже — с комментариями рубинских персонажей, а также собственно фольклорными, собранными из эмигрантских нарративов автором (Э.Ш.), что соответствует приему и стилистике романа «На солнечной стороне улицы». Они сопоставлены с официальными комментариями, дабы отразить соответствие или несоответствие топонимики реальной жизни места. В.Н. Топоров выражает сожаление, что о Городе, породившем Текст, — о Петербурге — судили по художественным произведениям и пренебрегали свидетельствами бытового характера, а именно фольклором3. Алгоритм реконструкции Ташкентского текста в следующей главе таков: «солирующая» рубинская проза в фольклорном «хоре», состоящем из ташкентцев, как иммигрантов, так и современных жителей, литераторов, оставивших воспоминания о Городе. 1 Рубина 2006: 394. Рубина 2006: 47. 3 Топоров 1995: 271. 2 287 Локусы Ташкента и его предместий1 Я погуляю, городом хранимый, И очень скоро с мраморных проспектов Сверну на улочки, а каждую звать именем Кого-то из не живших здесь поэтов, По набережным высокопоставленным, По паркам разных рангов и разрядов. Язвительный мой город смехом сдавленным Предъявит то, что мне сейчас не надо б: Кинотеатрик бывший, упраздненный, А то — скамейку в негативном парке…2 Михаил Книжник О фантомности Города, ушедшего из реальной жизни, — чему, собственно и посвящен роман «На солнечной стороне улицы», говорит следующее откровение рубинского рассказчика: «…я попросила отца нарисовать план Ташкента по памяти. <…> С тех пор каждого знакомого ташкентца я просила рисовать по памяти план города. И каждый рисовал нечто совершенно отличное от реально существовавшей карты. Что это значит? Страшно подумать! Что каждый жил в каком-то своем городе? В каком-то своем, вымышленном, нереальном городе? Так может быть, его вообще никогда не существовало?»3. Все локусы города в ташкентском тексте Рубиной представлены фольклорным многоголосьем: нарративами, байками, анекдотами, собранными писателем, а также воспроизведенными из собственных ташкентских запасников памяти4. В этой главе к рубинским топо-нарративам присовокуплены и собственно фольклорные, услышанные от информантов5 эмигрантского континуума. 1 Описываются только локусы Города, упомянутые в прозе Дины Рубиной. 2 Книжник 1991: 39. 3 Рубина 2006: 422–423. 4 Похожее исследование проделали фольклористы М. Еленевская и Л. Фиалкова, воспроизведя «русский текст» в пределах Израиля (см.: Еленевская 2005). 5 Список информантов приводится в конце книги (большинство фольклорных нарративов собрано посредством опроса через электронную почту, поэтому стиль изложения часто носит характерные черты письменной речи). 288 Сквер Революции*1 Сквер был разбит еще в XIX в. и назывался Контантиновским, в честь брата Александра II Константина Николаевича; по смерти генерал-губернатора К.П. фон Кауфмана — назывался Кауфманским, в центре сквера на постаменте был водружен памятник в его честь. Затем сквер стал называться Сквером революции, на прежнем генерал-губернаторском постаменте сначала был водружен «монумент “Освобожденный Труд”» в виде серпа и молота, затем он сгорел, на его место встал монумент в честь 10-летия Октября: на остатки прежнего кауфманского постамента встала шестигранная стела, украшенная флажком; в 1930 г. на том же месте был установлен гипсовый бюст Ленина, с этих пор одно «туловище» сменяло другое: Ленин уступил место Сталину, Сталин — стеле со словами из Программы КПСС — на двух языках, прозванной в народе «русско-узбекским словарем», ей на смену была водружена голова Карла Маркса2 и, наконец, в эпоху независимого Узбекистана на том же «намоленном», или насиженном, былыми кумирами месте взвился на коне новый кумир — Амир Темур3 (в Европе его называют Тамерлан). Полуторавековые платаны, которые собственно и образовывали с XIX в. сам парк — сквер, были безжалостно вырублены, чтобы нового отца восточных народов было видно со всех сторон — сквера как такового теперь нет. Фольклорные нарративы: «Помню, там были все эти советские “сакральные” слова: мир, братство, равенство и проч. на двух языках. Все говорили: встретимся у словаря» (инф.: Татьяна М.); «Там, где некогда развевалась борода Карла Маркса, ныне зри1 Звездочкой отмечены топонимы, которых нет в современном Ташкенте. 2 Перипетиям со «скверными» памятниками в Ташкенте посвящен замечательный очерк Михаила Книжника (см.: Книжник 2007). 3 «Можно посочувствовать народу, которому навязывают такого национального героя. <…> Человек эталонной жестокости, изуверской жестокости, даже для этих лет, выпадающий из средних нормативов. <…> Памятники из человеческих голов, человеческих тел, живых людей, проложенные раствором, кирпичами, стенки, которые он из них создавал…» (Басовская Н. Тамерлан: Природа зла. [Электронный ресурс.] URL: http://www.echo.msk.ru/programs/vsetak/523454-echo/) 289 теля радуют исполинские яйца коня Сахибкирана1. Памятник дважды переделывали: то Темур слишком откровенно хромой, одна нога короче, то задница (читай: яйца) коня кому-то из отцов города показалась слишком большой. С тех пор выражение “назначить свидание под яйцами” стало крылатым, поскольку все мы ab ovo» (инф.: Медора Б.); «После того как поставили памятник Темуру, он стал символом власти. Приходит как-то мой коллега, прослушав радиоинсценировку для детей, и говорит, что о Темуре вещают как об отце: если печаль — приди к Темуру, радость — поделись с Темуром. — Интересно, как бы к этому отнесся сам Темур, — говорит он. — Видимо, теперь прежних пионеров сменят новые тЕмуровцы, — ответила я» (инф.: Инна Ф.); «В семидесятые говорили: “В какую сторону на Сквере ветер дует? — “Туда, куда смотрит борода Карла Маркса”» (инф.: Медора Б.); «…голову Карла Маркса, которая была в центре Сквера, называли не иначе как “чучело”» (инф.: Ольга Е.); «В среде архитекторов о памятнике на Сквере говорили: “Карл Маркс вылетел в трубу”» (инф.: Zimmermann). Текст Рубиной, созданный по законам фольклора: «...с отобранными отрядами русской армии появился здесь генерал Кауфман, расселся станом — в Тур-ке-стане, проложил улицы, назвал их именами русских писателей...»2. «…Опираясь на картину “Сквер Революции”, где человек в черном драповом пальто с яростной улыбкой дирижирует рабочими, снимающими с постамента статую Сталина, а маленькие, как бы еще не выросшие, памятники Карлу Марксу и конному Тамерлану, в густой траве выстроенные — как дети на прогулке — в затылок друг другу, только лишь дожидаются своего череда вырасти до постамента. Картина почему-то называлась “Обнимитесь, миллионы!”»3. «Маргоша-блядь, по кличке Стовосьмая4, жила на черда1 Сахибкиран – почетное прозвище, присвоенное средневековыми учеными и поэтами Чингизхану, Темуру и шейбаниду Абдулле-хану. Слово сахибкиран состоит из двух: сахиб (господин) и киран (соединение), что значит сближение двух небесных светил в одном знаке зодиака. 2 Рубина 2006: 259. 3 Рубина 2006: 328. 4 Комментарий к слову «стовосьмая» см. в главе «Лексико-семиотиче- 290 ках. Каждый вечер спускалась во двор и тащилась в Сквер. Часам к семи к “шестиграннику” стекались студенты, стиляги и алкаши»1. «…Идти пешком через Сквер, мимо дурацкой, как клубень картошки, отсеченной башки Карла Маркса на высокой мраморной колонне, мимо длинных скамеек, на которых поодиночке и по двое-трое сидят “стовосьмые”, перекинув ногу на ногу так, чтобы видна была цифра, нарисованная на подошве туфли…»2. «Скверная» девочка — это слово в Ташкентском тексте имело дополнительную коннотацию. «Сквер Революции!.. скверреволюции... просто — Сквер, на Сквере, вокруг Сквера... Пойдем на Сквер?.. <…> …в те годы его (сквер) осенял основоположник марксизма, вернее, его голова, посаженная на высоченный столп… Карлстолпник — сзади его грива и как бы относимая ветром в сторону разбойная борода должны были символизировать горящий факел — многие годы озарял парады разношерстных ташкентских блядей»3. «…На Сквере, через который пролегают дороги по всему земному шару, можно увидеть много интересных людей»4. Анекдот: «Собрал великий Амир Темур узбекских мореплавателей и отправился в дальний поход — открывать новые земли. День плывут отважные узбеки, два… вдруг страшный шторм накрывает корабль: смывает карты, приборы. Но храбрецы выжили. И собрал их Амир и сказал: “Тому, кто первым увидит землю и спасет нас, отдам пол-Ташкента и дочь в жены”. И встали по бортам узбеки и начали всматриваться вдаль. И показалось одному, что увидел он далекий берег. И бросился он в ночи с криком: “Амир-ака, Амир-ака!!!” С тех пор земля эта называется АМЕРИКА!» (инф.: Алевтина Ш.). Ташкентские битломаны рубежа 1960–70-х гг., получив ложную весть о смерти Пола Маккартни, прошли с траурной процессией по скверу Революции. Вот как об этом сообщается в фольклорном нарративе: «Было это году в 70-м: в тогдашнем ская составляющая Ташкентского текста». 1 Рубина 2006: 217. 2 Рубина 2006: 229. 3 Рубина 2006: 279–280. 4 Рубина 2006: 230. 291 Сквере почти каждый день собиралась молодежь. В то время было популярно движение хиппи — мы изображали из себя хиппоманов: длинные волосы — незачесанные, немытые; джинсы — пошарпанные, затертые, дырявые, ходили, напевая песни Битлз и Роллингстонс. Сквер как бы делился в своих музыкальных пристрастиях на “битломанов” и “роллингоманов”. Когда прошла утка о том, что в автомобильной катастрофе разбился Пол Маккартни, мы, как истинные битломаны, организовали на Сквере день памяти Пола: сшили траурные повязки, достали портреты Пола, обрамили их в траур и сели на пятачке возле “Снежка” — понурые, грустные. Нас было человек 25. Собралась толпа, милиция — никто не понимал, что происходит. Через какое-то время милиция, вполне миролюбиво, так как мы не нарушали общественного спокойствия, попросила нас разойтись. При этом к нам подошли “роллингоманы” выразить соболезнование. Мы отправились всей гурьбой по тогдашней улице Энгельса в ОДО — там была танцплощадка: ансамбль в солидарность с нами исполнил 5–6 вещей Маккартни и даже Дженис Джоплин1… Спустя неделю выяснилось, что Маккартни жив-здоров» (инф.: Борис А.). «Сквер для меня — это прежде всего кафе “Буратино”, куранты2 — место свиданий, деловых встреч, да, пожалуй, просто встреч, так как было какое-то беспечное время, это сегодня все при деле, а тогда мы шли “тусоваться”, правда, раньше этого слова не было, наверное, говорили “конторить”, ну и стартовой площадкой часто были куранты» (инф.: Нора А.). «На сквере было когда-то кафе “Снежок”. Мама покупала мне 50 г сливочного мороженого, а себе и папе 150 и 200 г. Его подава1 Дженис Джоплин (1943–1970) – американская исполнительница блюзов, психоделического рока; участница движения хиппи. 2 История ташкентских курантов: «Куранты привез в Ташкент старшина медицинской службы, санинструктор Александр Абрамович Айзенштадт. Доставил он их из города Алленштайн в Восточной Пруссии – ныне город Ольштин в Польше. Он был взят советскими войсками в январе 45-го. <…> Абрамыч лично погрузил в ящики механизм часов, вагон с которыми и прибыл в Ташкент в феврале 46-го. Куранты пущены 9 мая 1947 г. Для этого была развернута стройка башни… Многие десятилетия Айзенштадт следил за работой курантов, чистил механизм. Они остановились всего однажды – 26 апреля 1966 г. После ремонтновосстановительных работ самой башни, продолжавшихся полгода, куранты были пущены вновь» (инф.: Павел Ш.). (В энциклопедических справочниках этой информации нет.) 292 ли в блестящих металлических вазочках. Мороженое было в форме шариков. Оно очень быстро таяло под нагретой беспощадной летнеташкентской жарой. Через 2 минуты после подачи мороженого его можно было просто пить из той же вазочки! Еще там подавали молочный коктейль по 10 копеек. Но это было уже немного буржуазно. Или — или! Когда мне было 17 лет, “Снежок” еще существовал. Там или в Бурре (“Буратино”) мы иногда, получив стипендию, перед началом сеанса в летней “Хиве” или “Фестивале” грешили одной бутылочкой «Советского» полусладкого на шесть человек. Брали еще шоколадку одну на всех. Стаканы были граненые. Но это было неважно. Мы чувствовали, что приобщились к какой-то совершенно шикарной жизни. Салфеток там никогда не подавали. И мы, выходя из кафе, вытирали пальцы, испачканные растаявшим шоколадом, сорванными здесь же, с клумбы, “заячьими ушками”. Это были невероятно мягкие и пушистые листья, зеленоватые и покрытые белыми ворсинками (научное название осталось неизвестным). Рядом было еще и кафе “Дружба”. Но это отдельная планета — так же, как и Куранты, летние кинотеатры и вообще вся улица Пролетарская... до самого Музея искусств! Я же там выросла! В Парке Горького я сиську у мамы сосала! Потом, уже в 4–5 лет, чтобы папе не очень мешать в настольный теннис на деньги резаться, была абонирована на все аттракционы. От кривозеркальщика до хозяина качелей-лодочек-каруселей — все знали меня как облупленную» (инф.: Zimmermann). Монумент «Мужество» Современный дискурс официоза: «Символика памятника проста. Гигантские бронзовые фигуры женщины с ребенком на руках и мужчины в экспрессивном рывке перед зигзагообразной трещиной в земле выражают собой стойкость жителей Ташкента перед мощью грозной подземной стихии. Трещина ведет к расколотому надвое кубу из черного лабрадора с выгравированной датой “26 апреля 1966 г.” и циферблатом остановившихся часов. Стрелки всех городских механических часов в то памятное утро остановились в 5 часов 23 минуты. А фоном для скульптуры служат 14 стел с рельефами, изображающими восстановление столицы Узбекистана»1. Фольклорно-рубинский текст: «В центре города поставили бронзовый памятник: мускулистый мужчина в тюбетейке, 1 Голендер. 293 а за его спиной — женщина с ребенком. Он протягивает руку жестом, как бы ограждающим от беды, но слишком уж похожим на отталкивающий. Сей монумент тут же прозвали: “Памятник отцу-алиментщику”»1. Тезиковка* «Тезиковка — один из самых известных “блошиных рынков” бывшего Советского Союза, second hand, прославившийся на всю страну. Имя ее обессмертил лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын, написавший когда-то: “На Тезиковке можно купить все”. Считается, что название этой столичной окраины пошло от фамилии русского купца Тезикова, вокруг дачи которого и разросся этот знаменитый рынок. Но, с другой стороны, следует обратить внимание на то, что таджикских купцов на востоке называли именно “тезиками”. Поэтому относительно того, кто и кому “дал название” еще говорить рано2. <…> Благодаря своей уникальной самоорганизации, Тезиковка стала одним из уникальнейших явлений общественной жизни как Ташкента, так и Средней Азии и всего Советского Союза. Она приобрела собственную мифологию и все проистекающие из нее культы. <…> …Тезиковка была выше одного только бартерного обмена и человечнее, чем “бездушные” аналоги Запада. Для ташкентцев она являлась главным информационным агентством и трибуной, дающей реальную свободу слова. Небольшое государство в государстве, граждане которого до сих пор хранят ему верность в своей памяти. <…> Увы, но в XXI в. Тезиковка вступить не смогла…<…> Ее больше нет. Она осталась лишь как факт истории. Слава ее передается большей частью как устное предание»3. «На “Тезиковку” ходил десятый трамвай, по воскресеньям набитый людьми до того предела, когда сдавленная чужими локтями и спинами грудная клетка выдыхает задушенный стон… Так добирались до знаменитой толкучки на Тезиковой даче. Вроде был такой купец до революции — Тезиков, вроде 1 Рубина 2006: 178. «Мой взрослый сын недавно признался: в детстве он считал, что название “Тезиковка” происходит от узбекского “тез-тез”, то есть “быстробыстро”, по аналогии с забегаловками “бистро”» (инф.: Zimmermann). 3 Печейкин. 2 294 дача у него была в тех местах. Хотя, как считала Катя, — незавидное место для дачи: кривые глинобитные улочки, обшарпанные дувалы, железнодорожные пути… Словом, “Тезиковка”… <…> Торговали здесь всем, кроме мамы родной…»1. «…Бессмертного, как сама Тезиковка, как Сквер…»2. «Еду в такси, разговариваю с шофером о старом Ташкенте, о купце Тезикове. Был такой купец, до сих пор есть место в городе, которое называют Тезиковка. Там раньше было его загородное имение, а сейчас — птичий базар, барахолка, алкаши, преступный элемент. Шофер оказался с тем купцом в дальнем родстве, он говорит: — …И церковь он построил, и госпиталь. Да весь Ленинский район построил Тезиков»3. «Мамочка, мамочка… — глухо бормотала, пристанывала Катя. — Знала бы ты, что я дедовы часы продаю…»4 — такой душещипательный спектакль устраивает героиня, чувствуя и зная, как купить публику Тезиковки. «Голубые купола» Текст Рубиной: «Мы сидели на террасе недавно выстроенного кафе “Голубые купола”. Это было странное сооружение, натужный плод современных архитектурных веяний с традиционно восточными элементами, например резьбой по ганчу. Венчали это ханское великолепие три и вправду голубых купола, глянцевито блестевших под солнцем»5. Официальный дискурс: «…кафе. Построено в 1970… Ядром композиции является зимний зал, к которому примыкают вестибюли и вспомогательные помещения. Дополняет композицию летний зал-терраса. Купола на плоском покрытии по утончающимся кверху столбам создают своеобразную объемно-пространственную структуру здания. В отделке здания использованы традиционные декоративные приемы народной архитектуры»6. «Глас народа»: «“Голубые купола” мы ласково называли “Го1 Рубина 2006: 100–101. Рубина 2006: 161. 3 Книжник 2003: 126. 4 Рубина 2006: 103. 5 Рубина 2000: 228. 6 Ташкент 1984: 88. 2 295 лубчики”. Поначалу, в 1970-е гг., это было вполне приличное заведение: со швейцаром, официантками. Получив стипендию, мы шли “отмечать” чего-нибудь, повод всегда находился. Вкуснее, чем там, нигде нельзя было поесть ни шашлыка, ни плова, ни самсы — заказывали все. Плюс фирменный салат из редьки — “Ташкент” и, само собой, бутылка шампанского. Когда я уезжала из Ташкента в 1990-х гг., “Голубчики” превратились в банальную столовку, с самообслуживанием, специфическим запахом — то ли туалета, то ли школьной столовой. О той былой “крутизне” напоминают только купола»1 (инф.: Zimmermann). Улица Карла Маркса* Текст Рубиной: «…даже прогуляться “по Карла Марла” не с кем...»2. «Вдоль местного Бродвея, — в прошлом улицы Карла Маркса, ныне же с длинным непроизносимым названием, — обосновались продавцы всяческой кустарщины для туристов, и — одна из центральных магистралей в прошлом, — из-за пестроты керамики и красноватого блеска медной утвари, из-за натянутых по обочинам оранжевых брезентовых шатров общепита она сразу приобрела вид барахолки»3. Документальный дискурс: На улице Карла Маркса во время войны поселилась Анна Ахматова — в общежитии Управления по делам искусств, д. 74. Ныне нет ни «Карла Маркса», ни «Бродвея» — безлюдное и бездеревное пространство (полувековые платаны вырублены так же, как и в сквере). Сквер Гагарина* Фольклорно-рубинский текст: «…памятнику — Юрию Гагарину в одноименном сквере — сочинили эпиграмму: “Тебе, Ташкент, Москвой подарен огромный хрен, на ём — Гагарин”»5. «Вдруг в арке двора появилась мама, у нее было странное 1 Удивительные метаморфозы претерпевает одно и то же место: в 2011 г. те самые «Голубые купола» стали закрытым заведением, куда попасть можно по специальной клубной карте и где цены, по свидетельвам очевидцев, «зашкаливают». 2 Рубина 2006: 47. 3 Рубина 2006: 424–425. 4 Голендер 2005а: 65. 5 Рубина 2006: 178. 296 торжественное выражение лица. Она подошла к нам и сказала: — Знаете, дети, что сегодня произошло? Сегодня человек полетел в космос!»1. Фольклор — анекдот: «– Ота! Руслар космосга кетди! — Ҳаммасими? — Й ўқ! Иккита. — У! Онайни сики!» (– Отец! Русские в космос полетели! — Все? — Нет! Двое! — …следует обсценная лексика) (инф.: Алевтина Ш.). Даже не знающий узбекского языка и не говорящий на нем способен в пространстве Ташкентского текста и понять и передать этот анекдот. «…Целоваться под Гагариным — популярное времяпрепровождение молодежи» (инф.: Zimmermann). Салар Текст Рубиной: «…перейдешь по деревянному мосту через Салар, тут тебе сразу и толкучка…»2. «И вряд ли дорогое украшение могло у него сохраниться. В военное-то время? Когда он, беспризорный жил под мостом, на Саларе?»3. Фольклорная песня: Есть в Ташкенте речушка Салар, Она шумно и быстро течет. А на той стороне плановая, Утешенье в ней каждый найдет. План закуришь и горе забудешь, Потихонечку песню споешь, А на той стороне плановая, Там любой развлеченье найдет (инф.: Нора А.). Чиланзар (район Ташкента) Текст Рубиной: «Окно комнаты выходило на дорогу, круто обегавшую островок старинного мусульманского кладбища. Говорили, что здесь похоронен какой-то святой невысоко1 Рубина 2006: 222–223. Рубина 2006: 101. 3 Рубина 2006: 306. 2 297 го ранга. При строительстве жилого квартала дорога должна была накрыть собой и выгладить три-четыре древние могилы, но старцы ближайшей махалли отвоевали у горсовета покой для святых костей»1. «Стоп, ведь это изложение по картине — “Охотники на привале”? Кто-то лежит, кто-то чешет в затылке? Нет, другая эпоха, другие лица, другой климат — прочь, мусорное видение пятого класса школы номер сто семьдесят пять Чиланзарского района города Ташкента!..» («Последний кабан из лесов Понтеведра»)2. «Кирпичная кладка типовых домов жилмассива Чиланзар не давала глазу особо веселиться…»3. «…Маки в развалинах саманных домишек на окраине бурно разрастающегося жилого массива Чиланзар»4. «Мы свободно подворовывали дыни и арбузы с ближайшей бахчи на окраине Чиланзара…»5. Фольклорный нарратив: «Хорошо помню, как у нас на Чиланзаре под открытым небом, на улице Гагарина, выступали поэты: Евтушенко, Рождественский, Вознесенский — это было в тот год, когда был опубликован в журнале “Москва” роман “Мастер и Маргарита”6, я была в 10 классе; это были тогдашние наши кумиры: мы знали десятки стихов этих поэтов наизусть» (инф.: Инна Ф.). «Центр Ташкента — что за ЦУМом — называли Царское село, район вдоль Пушкинской — Дворянское гнездо, а Чиланзар — ночлежкой» (инф.: Роза С.). «А Чиланзар — зеленые заросли… Чиланзарская шпана, чиланзарский выговор. История была в Москве в общаге на Рязанке. Мы с Шурой выпивали с аспирантами. Была там и небезызвестная А.В. с физфака. (Сейчас самая крутая квартирная маклерша Мо1 Рубина 2006: 44. Рубина 2000а: 56. 3 Рубина 2000а: 151. 4 Рубина 2006: 213. 5 Рубина 2006: 214. 6 Роман М.А. Булгакова был «открыт» ташкентским литературоведом А.З. Вулисом и благодаря его стараниям напечатан в журнале «Москва» за 1966 г. № 11. См.: [Кумок 2000]. 2 298 сквы. Ее беру в свидетели.) Так аспиранты мне и говорят, мол, ты, Лена, русская, сразу слышно, чисто говоришь, а Александр-то узбек! У него выговор специфический. Ну, стала я им, неграмотным, объяснять, что такое чиланзарско-актепинский фольклор. Да куда им там, неискушенным, объяснишь разве? Ведь это целый “культурно-гастрономически-наркомано-публицистическивенерически-панибратский” пласт. Чтобы так говорить, нужно родиться и вырасти на Ак-тепе или в крайнем случае на Фархадском1. 1–2–5 кварталы говорили помягче как-то. А на 20–25 кварталы (там жило много людей с Кашгарки) наслаивался мягкий одесский флер. Чиланзар — это целая страна. На его территории были даже свои пионерские лагеря!» (инф.: Zimmermann). Алайский базар Визитная карточка города. Фольклорный текст: «На Алайский непременно заходили все гости Ташкента. Однажды, зайдя на базар купить горячих лепешек, мы встретили тут Аллу Пугачеву и долго ходили за ней по рядам. Продавцы узнавали эстрадную звезду, несмотря на то, что она была в скромном костюме и куталась в платок. Ей предлагали взять все бесплатно, а она не верила и постоянно оглядывалась на своего гида, спрашивая, правда ли можно съесть целый персик на пробу. А гид был занят тем, что отгонял зевак, указывая на наше провинциальное бескультурье: “Что, Пугачеву не видели!”. <…> Сегодня Алайский базар, помещенный под пластиковые навесы с помпезными арками, стал больше известен двухэтажным павильоном дорогих ювелирных изделий и многочисленными, но редко работающими пунктами обмена валюты, возле которых снуют шустрые перекупщики “черного рынка”»2. (Текст Рубиной, посвященный Алайскому базару, приводится в комментариях к ташкентским базарам ниже.) Бешагач (Локус Ташкента с прилегающей улицей Байнал-Минал и парком «ЦПКиО им. Ленинского комсомола» и находящимся на его территории Комсомольским озером.) 1 Ак-тепе, Фархадский – локусы Чиланзара, большого, как говорили, «европейского» района Ташкента. 2 Курбанова 2006. 299 Художественное училище им. Бенькова*1, мясомкомбинат, Бешагачский базар — все вместе создавало некий оксюморонный колорит, воспроизведенный героиней романа — художницей Верой Щегловой. Из рубинского дискурса: «Тот еще запашок сопровождал годы учения в альма матер. Но он и закалил обоняние: крутая смесь запахов висела в классе — краски, скипидар, пыльные драпировки, пряная животная вонь из ворот мясокомбината...»2. «Летом катались на лодке по Комсомольскому озеру. Стасик сбрасывал рубашку и садился на весла, а она сидела напротив… набрасывала его великолепный торс…»3. «Запросы у обоих были мизерные… пирожки с требухой по пять копеек (их каждый день часам к пяти вывозили на тележке к воротам мясокомбината)…»4. «Глас народа»: «Чем было для Вас Комсомольское озеро? — Всем. Там прошла вся моя жизнь. Меня туда приносили грудным ребенком. Туда я ходила вплоть до пенсионного возраста. Купались, загорали, играли в волейбол. Дружили, общались. Одни уезжали, другие умирали. Пришел мой черед уехать. Теперь вот узнаю, что того, прежнего, парка нет. Да и с озером делают что-то коммерческое, показное. Ну что ж. Начнется у озера чья-то другая жизнь. Видимо, справедливо. Тот Ташкент, тот парк с Комсомольским озером прожил свое. Ушло поколение — кто уехал, скорее очень многие уехали. Потому и многое умирает естественной смертью. Другое дело, зачем так беспощадно все уничтожать?» (инф.: Инна Ф.). «Бешагач — единственное место в городе, где в определенный час продавали пирожки «ухо-горло-нос» («письки-сиськи-хвост») 1 Беньков Павел Петрович (1879–1949) – художник, многие годы проживший в Средней Азии; выпускник Петербургской Академии художеств, известен прежде всего как один из основателей современного изобразительного искусства Узбекистана. «Имя П.П. Бенькова было присвоено Республиканскому художественному училищу в Ташкенте… Однако с обретением Узбекистаном независимости начались попытки переосмысления советских канонов в отношении истории искусства республики, и имя Бенькова почему-то оказалось лишним. На официальном уровне художник стал странной фигурой умолчания – училище переименовано, улицы его имени в Самарканде тоже больше не существует» (Беньков 2009: 9–10). 2 Рубина 2006: 71. 3 Рубина 2006: 72. 4 Рубина 2006: 72. 300 по 5 копеек, надо было прийти пораньше, так как очередь выстраивалась» (инф.: Роза С.). «…Все-таки изначально эти самые пирожки стоили 4 копейки1 и продавались возле мясокомбината…» (инф.: Борис А.). «Этот район — Комсомольского озера, улицы Байнал-Минал и проч. — знаменателен для меня тем пешеходным мостом через канал, соединяющим парк Комсомольского озера с улицей Чиланзарской, в конце которой находилось две студии — “Узкинохроника” и “Узбекфильм”. Мой отец в 1960-е гг. работал на студии документальных фильмов и был завзятым пешеходом по этому мосту, который вел к чайхане и магазинчику, где продавались среди прочего и горячительные напитки. В обеденный перерыв в чайхане отдыхали режиссеры, операторы и прочие сотрудники киностудий, которые и прозвали этот мост “Аничкиным мостом” — в честь моего отца. Говорили, что есть два аналогичных моста: один в Ленинграде — Аничков, другой в Ташкенте — Аничкин» (инф.: Борис А.). Бричмулла, Чимган Текст Рубиной: «…выбравшись из машины где-нибудь в предгорьях Чимгана, расставляли этюдники и писали до захода солнца…»2. «…Дело происходит на импровизированном концерте эстрадной песни, на танцплощадке дома отдыха “Бричмулла”, в горах Чимгана…»3. «…Он продолжал сочинять стихи, писать на них музыку и исполнять эти песни под гитару на разных слетах и фестивалях в горах Чимгана» («Камера наезжает!..»)4. Литературно-фольклорный текст: Песня С. Никитина, слова Д. Сухарева: 1 В интернет-опросе произошел виртуальный спор (в духе восточного «базара»): третий информант, Zimmermann, настаивает, что эти пирожки стоили 3 коп., – она помнит, как, учась в 6-м классе, четыре одноклассника скидывались по 10 коп. и отправляли одного мальчика за пирожками: ему и на троллейбус хватало, и привозил он всем по три пирожка. 2 Рубина 2006: 86. 3 Рубина 2006: 225. 4 Рубина 2006: 224. 301 Сладостpастная отpава — золотая Бpичмулла, Где чинаpа пpитулилась под скалою, под скалою Пpо тебя жужжит над ухом вечная пчела: Бpичмулла, Бpичмуллы, Бpичмулле, Бpичмуллу, Бpичмуллою. <…> И Чимган освещает доpогу мою И безумно пpекpасен собою… Госпитальный базар*, Фархадский базар Современный официальный дискурс: «Мирабадский дехканский базар (бывш. “Госпитальный”). Один из центральных базаров города Ташкента. В середине XIX в. на территории Среднеазиатского региона (Туркестанского военного округа) происходят военные действия, и тогда же в районе теперешнего местоположения Мирабадского базара для лечения больных формируется госпиталь для лечения солдат. Отсюда и происходит прежнее название рынка “Госпитальный”. К этому времени относится и основание нынешнего Никольского собора, на сегодняшний день главного в Центральной Азии. И, возможно, в это время уходит история основания этого рынка…»1. Текст Рубиной: «Проехав “Тезиковку”, вокзал, район Госпитального рынка…»2. «Да… базары моего детства… — Шейхантаурский, Фархадский, Госпитальный, Туркменский…»3. Фольклорно-литературный нарратив: «О фронте и превратностях войны напоминали инвалиды и бесконечные гадатели и гадалки, сидящие в ряд около Госпитального базара. Я хорошо помню слепого (потом как-то выяснилось, что он вполне зрячий) с попугаем, вынимавшим билетики. Гадали все больше о пропавших без вести, и одна из гадалок все время рисовала кружочек на песке, дескать, попал в окружение. Клиенты гадалок верили им беззаветно. Группы инвалидов перегораживали тротуар у входа на базар и требовали на водку. “Не пройди, товарищ!..” — звучало довольно угрожающе»4; 1 Лопатко. Рубина 2006: 108. 3 Рубина 2006: 239. 4 Мелетинский 1998: 512. 2 302 «И.С. Николаев1 мне рассказывал: проезжал кортеж с бельгийской принцессой мимо Фархадского базара. Она велела остановить машину: “Очень вкусно пахнет. Что это?” — “Это шашлык”. — “Я хочу его попробовать”. — “Что Вы, Ваше величество, мы сейчас приедем в резиденцию, Вас прекрасно обслужат!” — “Нет, остановите. Я хочу именно здесь”. Базарком2 забегал. Принцессу обслужили по высшему ранжиру на базаре, у ворот» (инф.: Валентина Л.). Дом знаний* Текст Рубиной: «Вера! Живо в Дом знаний! Сегодня выступает Юлий Ким!»3. «Глас народа»: «Хокиму Ташкента в 1994 г. не понравилось, что в центре города торчат афиши на русском языке, и Дом знаний ликвидировали, русских лекторов выгнали и сделали из него “Центр Духовности и Просветительства” (“Маъданият ва Марифат”) исключительно на узбекском языке. Народ туда перестал ходить, выручка упала, бюджетные средства быстро кончились… <…> Здание… в начале 1999 г. торжественно преподнесли… как “подарок русской культуре — новое (!) здание русского театра”. Но зал-то (и сцена) у Дома знаний проектировались как кино-лекционный (а не театральный) зал. Поэтому и сцена неглубокая, и кулисы не те, и акустика не совсем соответствует, и зал без всяких там галерок, партеров, лож и амфитеатров — голые ряды, как в кинотеатре. Но и то хорошо (могли ведь и совсем не дать)»4. «Дом знаний был оплотом Просвещения. Со своим будущим мужем я встретилась именно там, на лекции в Доме знаний. Содержание одной помню как сейчас. Лектор был полный идиот: древние греки были маленького роста и ели много чеснока, а изображения атлетов говорят об их идеальных представлениях о человеческой фигуре и т. п. чушь! В Доме знаний выступали 1 Николаев Ипполит Семенович (1926–2006) – в 1970 гг. чиновник одного из подразделений Совета министров УзССР, в 80 гг. – проректор по науке Узбекского республиканского педагогического института русского языка и литературы (УзРПИРЯиЛ). 2 Базарком – директор рынка. 3 Рубина 2006: 58. 4 Электронный ресурс. URL: http://forum.ferghana.ru/viewtopic 303 А. Дольский, группа “Последний шанс”. Там читались лекции для абитуриентов по всем предметам и всего за 1 р. 20 коп. Там я впервые посмотрела “В джазе только девушки”. И вообще, тетя Люся Сильченко — директор Дома знаний — была настоящей энтузиасткой, как и директор кинотеатра “Пионер”. В такое застойное время они умудрялись нам что-то показать!» (инф.: Zimmermann). Кинотеатр «30 лет комсомола»* Текст Рубиной: «Приземистое старое здание кинотеатра ХХХ лет комсомола» — здесь играла Комиссаржевская. А жила где-то недалеко, на улице Самаркандской… Каждое поколение смотрело здесь свои фильмы. На долю нашего выпали “Фантомас”, “Лимонадный Джо”, “Амаркорд” и “Искатели приключений” — как сладко, сквозь слезы, целовалось на последнем ряду, когда эти классные ребята навеки опускали на морское дно тело убитой Летиции в скафандре...»1. «Глас народа»: «…снесли кинотеатр “30 лет ВЛКСМ”, в здании которого когда-то выступала Комиссаржевская. На его месте теперь пустырь»2. Культурологический дискурс: «Ей (Комиссаржевской) был предоставлен самый лучший зрительный зал Ташкента в только что открытом Общественном собрании на Садовой улице (ныне ул. Узбекистон овози). Архитектор И.А. Маркевич реконструировал для Общественного собрания бывший частный дом известных хлопкопромышленников братьев Вадьяевых. Это было то самое здание, которое старые ташкентцы называли “Тридцаткой” — по имени кинотеатра “Тридцать лет комсомола”, функционировавшего здесь в послевоенные годы. Прямоугольный театральный зал с балконом и небольшой сценой вмещал 500 человек, еще около 200 зрителей можно было разместить на приставных стульях. С задней стороны и сбоку к залу примыкали одноэтажные фойе. Орнаментальные и изобразительные детали в стиле “модерн” украшали все помещения как снаружи, так и внутри, даже подвесной деревянный потолок был с резьбой. Кованые крылатые шары на фасаде, затейливые решетки, барельефы, полуовалы оконных 1 2 Рубина 2006: 427. Электронный ресурс. URL: http://forum.ferghana.ru/viewtopic 304 проемов с фигурными вычурными рамами, высокое парадное крыльцо — все это придавало Общественному собранию праздничный вид, весьма характерный для архитектуры модерна. <…> Не нашлось спонсора для реставрации руин знаменитой “Тридцатки” — великолепного образца архитектуры стиля “модерн” в Ташкенте, на сцене которого она (Комиссаржевская) дала свой последний спектакль»1. ОДО*2 Текст Рубиной: «…в ОДО, в Окружном Доме Офицеров, трижды в неделю работала танцплощадка — в среду, в субботу и в воскресенье, с 9 утра до позднего вечера… <…> …А по вечерам у входа в парк играл духовой оркестр ОДО. Обстановка была страшно романтичная: звездное, прекрасное ташкентское небо, все напоено влюбленностью…»3. «…Картина — “Танцы в ОДО” — помимо неуловимо и необъяснимо звучащей музыки, являла публике все эти лица, выглядывающие из-за плеча, повернутые в профиль, с закушенной в зубах сигаретой, оскаленные в азартном усилии выделывания коленца»4. «…Такое шикарное обхождение она только в заграничных фильмах видела, в летнем кинотеатре, в ОДО»5. Официальный дискурс: «Первоначальное название — Дом Красной Армии…<…> ОДО формирует и направляет в войска агитационно-пропагандистские и культурно-художественные бригады… Ансамбль ОДО — памятник архитектуры XIX — начала XX в. Главный корпус построен в 1885 г.»6. «Глас народа»: «Мои однокурсницы любили ходить на танцы в ОДО. Очень культурно. Военные офицеры вежливы, предупредительны. Никогда не будешь “стоять в сторонке”. И проводят до дому без всяких притязаний. Никаких эксцессов и драк» (инф.: Валентина Л.). 1 Голендер 2005в: 62–65. Ныне «Кино олами» / «Мир кино» (по-узбекски олам – мир, вселенная). 3 Рубина 2006: 124. 4 Рубина 2006: 57. 5 Рубина 2006: 99. 6 Ташкент 1984: 234. 2 305 Парк Тельмана* Текст Рубиной: «По ночам он (Роберто Фрунсо — городской юродивый-диссидент) слушал “Би-Би-Си”, “Голос Америки”…<…> Потом направлялся в парк Тельмана, где в “Яме” — знаменитой пивнухе… собирались алкаши, криминалы, студенты, прогуливавшие лекции, — и там громогласно проводил политинформацию»1. «Глас народа»: «Парк им. Тельмана... Вырубили все кусты (рядом каримовская трасса2). Убрали практически все кафе. Весь парк закатали в бетон. Там, где обычно останавливался Лунапарк, — какая-то бетонная лужа»3. «Некогда ТашМИ4 был известен среди мединститутов, а в городе и подавно. <…> Новый учебный год… Друзья хотели вместе хихикать на занятиях, на лекциях исподтишка бить туру ладьей и сбегать в парк Тельмана пить пиво, парочки не хотели расставаться и днем»5. Республиканская библиотека им. А. Навои* (в повседневности — Публичка) Текст Рубиной: «В “Публичке” лекция о западноевропейской музыке конца XIX века…»6. «Длинный глубокий зал Ташкентской Республиканской библиотеки напоминал протестантский собор — высокие потолки, высокие притолоки массивных резных дверей, высо1 Рубина 2006: 218. «О правительственной трассе. Каждое утро около 10 и каждый вечер около 8 Папа проезжает через центр – весь маршрут затрудняюсь проследить, но известная мне часть проходит из Дурмени по улице Пушкина по направлению к Белому дому. И дважды в день на всех центральных улицах парализуется полностью движение, вплоть до того, что пассажиров не выпускают из метро, эти станции поезда проезжают без остановок, а пешеходов менты просят пока постоять – ближе к стенам домов. Тем, кто, мчась утром в такси на работу, попадает в такую искусственную пробку, – опоздание гарантировано: сотни машин вынуждены стоять в ожидании 12, 20, 25 минут, а их водители дружно возносят к небесам проклятья...» (инф.: Медора Б.). 3 Электронный ресурс. URL: http://forum.ferghana.ru/viewtopic 4 Ташкентский медицинский институт. 5 Книжник 2003: 117. 6 Рубина 2006: 58. 2 306 ко расположенные окна. В церковной тишине за длинными деревянными столами сидели под лампами посетители всех возрастов…»1. «Глас народа»: «Снесли здание Публичной библиотеки им. Навои2 на Красной площади — пока там просто какие-то кучи»3. Памятник Ленину*4 Ташкентская центральная площадь, называемая в народе Красной, носила до мустакиллика имя Ленина. На ней стоял памятник — былому носителю имени. Памятник демонтировали. Постамент оставили. На него водрузили шар. Вероятно, земной. На шаре — одна страна — само собой, Узбекистан. Вспоминается учитель из фильма Тенгиза Абуладзе «Древо желания»: «Дети! Помните! На свете есть только одна Грузия. И то ваша!» (вполне благие намерения, патриотические). Однако этот «шар» зажил своей мифологической жизнью: в народе его стали называть памятником курту5. Текст Рубиной: «Когда расширяли Аллею парадов, местную Красную площадь, мой роддом снесли и поставили на этом месте памятник Ленину. Потом… свежие ветра политических перемен смели и памятник, а на пьедестале установили большой стеклянный шар — ташкентцы, естественно, съязвили: “Ленин снес яичко!”»6. «Глас народа»: «В одном из ташкентских театров игрался капустник: сценки, не связанные общим сюжетом, были объединены местом действия: Древняя, представьте себе, Греция. Хитоны, пеплумы, хламиды. Издевки на темы политики, причем даже не очень тонкие. Это пришлось как раз на время, когда снесли памятник Гоголю возле бывшего гастронома “Москва”, 1 Рубина 2006: 67. Навои Алишер (1441–1501) – узбекский поэт, мыслитель, государственный деятель. 3 Электронный ресурс. URL: http://forum.ferghana.ru/viewtopic 4 Дина Рубина вообще неравнодушна к памятникам Ленину, точнее, к их абсурдистско-комическому существованию – см. главу «Путешествие из Израиля в Москву и предместья (российский топос)». 5 Комментарий к слову курт см. в главе «Лексико-семиотическая составляющая Ташкентского текста». 6 Рубина 2006: 173. 2 307 пышно расширяли улицы, прокладывали новые проспекты, превращая Ташкент в имперский город, снесли, увы, часовенку Великого князя возле его же дворца, известную нашему поколению как всеми любимая пельменная в центре, примеривались сносить памятник Пушкину1, была катавасия с театром Горького, оставшимся без помещения, а новое даже еще не светило, реконструировали Госпитальный базар, накрыв его чудовищным зеленым куполом (отчего резко упала выручка у продавцов свежего мяса) и т. д. Из диалога капустника: “Выше паруса, аргонавты! Подплываем к Элладе! Смотрите, как она переменилась и похорошела за время нашего отсутствия! Новый мудрый правитель вводит множество усовершенствований, он строит огромные площади! — И переоборудует театры в базары... — А что это за огромный глобус в центре острова? Какой странный глобус — на нем одна только наша Эллада... — Да, греки удивительный народ! Только вот зачем они снесли памятник Еврипиду? Он-то им чем не угодил? Этак они, глядишь, и до Гомера доберутся! — Да нет, что ты, не может быть, чтобы добрались до Гомера! — А я тебя уверяю, они все могут — это же греки!..”» (инф.: Медора Б.). «Постамент2 долго пустовал, я помню, были даже конкурсы на то, что установить взамен. Как это часто бывает, они ничем не завершились, а на пьедестале теперь стоит шар, разделенный какой-то координатной сеткой, с изображением карты республики. Некоторые называют этот памятник “глобус Узбекистана”»3, или «чупа-чупс» (инф.: Нора А.). 1 В Ташкенте в середине 1990-х сносили памятники русским писателям, оставили одного Пушкина, по этому поводу ходил анекдот: «Почему не сносят Пушкина? Потому что он араБ Петра Великого!». 2 Гранитный постамент на центральной площади Ташкента, с которого в 1991 г. демонтировали памятник В.И. Ленину и установили бронзовый глобус с картой Узбекистана, получил статус общенационального символа. Согласно постановлению, изданному Исламом Каримовым 4 февраля 2006 г., памятник на площади Независимости вместе с присоединенной к нему скульптурой «Счастливой матери» названы Монументом независимости и гуманизма. Отныне к его подножию будут возлагаться цветы в дни государственных праздников и во время официальных визитов в Узбекистан иностранных делегаций и глав зарубежных стран ([Электронный ресурс.] URL: http://news.ferghana.ru/detail. php?id=4225). 3 Кагаров 2000. 308 Кинотеатр «Молодая гвардия»* Текст Рубиной: «…Семипалый завел ее в кинотеатр “Молодая гвардия”, где в тот день крутили фильм “Путь в высшее общество”… <…> Статная, в черном, переливающемся блестками платье с открытыми плечами, певица пела какой-то романс, складывая створками ладони в умоляющем жесте и пытаясь удержать на полном лице выражение одухотворенного страдания… <…> После романса та исполнила несколько известных песен, время от времени протягивая руку в сторону какого-нибудь мужчины, напевая: “Сашка — сорванец, голубоглазый удалец…”»1. Кашгарка* Жилой квартал — махалля2 старого Ташкента, название происходит от географического места Кашгар, переселенцы откуда основали этот район города. Официальный дискурс: «В 1867 г. в Кашгар[ке] поселился русский художник В. Верещагин, приглашенный Туркестанским генерал-губернатором для создания Туркестанского этнографического альбома. Здесь он написал картину “Опиумоеды”… Кашгар[ка] находилась в эпицентре ташкентского землетрясения 1966 г., была сильно разрушена»3. Текст Рубиной: «Целыми неделями я жила у бабушки с дедом, в одном из тупиков Кашгарки»4. «Его саманный домишко на Кашгарке растрясло довольно забавным и удачным образом: одна стена дома целиком выпала на улицу, явив всем желающим бесплатный уличный театр»5. «Глас народа»: «На Кашгарке в былые времена проживала в основном еврейская диаспора — в городской повседневности часто можно было услышать “кашгарский еврей”, что равноценно более употребительному в русском фольклоре “местечковый еврей”» (инф.: Жанна О.). «На Кашгарке Беня жил, / Беня мать свою любил. / Значит, есть у Бени мать, / Значит, есть куда послать» (инф.: Валентина Л.). 1 Рубина 2006: 114. 2 См. комментарий в главе «Лексико-семиотическая составляющая Ташкентского текста». 3 Ташкент 1984: 160. 4 Рубина 2006: 151. 5 Рубина 2006: 213. 309 «Ташкентские парадоксы: местечковые узбеки и кишлачные евреи»1. Театр оперы и балета им. Алишера Навои Текст Рубиной: «Как раз снесли Воскресенский базар… и начали строить театр оперы и балета имени Навои… Имперского величия здание! Архитектор — Щусев, тот самый, автор Мавзолея… Строили его пленные немцы и японцы… один из прорабов, наш сосед, посмеиваясь, говорил, что японцы возмущаются качеством строительства и материалов, чуть ли не с ужасом говорят: “Это здание не простоит и двухсот лет!”»2. Культурологический дискурс: «Театр по проекту А.В. Щусева решено было построить в центре нового города Ташкента на месте знаменитого Воскресенского базара… [который] возник еще в конце 60-х гг. прошлого [XIX] века [как] стихийный рынок-барахолка. <…> ...1 сентября 1940 г. здание щусевского театра… было заложено… Однако строительство продолжалось недолго. Когда началась вторая мировая война, работы, конечно, прекратились. Лишь в 1943 г. на площади бывшего Воскресенского базара вновь появились строители. Медленно в центре Ташкента росло огромное здание. После войны этот рост пошел значительно быстрее. Раньше в советских путеводителях как-то не принято было писать, что очень большое участие в строительстве театра принимали военнопленные японцы3. А между тем условием их возвращения на родину было поставлено скорейшее качественное завершение строительства. В ноябре 1947 г. Государственный академический театр в Ташкенте был торжественно открыт»4. «Глас народа»: «Одеты были японцы — пленные строители — в стеганые атласные куртки-кимоно, все в соломенных шляпах, сновали со своими тележками…» (инф.: Хамида Ш.). «Театр Навои: внутреннее убранство великолепно. Стены украшены резьбой по ганчу на зеркалах. На площади — фонтан 1 Книжник 2003: 121. Рубина 2006: 123. 3 В энциклопедии «Ташкент», изданной в 1984 г., там, где говорится о строительстве театра им. Навои, ни слова не сказано о «специфических» рабочих, хотя фольклорная молва сохранила эту информацию. 4 Голендер 1997б. 2 310 в форме коробочки хлопка. Ташкентцы гордились своим театром. Но и складывали анекдоты, вот один из них. Партийный чиновник, член художественного совета, присутствует на постановке оперы “Евгений Онегин” в театре Навои. Задает вопросы режиссеру: — Почему в I акте старуха Ларина варит так много варенья? На какие средства они живут? Надо выяснить. Почему Татьяна во II акте выходит на сцену в ночной рубашке? Что, вы такие бедные, не можете одеть ее как следует? Теперь послушайте: разберемся с оркестром. Вот этот, который играет на скрипке, сколько он получает? — 120 рублей. — А этот, на барабане? — 120 рублей. — Но это же несправедливо. Один пилит скрипку целый час, другой ударит 1–2 раза, а зарплата одинаковая. — Но у них у каждого своя партия. — Какая такая партия? У нас одна партия — коммунистическая» (инф.: Валентина Л.). Исторический музей Текст Рубиной: «Она и раньше видела это здание, с присевшими на колеса двумя огромными крепостными пушками из красной меди, но не верила, что старые кособокие вазы, склеенные из пыльных черепков, тусклые медные железяки и черно-белые фотографии на стенах могут содержать в себе столько захватывающих приключений людей и царств… Древние Самарканд, Бухара, Хива, таинственное золото Согдианы, молодой честолюбивый полководец Александр Македонский и его поход на Среднюю Азию… <…> …рассказывая о распаде империи Македонского, он добавил, что это — “удел всех империй, даже столь могучей, как наша…”»1. «Глас народа»: «Музей Истории Узбекистана... Здание выстроено в одно время со старым Университетом. Все из желтого жженого кирпича. У входа две старинные пушки из старой, еще царской крепости (на территории которой был парк “Пионер”, а теперь резиденция Папы). Зайдешь вовнутрь, сидят две туртушки2 , тебя не замечают. Заметят — обилетят. Школьный — 15 коп., взрослый 25 коп. Первый этаж — все про раскопки: кости, зубы, стрелы, черепки и наконечники от стрел. Второй этаж — ремесла, немного живописи и, хлоп, уже революция грядет! Ну и, конечно, главный отец всех узбеков В.И. Ленин смо1 2 Рубина 2006: 258–259. На местном сленге – узбечка. 311 трит на тебя с многочисленных картин. Узбекские художники, от большой любви к вождю, всегда придавали его лицу чисто национальные черты. А глаза и вообще… излучали такую сладость! Чучвара1 из баранины не может быть слаще! Напротив этого идеологически-исторического гнезда стоял оплот разврата — ресторан “Бахор”. А с правой стороны музей почти что примыкал к Республиканскому радиокомитету. Сейчас музей перенесли в помпезно-мраморное здание, ранее бывшее Музеем Ленина» (инф.: Zimmermann). «Исторический музей… Было много мумий каких-то святых деятелей, не помню. Как-то раз пошли мы с семилетним сыном… Пришли домой, я занемогла. Сын спрашивает: Что болит? Говорю: сердце, умру, наверное. Сын: Ну ничего, мы тогда тебя в Исторический музей сдадим. Все будут приходить, смотреть» (инф.: Валентина Л.). Улица Гоголя* Текст Рубиной: «Знакомый Лёни бывший часовщик жил в новом кооперативном доме на улице Гоголя — роскошный проект…»2. «Глас народа»: «Когда и за что снесли памятник Гоголю? — Долгая история. В двух словах. Памятник Гоголю в Ташкенте строили долго. На пересечении Гоголя и Пушкинской, на Ц-2. Установили. Ну а потом и снесли. А улицу Гоголя переименовали. Да и вообще, кто он такой, Гоголь? Про такого в РУ (Республике Узбекистан) знать не положено. В том районе все улицы переименовали (и Жуковского, и Лермонтова, и Бородина). Зато в Москве всё сохранили (и Андижанскую улицу, и Ташкентскую, и Ферганский проезд). Для того чтобы памятник Пушкину в Ташкенте не сносили. На паритетных началах. Если не изменяет память, то Жуковского переименовали в улицу Азимова, Гоголя — Гулямова (кажись). В честь великих людей эти улицы переименовали. Мирового масштаба людей, увы, никаких памятников (кроме Пушкина, где пожарка была) в Ташкенте не осталось. Ни Максима Горького, ни “Фрунзе на коне”. Даже “Юноша-всадник” в парке “Пионер” почему-то явился образчиком колонизации Туркестана»3. 1 Аналог пельменей. Рубина 2006: 258. 3 Электронный ресурс. URL: http://fromuz.com/forum 2 312 Улица Асакинская*1 Текст Рубиной: «С раннего утра на углу Осакинской и Пушкинской затевался базарчик»2. «…На известном перекрестке Осакинской и Пушкинской, где я пережидала красный свет, как мул пережидает внезапную остановку любящего покрутить с каждой юбкой хозяина, навстречу мне через дорогу торопливо двинулся гроб. <…> И все… “прошло без сучка, без задоринки”, если не считать нелепой попытки дяди Миши убежать от провожающих на том долгом светофоре, на углу Осакинской и Пушкинской»3. Зной людей вытесняет (словно людям от зноя теснее), а потом в Ленинграде, в Ашкелоне, Афинах, Сиднее снится дом на Ассакинской и стена в голубом винограде4. «Глас народа»: «Асакúнская (хотя в быту говорят Асáкинская) — от города Асакá в Андижанской области. Ныне там находится завод “УзДЭУавто”, выпускающий корейские автомобили. Ни к японской Осаке, ни к грузинской «Ассе!» это название отношения не имеет» (инф.: Медора Б.). Ипподром Текст Рубиной: «…воскресная толкучка на ташкентском ипподроме…»5. «Он так и застыл с накидкой, развернутой в его руках, точно собрался торговать ею на воскресной толкучке, на ипподроме…»6. «Глас народа»: «Ипподром — Шелковый путь Ташкента, поездка на ипподром — крупное мероприятие — все равно что сходить в театр. Эта ташкентская толкучка — дистанция огромного размера!» (инф.: Екатерина Л.). 1 Ныне улица Асака. Рубина 2006: 112. 3 Рубина 2006: 301–304. 4 Книжник 1991: 24. 5 Рубина 2006: 139. 6 Рубина 2006: 334. 2 313 Улица Жуковского*1 На этой улице во время войны жила Анна Андреевна Ахматова2. «…Поэтесса… перебралась 1 июня 1943 г. в отдельную маленькую комнатку на балахане “белого дома на улице Жуковской”. В этом доме-усадьбе (ул. Жуковского, 54) до войны жил Абдулла Каххар3. Когда возникла необходимость приютить эвакуированных, известный узбекский писатель и драматург по зову сердца “уплотнился”, и в его доме образовалась еще одна “интеллектуальная Мекка” Ташкента военных лет. Жаль, что этого дома теперь нет. Лишь скромная мемориальная доска установлена на жилой многоэтажке (улица Азимова, 54), построенной после землетрясения на том месте. Тут витала тень Михаила Булгакова — его вдова Елена Сергеевна как главную драгоценность привезла в эвакуацию рукопись еще нигде не опубликованного тогда романа “Мастер и Маргарита”. Рядом с Е. Булгаковой жила Надежда Мандельштам и большая семья Владимира Луговского. В доме на улице Жуковской обитали драматург Николай Погодин, поэт Иосиф Уткин, кинематографист Николай Вирта»4. *** У Николая Олейникова есть рассказ «Учитель географии»: уснул герой летаргическим сном — а тут случилась революция. Прошло одиннадцать лет. Проснулся герой, видит странные вывески, названия улиц: Петрорайрабкооп, улица Красных Командиров. «А где эта улица? — В Ленинграде. — А Ленинград где? <…> Ленинград находится в СССР. — Это что за СССР?»6, — удивляется проспавший учитель. Идет по старой 5 1 Названная в 1890 г. в честь русского поэта В.А. Жуковского, в середине 90-х гг. ХХ в. переименована в улицу Сарвара Азимова (1923–1993), узбекского писателя, больше известного как дипломат: был министром иностранных дел (с 1959 по 1969 г. и после «обретения независимости», при И. Каримове). 2 «Где она только не жила, эта Ахматова!» [Бершин 2005: 48]. 3 Абдулла Каххар (1907–1968) – узбекский писатель, которого называют «узбекским Чеховым». 4 Голендер 2005а: 66. 5 Олейников Николай Макарович (1898–1937) – писатель, близкий к литературному объединению ОБЭРИУ. 6 Олейников 1991: 66–67. 314 привычке обедать в Смольный к графине, его не пускают, так как нет больше графини, а учитель истории и географии больше и не учитель: нет прежних ни истории, ни географии. Когда учителю объяснили, что произошло в стране, он, глядя на суп, тарелку, салфетку, спрашивает: что это такое? — и удивляется, что эти привычные вещи называются по-прежнему. Город зажил другой жизнью; «…дадут ли мне теперь какое-нибудь место? Ну, скажем, почтальона? <…> — Но для этого вам надо основательно изучить названия городов и улиц»1. «Глас народа»: «Вспоминаю, как была однажды у своей завкафедрой в Старом городе (в начале 1980-х гг.), и муж ее ворчал: “Живем на улице Федченко2 . Кто такой, мы не знаем. И произносить трудно для узбека. Надо давать исторические названия”» (инф.: Валентина Л.). Так и в Ташкенте: улицы и площади, парки и скверы того, «вавилонского» Города ушли в небытие. Город вступил в новую фазу своей истории. Такой «кульбит» в жизни Города трагичен для одного поколения, двух, максимум трех. Однако город живет; вероятно, и процветает, но уже с другими улицами и площадями, с другими памятниками и кумирами. Возможно, в новом Городе родится иной текст, но уже вне русской литературы, культуры, языка. Это будет другой Текст3. 1 Олейников 1991: 69. Возможно, улица была названа в честь А.П. Федченко (1844–1873), русского естествоиспытателя, который открыл Заалайский хребет, путешествовал по Средней Азии и собрал материал по ее флоре, фауне, гео- и этнографии, или в честь его жены, О.А. Федченко (1845–1921), русского ботаника, автора трудов по флористике Средней Азии. 3 По словам автора социологического исследования нынешнего Ташкента, количество топонимов с «русским» компонентом сократилось до минимума по решению властей. Ушли не собственно советские топонимы – ушли изначальные названия, дававшиеся при рождении улиц, площадей и других городских локусов. Смена названий происходит не как возвращение прежнего имени. А как присвоение имени из периода доурбанистического, средневекового. «В результате происходит своего рода отчуждение русских от топографии того места, где они живут, от города как “пространственно оформленной социологической сущности”» [Абдуллаев 2006: 28–29]. 2 315 Био- и семиосфера Ташкентского текста …Как запылал Ташкент в цвету, Весь белым пламенем объят, Горяч, пахуч, замысловат, Невероятен…1 Анна Ахматова Ландшафт и климат, как известно, формируют национальный характер и национальные образы мира. Узбекские дворы, деревья, высаженные вдоль дорог, арыки с журчащей в них водой, мир базаров, запаха лепешек, шашлыка, самсы, доносящегося из многочисленных чайхан и ошхан2, — все это так или иначе стоит у истоков возникновения особого этноса — ташкентцев. «…Дерево, глина, солнце, вода… вода, дерево, глина, солнце… я-то… уже обречена перебирать все те же знаки», — резюмирует героиня-рассказчик романа «На солнечной стороне улицы»3. Теплый климат Города стал контекстом, в котором сформировалась ташкентская ментальность: «Солнце — вот что нас спаяло, слепило, смешало, как глину, из которой уже каждый формовал свою судьбу сам. Нас вспоило и обнимало солнце, его жгучие поцелуи отпечатывались на наших облупленных физиономиях. Все мы были — дети солнца. Бесконечное ташкентское лето…»4; «Нет, все-таки хорошо в Ташкенте, вот уже скоро весна, значит, тепло придет, и — солнце будет все лето! Все лето будет солнце…»5; «…в Ташкенте как-то было… легче жить… Мы меньше боялись… Может, солнца было много, а в нем ведь, как теперь выясняется — серотонин содержится, да? — ну, тот гормон, что лечит страх, облегчает сердце…»6; 1 Ахматова 1990: I, 218. Чойхона и ошхона (узб.) – чайная и столовая. 3 Рубина 2006: 421. 4 Рубина 2006: 222. 5 Рубина 2006: 36. 6 Рубина 2006: 125–126. 2 316 «Тепло в Ташкенте, очень теплый климат. С февраля к нам сползалась уголовная шпана со всей простертой в холодах страны»1; «Все эти трудности (военного периода. — Э.Ш.) в Ташкенте переносить было легче, чем во множестве других мест, куда судьба во время войны забрасывала эвакуированных. В Ташкенте прекрасный климат, всегда синее небо над головой, тепло чуть ли не весь год. В феврале иногда уже цветет урюк. Летом бывает слишком жарко, но жара сухая, легко переносится. Цветущая земля совсем рядом, и кажется не страшным на нее упасть, даже если что и случится»2. Фольклорный нарратив: «Еду в такси. Жара такая, что плавится асфальт. У таксиста под воротничком рубашки засунут носовой платок — хоть выжимай. Подъезжаем к перекрестку Шастри — и подгадываем как раз на красный свет. У моего водителя вырывается из самой глубины души стон, потрясающий своей искренностью: – Э-э, б…ь! Вот на х... здесь в такую жару — светофор?!! Микроавтобус на конечной остановке в старом городе. Набит уже, как бочка селедкой, но водитель не трогается с места, надеется набрать пассажиров еще больше. Духота невыносимая, люди при последнем издыхании. У одного парня сдают нервы: – Ты, гондон! Ты долго еще стоять будешь?! Водитель, знамо дело, отвечает в том же тоне, начинается перебранка. Тем временем сидящая рядом пожилая опа, как и все истомившаяся от жары и ожидания, решает примирить мужчин и умильно обращается к водителю: – Гондонджан3, ну правда, поехали уже... Одним словом, как говорят наши местные братья, — чилля4 пришел...» (инф.: Медора Б.). Солнце, жара, возможно, играют не последнюю роль в типе национального поведения: вот фрагмент «сиесты по-узбекски»: 1 Рубина 2000: 224. Мелетинский 1998: 511–512. 3 -джан – уменьшительно-ласкательный суффикс в узбекском языке. 4 Чилла/чилля – пик летней жары, сорокадневье: с 25 июня по 5 августа. 2 317 «Cидим с ребятами в пивной “Коинот” (“Космос”), возле Дома кино. Ждем очень долго официанта с заказом, его все нет. Наконец ловим проходящую посудомойку: “Позовите, пожалуйста, нашего официанта, его зовут Миша”. Она уходит. Возвращается: “Он не может подойти”. — “Почему? ” — “Он телевизор смотрит”» (инф.: Георгий Ш.). Не случайно и в рубинском Ташкенте, и в устных нарративах одним из космогонических элементов Города является дерево. В мифообразе древа зашифровано трехчастное устройство вселенной: верхний, средний и нижний миры; структурная троичность образа древа соотносима с тремя стихиями: огнем, землей, водой, — поэтому высадка деревьев на архетипическом уровне соответствует акту миротворения, космогонии, помимо того, что на бытовом уровне в жарком и солнечном климате дерево дает тень, прохладу. В портрете Ташкента удивляет обилие деревьев, кустов, виноградника во дворах и трепетное отношение к ним: – «…фруктовые деревья сажались не только во дворах. На улицах тоже высаживали вишневые, урюковые, миндальные или сливовые деревца. Особенно было красиво весной, когда все цвело белым, розовым, лиловым цветом, и осенью было красиво: повсюду красно-желтые листья шуршат…»1; – «Солнечное свечение дня… Солнечная, безлюдная сторона улицы… карагачи, платаны, тополя — в лавине солнечного света. Мне до сих пор тепло»2; – «Во дворе у нее росло огромное тутовое дерево с черносиними сладчайшими плодами»3; – «…старый Ташкент: милые особняки, ореховые и яблоневые сады, чинары, тополя, карагачи в лавине солнечного света»4; – «Неподвижные пики старых туй уходили ввысь...»5; – «…чинары, посаженные еще при мятежном князе-коммерсанте Николае Константиновиче Романове, чей сказочнонездешний, с башенками, шпилями и медальонами дворец из желтого кирпича при мне был резиденцией пионеров, — 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 2 2006: 2006: 2006: 2006: 2006: 173. 428. 261. 212. 273. 318 вымахали гренадерской верстой, и были статны, как невесты в узбекском народном эпосе… Да, ну и сирень весной… Зернистая, благоуханная, влажная звездчатая сирень, темно-фиолетовая и белая, какой нигде я больше не встречала…»1. Смерть дерева символизирует по мифологическим канонам конец мироздания2: «Садовник он был милостью божьей: таких яблок, груш, слив, как в его саду, не встречалось ни на одном базаре. <…> Старшая дочь все ругалась, что места во дворе мало, грозилась спилить гигантскую, любимую его грушу. В день, когда грушу спилили, хозяин сада умер»3. «…Дерево не только слышит, но и видит. Погляди, как оно отворачивается от нас. — Так ты утверждаешь… что дерево все видит, не так ли?.. — Да! — подтвердил я. — А камень? — И камень тоже. — А река? — И река...» (отрывок из рассказа Н. Думбадзе «Хазарула»). Вспоминается фильм А. Тарковского «Зеркало»: травы, кусты, деревья вдруг на спокойном фоне начинают как бы волноваться, чувствовать, думать, вступать в незримый диалог с персонажами. Создается ощущение, диктуемое паратекстом фильма, который о памяти, — что растения как современные электронные носители заархивированной в веках информации, хранимой не только в головах, но и в природе. Недавнее уничтожение полуторавековых деревьев в Ташкенте сродни Холокосту. Еда и напитки, упомянутые в романе Рубиной, также участвуют в создании Ташкентского текста. Таковы сугубо наци1 Рубина 2006: 280. По наблюдениям исследователя, в нынешнем Ташкенте «вырубаются высокие лиственные деревья (либо у них отпиливают половину ветвей); новые же деревья почти не высаживаются. Состояние городской природной среды – элемент, далеко не второстепенный для идентичности русских. Именно с их массовым переселением в республику началось плановое озеленение улиц узбекских городов древесными породами с густой кроной, которые не только давали столь ценимую тень, но и формировали пейзаж, близкий природному облику европейской части России. Скрытое, а местами и открыто выражаемое недовольство вызвала у русского населения ликвидация в начале 2005 г. зеленых изгородей перед многоквартирными домами; кроме тени эти зеленые “стены” формировали некое закрытое от посторонних глаз приватное пространство» [Абдуллаев 2006: 31]. 3 Рубина 2006: 169. 2 319 ональные узбекские яства, имеющие ритуальную архетипику: – плов — множественные рецепты его приготовления входят в разные ритуалы «перехода»: рождение, свадьба, поминки; – лепешки — узбекский хлеб — еда как сакральная (ими принято поминать предков), так и обыденная — рубинские персонажи (как и все информанты эмигрантских нарративов) с удовольствием вспоминают не только вкус, но запах горячей лепешки; – манты — в русскоязычной версии трактуются как «паровые пельмени» — не будничное, скорее праздничное блюдо: «…Вера утверждала, что здесь делают особые высокохудожественные манты, достойную копию с которых еще никому не удалось снять… Манты и вправду оказались очень вкусными, хотя и… слишком острыми»1; – лагман — это яство приготовляется во всех «точках общепита» — знак узбекской кухни, запечатленный героиней, Верой Щегловой, в картине «Лагманщик на Алайском базаре»: «Часто Верка забредала в конец базара, где под брезентовым навесом один парень готовил вкуснейший лагман. Огромный, бритый наголо, великолепно сложенный, — стоял, голый по пояс, и хлестал себя по спине и груди длинными веревками растянутого теста. Брезгливые кричали ему: — Эй, что делаешь?! Он весело отвечал: — Слоистей будет!»2; «Два раза Верке тут налили почти полную касу божественного жирного и густого лагмана…»3; – зира4 — добавляемая в пищу приправа: «Картошка была божественной, он добавлял туда зиру…»5; – курт, парварда6 — яства-«забавы», и другой узбекский десерт: жареная кукуруза (отнюдь не американизированное яство, узбекская кукуруза — прожаренный белый сладкий шар), сладкая вата. 1 Рубина 2006: 341. Рубина 2006: 238–239. 3 Рубина 2006: 239. 4 См. комментарии в главе «Лексико-семиотическая составляющая Ташкентского текста». 5 Рубина 2006: 277. 6 См. комментарии в главе «Лексико-семиотическая составляющая Ташкентского текста». 2 320 Собственно мотив «еда/напитки» в рубинской прозе отсутствует, но, упомянутые в виде второстепенных, эти детали приковывают к себе внимание читателя и «зовут» к семиотическим комментариям в контексте ташкентской культуры. Не раз в ходе повествования в романе «На солнечной стороне улицы» упомянуты вина «Ок мусалас» и «Баян-Ширей». Что они значат в культуре повседневности ушедшего Ташкента? Это марки сухих белых вин, дешевых, доступных. Под сухим вином — «сухарём» — «понимались почему-то в основном белые вина…», — пишет Андрей Макаревич, иногда и домашнего приготовления. «Количество кайфонов, то есть градусов, было крайне мало, цена, правда, была ниже… Поэтому прибегали к нему в самых крайних случаях — не хватило, скажем, на портешок и настрелять не удалось»1. Рубинские ташкентцы — персонажи маргинальные, и таких в реальной жизни было большинство, — бедные неимущие советские люди, поэтому и марки вин — семантизация их социального статуса: «К ним приходили как в семью, — дом стоял открытый, шумный. Часто вваливалось человек по восемь-десять… <…> …последователи йоги, кухонные певцы, не чуждые “Баян-Ширея”»2. «В июле Вера поступила в училище… Они даже опрокинули по рюмке дешевого вина “ Ок мусалас”…»3. «“Ок Мусалас” всегда продавали в кафе “Снежок” на Сквере революции — там собирался “цвет” ташкентской молодежи. Почему это вино не получило всесоюзной известности? Да потому что в то время не было рекламы, а вино было дивное — оно выделывалось из таких сортов винограда, которые произрастали только в Узбекистане и нигде больше — таков здешний климат, сухой, жаркий» (инф.: Людмила Е.). Чай — ритуальный напиток, его пьют везде, где случается какое-либо собрание-сидение. У каждого «чаепьющего» народа свой ритуал заваривания чая: узбеки заваривают его в заварочный чайник и из него же разливают чай по пиалам, заканчивается — заваривают новый (в отличие, напри1 Макаревич 2006: 54. Рубина 2006: 66. 3 Рубина 2006: 6. 2 321 мер, от русского ритуала, где напиток «чай» создается из двух жидкостей: немного заварки из чайника разбавляется в чашке кипятком — и об этом обычае есть у Рубиной: «Он принес чайник, налил из заварочного, гжельского, добавил кипятку, нарезал и смахнул в ее чашку тонкий полусрез лимона»1). «Мы сидели под густым покровом из виноградных листьев, пили зеленый, почти узбекский чай из маленького чайника»2, — ностальгически воспроизводит ташкентский ритуал героиня романа «Синдикат», бывшая ташкентка. «Потом хозяин дома стал заваривать зеленый чай, и все примолкли, наблюдая, как он отливает немного в пиалу, заливает обратно в чайник и ждет, положив салфетку на крышку чайника... Никто не поинтересовался — к чему эти сложные манипуляции: за столом сидели одни ташкентцы...»3 («На солнечной стороне улицы»). «Давай, подставляй чашку. Я, знаешь, завариваю, как меня узбеки учили. Тут много лет узбеки приезжали, дынями торговали на рынке, у меня останавливались. Хорошие люди. Научили толково заваривать. Я с тех пор не люблю хап-лап… Душевный чай, он, знаешь, свой характер имеет…»4 («Почерк Леонардо»). Недоумевающая по поводу «странного» ритуала заваривания чая неташкентская публика подвигла на рождение в фольклоре Ташкента анекдота: «Брежнева5, прибывшего с официальным визитом в свою вотчину, Узбекистан, Рашидов угощает чаем: налив полпиалы и сделав круговое движение горячей жидкостью, вылил ее назад, в чайник6 . Спустя минуту налил в ту же пиалу. Собирался налить во вторую, для Брежнева, тот же нетерпеливо успел заметить: “Шараф, и мне помой тоже”» (инф.: Нора А.). «…“Чой ичамиз!” (“Чаю попьем!”) Гостеприимство — один из важнейших законов узбекской жизни. …это тоже с годами 1 Рубина 2008а: 411. Рубина 2004д: 50. 3 Рубина 2006: 368. 4 Рубина 2008а: 79. 5 Брежнев Леонид Ильич (1906–1982) – глава СССР, Генеральный секретарь КПСС с 1966 г. до конца жизни. 6 Такой ритуал заваривания чая в русском языке Ташкента называют кайтарыш – от глагола қайтармоқ, или қайтаришмоқ – возвращать. 2 322 въелось, так что стало общеташкентским стилем жизни»1. «Девяносто пятый2, — сказал он. — Давно берегу. Думал, мои приедут, я их девяносто пятым напою… Вот так»3. «…Карим налил в пиалу чай из стоявшего возле него чайника, снял крышечку, вылил обратно в чайник, высоко поднимая пиалу. Повторил свои действия. И еще раз»4. Чайханы — визитная карточка Ташкента. Они повсюду в городе: «Узбекский мужчина без чайханы не может никак — это как для англичанина его клуб. Узбеки сидят в чайхане в чапанах — полосатых и синих ватных халатах, в чалмах, в тюбетейках… и весь день пьют чай, потеют… — им пот служит вентилятором, а чапан удерживает температуру тела в течение всего дня… Вековые народные традиции — так спасаются от жары… Но еще — и это тоже, никуда не деться, вековые традиции! — из темной глубины помещения всегда потягивает характерным запахом гашиша, по-ихнему — анаши… Восток без дурмана, говорил мой отец, что скупой без кармана»5; «…До утра в любую погоду в ватных халатах сидели узбеки на курпачах, пили чай с колотым желтым сахаром, заедали лепешками…»6; «В чайхане… и травку покуривали… — вился, вился запашок, отпугивая чужих, — кого, может, и тянуло заглянуть в чайхану, выпить зеленого чаю в жаркий день. В чайхане… часто устраивали состязания острословов — “аскию”. Один смешное слово скажет — и все хохочут. <…> Высмеять, подшутить — это было в народных традициях»7. Чайхана часто соседствует с базаром — оба эти пространства — своеобразный коммуникативный локус Ташкента. Собиратель ташкентской старины, знаток и исследователь его истории и культуры Борис Голендер пишет: «Ну а для Сергея 1 Рубина 2006: 177. В чайной мифологии Средней Азии лучшим сортом считался зеленый чай под № 95. 3 Волос 2000: 283. 4 Волос 2000: 323. 5 Рубина 2006: 33. 6 Рубина 2006: 46. 7 Рубина 2006: 179. 2 323 Есенина прославленная шейхантаурская чайхана Ахмаджана стала любимым местом в Ташкенте, когда он в мае 1921 г. гостил в нашем городе у своего друга, поэта Александра Ширяевца. Среди любителей поэзии С. Есенина у нас в городе существовало убеждение, что самое первое стихотворение из знаменитого восточного цикла “Персидские мотивы” о “чайханщике с круглыми плечами”, который угощал поэта “красным чаем вместо водки и вина”, написано как традиционный в восточной литературе ответ на стихи Александра Ширяевца “Ем сочный виноград, янтарно-хризолитовый…”. Сохранились воспоминания о том, как С. Есенин и А. Ширяевец каждое утро начинали с чаепития в шейхантаурской чайхане…»1. Если частная жизнь на Востоке скрыта от посторонних глаз, — таковы старые архитектурные застройки, способствующие замкнутому ведению быта, то на базаре или в чайхане происходит максимально широкое общение. «Всегда здесь было шумно и тесно, с утра до вечера звучали голоса, слышались восклицания, оклики — знакомые останавливались, чтобы поздороваться, пожать руки, спросить о делах… здесь, под старым чинаром, стояло несколько столиков… пахло аппетитным дымом танура2, самбусой3…»4. Базар как таковой, присутствуя в любом городском пространстве, представляет место торга, розничной продажи, не обязательно являясь характеристической, знаковой чертой культуры. Например, слово «ярмарка», происходящее от немецкого Jahrmarkt, не занимает какого-либо семантического места при характеристике немецких образов мира, а слово «рынок» — русских. А вот базар восточный — это один из национальных образов мира как в реальном пространстве, так и в пространстве словесности: записки путешественников, фольклорные сказки, средневековая литература. Базар — это «дело у ворот»: торговая, или базарная, площадь в древности находилась не внутри городских стен, но вне их, рядом с воротами в город — таково первоначальное значение сло1 Голендер 1997а. «Таныр» по-таджикски – тандыр по-узбекски – печь по-русски. 3 «Самбуса» по-таджикски – самса по-узбекски – пирожки по-русски. 4 Волос 2000: 166. 2 324 ва «базар»1, заимствованное у неиранских и несемитических языков Передней Азии2. Помимо собственно торгового процесса, на базаре узнавали о новостях, заключались сделки, здесь рождались и распространялись сплетни, сочинялись невиданные истории, вошедшие впоследствии в фольклорный нарративный пласт: «Из случайных разговоров на Карасуйском базаре мы узнали, что недавно еще в Карасуйском военкомате работал некий Лева, который за деньги мог добыть не только военный, но и “белый” билет»3; «Слушай, дай я устрою тебе точку на Алайском. Будешь сидеть как человек, в центре жизни, знать международную обстановку. Будешь иметь немножко честных денег…»4. На базаре, в чайхане, отдыхали, ели, употребляли наркотики (вино и другие алкогольные напитки были запрещены Кораном, наказание за это было строгое, вплоть до смертной казни, поэтому в прошлом на мусульманском Востоке аналогом «горячительного» было курение чилима, заправленного коноплей — анашой, питие кукнара5; своеобразным заменителем алкоголя был также кумыс, которым заполнялись кожаные мехи: киргизские женщины, сидя на лошадях, держали мех отверстием прямо надо ртом желающего напиться6). На базар шли встретиться с тем, кого давно не видели. Те перипетии жизни восточного человека, которые не были связаны с домом, были связаны с базаром, «обратной сторо1 В повседневном словесном дискурсе европейской части России (кроме юга) слово базар имеет явно негативную коннотацию; то нейтральное значение, которое слово имеет на Востоке, в современной России придают слову рынок, а слово базар наделяют семантикой «второго» смысла: беспорядка, «нецивилизованной» торговли, бандитских разборок. Хотя в смысловом отношении слово базар – как место и дело торговли – более органично и исторично. 2 Бартольд 1998: 34. 3 Мелетинский 1998: 508. 4 Рубина 2006: 94. 5 Кукнар/к ў кнор – перемолотые маковые головки, из которых уже сделана опийная вытяжка; из этой перемолотой массы заваривают напиток, имеющий наркотическое действие (к ў кнори – наркоман). 6 Вамбери 2003: 126. 325 ной» восточного быта. Это видно по сказкам и средневековой литературе: сказочный герой, оставшись без средств к существованию, идет на базар — место, где начинается развитие сказочного сюжета; сказочный герой-плут (или плутовка) реализует себя, как правило, на базаре, обманывая торговцев («И вот Дале Мухтар набросила на голову чадру, отправилась на базар и стала думать о том, что бы ей такое устроить»1; «”Будешь поденщиком”, — сказала жена и дала мне веревку и мешок. Я взял их и пошел на базар»2; бедный продавец хвороста из узбекской сказки «целыми днями бродил по степи и приречным зарослям и собирал хворост, а к вечеру шел на базар и продавал его… <…> Однажды, как обычно, бедняк принес на базар вязанку хворосту…»3; «Бахрам поехал на базар и остановился около большой шашлычной»4, — все эти примеры маркируются как завязка сюжета, иной функции у базара в традиционной словесности не обнаружено). Пожалуй, впервые в литературе базар не с позиции этнографа, социолога, не с позиции фольклорного краснобая, не с позиции путеводителя по экзотическим лабиринтам Востока нарисован в прозе Тимура Пулатова. Базар у Пулатова представлен как живой организм, со своей философией, психологией, со своими суевериями, легендами, в красках и запахах, которые разнятся в зависимости от времени года. У пулатовского базара есть свой нрав, механизм поведения — он раскрывается разными гранями — в зависимости от того, кто с ним вступает во взаимоотношения. Пулатов проанализировал эстетику базара: увидеть и ощутить ее возможно только глазами особенной, отрешенной от повседневности личности, — таким предстает у Пулатова Ахун, персонаж повести «Завсегдатай», герой и рассказчик, ведущий записки-дневник своей базарной жизни. Неожиданным и тонким наблюдением Ахуна стало сопоставление базарной торговли и балета: «…в балете и торговле много общего, ну хотя бы в желании полностью раскрыться, одержимой раскованности»5, «тор1 СПП 1986: 18. СПП 1986: 31. 3 КЧ 1984: 30. 4 КЧ 1984: 220. 5 Пулатов 1995: 373. 2 326 говля — это не профессия, а состояние души, надо родиться…»1. Базар в традиционном пространстве Востока функционирует не ежедневно: есть базары понедельника, вторника, базары среды, но самыми распространенными, традиционными и главными являются джума-базары, то есть пятничные (правда, не везде, но в Медине, священном городе мусульман, пятница — базарный день). В Ташкенте живут еще и базарчики, стихийные точки, торгующие в угаданное, удобное для торговца и покупателя время: «С раннего утра на углу Осакинской и Пушкинской затевался базарчик. Вдоль Учительской прямо на обочине выстраивался ряд молочниц, старик-узбек торговал жареной кукурузой, белыми солеными шариками курта и миндалем в сахаре: “пара рубль”. Инвалиды за пачку “Беломора” драли аж целый рубль тоже…»2. Известно также, что пятница — священный день собрания мусульман в мечети для участия в Пятничной молитве («джамаа» — собрание, «джума» — пятница). Есть предположение, что Мухаммад выбрал пятницу в качестве священного дня мусульман в противовес иудейской субботе, шаббату, и христианскому воскресенью3. Компромисс между пятницей — священным днем и пятницей — базарным днем, возможно, таков: совершив полуденную молитву, мусульмане тут же могут посетить базар, который располагается вблизи мечети, называемой часто Пятничной4. Базар по своему внешнему архитектурному решению не случайно напоминает мечеть (речь идет о больших крытых базарах — сохранившихся древних или современных, которым возвращают исконный архитектурный облик), крыша которой выполнена в виде сводчатого купола. «В городском пейзаже многочисленные силуэты куполов могут принадлежать и мечетям, и медресе, и надгробным памятникам, и дворцам, и хаммамам5, и даже базарам»6. В повести Сухбата Афлатуни «Глиняные буквы, плывущие яблоки» есть концептуаль1 Пулатов 1995: 372. Рубина 2006: 1. 3 Гаврилова 2002: 50. 4 Тораваль 2001:33. 5 Хаммам/ҳаммом — баня, у которой также было сакральное предназначение — омовение перед Пятничной молитвой. 6 Тораваль 2001: 121. 2 327 ный для картины Востока диалог: «…Учитель остановился и… спросил: — Это мечеть? Мы улыбнулись: — Это Баня»1. О том, как важны для восточного человека и наполнены магически-ритуальным смыслом такие знаки быта, как мечеть, ворота, баня и базар, говорит притча из повести Сухбата Афлатуни: «Когда в село советская власть пришла, собрала всех бедняков, задала им вопрос: “Какие четыре вещи вы хотите, чтобы я в селе сделала?”. Бедняки обрадовались и сказали: “Мечеть новую хотим! Стену хотим вокруг села, с двумя воротами, на въезде и выезде, красным знаменем украшенные, чтобы мы, батраки, на тех воротах стояли и с буржуазии для Владимира Ильича Ленина дань собирали. Потом хотим крытый базар, иначе к нам эта проклятая буржуазия ездить не будет. И еще хотим, чтобы дорогая советская власть нам Баню починила, потому что в нашей Бане никто после Александра Македонского ремонт не делал, а это, кажется, очень давно было”»2. У базара, как у любого социального (и сакрального) организма, существует строго организованное внутреннее пространство (прилавки располагаются не стихийно, все упорядочено, любой товар имеет только ему предназначенное место в пространстве базара): книжный базар (как подразделение большого базара), кожа, парфюмерия — располагаются ближе ко входу, недалеко от мечети; в центре базара располагаются товары для дома, одежда; «шумные» и «грязные» товары продаются по периметру базара. Каждое место продажи носит соответствующее типу ремесла название: базар лудильщиков, базар красильщиков; на базаре располагается также каравансарай (постоялый двор)3. «Масса лавочек, будок, навесов, палаток, тележек занимает все окрестные к Алайскому улицы и переулки аж до Бородинской, до Алексея Толстого, до Крылова… Отовсюду, под крики перевозчиков товаров: “Пошт, пошт!!!” — “поберегись!”, — несется узбекская музыка, монотонная и одновременно сложно-витиеватая, с горловым надрывным похныкиванием… Под своими навесами, прямо на виду у толпы, работают ремесленники: жестянщики, кузнецы, плотники, гончары. Чего только 1 Афлатуни 2006: 24. Афлатуни 2006: 24. 3 Тораваль 2001: 32–33. 2 328 не найдешь в этих будках — развешанные на дверях медные кумганы, подносы, кружки… В глубине лавок — штабеля разновеликих сундуков, препоясанных цветными медными и жестяными поясами, свежеструганые люльки-бешики для младенцев, ведра-тазы любых размеров… Дощатые заборы захлестнуты цветастыми волнами сюзане и ковров… Через каждые сто-двести метров восходит над жаровнями синий, нестерпимо благоуханный дым от шашлыков… Вообще на Алайском видимо-невидимо забегаловок, харчевен и шашлычных, да просто столиков на одной ноге, под открытым небом, где можно перекусить и даже, кому захочется, — выпить красного винца»1. Базар как система с обманным профанным назначением на самом деле является сакральным пространством — эта неожиданная для повседневного сознания коннотация позволяет поставить базар в типологический ряд таких метафор: храм науки, храм искусства… и базар — храм торговли. Как храм (в любой конфессии), согласно преданиям, возводится на месте, указанном по знаку, знамению свыше2, так и базар рождается по каким-то своим законам там, где ему должно быть, — свидетельство сакральной природы базара. Базар рождается естественно, находя самостоятельно органичное для себя пространство, формируя свою структуру. А вмешательство в жизнь базара разрушает его организм. Так в Ташкенте в новую пору — независимости, мустакиллик’а, был реконструирован древний базар в Старом городе (базар Чор-Су): по сути, разрушен и построен заново в виде здания — огромного, бетонного и неуютного. Исчезла таинственность, мистичность — с базарными сумасшедшими, дервишами, с былой сакральной аурой. Тем не менее на сайте «Ташкент» констатируется: «Главный рынок Ташкента существует на одном и том же месте уже более десяти веков». А реконструированный Алайский базар — место паломничества иностранцев — отдан им на откуп: модернизирован, благоустроен, как европейский супермаркет: «– Ты не была еще на Алайском? — спросил меня двоюродный брат. — Обязательно пойди. Ты обалдеешь! Дирек1 Рубина 2006: 238. Мухаммад, прибыв в новый город, отпустил поводья любимой верблюдицы, которая сама остановилась на пустыре – именно здесь, в Медине, была построена первая мечеть на земле [Форвард 2002: 32]. 2 329 ция сдала всю территорию немецким фирмам, и те грандиозно все перестроили. Нет, я туда не пойду. Это была единственная возможность сохранить Алайский базар таким, каким он был, и должен пребывать вовеки…»1. «Алайский рынок, знаменитый… это был какой-то… Вавилон!. Вот уж действительно где смешались языки-наречья, пот, слезы, тряпье, тазы, ослы, арбы, люди… А ворья сколько! Вся страна беспризорная, голытьба окаянная сползалась в город хлебный, теплый… Люди говорили: “Самара понаехала!”, почему-то считалось, что самарцы — сплошь ворюги… Когда в кинотеатрах стали крутить кино “Багдадский вор”, появилась присказка: “Пока смотрел «Багдадский вор», ташкентский вор бумажник спер”»2. Так был разрушен в Ташкенте Воскресенский базар, называемый в народе Пьян-базар3, Туркменский базар передвинут, что равнозначно «похоронен». «Несмотря на неприязнь к любой толпе, базар она любила: там каждый занят своим делом, каждый знает, чего хочет и ни минуты не бросает на ветер. …Если долго ходить вдоль рядов и смотреть на еду, узбеки угощают. Узбеки добрые. Отрезают липкий жгут-косицу от бруса сушеной дыни или гроздку винограда оторвут и протянут: “Ай, чиройли кизимкя!..”»4. «Так узбек на рынке держит в каждой руке по золотистой увесистой дыне, приговаривая: “Диня сладкий пакпай, диня сахарный, миед!!”»5. «Па-адхади наро-од, свой огоро-о-од! — выпевали, выкрикивали тенора, баритоны, басы, высвистывали фистулой слабые стариковские глотки, — от прилавков, с высоты арбузной горы, с перекладины арбы, полной длинных, как пирóги, покрытых серебристой сеточкой мирзачульских дынь. — Паллявина сахар, паллявина мьё-од! К каждой покупательнице, в зависимости от возраста, обращались либо “дочкя”, либо “сыстра”, либо “мамашя”»6. Таков «портрет» базара в Ташкентском тексте Рубиной — 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 6 Рубина 2 2006: 424 2006: 27 2006: 123. 2006: 235–236. 2000а: 25. 2006: 240. 330 открытый, гостеприимный, щедрый, модель многоэтнического города. Уподобление базара библейскому Вавилону — общее место в описаниях Востока европейцами. На взгляд путешественника-востоковеда, среднеазиатские базары представляют для чужеземца ни с чем не сравнимое зрелище по обилию рас, одежд и нравов. Восточный базар глазами европейского путешественника XIX в. выглядит так: большинство людей в толпе относится к иранскому типу, их легко отличить по белым и синим тюрбанам: белые носили люди благородные и муллы, синие — купцы, ремесленники и слуги; были здесь и представители тюркских народов: татары, узбеки, киргизы. В базарной толпе, где в основном представлены две главные расы Азии, всегда можно было разглядеть индусов с красным знаком на лбу и желтым лицом, евреев, носящих как отличительный признак особую шапку (вроде польской) и шнурок вокруг бедер, туркмен, легко узнаваемых по сверкающим огненным глазам. Реже можно было встретить афганца, которого трудно с кемлибо перепутать: длинная неопрятная рубаха и такие же волосы, на плечи наброшен по римскому образцу полотняный платок. Это пестрое смешение бухарцев, хивинцев, кокандцев, киргизов, кипчаков, туркмен, индусов, евреев и афганцев было представлено на всех главных базарах Средней Азии1, — писал Арминий Вамбери2. Базар, таким образом, — миниатюрная модель мира. Если с точки зрения чистоты веры и крови уклад восточного быта являл собой строго регламентированное образование, то базар, напротив, представляет полиэтническое и полирелигиозное сообщество. Базар в прозе Т. Пулатова населен гордыми и разборчивыми в выборе достойного товара для торговли таджиками («Торговцы-таджики очень высокого о себе мнения, продают только то, что стоит не ниже пяти рублей за килограмм, и не станут возиться ни с редисом, ни с луком — овощи не их 1 Вамбери 2003: 138. Арминий Вамбери (1832–1913) – венгерский востоковед, этнограф, первый европейский путешественник, обошедший Среднюю Азию. 2 331 стихия»1) и персами, татарками, узбеками, киргизами, перекупщиками уйгурами и армянами, кореянками, торгующими острыми соленьями, есть даже интеллигентная литовка Аннелора — воистину Вавилон добиблейских времен. «В этих сменах: щедрости и скупости, здоровья и болезни, простодушия, и хитрости, и плутовства — весь характер базара. Он бросает из одной веры в другую, оставляя в сплошном безверии, я уже где-то заикнулся о язычестве. Можно сюда добавить еще безродность, вернее, безнародность…»2; «Базар не смущает нашу веру, он оставляет нас вечными язычниками и… вечными странниками»3. Многие маскируются: таджик Бобошо называет себя персом, по выходе же с базара он снова таджик; таджики убеждают всех, что они узбеки; Ахуна, полукровку, не считают своим ни узбеки, ни таджики; завсегдатая принимают за соглядатая, праздного базарного «художника» за базарного пройдоху — все хотят быть в этом базарном «антимире» другими: «Об этом я и думал, говоря о безродности внутри базара…»4 (курсив мой. — Э.Ш.). В той же парадигме предстает ташкентский базар ХХ в. (ближе к его концу): «Кто только на нем не торговал! Поволжские немки из высланных — в белейших фартуках — предлагали хозяйкам попробовать свежий творог, сливки и сметану. Сморщенные пожилые кореянки пересыпали в вощеных ладонях жемчуга желтоватого или белоснежного риса. Красавцы все как один — турки-месхетинцы — артистически взвешивали первую черешню, загребая ее растопыренной большой ладонью; сквозь пальцы свисали на прутках алые или желтые двойни-тройни… <…> А как умели торговать узбеки!»5. Приватная жизнь восточного человека скрыта от глаз постороннего, поэтому двор, прилегающий к жилому помещению как его продолжение, синонимичное внутренним покоям дома, огражден от чужих глаз. «А что такое узбекский двор? Это комплекс полного жизнеобеспечения. Сам дом, наверху — балхана… <…> По двору 1 Пулатов 1995: 366. Пулатов 1995: 365. 3 Пулатов 1995: 362. 4 Пулатов 1995: 366. 5 Рубина 2006: 239–240. 2 332 протекал арык, над ним строили такой квадратный деревянный помост — айван, или супу… <…> На айване спали, принимали гостей, чаи распивали… От арыка шла прохлада в жаркий день. И звук бегущей воды успокаивал, расслаблял…»1. «Здесь даже в самые знойные дни было прохладно и тенисто. Весь двор поверху перекрывали густо разросшиеся виноградные лозы. Они карабкались по специально врытым для них деревянным кольям, стелились сверху по перекрытиям, свешивая, словно в изнеможении, щедрые райские кисти. Жемчужно-зеленоватые “дамские пальчики”; круглый, лиловый, с прожилками “крымский”; черный “бескосточный”… Кажется, виноградные лозы забирались даже на крышу и там продолжали свое греховное пиршество с упоительно знойным солнцем. <…> Наверное, он (хозяин виноградника) и там контролировал тайную виноградную жизнь»2. Даже находясь в Иерусалиме, рубинская героиня моделирует свое восприятие не без ташкентских впечатлений: «…она задрала голову и стала рассматривать типично иерусалимский дворик… От калитки до двери в полуподвал арками шли над головой металлические перекрытия, оплетенные черными от дождя виноградными сухожилиями. На одной из ветвей скукожилась забытая гроздь, какую у нас в Ташкенте называли “заизюмленной”»3 («Адам и Мирьям»). Все неузбеки, выросшие в Ташкенте, с его гостеприимством и радушием, приобрели черты этой специфической нации — ташкентцев. «Я гуляю один по крутым пыльным улочкам… а навстречу — незнакомый узбек, улыбается, берет меня за руку, открывает калитку. Это его сад… <…> Хозяин сада кладет мне за пазуху теплую кисть винограда, три яблока, горсть алычи, дает в руки только что выловленную из тандыра обжигающую лепешку, и я перекидываю ее из ладони в ладонь и дую…»4. Писатель В. Арро описывает свое удивление открытостью и радушием ташкентцев, когда впервые попал в Город сразу после землетрясения 1966 г.: «…проснулась моя старая тоска 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 2 2006: 30. 2002: 176. 2007а: 96 2006: 321 333 по искренним дружеским отношениям, которые почему-то здесь, в Ташкенте, проявляются при каждом новом знакомстве, а в моем родном городе обходят меня стороной»1. Эти ташкентские черты в пространстве иммиграции не всегда адекватно воспринимаемы: например, свойство ташкентской публики — угощать соседей: «…она пыталась угощать своими пирогами угрюмых и замкнутых москвичей…. На нее смотрели как на безумную»2; «Перед деревянной скамьей с аккуратной, нарезанной большими кубами сушеной дыней я стояла так долго, что молодой веселый узбек в чернобелой тюбетейке отрезал ножом кусок и протянул мне: “Эй, кизимка!” — на что я, в ужасе замотав головой, попятилась и побежала через базарчик»3. По материалам фольклорных нарративов видно, что ностальгическое моделирование атрибутов ташкентского быта — черта эмигрантского пространства, что также отражено Рубиной в Ташкентском тексте ее прозы. Будучи в Италии, героиня легко сбивает цену на прогулку по Венеции в гондоле: «Мы сторговались на плохом английском, мгновенно съехав с восьмидесяти евро до сорока — в виртуозном мастерстве сбивания цен белобрысому было далеко до меня, выросшей на восточном базаре»4 («Гладь озера в пасмурной мгле»). Героиня, хвастая своей способностью торговаться, преподносит мастер-класс своим неташкентским друзьям — когда выторговывает в иерусалимской лавке ненужную ей вазочку: «…Это было похоже на борьбу палванов моего детства, когда богатыри засучивают рукава и подворачивают штаны на мощных икрах… разминаются в сторонке от ковра, переступая с ноги на ногу, массируя бицепсы… Селим не подозревал — с кем имеет дело…»5. А имел дело торговец с человеком ташкентского закала — из рода людей, чувствительно реагирующих на все детали ушедшего ташкентского быта: «Нам принесли целый чайник 1 Арро 2002. Рубина 2006: 176. 3 Рубина 2002: 185 4 Рубина 2007а: 271. 5 Рубина 2006: 241. 2 334 отлично заваренного чая, и я вдруг пустилась рассказывать Аркаше о Ташкенте — какая это была цивилизация, благословенная сладостная Александрия… и вот она сгинула, растворилась, рассыпалась, ушла под воду… Рассказывала, как перекрывают досками арык, настилают курпачи, подают чай в пиалах… Он, ленинградец, вежливо удивлялся…»1. 1 Рубина 2004д: 504. 335 Лексико-семиотическая составляющая Ташкентского текста …я был точно прожорливый мешок, в котором полно чужих рассказов и ни одного своего ответа1. Меир Шалев. «Русский роман» Ташкент — многоязычная окраина Российской империи — говорил тем не менее на русском языке. Языковое поле Города породило разные грани. Это и правильный, книжный, русский язык, не обремененный ни интонационными, ни диалектными традициями: «…что отличало и отличает всех этих бывшеташкентских скитальцев… — это правильная русская речь… потому что из года в год прибивало туда волнами разных штормов множество непростой штучной публики. Кого только не приносило: офицеров русской армии Кауфмана, а с ними — целый отряд новоиспеченных “иностранцев”, всех этих, закончивших Оксфорды-Кембриджи, деток киевских, одесских и прочих коммерсантов, у которых хватило денег обучить талантливое чадо за границей…»2; это и русский, замешанный на маргинальных иноязычных традициях: «Она… перенимала манеру говорить в нос, презрительно растягивая гласные, — неистребимый говорок ташкентской шпаны»3. «Русское ухо» ташкентца четко улавливает узбекскую речь, отличает от нее казахскую, киргизскую, татарскую — родственные тюркские языки (причем человек может не владеть ни одним из этих языков, кроме русского, — таков феномен), в отличие, например, от русского человека Москвы или средней полосы России, для которого «черный» и инакоговорящий — «лицо кавказской национальности». «Это был восточный язык, но не узбекский; узбекский я не то что бы знаю — нет, я не знаю его, но чувствую ухом и небом»4. 1 Шалев 2006: 517. Рубина 2006: 362. 3 Рубина 2006: 168. 4 Рубина 2002: 104. 2 336 Узбекские слова порой удобно устраивались в ташкентской русской речи: например, базар в центре города, официально названный Воскресенским, в народе назывался «Пьян-базар»: то ли от узбекского «пиён/пьяный», то ли от «пиёда/пеший», то есть «пешеходный» (инф.: Хамида Ш.), но в сознание старожилов города вошел как «Пьян-базар»: «…Пьян-базар, — действительно средоточие всякой пьяни…»1. Из фольклорного нарратива: «Там торговали вином. — А что, больше вино нигде не продавали? — Конечно, продавали, но там — из бочек, домашнее вино, можно было нацедить трехлитровую банку!» (инф.: Анатолий А.). А вот как воспринятая «узбекским ухом» русская речь обыгрывается в анекдотах Ташкентского текста: «Шукурыч спрашивает: — Знаешь, как по-узбекски будет “безбилетный пассажир”? Нет? Заяц-адам2»3; «Два студента-узбека (на ташкентском сленге — харыпа4. — Э.Ш.), желая произвести впечатление на публику в автобусе, переговариваются по-русски громко и многозначительно: — Анварджан, как дилъа? — Потомушто!.. — торжественно отвечает другой» (инф.: Zimmermann); «Чайхана. Двое — узбеки — ужинают. По радио — музыкальная передача. Объявляют: “Полонез Огинского”. Один из собеседников, не расслышав, переспросил: — Что он сказал? Второй, отмахиваясь: — Да не обращай внимания — половина одиннадцатого!» (инф.: Александр А.). Кстати, в «музыкальном» слое ташкентского романа Рубиной не раз звучит тема полонеза Огинского5, вероятно приобретшего какой-то символический характер в Городе6. Точнее, 1 Рубина 2006: 123. Одам (узб.) – человек. 3 Книжник 2003: 121. 4 Комментарий к слову «харып» см. ниже. 5 Рубина 2006: 197, 203, 208. 6 Полонез Огинского также стал неким мифологическим текстом повседневности на более широком пространстве: в пору телепередачи «Взгляд» был показан своеобразный опрос, «героем» которого стал «полонез». Звучали вопросы к прохожим: кто написал полонез Огинского, интервьюируемые задумывались, в ответах звучали различные предположения: Чайковский и др. «хрестоматийные» фамилии. 2 337 полонез — знак музыкального мейнстрима (узнать полонез на слух, уметь исполнить полонез — таково фольклорное представление о музыкальной грамотности, что органично вливается в фольклорный дискурс романа Рубиной). Русская речь ташкентских узбеков также неоднородна: это была «правильная» речь коренных ташкентцев и особый русско-узбекский жаргон «пришлых», которых сами узбеки называют харыпами1. В повести Рубиной «Камера наезжает!..» есть фрагмент о преподавании героиней «аккомпанемента» в Институте культуры, куда ежегодно по плану, спущенному «сверху», рекрутировали способных «пастухов», на местном жаргоне — «харыпов»2. В языковом поле этого фрагмента воспроизведена особая русская речь, мифологизируемая в повседневности как русских, так и узбеков, владеющих русским языком: «– Что я вам задавала на дом? <…> — Шуман. Сифилисска пессн… <…> Он суетливо доставал из холщовой, неуловимо пастушеской сумки ноты “Сицилийской песенки”. — Читайте! …Он старательно прочитывал: “Си-си-лисска песс…”»3. О таком уровне владения русским языком в Ташкенте говорят фразой: «твоя-моя». Когда героиня сама попадает в про1 Харып, возможно, от узбекского слова «хароб» – разорившийся, нищий, влачащий жалкое существование. 2 На вопрос, кто такие «харыпы», информант ответил: «Во-первых, все тэшэвые (номера на областных машинах в советское время сопровождались буквами ТШ, а на городских – ТН), во-вторых, все самаркандские, ферганские и прочие» (инф.: Алевтина Ш.); другой информант дал «энциклопедическую справку»: «Жлоб, деревенщина, венец бескультурья, приезжий из кишлака люмпен с манерами Маугли. Известная писательница Виктория Платова однажды написала, вспоминая свой Восток: “Харып – больше, чем жлоб. Это жлоб в квадрате, он наливает ирландский ликер в граненые стаканы…”» (инф.: Павел Ш.). В Ташкентском тексте фигурирует целый цикл анекдотов про «харыпов», парадигма которых соответствует в мировом фольклоре анекдотам о «коллективных дураках» (см. об этом в главе «Герой-трикстер»). Вот один из них – анекдот-загадка: «Идут три молодых узбека – в черных кожаных пальто, брюках abibas (именно так, не adidas), белых носках и шлепанцах. Кто из них харып? (Тот, у кого пальто заправлено в брюки)» (инф.: Алевтина Ш.). 3 Рубина 2000: 253. 338 странство чужого языка, то вспоминает ту давнюю «сифилисску пессн»: «Я полагаю, что человек за все должен ответить. <…> Я с трудом читаю заголовки ивритских газет, и моя собственная дочь стесняется меня перед одноклассниками. Это мне предъявлен к оплате вексель под названием “сифилисска пессн”»1. Русская речь ташкентцев в определенных ситуациях, чаще для придания комизма, порой намеренно ломает язык, имитируя русскую речь узбеков — вот распространенный среди школьников 1970-х узбекско-русский ремейк басни Крылова: Один несчастный, мокрый стрекозешка Ползет к трудолюбивой муравьешка: – Муравьешка, Муравьешка, Бир менга2 кусок ляпешка!.. Муравьешка отвечал: – Ты все лето пел? – Пел. – Танцевал? – Танцевал. – Чайхана сидел? – Сидел. – Ляпешка кушал? – Кушал. – Тамар-Ханум3 слушал? – Слушал. Так теперь иди – Ансамбль Моисеева пляши! (инф.: Zimmermann). В русском фольклоре Ташкента родились комические но1 Рубина 2000: 313. Бир менга кусок ляпешка – (дай) мне один кусок лепешки. 3 Тамара Ханум / Тамара Артемовна Петросян (1906–1991) – узбекская танцовщица, певица, балетмейстер, участница первой Всемирной выставки народного декоративного искусства в Париже (1925), организатор студии этнографических танцев, стала мифологической фигурой не только Ташкента. Из фольклорного нарратива: «Тамара Ханум – это узбекская “Пугачева”, или Ходжа Насреддин в юбке. В 70 с лишним лет она выглядела молодой женщиной, ходили фантастические слухи о косметических масках Тамары Ханум: будто бы она накладывала на лицо кусочки сырой печенки» (инф.: Zimmermann). 2 339 минации сказочных/обрядовых образов — аналогов русских персонажей: «Кошмар-апа — Баба Яга; Автоген-ака — Змей Горыныч; Колотун-бобо — Дед Мороз; Джаляб1-кыз — Снегурочка; Саксаул-бола — Буратино2 » (инф.: Алексей Л.). Анекдотом может стать и такой бытовой нарратив: «Захожу в одно знатное учреждение в Ташкенте. В вестибюле огромный стенд с шапкой: “Мен — демократман!” (Я — демократ!) Передовая статья называется: “Мен — депутатман!” (Я — депутат!). Конечно, я поневоле начал искать глазами подпись “Мен — Зильберман”...» (инф.: Алексей Л.). В условиях би- и полилингвизма неотъемлемым качеством языка повседневности становится интерференция — ошибки в чужом языке (русском в данном случае), спровоцированные органикой родного языка: «Издрасти…»3; «Молчи, блад! <…> Погода, блад, опять плохой. Опять, блад, погода нелетный»4; «Пилять!»5. Сухбат Афлатуни намеренно создает абсурдистский перифраз русской поговорки, сталкивая две ментальности: «Пусть на твоей дороге скатерть валяется»6, что в русском соответствует «Скатертью дорога». Анекдот: «Встречаются русский и узбек. Один грустный, голову повесил. Русский: Что с тобой? Узбек: Мой жена гуляет. Русский: не мой, а моя. Узбек: Ну что твоя — это все знают, я говорю про мой» (инф.: Валентина Л.). «На базарах Ташкента в 1990-е гг. по-черному конвертировалась валюта; менялы, полувыкрикивая-полушепча, произносили: “Меняем доллар, расиськи!”» (инф.: Екатерина Л.), то есть российские рубли. С досадой и одновременно комизмом вспоминает рубинская героиня-рассказчица ташкентские времена, когда приходилось выполнять роль «литературного негра» — вместо ожидаемых де1 См. комментарий к слову джаляб ниже. Значение слов апа, ака, бобо, бола см. ниже. 3 Волос 2000: 189. 4 Волос 2000: 244. 5 Волос 2000: 98. 6 Афлатуни 2006: 3. 2 340 нег за выполненную работу ей предлагали прокатиться на море: «Динкя-хон, — проговорил он, ласково на меня глядя, — ти Гагра морь любишь? — Очень люблю. <…> — Я тибе к морь повезу… Поезд-билет куплю, койкя санаторий плачу… Зачем тибе денгя? Вместы со мной Гагра едишь…»1 («Цыганка»). Обсценная лексика приживается особенно хорошо — как в русском — узбекский мат, так и в узбекском — русские ругательства: «Наконец старшая женщина закончила долгую тюркскую речь русским “сволочь” и замолчала…»2; из фольклорного дискурса: «Идет “пулеметная” очередь узбекского мата и последнее слово — “тэварр!” (тварь)» (инф.: Валерий А.). Для русского ташкентского языка характерно употребление эндемиков и ойкотипов. Эндемики — слова, характерные для данной местности, отдельного этноса (для «внутреннего пользования»), не имеющие широкого хождения. Ойкотипы — прецедентные тексты, характеризующие речь определенного ареала3. Эти слова и выражения, рассыпанные в рубинском Ташкентском тексте (в основном в романе «На солнечной стороне улицы»), раскрывают национальный характер ташкентцев и отражают мифологию повседневности Ташкентского текста. Концепт Ташкентского текста много шире конкретной географии города. А русский язык Ташкента — это, по сути, русский язык Средней Азии. В связи с чем ташкентские эндемические и ойкотипические образования можно проиллюстрировать словесностью как фольклорной, так и литературной (роман А. Волоса «Хуррамабад»4, повесть Сухба1 Рубина 2007а: 75. Афлатуни 2005: 7. 3 Ойкотип — от «ойкумена», термин К.В. фон Зюдова, перенесенный им из ботаники в фольклористику, означает «наследственный вариант растения, адаптировавшийся в какой-то среде в результате естественного отбора» [Путилов 2003: 179]. 4 Хуррамабад – условный среднеазиатский город, хотя с явными реалиями и аллюзиями на город Душанбе (хуррам (тадж.) – веселый, жизнерадостный, цветущий; абад – город). Восточный текст этого таджикского города сродни Ташкентскому, так как то административно-географическое деление на республики, которое было проведено в 1920-е гг., искусственно: достаточно взглянуть на карту, где границы проводили 2 341 та Афлатуни «Ташкентский роман» и др. тексты). В ташкентской, или среднеазиатской, русской речи обильно представлены тюркизмы — посему их наличие в литературе не может маркироваться как ориентальный экзотизм, этнографические «штучки», это одна из составляющих собственно локального текста. Ряд тюркизмов присутствует в рубинском повествовании в виде глоссы (и не только у нее, то же наблюдаем у А. Волоса) — комментарий вплетен в ткань сюжета (примеры приведены ниже, в семиотическом фрагменте исследования). Вот как это делает писатель Андрей Волос: «…Макушин в конце концов уловил, что речь в стихах идет о чем-то таком, что называется пиёз, и решил, поразмыслив, что это, должно быть, рассвет, возлюбленная, соловей или что-то в этом роде: он был отчасти наслышан о красотах восточной поэзии. <…> …Он попробовал выяснить что-нибудь у коротышки-зеленщика, и тот, приветливо ухмыляясь, пояснил Макушину, что Шовкат и Фотех просто ругаются, а пиёз — это лук…»1. В узбекской речи проявляются характерные для местной ментальности гостеприимство и доброжелательность. Но истинные свойства превратились на повседневном уровне в стереотипное, а потому несколько «обездушенное» поведение, с выраженными фатическими, неинформативными, признаками. Фатические маркеры складываются в семантически полноценную речь с целью обеспечения успешности «основной» — нефатической — коммуникации2. Любая приветственная речь — знакомы вы близко или видитесь впервые — род светской беседы или ввода в нее. А для светской беседы характерна воспроизводимость композиционных блоков, она содержит праздноречевой — фатический — жанр, то есть неинформативную речь3. будто линейкой; о том же говорят и нарративы старожилов этих регионов, которые помнят, как им заполняли «пятую графу» – не по происхождению, а по тому месту, в котором оказывался носитель паспорта, особенно это касается жителей Бухары, Самарканда, где проживало много и поровну таджиков и узбеков. «Граница нужна для того, чтобы не перепутать нации», – иронично заметил ерофеевский Веничка [Ерофеев 1990: 86]. 1 Волос 2000: 119. 2 Андреева 2004. 3 Дементьев. 342 «Синяя женщина вскочила обниматься… закружила ее в приветственном танце объятий… под ритмичное яхши-мысиз, тузук-мы-сыз (как-поживаете-как-ваше-здоровье), тра-тата-та-та-та-мы-сыз…»1. «Практически всем живущим в Узбекистане русским хорошо известна местная традиция говорить при встрече ни о чем, просто ради поддержания ритуального контакта, когда собеседники произносят одновременно, не дожидаясь ответной реакции, положенные для такого случая формулы приветствия, справляются о здоровье близких и т. д., не входя при этом в реальный диалог, содержащий обоюдно значимую информацию, здесь каждая следующая реплика не зависит от изначальных намерений говорящего или от только что прозвучавшей реплики собеседника»2. Такая фатика — свойство восточной ментальности — становится тенденцией в развитии и русского языка этого ареала. По мнению Ю. Подпоренко, в этой русскоязычной тенденции кроется одна из причин «неприживаемости» русских из Узбекистана в России3. А. Волос на разные лады интерпретирует эту фатическую черту восточной речи: «… Макушин уяснил это не вдруг: поначалу принимал цветистую приветливость за доброту»4; «Да, есть, есть на свете утонченное наслаждение — издеваться над человеком и знать, что он не только не понимает, что над ним издеваются, но более того — принимает эти издевки за высшую форму гостеприимства!»5; «Как ваше самочувствие? Как дома? Все ли хорошо у вас? Все ли спокойно? <…> Улыбаясь Макушину с тем оттенком отстраненного радушия, что характерно для изображений египетских фараонов, он бормотал ответные приветствия. — Как у вас? Все ли хорошо? Все ли спокойно? Здоровье?»6. Новая таджикская мафия приводит бесправного русского к нотариусу, чтобы «законно» оформить отнятие у него дома: «Как поживаете? — спрашивал между тем Ориф (бандит и «законник» 1 Афлатуни 2005: 16. Подпоренко 2001: 178–179. 3 Подпоренко 2001: 178–179. 4 Волос 2000: 104. 5 Волос 2000: 105. 6 Волос 2000: 108. 2 343 одновременно. — Э.Ш.). — Все ли у вас в порядке? Спокойно ли? Как дети? Бормоча ответные приветствия, нотариус раскладывал на столе документы. <…> — Спасибо, спасибо… Как у вас? Все ли хорошо?.. Справки нет? Ну ничего, какой разговор, завтра принесете… Все ли в порядке? Как самочувствие?..»1; «Давайте не будем говорить обиняками, по-таджикски, — негромко сказал он, закрывая чайник крышечкой. — Давайте говорить хоть и на родном языке, но прямо, по-русски»2. Ниже приводится словник, составленный по прозе Дины Рубиной, и этно-топо-семиотические комментарии3. Этими словами, собственно, и структурирован Ташкентский текст (шире — среднеазиатский). Айван 4 / айвон5 Навес, пристроенный к дому; крытая терраса. Как в реальной жизни, так и в рубинском тексте — непременный атрибут узбекского двора, чайханы. В русскоязычной повседневности Ташкента айваном стали называть деревянный настил, или помост (застеленный курпачи/курпачами), на котором в летнее время днем пили чай, ночью спали. Ту же функцию выполняла супа (суфа). «По двору протекал арык, над ним строили такой квадратный деревянный помост — айван, или супу… бросали на него множество курпачей… <…> На айване спали, принимали гостей, чаи распивали… От арыка шла прохлада в жаркий день, и звук бегущей воды успокаивал, расслаблял…»6. Анаша7 Обработанная для курения конопля — гашиш; произрастает в жарком и сухом климате Средней Азии: «Восток без дур1 Волос 2000: 278–279. Волос 2000: 323. 3 Слова располагаются по алфавиту. 4 Рубина 2006: 30 (указанная страница означает, что слово упомянуто в романе «На солнечной стороне улицы» в первый раз, хотя встречается, как правило, в последующем повествовании). 5 Все узбекские написания сверены с изданием: Узбекско-русский словарь / Под ред. С.Ф. Акобирова и Т.Н. Михайлова. Ташкент: Глав. ред. Узбекской сов. энциклопедии, 1988. 6 Рубина 2006: 30. 7 Рубина 2006: 33. 2 344 мана, говорил мой отец, что скупой без кармана»1. «– У нас там накладка на шестьдесят четвертой странице… Там взяли фарцовщика с пакетиком анаши в носке на правой ноге. Это не пройдет… — А на левой пройдет? — спрашивала я нервно. — Ни на какой не пройдет… А знаете, не переписать ли нам этот эпизод вообще? Пусть он просто фарцует носками. Это пройдет»2. Фольклорный дискурс: строчка из песни: «А всех она с ума свела, а наша, наша анаша!» (инф.: Нора А.). «В Ташкенте ходила легенда, что в стан войска Тимура (или какого-то другого военачальника) пробрались лазутчики и бросили в казан с пловом шарик гашиша; хозяева стана поели плов, который их усыпил. Войско было уничтожено. С тех пор любители бросают в плов башик3 анаши. Это делают до сих пор в чайхане, куда можно прийти со своей компанией, взять в аренду казан и место для приготовления плова — так устраивается мальчишник по-ташкентски. А еще популярным было такое блюдо — жарёха: головки конопли, соломка, семена пробиваются через сито. Полученная смесь обжаривается на сковородке, когда остывает — получается жарёха, можно есть ложкой и запивать чаем» (инф.: Берл С.). «Как покуришь анаши, все девчата хороши» (инф.: Zimmermann). Анекдот: «Кабинет Ленина. Стучит посыльный: “Владимир Ильич, вам пакет из Туркестана”. “Замечательно! Срочно зовите Феликса Эдмундовича, и с папиросами!”» (папиросы — необходимый атрибут для курения анаши). Горит степи оранжевость. И струй бурлящих перезвон И анаши летящей напасть – мой край4; Изнежен, тих Зенги-Ата, Осколок Сагдианы. 1 Рубина 2006: 173. Рубина 2000: 227. 3 Бáшик – шарик, – возможно, от узбекского слова «бош» – голова. 4 Волков 2007: 33. 2 345 Анашою Зенги-Ата Продымил чай-ханы1. Арба, или арава2 Телега, бричка; шайтон-арава — велосипед. «Еще разъезжали по городу редкие фаэтоны, “иса-арава” — по-узбекски, а в народе — “ишак-арава”, и следом, норовя вскочить на запятки, бежали беспризорники»3. «Чуть позже раздавалось шарканье галош, и зычный голос старьевщика раскатывал-разворачивал: “Шар-ра-бар-ра пакпайм! Ста-а-арий вэшшшш!”»4 — обычно старьевщик — или «Шара-бара» — въезжал во дворы на арбе. В Ташкенте ходил анекдот о том, что Чацкий из «Горя от ума» — пьесы, шедшей в ташкентском драматическом театре им. Хамзы на узбекском языке, — финальные слова произносил так: «Арба менга, арба!» / «Карету мне, карету!» (инф.: Нора А.). «Помнит ли кто-нибудь старичков или махаллинских дядек, ездивших по дворам и громко выкрикивавших “Шара-бара!”? Они за мелочь и пустые бутылки продавали детям самодельные игрушки: маленькие надутые и раскрашенные зеленкой упругие шарики, которые делали из резиновых сосок, вращающиеся трещотки из проволоки, дуделки из жести, явно сделанные из консервных банок, какие-то бумажные веера, раскрашенные во все цвета радуги и сделанные по принципу раскладной гирлянды с ручками из палочек от мороженого. Чего там только не было! Да!» (инф.: Ник «Дима»5). Арык6 / ариқ Единственный возможный аналог в русском языке — канава. Арыки могут быть широкими и узкими, глубокими и мелкими. Функция арыка — ирригационная, поливочная. По арыку бежит вода, все дороги, большие и малые, магистральные и дворовые, сопровождены параллелью арыков: 1 Волков 2007: 34. Рубина 2006: 111. 3 Рубина 2006: 111. 4 Рубина 2006: 47–48. 5 Электронный ресурс. URL: http://www.ferghana.ru/comments.php?mo de=news&view=comm&cid=604&comm_id=3484&id=4060 6 Рубина 2006: 28. 2 346 дорога, арык, деревья, тротуар — такова последовательность. В летнее время доброхоты поливают из арыков ведрами дорожки между домами в современных микрорайонах. «Дворники — большей частью узбеки — поливают ведрами улицы, черпая воду из арыков. Очевидно, это — древний способ, передающийся из рода в род1. Проводить время у арыка — значит быть «уличным» ребенком — такова мифология повседневности: «…моя музыка убивала двух зайцев — оправдывала покупку пианино и, по выражению папы, сокращала мое “арычное” время»2; «Но главная особенность ташкентских улиц — чего ни в одном городе я больше не встречала — это арыки»3. «Однажды мы проходили по какой-то ташкентской улице и вели разговор на тему моего устройства, а под забором спал “доходяга”, наполовину свалившись в арык. Отец (один из самых любящих отцов!) произнес, указывая рукой на беднягу: “Оставь свои фантазии. Вот твое истинное место сейчас”», — вспоминает свои ташкентские, времен войны, годы всемирно известный ученый — фольклорист, мифолог Елеазар Моисеевич Мелетинский4. Аския5 Остроумные шутки, экспромты, а также состязания острословов, аналог КВНов; аскиябоз — острослов. «Выходили острословы, с одной стороны — четыре человека и с другой — четыре человека. Брали одну тему и крутились вокруг этой темы. Для того чтобы понять суть аскии, надо знать узбекский. В каждом слове есть подтекст, берется одно слово и разбирается. Это — игра со словом. <…> В этом жанре работают только мужчины. Считается, что женщинам слушать подобные острословия неприлично. Дело в том, что шутки в основном имеют интимный, пикантный характер. Правда, в далеком прошлом в состязании по острословию участвовали и женщины. “Раньше были отдельные женщины, 1 Чуковский 2011: 58. Рубина 2002: 174. 3 Рубина 2006: 173. 4 Мелетинский 1998: 509. 5 Рубина 2006: 179. 2 347 которые занимались этим. Женщины сами разговаривали и смешили друг друга. Без мужчин. Ведь женщины жили своей жизнью, мужчины — своей”, — рассказывает Обид Асомов1. Наиболее развито искусство аскии в Ферганской долине и в Ташкенте. В первой половине века ташкентские состязания были очень популярны. <…> “Сейчас это искусство в упадке, потому что молодежь не хочет думать. Анекдот — это удобно. Думать не надо. Всем и так смешно. Аския — это арифметика, это формула. Надо найти ответ, где смех. Ты сам должен понять, где смех, когда будет смешно”»2. Пока ошпоз сооружает плов, ведет беседу штатный острослов. Готовы гости разразиться смехом. Плывет сиянье счастья от голов. Он призван — острослов — смешить народ. Остроты он готовит наперед. Но только в них, где лезвие, где обух, увы, Европа, ум твой не поймет. Но вот к остроте он навел мосты и смолк, хитрец, не подведя черты. И в ожиданье трепетном веселья все напряженно приоткрыли рты. Натянута струною тишина. Остроту ждут. И выползла она. И взмылся смех с таким истошным визгом, что в обморок упала бедана3 (перепелка. — Э.Ш.) Ашички4 /ошиқ Игра в ашички; ашичка — косточка из коленного сустава задней ноги барана, теленка. «…Мы играли в тени тутовника в ташкентскую игру, в “ашички” (тяжесть вываренных в кастрюле, отполированных 1 Заслуженный артист Узбекистана, мастер сатиры и юмора. Бушуева. 3 Файнберг 2009: II, 360–361. 4 Рубина 2006: 222. 2 348 ладонями мослов удобно укладывается в памяти моей руки)…»1. «Ох уж эти бараньи кости — альчики! У каждого три. Каждый долго трясет их в сомкнутых ладонях, подносит ладони ко рту, шепчет колдовские глупости, заповеданные отцом или дедом, братом или шурином — неважно: такими же, должно быть… Бросают по очереди, непременно выкрикнув ничего не значащее слово “гаркам!”. Каждый при этом производит те ужимки и жесты, которые должны открыть перед ними ворота счастья: один привстает, другой мечет из-за плеча, третий бледнеет и не может сдержать стона. Все, свершилось! Если падает горбом вверх — говорят: ослом упала, горбом вниз — конем. Выпало тебе три коня или три осла — кричи, плачь, смейся, снимай весь куш. Выпало у другого — куша нет, плакали твои денежки. Если ни у кого — добавляй на кон и снова кидай»2. «Однажды мы с Пашкой играли в ошички. Дело шло. Блестящие, отполированные руками бараньи косточки с треском сшибались. У Пашки была свинчатка, то есть кость, аккуратно просверленная и залитая свинцом, кость, которой цены не было, — сака. Она никогда не переворачивалась так, чтобы снова, будто по волшебству, не лечь на выигрышную сторону. Пашка выигрывал. Я отдал ему уже две ошички»3. Бабай4 / бобой Дедушка, почтительное обращение к старику — бобо; в русском языке Ташкента «бабаем» называли мужчину-узбека, чаще в ироническом контексте. Обязательный атрибут бабая — насвай5, который хранится в маленькой, специально для этого обработанной тыковке или в обычном мешочке. Из фольклорного нарратива: «Когда я была маленькая, у нас в детсаду разучивали узбекскую песенку про Ленина, и там был припев: “Ленин-бободжоним, Ленин-бободжон!”» (инф.: Медора Б.). «Он понимает, сколь много, сам того не желая, перенял от “бабаев”, и с удивлением убеждается, что лишь среди них мог по-настоящему ощущать себя русским»6. 1 Рубина 2006: 222. Волос 2000: 348–349. 3 Волос 2005: 69. 4 Рубина 2006: 119. 5 См. комментарий к слову насвай ниже. 6 Муратханов, 2005: 171. 2 349 Байрам1 Праздник, чаще связанный с обрядовой, ритуально-религиозной практикой. Балхана2 / болохона Второй этаж или балкон (само слово «балкон» восходит к балхане). Бара-бир3 /барибир Все равно, безразлично. Бешик4 Люлька, деревянная колыбель: «“Лепешка” — это прозвище. Может, из-за широкого затылка, приплюснутого от долгого лежания в бешике — колыбели»5. «Характерной приметой узбечат были плоские затылки — вероятно, от долгого лежания в бешике» (инф.: Екатерина Л.). «Традиционная детская колыбель — бешик, в которой на протяжении многих веков проводит первый год жизни практически каждый узбекский ребенок, опасна для здоровья младенца. <…> Результаты исследований, проведенных узбекистанскими и зарубежными медицинскими экспертами, показывают, что при помещении младенцев в бешик возрастает риск повреждения головного мозга и деформации черепа. <…> Однако узбекские женщины ценят преимущества традиционной колыбели, и советы медиков их не убеждают. <…> Бешик появился так давно, что никто не знает, когда, где и кем он был изобретен. Упоминание о нем можно найти в наиболее раннем памятнике тюркской диалектологии — трактате “Девону лугатит турк” (“Словарь тюркских наречий”) среднеазиатского ученого-филолога XI в. Махмуда Кашгари. Отдельные ученые считают, что бешик был завезен захватчиками в покоренные ими страны, так как помогал привлекать к труду родителей, имевших грудных детей»6. Бир, икки, уч, турт, беш, олти, етти, саккиз, туккиз, ун7 (в 1 Рубина 2006: Рубина 2006: 3 Рубина 2006: 4 Рубина 2006: 5 Рубина 2006: 6 Ибрагимов. 7 Рубина 2006: 2 385. 27. 174. 56. 56. 370. 350 узбекском правописании: бир, икки, уч, тўрт, беш, олти, етти, саккиз, т ўққиз, ўн) Один, два, три, четыре… десять: «Та тоже клеила кошельки, выстраивая их перед собой, считая, сбиваясь: “бир, икки, уч, тор, беш”… Вера улыбнулась и решила ей помочь: “олти, етти, саккиз, туккиз, ун…”»1, — женщина считает по-турецки, а героиня продолжает по-узбекски. Джаляб2 Матерное выражение на узбекском языке, аналог русскому слову «блядь»: «джалябкя!»3; «Катька, ти, сука, буд скромни кизимкя, ти не торгусся, джаляб!»4; распространенным матерным выражением, вошедшим в язык ташкентцев, является и такое: «аннаннисссски»5.6 «По внутреннему убеждению восточного мужчины… все женщины-неузбечки тайно или открыто подпадали под определение “джаляб” — проститутка, блудница, продажная тварь. Возможно, тут играло роль подсознательное отвращение Востока к прилюдно открытому женскому лицу»7. Из фольклорного дискурса: джаляб-хона — так в русскоязычной речи называют злачное место, аналог публичного дома (словообразовательная калька: чойхона, ошхона), еще говорят о «забитой женщине Востока» (ироничный отзыв о распущенной особе) (инф.: Владимир Ч). «– И женщина Востока сбросит с себя паранджу! окончательно сбросит с себя паранджу угнетенная женщина Востока! И возляжет… – Возляжет?!!.. <…> 1 Рубина 2006: 370 Рубина 2006: 46 3 Рубина 2006: 161 4 Рубина 2006: 46 5 Такое знакомое «ташкентскому уху» слово, равнозначное русскому посылу – к такой-то матери, оказалось сложным в графическом воспроизведении: после многочисленного опроса бывших и настоящих ташкентцев, сообща пришли к выводу, что надо писать так: онайни ски (второе слово – глагол – инфинитив: сектим), хотя в тексте Хамида Исмайлова «Железная дорога» искомое ругательство написано так: «онайниский». 6 Рубина 2006: 231. 7 Рубина 2000: 252. 2 351 – Веня! Скажи мне… женщина Востока… если снимет с себя паранджу… на ней что-нибудь останется?.. Что-нибудь есть у нее под паранджой?..»1. Джида2 / жийда Одновременно название дерева и плодов: сухие ягоды с косточкой (напоминают финики) с «вяжущим» вкусом; лох восточный (сорт унаби используется в медицинских целях). «Я даже вспомнила — каковы они на вкус, плоды этого дерева, вернее, ягоды — сухие, словно из папье-маше, ворсистые, как бархат»3. Дорихона4 Аптека; слово, ставшее, в виде привычной вывески, графическим атрибутом Ташкента. Из фольклорного дискурса: «Когда в середине 1990-х Узбекистан перешел на латиницу, появились странные надписи-гибриды — дело в том, что некоторые буквы из кириллицы были оставлены: DORIXONA — иностранцы читали: дориКСона, и были правы!» (инф.: Нора А.). Из фольклорного нарратива: «Я так долго не могла привыкнуть к этим надписям на аптеках, первое время то и дело вздрагивала: понимаете, у меня фамилия — Дорохина…» (инф.: Вероника Д.). Дувал5 / довол (разг.), или девор (литер.) Глинобитный забор — атрибут старого Ташкента. «Простая мудрость душу греет, что глина рухнувших дувалов, коль щедро корни сдобрить ею – рост виноградникам дает»6. «Недавно узбекские власти возвели в Черняевке7 бетонную стену, оградив казахскую территорию от потенциальных покупателей из недалекого отсюда Ташкента. В народе стену тут 1 Ерофеев 1990: 91–92. Рубина 2006: 427. 3 Рубина 2006: 427. 4 Рубина 2006: 428. 5 Рубина 2006: 28. 6 Книжник 1991: 39. 7 Поселение на границе Ташкента и Казахстана, куда ташкентцы последние десятилетия (со времен независимости) ездят продавать домашний скарб и затариваться более дешевой здесь провизией. 2 352 же нарекли “каримовским дувалом”. В дувале быстро появилась дыра — своего рода “окно в Европу”. Дыру по краям мажут дегтем, но всасываемый в нее людской поток не истощается, увлекая с собой в братскую республику негустые сбережения узбекистанцев»1. Зира2 Пряность, сухая, темного цвета (ажгон, индийский тмин, Cuminum cyminum) — приправа к пище: плову, мантам и др., добавляется во время варки или до (в фарш); обладает резким и приятным ароматом. Зира бывает четырех видов: персидская, кирманская, сирийская и набатейская. Существовало поверье, что зира спасает куриц и возлюбленных от блуждания (от «заблудиться», не от «блуд»), а жениху и невесте сохраненное в течение всего свадебного обряда зерно тмина сулит счастье. «Я решил потешить своих иерусалимских родственников настоящим пловом. Все компоненты были налицо, кроме зиры — душистой приправы. Зная, что в Израиле, как в Греции, — все есть, я пошел на базар искать зиру. <…> В лавке специй… два веселых парня осведомились, что мне угодно, я ответил, что не знаю, как это будет на иврите, и буду выбирать носом. Они приглашающим жестом указали на полки, уставленные сверху донизу банками, — нюхай. Довольно скоро я почувствовал знакомый ташкентский запах и показал банку хозяину. – А-а-а… Зира, — небрежно сказал он»3. Ичиги4 / возможно, от этикча (сапожки) Кожаные остроносые сапоги, или сапожки (в виде кожаного чулка, подошва тонкая, из одной кожи), на улице носят с узбекскими остроносыми галошами — «кавушами», кожаными или резиновыми (см. анекдот в комментарии к слову насвай). У Рубиной — пожилой барыга «в пестрых шерстяных носках, вдетых в остроносые узбекские ичиги»5. 1 Муратханов 2005: 166. Рубина 2006: 277. 3 Книжник 2003: 131. 4 Рубина 2006: 102. 5 Рубина 2006: 102. 2 353 Катык1 / қатик См.: Кислое молоко. Каса2 / коса Посуда для «первых» блюд — большая пиала емкостью с глубокую тарелку; в касе подается шурпа, или шурва, — популярный узбекский суп, также машхурда, мампар и др. Ташкентские русские часто говорят касушка (узбекский корень и русский суффикс). Что до «касы», то я свою красу на этот пир с собою принесу. Ты порцию, положенную гостю, клади мне не в тарелку, а в касу3. Кизим / кизимка4 Девочка; «кизимка» образовано при помощи русского суффикса -к-: «Кизимкя, бир пиалушкя катык кушяй…»5, то есть «девочка, одну пиалушку кефира…». Фольклорный нарратив: «Знаешь, какая отрядная песня у Хизболлистов6? Вспомни, мы в музыкальной школе хором пели: “Киз-бола, ой киз-бола-а-а, Киз-бола, ой киз-бола!” Это я так своих туристов веселю...» (инф.: Zimmermann). Кислое молоко7 Так узбеки по-русски называют простоквашу — катык; из кислого молока приготовляют множество блюд: айран (прохладительный напиток — разбавленное кислое молоко); чалоп (кислое молоко с овощами и зеленью, аналог русской окрошки); заправляют супы: хурду, угру чучвару (бульон с лапшой, пельменями и фрикадельками); подают ко вторым блюдам: к чучваре (аналог пельменей), мантам. Из фольклорного дискурса: «Во времена, когда не было шампуней (думаю, что и сейчас), узбекские женщины мыли свои длинные косы кислым молоком, это было питательно, возможно, оказывало эффект современных кондиционеров для волос, однако 1 Рубина 2006: 28. Рубина 2006: 239. 3 Файнберг 2009: II, 356. 4 Рубина 2006: 28. 5 Рубина 2006: 28. 6 Хизболлисты – от «Хезболлах» – террористическая организация. 7 Рубина 2006: 47. 2 354 при частом употреблении давало и не совсем приятный, специфический запах» (инф.: Нора А.). «Перед многими городскими банями-хаммомами когда-то (в моем детстве) сидели на земле узбечки и продавали катык для мытья волос. Шел бойко» (инф.: Медора Б.). Узбечки шли из предместий в город и, подходя к домам, в 6–7 часов утра зычно, растянуто выкрикивали: «Кислое молоко!». Фонетически точно это передала Дина Рубина: «Моль-лё-коу! Кислий-пресний мол-лё-ко-у!... Кисляймляка! Кисляймляка»1. Фольклорный нарратив: «Холодное кислое молоко в жаркий день — величайшее удовольствие! Из запотевшей банки достаешь ложкой кусочек белого “холодца”, он слегка подрагивает, но не стекает, поддерживаешь его ломтиком хрустящей горячей лепешки, отправляешь в рот… Кисло-сладкий комочек тает, оставляя вкус блаженства. Лучший комплимент молоку: “хоть ножом режь!”. И это не метафора. В Ташкенте до землетрясения дома были в основном одноэтажные, и редко у кого были ванные комнаты. Все ходили в баню. Выражение “заодно и помоемся” очень приложимо к данной ситуации — в баню ходили не только мыться, но и общаться. Отправляясь на это культурно-помывочное мероприятие, многие женщины вместе с шайками несли баночки с кислым молоком. Расположившись рядом с соседками, дружно принимались обмазывать себе голову, шею, грудь. <…> После такого мытья волосы обретали непередаваемый “аромат”, усиливающийся с каждым днем…» (инф.: Ольга П.). «Скажи, ты знаешь самый лучший способ есть кислое молоко? – Молоко? — удивился Бахром. Говорили по-русски, и он, видимо, решил, что не понял брата. – Ну, молоко… чакка, чургот2… да, да… знаешь? <…> – Тогда слушай… <…> История такая… Один бедняк пришел ко дворцу и стал требовать, чтобы его пропустили к шаху — он-де научит шаха лучшему способу есть кислое молоко. Шах удивился, думает про себя — какой еще лучший способ? все едят кислое молоко одним и тем же способом! он 1 Рубина 2006: 47. Чургот (у А. Волоса подчеркнутое ч читается как дж), или йогурт, – в такой огласовке слово вошло в русский язык. 2 355 сам этим способом с колыбели ест кислое молоко!.. Думал, думал — приказал, чтоб впустили и принесли чашку чакки и свежую лепешку. Бедняк стал аккуратно есть, развлекая шаха беседой, — и так, за молоком, лепешкой и разговором, завоевал его дружбу. Шах его наградил… осыпал милостями. Бедняк вернулся в село разбогатевшим. А в селе жил один богач, жадина и грубиян. Он спросил у бывшего бедняка, как ему удалось так быстро разбогатеть. “Да очень просто! — сказал бедняк. — Ты пойди к шаху, съешь на его глазах чашку кислого молока, и он тебя тут же озолотит!” Тот думает — ага! Если шах такой глупый, побегу скорее!.. Примчался в Бухару и стал ломиться во дворец. Его впустили. Принесли молоко и лепешку. Громко чавкая и кося на шаха жадным глазом, пачкая бороду и соря на халат, богатей принялся пожирать молоко. Когда он кончил и потребовал награды, разгневанный шах распорядился выдать ему сто палок»1. Текст Рубиной: «…поднесла к губам девочки пиалу. Катя потрогала губами прохладную кисловатую массу, похожую на жидкий студень из клея. А еще на довоенный кефир…»2. Кумган3 Ритуальный металлический (медный, серебряный и т. д.) сосуд для омовения перед молитвой: каждой молитве мусульманина должно предшествовать троекратное омовение в строгой последовательности — рук, полоскание рта, промывание носа, омовение лица, в конце — ног. Курпача4 / к ўрпача Стеганое ватное одеяло, но специфическое по размеру и назначению: узкие — «односпальные», на ночь раскладываются на полу — на них спят, утром они скатываются или складываются в угол комнаты, порой их много, стопка получается до потолка. Курт5 / қурт Белые сухие соленые съедобные шарики, кисломолочный продукт (изготавливается из массы под названием сюзьма/суз1 Волос 2000: 81–82. Рубина 2006: 28. 3 Рубина 2006: 238. 4 Рубина 2006: 27. 5 Рубина 2006: 112. 2 356 ма — процеженное кислое молоко); продают курт не только на базаре, — на любом углу, где сидит опушка, торгующая семечками, земляными орешками, отмеряемыми стаканчиком. И тут же курт — продается штучно, складывается в кулечек, скрученный из школьно-тетрадных исписанных листков; российский любитель выпить купит к пиву воблу, а житель Ташкента — курт. «Маленькое белое соленое яблочко»1. Из фольклорного дискурса: местная мифология содержит «крамолу»: якобы изготовители курта «катают его под мышками» (инф.: Нора А.). «Мне в Германию привезли из Ташкента 10 шариков курта. Случилась оказия в Америку, и решила я передать половину своей подруге в Майами. “Курьер” беспокоится: что он скажет, если спросят на таможне? Говорю ему: положи в багаж. Он не успокаивается: а если проверят в багаже? Говорю: скажи, что это узбекский пармезан» (инф.: Zimmermann). Лепешка с маслом2 , лепешка / нон Из фольклорного дискурса: «Лепешка — один из неповторимых продуктов узбекской кухни, по которому кумарит и скучает большинство ташкентцев на Западе (кумарить от кумар — дословно: состояние алкогольного или наркотического опьянения. В обыденной жизни сродни идиомам тащиться, переться — примеч. информанта). Очень вкусно намазать горячую лепешку сливочным маслом и употребить ее ранним летним утром. Также лепешка очень хорошо стыкуется с помидорами и каймаком (қаймоқ — сливки). В принципе лепешка весьма вкусна и без сопутствующих продуктов» (инф.: Гранель И.). «…Каленые узбеки выносили в тазах, накрытых полосатыми чапанами, горячие, только из тандыра, лепешки, от которых шел такой тминный томительный дух, что мимо пройти — никакой возможности»3. Ляган4 / лаган Блюдо, обычно керамическое, на нем подается плов, также другие яства (нежидкие), фрукты; ляганы, разрисованные 1 Афлатуни 2006: 19. Рубина 2006: 72. 3 Рубина 2006: 111. 4 Рубина 2006: 240. 2 357 художниками, продаются в художественных салонах и могут быть настенным украшением. «Это был талант от Бога — расписать товар вот так же, как художник расписывал ляганы и пиалы»1. А что такое, спросишь ты, «ляган»? Гони за объясненье чистоган. Желе ты дашь на блюде из фарфора. Плов на лягане я подам богам 2. Лянга3 (видимо, происходит от узбекского слова ланг — хромой) Фольклорный артефакт для мальчишечьей игры: кусочек меха с прикрепленным к кожаной стороне свинцовым слитком; лянга, подброшенная вверх рукой, как мячик, подталкивается удар за ударом ребром стопы — кто дольше продержит лянгу в прыгающем состоянии — тот побеждает. Фольклорный дискурс: «Учителя и родители гоняли мальчишек, играющих в лянгу, предупреждая и угрожая, что будет грыжа. У нас во дворе и девчонки играли» (инф.: Zimmermann). А. Волос «лянгу» объясняет так: «Лянга — самодельный волан из небольшого кусочка бараньей шкуры с пришитой к нему свинцовой бляшкой; его подбивают внутренней стороной стопы, не позволяя упасть на землю и выполняя те или иные фигуры. Аналогичная русская игра с несколько более простыми правилами называется чеканкой. Простяшки, пары, виси, люры и проч. — фигуры лянги»4. «…Играли в лянгу. Играли обычно у гаражей. В этот раз дело шло вяловато. Жирный Пашка, скосив от напряжения глаза к носу, растопырив пальцы и тяжело подпрыгивая, делал уже пары. Мы, сидя на корточках и качая головами вверхвниз, безнадежно смотрели, как мохнатая лянга, будто резинкой пришитая к его ноге, подлетает с мягким хлопком и снова падает на ногу, и снова подлетает. Пашка кончил пары и поймал лянгу. Разгладив шерсть, он подул в нее и хрипло сказал: — Люры! Мы согласились. — Р-р-раз! — рыкнул Пашка и, грохоча тяжелыми ногами, приземлился. Лянга красиво висела в воздухе. — Дв-в-ва! Тр-р-ри! С четвертой люры лянга 1 Рубина 2006: 240. Файнберг 2009: II, 356. 3 Рубина 2006: 182. 4 Волос 2005: 57. 2 358 сорвалась и, чиркнув свинцом по ботинку, упала на землю. — Четыре люры, — сказал Пашка, отдуваясь, и сел на мое место. Я сделал простяшки. С последней, пятой, лянга улетела далеко в сторону»1. «Умение хорошо играть в лянгу входило в обязательный “джентльменский набор” настоящего ташкентского пацана. Причем в “чисто европейских” районах, вроде тогдашнего Чиланзара, ничуть не меньше, чем в махаллях Старого города. Устыдись, несчастный, если ты не освоил хотя бы люр!.. <…> Сегодня лянга находится на грани вымирания. И распространение во всем мире комфортабельного, “вегетарианского” подобия лянги — сокса — никак не может утешить ностальгию по загадочной древней азиатской игре, спутнице нашего безвозвратно ушедшего детства»2. Махалля3 / ма ҳалла Небольшой жилой квартал частных застроек; в доперестроечное время давали такую оценку, с точки зрения говорящего — социально заниженную: он живет в махалле — это значило, что человек из «одноэтажного» района с узбекским населением. Фольклорный дискурс: «В махалле было демократическое управление. Совет старейшин разбирал все недоразумения и ставил жителей на место, следил за порядком. Директор Чиланзарской школы № 200 рассказывал: “Мы никогда не вызываем милицию. Если какой-нибудь парень ссорится с родителями, мы его вызываем, с ним аксакалы поговорят — и все в порядке”. Среди узбеков было определенное расслоение. Вспоминаю наш преподавательский дом, который стоял внутри узбекской махалли. Сын одного из руководящих работников института, узбек, кричал с балкона на сельских ребят, дразня их: “Эй вы, махалля!”» (инф.: Валентина Л.). Навруз4 /навр ўз Мусульманский обрядовый праздник — день весеннего равноденствия; «..я обожала надеть платье с карманами и в праздник Навруз ходить с узбечатами по домам — песни петь, получая за это что-нибудь сладкое»5. 1 Волос 2005: 56–57. 2 Кудряшов. 3 Рубина 2006: 44. 4 Рубина 2006: 176. 5 Рубина 2006: 176. 359 Накануне праздника Навруз начинают готовить сумаляк: женщины всю ночь «колдуют» над котлами, установленными во дворах (не только частных домов, но и современных многоэтажек), готовя его по рецептам, передающимся из поколения в поколение. Старые люди говорят, что только женщина с чистой душой способна сотворить это ритуальное блюдо; многие женщины стремились помешать шумовкой (капгиром) это коллективно создаваемое блюдо: по поверью, если она это сделает, то обязательно забеременеет. Насвай / носвой1 (или нос/нас) На узбекских базарах и базарчиках, на тех прилавках, где разложены семечки, орешки, курт, лежит и насвай — табак, закладываемый под язык. «Перед ней красовалась другая табуреточка, на которой лежали сигареты, несколько помятых конфет, насвай и другие продажные вещи»2. Анекдот: «На прием в Лувр случайно попал узбек — в ичигах и чапане. Ходит, видит роскошь, языком прицокивает: ц-ц-ц-ц! И решил “опустить” собравшихся. Подходит к холеному-лощеному официанту и говорит: “Братишкя, а насвой борми?” (братишка, а насвай есть?) Официант, обернувшись, невозмутимо отвечает: “Имеиссса!” (имеется)» (инф.: Тариэл И.). А вот своего рода мораль из этого анекдота — устами информанта: Хрущев ли Кеннеди под стать? Но жизнь — она груба... Любой способен жертвой стать: 1 «Основным компонентом насвая становятся махорка, табак или табачная пыль. Насвай изготовляется только в домашних условиях. В смесь добавляют гашеную известь, золу различных растений, верблюжий кизяк или куриный помет, иногда клей или масло – эти компоненты выполняют формообразующую функцию. Известь способствует всасыванию никотина в кровь через слизистую оболочку ротовой полости. Табачная пыль может заменяться более активными веществами. Известны ташкентский, ферганский, андижанский виды насвая и другие. Разнятся и названия: насыбай, нацвай, анасвай, асмай, атмай. Выглядеть он тоже может по-разному – как зеленые шарики или серовато-коричневый порошок. Насвай не курят и не жуют, его закладывают под язык, за нижнюю или верхнюю губу» [Пятибратова 2006]. 2 Афлатуни 2006: 13. 360 Харыпский1 кризис схлопотать, В Лувр залучив жлоба (инф.: Павел Ш.). «Понюшкой не угостишь? <…> Хороший какой у тебя табачок, — бормотал садовник, вытрясая насвой из полиэтиленового пакетика на ладонь. — У-у-у-у-у, табачок!.. <…> Он запрокинул голову, широко раскрыл рот и тотчас же запечатал его ладонью, произведя такой звук, как если бы хлопнул по горловине большой бутыли. И стал, шевеля щетинистыми белыми усами, по-верблюжьи двигать челюстью, укладывая насвой под язык. <…> …Когда сосешь насвой, лучше бы помолчать, потому что, во-первых, толком все равно ничего не скажешь, а во-вторых, при каждом слове горький табачный сок растекается по всему рту»2. Где бы ни находилась героиня-рассказчик Дины Рубиной, ее запрограммированный ташкентским бытием взгляд смотрит на внешний мир сквозь ташкентские реалии: «…мне попалась навстречу одинокая женщина — в просторной галабие до пят, черном платке и чадре. <…> Она сидела, расставив толстые ноги в кроссовках “адидас”, тяжело дышала… Потом достала откуда-то из кармана патрончик с таблетками, высыпала две на ладонь и закинула в рот (старые узбеки таким же опрокидывающим движением посылали с ладони в рот щепотку НАСА и медленно жевали его, сплевывая на землю длинной зеленой слюной. Это было так давно, в моем ташкентском детстве)»3 («Джаз-банд на Карловом мосту»). А что «насвой»? Насвой не даровой. Но я насвоем поделюсь с тобой. Чем никотином легкие поганить, ты лучше под язык забрось насвой4. Опá, опушка5 «Старшая сестра», традиционное обращение к женщине; русский суффикс, присоединенный к узбекскому слову, породил весьма употребительное опушка (апушка), когда говорят 1 Харыпский – от «харып», см. комментарии выше. Волос 2000: 305–306. 3 Рубина 2003: 144–145. 4 Файнберг 2009: II, 355–356. 5 Рубина 2006: 100. 2 361 о женщине-узбечке в третьем лице. В русском языке узбеков распространено обращение к женщине-неузбечке «сестра». Парварда1 Конфетки белого цвета, в виде «подушечек», продаваемые на вес, без обертки, изготовленные из карамельной массы: мука и сахар. Палван2 / полвон Сказочный герой-богатырь; силач. Пиалá3 Посуда для чая: маленькие чашки без ручки; чай в них наливают до половины — так принято; в быту говорят: знак уважения. «Насколько все-таки разумнее и удобнее, чем стаканы, наши узбекские пиалы… вы не находите?»4. Фольклорный дискурс: «Как объяснить европейцу, не жившему в Средней Азии, что такое пиала? Чашка без ручки?.. Как же ее держать?.. Пиала не чашка без ручки, а совершенно особый сосуд, выражающий суть неспешного восточного менталитета. Круглая сверху, она завершается небольшим по диаметру донышком, в ней нет “неудобного” для питья места (попробуйте выпить из чашки прямо возле ручки!..). Держат пиалу пальцами правой руки так, что ладонь принимает форму “подстаканника” и становится при этом частью единого сосуда. Руке передается тепло и растекается по всему телу… У узбеков не принято заполнять пиалу доверху, это считается знаком неуважения. Во-первых, из такой пиалы пить неудобно, а хозяин должен быть предупредительным со своим гостем. Во-вторых, главная функция чаепития — это общение. Именно с чаепития начинается, а не заканчивается, как у русских, всякое празднество. Неспешно передается пиала с душистым чаем из рук хозяина гостю. Чая в пиале немного, но хозяин все время следит, чтобы не было пустых пиал. Наливая чуть-чуть, он как бы говорит своими действиями: “Я рад еще сто раз наполнить пиалу свежим чаем, нам некуда спешить”. Европейцы, живущие в Узбекистане, с удовольствием пользуются пиалами, хотя, конечно, ритуаль1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 2 2006: 200. 2006: 241. 2006: 28. 2004д: 292. 362 ная и философская составляющие практически отсутствуют. Поэтому появилось выражение: “налей без уважения”, то есть полнее» (инф.: Ольга П.). Пиалу с полотен живописцев искусствоведы называют «суфийской иконой»1, а ее белый цвет символизирует ислам2. Самса3 / сомса, или самбуса (хотя в русском языке Ташкента это произношение непопулярно), — пирожки, выпеченные в тандыре или в духовке: с мясом, с тыквой, с зеленью: треугольные, четырехугольные; на базарах торговцы выкрикивают: «Закяз-самса, закяз-самса», что значит — заказная самса, то есть изготовленная по спецзаказу, отменная. Из фольклорного нарратива: «Когда мы собрались уехать из Ташкента, то, как и все, по воскресеньям выезжали на блошиный рынок в казахский Сары-Агач (недалеко от города), чтобы распродать домашнюю утварь. Накануне мне звонит мама и спрашивает, едем завтра или нет, говорит, что она уже самсу напекла. Я (не поняв, что целый день на базаре — есть-то что-то надо) удивился — что, продавать? — представив себе, как буду выкрикивать: “Закяз-самса! Закяз-самса!”» (инф.: Валерий А.). Стовосьмой 4 / стовосьмая5 Так называли и называют до сих пор маргиналов-экстремалов: бомжей, пьяниц, проституток; также этот эпитет употребляется в качестве негативного в любом другом контексте — значит, плохой: стовосьмое кафе, стовосьмые туфли, стовосьмой дом и пр. «Вот это ташкентское словечко неизвестного происхождения… Хотя как-то в юности мне объяснили, что статья сто восьмая Уголовного кодекса Узбекской ССР и была, кажется, предусмотрена за бродяжничество и проституцию… — неважно! В детстве оно означало у нас беспутную глупость, шала1 Апчинская 2007: 165. Апчинская 2007: 166. 3 Рубина 2006: 30. 4 Написание порядкового числительного сто восьмой в семантике Ташкентского текста выглядит именно так – стовосьмой. 5 Рубина 2006: 217. 2 363 вую безалаберность и особенную дикую волю в поступках…»1. Удивительную жизнь проживают некоторые слова. Стовосьмой — из этого ряда: опрошенные информанты (от 30 лет и старше) — все знают его фольклорную семантику, правда, ташкентские москвичи, или московские ташкентцы, удивляются, узнавая, что слово это и его ташкентская коннотация в России неизвестны. Семантический «кульбит» слова стовосьмой имеет следующий генезис: в Уголовном кодексе Узбекской ССР (в течение 1946–1954 гг.2) была статья 108′, она гласила: «Повторное нарушение правил прописки паспортов и заменяющих их документов влечет за собою принудительные работы на срок до шести месяцев или штраф до пятисот рублей. Проживание в местностях, где введена паспортная система, лиц, не имеющих паспорта или временного удостоверения и подвергшихся уже административному взысканию за указанное нарушение, влечет за собой лишение свободы на срок до двух лет»3. Классическая логика между статьей и семантикой слова стовосьмой в Ташкентском тексте отсутствует, налицо — иная, фольклорная логика: «Он рухнул рядом на диван, сграбастал ее, стиснул. <…> — Дура стовосьмая!»4, — это говорит, с долей иронии, влюбленный мужчина своей избраннице. В публикациях УК УзССР после 1954 г. такой статьи уже нет, а слово продолжает жить. Супа5, или суфа — род лежанки, глинобитное или каменное возвышение, на котором лежат или сидят во дворе. Теперь «супу» я разъясню тебе. Супа, Европа, это канапе, на коем и едят, и спят под небом, и женщину ласкают и т. п.6 1 Рубина 2006: 389. Более ранние публикации (до 1946 г.) в хранилищах библиотек отсутствуют – списаны, поэтому год рождения этой статьи УК мне неизвестен. 3 УК 1946: 42; УК 1954: 44. 4 Рубина 2006: 389. 5 Рубина 2006: 29. 6 Файнберг 2009: II, 355. 2 364 Сюзане1 / с ўзана Гобелен — гладкая ткань с вышивкой. «Сюзане “участвовали” в оформлении свадебной комнаты: их вешали на стену, ими накрывали свадебный, обитый жестью цвета золота сундук — сарпу — с приданым невесты. Раньше, в советское время, сверху клали диплом о высшем образовании, а теперь диплом кладут на самое дно сундука — чем меньше знает невеста, тем лучше для семьи» (инф.: Zimmermann). «Современные идеологи при поддержке узбекскоязычных СМИ активно культивируют в общественном сознании образ женщины — хранительницы очага, изо дня в день терпеливо ожидающей мужа в четырех стенах и безгласно принимающей любую его волю. У узбекской девушки с высшим образованием шансов на замужество мало. Рикошетом бьет это начавшееся после 1991 г. возрождение традиционных восточных семейных ценностей и по общественному положению русских женщин»2. Тандыр3 / тандир Специальная круглая печь для выпекания лепешек: сырые лепешки лепятся к внутренним стенкам печи, когда они подрумяниваются, их достают специальным ковшом-сачком. «“Главное в этом деле, чтобы глина, из которой делают тандыр, как и мука для лепешек, была тщательно просеяна, без комков. Иначе тесто будет неравномерно выпекаться”, — делится опытом тандырщик. Не менее важно при лепке тандыра соблюдать уклон, чтобы лепешка была полностью обращена к огню. Правильно изготовленный тандыр никогда не даст трещины и при бережном обращении может прослужить 5–7 лет. “Знаете, почему тандыр тверд, как камень, и не разваливается на части?” — спросил меня хлебопек Фахриддин. Я вспомнила рассказы женщин с нашего двора и сразу ответила, что в глину добавляется шерсть. Предварительно ее тщательнейшим образом очищают и расчесывают. Эти волоски поначалу служат связкой, прочно удерживающей глиняную массу, а затем, когда вылепленную и высушенную заготовку обжигают, шерсть выгорает, и внутри стенок тандыра 1 Рубина 2006: 328. Муратханов 2005: 167. 3 Рубина 2006: 29. 2 365 образуются своеобразные поры. При последующих нагреваниях в порах создается воздушная прослойка, благодаря которой внутри печи тепло равномерно распределяется по всему объему, и устанавливается естественный процент влажности. За счет этого на выпекаемом в тандыре хлебе и булочках образуется специфическая румяная корочка. Впрочем, тандыры бывают самыми разными по назначению: в одних пекут хлеб, в других — самсу, в третьих жарят мясо — тандыр-кебаб (или тандыр-гушт). Пища, приготовленная в такой печи, — и не пареная, и не жареная, и не вареная, и не печеная. В блюдах нет избытка жиров, но сохранены все природные соки»1. Танцы-шманцы2 Типично ташкентский прием — повторять созвучное слово — белиберду, например, плов-млов. Есть ташкентский анекдот-ойкотип: «Брежнев — Рашидову: Шараф, почему у вас в Ташкенте так странно разговаривают: чай-пай, базар-мазар? Рашидов: Культур-мультур такой!» (инф.: Нора А.). Иной вариант концовки: «Э, что с харыпов взять — культурмультур не понимают!» (инф.: Медора Б.). «Феллини-меллини… Чаплин-маплин…»3; «Норвегий4 Марвегий…» . Аналогичные каламбуры приводит А. Волос: «Карабахмарабах»5; «Не нужен лук-пук, масло-шмасло, мясо-размясо!»6; «Опять непорядки? Опять реактив-шмеактив?»7; «колбасамалбаса, помидор-мамидор»8. Энергией каламбура, идущего из глубин узбекского языка в симбиозе с русским, спроецирован и такой анекдот: «Прилетает Брежнев в Ташкент. Навстречу идут люди: – Ассалому алайкум! Помощники подсказывают Брежневу, как ответить: 1 Мамаднабиева 2004. Рубина 2006: 124. 3 Рубина 2000: 263. 4 Рубина 2000: 291. 5 Волос 2000: 83. 6 Волос 2000: 101. 7 Волос 2000: 108. 8 Волос 2000: 265. 2 366 – Ва алайкум ассалом! Через кордон прорывается единственный ташкентский диссидент и с вызовом кричит: – «Архипелаг ГУЛАГ»! Брежнев с понимающим видом: – Гулаг архипелаг!» (инф.: Алевтина Ш.). «В конце 80-х модно было присылать в Узбекистан врачебные бригады из России, якобы для помощи в летние месяцы. Называлось — врачебный десант. Доктор-реаниматор из Хорезма жаловался: — Э-э-э… Какой десант?! Днем он не может работать, он попал в Африку, ему жарко, он умирает. Вечером он оживает, кушает дыню, утром у него понос, он умирает. Я его реанимирую. Какой десант-месант?!»1. Той2 / тўй Праздник из области семейно-обрядовых практик, например, бешик тўйи — празднество по случаю укладывания младенца в колыбель; никоҳ тўйи — свадьба; чаще со словом той в русской речи ассоциируется обрезание. Все то, что скучно, не идет в молву. Но скучный пир твой я переживу. А вот уж если будет он веселым, то этот пир я «тоем» назову3. Тутовник4 / тут Тутовое дерево, шелковица, ягоды белые, красные, черные. «Во дворе у нее росло огромное тутовое дерево с черно-синими сладчайшими плодами. Вере разрешено было залезть наверх и набрать полную кружку, так что дня два после этого визита она с ухмылкой разглядывала в зеркале свой черный язык»5. «Лёня наклонился, подобрал с травы несколько ягод и сказал, что это редчайший сорт тутовника, царский, так и называется — “шах-тут”…»6. Фольклорный нарратив: «На рубеже 1950–60-х гг. в конце учебного года мы проходили трудовую практику: на лето домой 1 Книжник 2003: 123. Рубина 2000: 249. 3 Файнберг 2009: II, 356. 4 Рубина 2006: 222. 5 Рубина 2006: 261. 6 Рубина 2006: 339. 2 367 нам выдавали спичечный коробок с червями шелкопряда, черви были длиной где-то в сантиметр; мы их складывали в большую коробку, устелив дно ватой и листьями тутовника — наша задача, учеников 4–7-х классов на каникулах, состояла в откармливании червей. Каждый день листья тутовника надо было обновлять — черви питались свежими, благо тутовые деревья росли по периметру дома. Через месяц (или больше?) черви увеличивались сантиметров до 7–8 (могу ошибиться, это было так давно!). В какой-то момент они скручивались и наутро (никогда не могла зафиксировать этот самый волшебный миг) червей уже не было — на их месте были коконы, белые коробочки, легкие, казалось, пустые, чем-то напоминающие арахисовую скорлупу. (Иногда их надо было успеть обдать кипятком, чтобы червь изнутри не проел стенку — а вот когда, не помню.) Коконы мы относили на сборный пункт — принимали на вес — практика заканчивалась. Знать бы тогда, что мы наблюдали уникальное явление природы — рождение шелковой нити без вмешательства человека! Все воспринималось обыденно и заземленно» (инф.: Неля З.). Усьма1 / ўсма Краска растительного происхождения, используется для окраски бровей. «Целыми днями деятельно наводили красоту: выдавливали на донышко пиалы сок из листьев усьмы, макали в него спичку с накрученной ваткой и рисовали брови “чайкой”. Брови были зелеными, прекрасными, заползали на виски…»2. «В Намангане яб-лоч-ки зреют, а-а-роматные… на меня не смотришь ты-и, а-неприятно мне-е!»3. Далее в песне есть слова: «Усьмой брови наведу, подведу глаза сурьмой — первой я не подойду, сам пойдешь за мной». Ураза4 / р ўза Мусульманский пост в священный месяц Рамадан (у узбеков — рамазан). По поводу этого поста в Коране сказано: «О вы, кто верует! Предписан пост вам, / Как он предписан был для тех, кто был до вас, / Чтоб благочестие могли вы об1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 2 2006: 2006: 2006: 2006: 154. 154. 272. 30. 368 рести / На дни, определенные числом. / Но тот, кто болен иль находится в пути, / Предписанные дни поста / Поститься должен в дни другие. / Для тех, кто может пост держать (с трудом), / Назначен откуп — накормить голодных. / Но кто по своей доброй воле / Прибавит к этому (другое благо), / Так будет лучше для него. / (А если все-таки при тяготах земных)/ Вы пост (намеренно) блюдете, / Вам лучше (Господом воздастся), — / О, если бы вы только знали! / И месяц Рамадан есть тот, / В который (Господом) Коран / Ниспослан в руководство людям, / А также с ясным наставленьем / И различением (добра и зла). / И кто из вас застанет его (дома), / Поститься должен в продолжение его, / А тот, кто болен иль находится в пути, / Предписанные дни поста / Поститься должен в дни другие, — / Аллах вам создает возможность облегченья, / Он не желает отягчать вам жизнь, / Чтоб завершили вы число, назначенное Им, / И славили его за то, / Что Он стезею праведною вас направил, — / Чтоб вы могли быть благодарны» (2: 183–185)1. Урта маълумот тугрисида аттестат2 / Ўрта маълумот тўғрисида ша ҳодатнома аттестат «Вот он, передо мной, мой Урта маълумот тугрисида аттестат…»3 — аттестат о среднем образовании, «клеймо» всех окончивших школу в Узбекистане, правда, подобные документы были выполнены на двух языках — русском и узбекском; в перечне учебных дисциплин обязательной была такая — «узбекский язык». В советское время в русских школах преподавали его по образу и подобию литературных персонажей XVIII — XIX вв. — учителей-иностранцев: фонвизинского Вральмана, пушкинского мосье Бопре и проч. Из фольклорного нарратива: «Мне не известен ни один ученик той советской поры, который бы выучил узбекский язык по окончании школы — собственно, никакой методики преподавания не существовало, да и учителями этого предмета были случайные люди. Знали узбекский язык те немногие не-узбеки, которые с детства жили внутри махалли среди носителей язы1 Порохова 2004. Рубина 2006: 199. 3 Рубина 2006: 199. 2 369 ка. А вот ташкентские узбеки в большинстве своем говорили по-русски правильно — в советской повседневности существовал такой дидактический стереотип для узбеков: “Хочешь выйти в люди, иди в русскую школу”» (инф.: Нора А.). «Ты, говорят, человек грамотный, в русской школе в райцентре учился и четыре года у русской библиотекарши по ночам гостил, рассуди…»1. «На кухне в фартуке колдовал над большим казаном Мирза… <…> …Он говорил по-русски правильно, пожалуй, слишком правильно, с лекционными интонациями»2. Узбекских школ тем не менее в Ташкенте было не меньше русских. Все изменилось после обретения Узбекистаном самостоятельности: русские школы стали постепенно сворачиваться, русский язык — уходить из официального поля, из торговых ярлыков и проч. «Все-таки странно — родиться в Хуррамабаде, расти, ходить в хуррамабадскую школу, дружить с таджиками — и ни в зуб толкнуть, кроме случайно запавшего: тереза — окно… талаба — ученик… муаллим — учитель… Дело было не в том, что учителя таджикского то и дело уходили из школы. На смену одному через некоторое время являлся другой — такой же неважно одетый, скованный человек, плохо говоривший по-русски. Должно быть, на уроки они приходили, как в пыточную камеру — класс беспрестанно гоготал… как только учитель отворачивался к доске, в него летела жеваная бумага… однажды дебил Некрасов запулил в классную доску чернильницей, и она, словно бомба, взорвалась в полуметре от головы очередного мученика… и было одновременно жутко и смешно смотреть на забрызганное лицо, на котором ходуном ходили белые губы… Разумеется, они не могли никого ничему научить — отчасти потому, что сами плохо знали, как это делается, но главное — потому что никто не хотел ничему учиться. <…> Дело таджиков было знать русский, чтобы понимать то, что им советуют, а вовсе не наоборот. Ценно было быть русским…»3. 1 Афлатуни 2006: 6. Рубина 2000: 263–264. 3 Волос 2000: 88–89. 2 370 Чапан1 / чопон Стеганый халат без воротника: его можно носить зимой — от холода, летом — от жары; чапан бывает обыденным, бывает праздничным — расшитый золотой нитью или стеганный по парче. Когда 1960–80-е гг. студенты проводили на хлопковых полях по два месяца, это была очень удобная, ни к чему не обязывающая одежда. «Почему пиджак?! — брызгая слюной, заорал вдруг один из них, упираясь в Камола сумасшедшим взглядом белых глаз. — Костю-ю-ю-юм!! Почему-у-у-у!! Его обступили здесь же — словно сжался кулак и всеми пятью пальцами обхватил вожделенный предмет. — Ты не таджи-и-и-ик! — кричал белоглазый, содрогаясь. — Таджик должен носить чапа-а-а-ан! Русская сволочь!..»2. Чачван3 / чачвон Покрывало для сокрытия лица женщины, изготавливалось из конского волоса (в виде частой сетки), род паранджи. Чиройли4 Красивый: «Ай, чиройли кизимкя!..»5 / «Ай, красивая девочка…». Юсуповские помидоры6 Сорт помидоров: в повседневности так называют большие, крупные помидоры розового и красного цвета неправильной формы, сладкие на вкус. «…Любовался каким-нибудь атласным “юсуповским” помидором, с курьезно и неприлично торчащим клювиком…»7. «Я из Ташкента, сейчас в Норвегии. Дома не был 3 года, хочется жары, курта и юсуповских помидоров» (инф.: Ник «Граник»8). «По поводу юсуповских помидоров… Этот сорт культивировали в колхозе Усмана Юсупова, кстати, личного друга Хрущева» (инф.: Владимир Ч.). 1 Рубина 2006: 33. Волос 2000: 165. 3 Рубина 2006: 170. 4 Рубина 2006: 236. 5 Рубина 2006: 236. 6 Рубина 2006: 55. 7 Рубина 2006: 55. 8 Электронный ресурс. php?t=16196&start=6 2 URL: 371 http://club.osinka.ru/viewtopic. Персоналии Ташкентского текста От героев былых времен Не осталось порой имен… Евгений Агранович Знаменитые личности, существующие в пространстве Ташкентского текста, — это и реальные люди, посетившие Город, и мифологизированные фигуры, присутствующие в нем виртуально: в школьных учебниках, на тетрадных обложках, в каменных изваяниях Города, голосом на грампластинке, в образе киноперсонажа, — все они создавали своеобразный культурный фон Города. Здесь пойдет речь только о персонаж Ташкентского текста, упомянутых в прозе Дины Рубиной. Волков Александр Николаевич (1886–1957) — народный художник Узбекистана, преподавал в Ташкентском художественном училище (1929–1946). Картины «Гранатовая чайхана», «Девушки с хлопком» выставлены в Третьяковской галерее, «Колхозник» — в Музее искусства народов Востока. «…Картины шута сейчас не укупишь»1. О Волкове Александре Николаевиче его современники пишут как о дервише, пешком исходившем все тропы Средней Азии, своим внешним видом эпатировавшем «нормальную» советскую публику: с браслетами на руках и ногах, в черной накидке, черном берете, с подкрашенными бровями. Грабовский Борис Павлович (1901–1966) — первым в мире получил сигнал, приведший к созданию телевидения, но волею судьбы остался в безвестности2: «Гениальный Грабовский… здесь, в Ташкенте… проходило испытание “телефота” — первой в мире телевизионной установки, им изобретенной…»3. Има Сумак — самый уникальный вокал ХХ в. — редчайшее сопрано, достигавшее пяти октав; настоящее имя Зоиля Аугуста Императриц Каварри Дель Кастильо (Zoila Augusta 1 Рубина 2006: 321. Меламед. 3 Рубина 2006: 321. 2 372 Emperatriz Chavarri del Castillo). Благодаря таланту и яркой красоте, Има Сумак была в ряду первых мировых знаменитостей на протяжении 50–80-х гг. ХХ в.: «…знаменитая Има Сумак — перуанская дива, женщина-гора с топорным лицом гиганта-транссексуала… Чудовищный диапазон голоса Имы Сумак — пять кругосветных октав — вмещал в себя рокот джунглей, подземный гул возмущенных недр, шум водопада, рев леопардов, визг диких кабанов и пронзительное пение диковинных птиц экватора. <…> Я очень боялась ее пения»1. Хлебушкина Антонина Павловна — директор ташкентского детского дома № 22, вырастившая более трех тысяч детей-сирот; посмертно награждена золотой медалью им. Льва Толстого (став одним из трех первых лауреатов этой премии за наиболее весомый вклад в дело защиты детства — вместе с американским врачом Альбертом Брут Сэбин и шведской писательницей Астрид Линдгрен). «А вообще — узбекский парнишка, Арип, Арипчик. Фамилия — Хлебушкин. Он детдомовский, а их директор Антонина Ивановна Хлебушкина всем сиротам свою фамилию давала»2. «Один из дней я провел в детском доме у Антонины Павловны Хлебушкиной, удивительной женщины, ставшей матерью для многих сирот военного времени»3. Из поэмы «Мама Хлебушкина»: Откуда в человеке силы? – Иному верится с трудом: Ведь не дитя усыновила, Усыновила детский дом. В победу верила упрямо, – И верили сироты ей, И называли словом «мама» Сто дочек, сотня сыновей. И в ней была такая сила – Сильней, чем голод и метель. Она б весь мир усыновила, Когда бы он осиротел. Мягка, стремительна, упряма, Полна участья и затей… 1 Рубина 2006: 216. Рубина 2006: 56. 3 Арро 2002. 2 373 Сегодня тысячи детей Ей нежно пишут: «Здравствуй, мама!..»1. Робертино Лоретти — итальянский певец-подросток рубежа 1950–60-х гг., исполнявший в основном традиционные народные итальянские песни, кумир советских людей. В ответ на отказ Лоретти выступить в СССР СМИ «вбросили» миф о том, что «капиталисты нещадно эксплуатировали талант Лоретти, заставляли его очень много гастролировать»2. Популярными песнями из репертуара Робертино Лоретти в советском песенном мейнстриме были «Санта Лючия», «Джамайка», «Аве Мария». «Куда делся мой Робертино Лоретти, мой ангел, в серебряном плаще из небесной “Джяма-а-а-йки-и-и!”…»3. «И наконец на сцену выбежал, подрагивая ляжками, толстенький господин, похожий на хозяина пиццерии. <…> Грянула “фанера”, певец дунул в микрофон и запел… Все переглянулись. Звука не было. Продолжая петь, он показал на ухо, покачал головой… <…> Господи, главное, чтоб не запел он “Санта Лючию”! <…> Он запел, показывая залу, чтобы все подпевали… <…> Знойный Ташкент всеми открытыми полетнему окнами моего детства дышал мне в спину глубоким голосом ангела, выводящего “Са-ан-та-а-лю-у-чи-ийа”…»4. Рубинский Ташкентский текст представлен не только демонтированными памятниками, уничтоженной топонимикой, поевропейски модернизированными базарами, но и разрушаемыми на глазах современника мифами — таков миф о Робертино Лоретти. Ибн Сина, Фуркат, Низами, Аль-Хорезми, Хамза5 — «культо1 Шуф 1979. Семенов. 3 Рубина 2006:217. 4 Рубина 2004д: 414–415. 5 Ибн Сина (980–1037) – Абу Али Ибн Сина (в европейской транскрипции – Авиценна), медик, логик, поэт; родился близ Бухары, писал на фарси и арабском языках. Фуркат Закирджан (1858–1909) – поэт, публицист. «Чтобы избавиться от феодальной отсталости, писал Фуркат, чтобы двигать вперед экономику и культуру страны, необходимо быть вместе с русским народом, близко знать его жизнь» [Расул 1981: 4]. Интересно, как сегодня трактуется эта знаковая прежде фигура: он по-прежнему в фаворе или траве2 374 вые» персоны узбекского историко-культурного пространства: «В моем ташкентском детстве так — в чалме и халате — было принято изображать великого Ибн Сину и других, менее великих персидских — Фурката, Низами, Аль-Хорезми… Эти изображения на обложках тетрадок, дневников и учебников претерпевали множество превращений: к ним пририсовывались рога, очки, курительные трубки и сигары»1; «Из архива киностудии Анжелла приволокла два литературных сценария… “Али-баба и сорок разбойников” и “Хамза”… <…> Главные роли в обоих фильмах играл один и тот же известный узбекский актер. Так что образы Али-бабы и основоположника узбекской советской культуры невольно сливались у меня в немолодого, одутловатого выпивоху в лаковых туфлях»2 («Камера наезжает!..»). Михоэлс Соломон Михайлович (1890–1948) — артист, режиссер Еврейского театра в Москве, педагог. Находился в эвастирован вместе со многими былыми «тотемами»? Низами (1141–1209) – азербайджанский поэт, почитаемый еще Алишером Навои и после узбекским народом. Педагогический институт в Ташкенте носит имя Низами. Аль-Хорезми (783–850 – неточно) – полное имя – Абу Абдаллах Мухаммад ибн Муса ал Хорезми; математик, астроном, историк, географ Средневековья. В латинской транскрипции имя Аль-Хорезми звучало как Algorizmi или Algorizmus: имя автора стало нарицательным – средневековые европейские математики так называли арифметику, основанную на десятичной позиционной системе счисления. Позднее именем математика стали называть всякую систему вычислений по определенному правилу, теперь этот термин означает предписание, задающее процесс вычислений, начинающийся с произвольных исходных данных и направленный на получение результата, полностью определяемого этими исходными данными, – алгоритм. Хамза (1889–1929) – Хамза Хаким-заде Ниязи, «основоположник узбекской советской литературы». «…Однажды… они… оказались в Шахимардане, поселке, известном тем, что там когда-то забросали камнями певца народных чаяний Хамзу Хаким-заде Ниязи. Его жизнь Вера проходила по школьной программе. А однажды на конкурсе школьных хоров… она слышала исполнение лучшим хоровым коллективом – спецмузшколы Успенского – песни “Хой, ишчилар!” (“Эй, рабочие!”), на стихи вот этого самого бедняги. Дядя Миша бормотал: “Библейская казнь, побиение камнями”…» [Рубина 2006: 287]. 1 Рубина 2002б: 214. 2 Рубина 2000: 232. 375 куации во время Великой Отечественной войны в Ташкенте вместе с театром ГОСЕТ1. Знаковая личность в истории советской и еврейской культуры, оставившая «след» в Ташкентском тексте: «Знаешь, какая театральная жизнь была в военном Ташкенте! — Что за спектакли? — Ну, разные… В ГОСЕТе, например, шли “Тевье-молочник”, “Фрейлахс” с Михоэлсом и Зускиным…»2. «А еще мне повезло, и дядя Коля, сторож при театре, вынес мне почти целую, с одним рукавом, телогрейку, сказал: “Носи, босота! Эту телогрейку Михоэлс надевал!”»3. Комиссаржевская Вера Федоровна (1864–1910) — русская драматическая актриса, свои последние гастроли провела в Ташкенте. Заболев оспой, она скончалась во время пика гастролей 10 февраля 1910 г. «За состоянием здоровья великой актрисы следила вся страна, коллеги посылали телеграфом в столичные газеты ежедневные сообщения-бюллетени. Лучшие врачи Ташкента боролись за ее жизнь. <…> Горечь потери всколыхнула Ташкент. Корреспондент “Туркестанских ведомостей” писал, что на траурной церемонии 11 февраля “…можно было видеть и мундиры военных, и траурные костюмы дам, и рваную чуйку рабочего…”»4. Голендер Борис Анатольевич — ныне здравствующий «главный архивариус Ташкента»: историк, краевед, культуролог, хотя по образованию химик. Выступления Б.А. Голендера по телевидению, его публикации в прессе — бесценный материал по сохранению истории Города. Авторитет любого ташкентского коллекционера старых открыток, фотографий с видами города, документов по архитектуре, культуре Ташкента всегда подкрепляется фразой типа «Сам Голендер восхищен» или «Даже у Голендера в коллекции нет такого». Несмотря на то, что в рубинской прозе имя Голендера не упомянуто, его «дыхание» ощутимо: вряд ли возможно было восстановить многие пласты Ташкентского текста без влияния Бориса Анатольевича, пусть и не персонифицированного в тексте. 1 ГОСЕТ – Государственный еврейский театр. Рубина 2006: 38. 3 Рубина 2006: 322. 4 Голендер 2005в: 65. 2 376 Категория времени в Ташкентском тексте «В Москву! В Москву! Мне здесь и воздух горек». Хоть знаете, что это — ерунда, Что этот город дан нам навсегда, Что мы здесь мы. А там? Зачем? Куда?1 Михаил Книжник Но кто нас защитит от ужаса, который Был бегом времени когда-то наречен?2 Анна Ахматова Был Город — не стало Города — таков основной мотив романа Рубиной «На солнечной стороне улицы». В интервью по выходе книги писатель сказала: «…если бросить взгляд назад, в века, то в глазах замельтешит от смены империй, народов, границ… кто может предсказать, сколько просуществует та или иная страна, народ? Об этом ведь, собственно, и написан мой роман»3. Писателю вторит «голос» фольклорного нарратива: «Ну, был Город. Ну, жалко, что все разрушено: парки, памятники, кафешки, жалко вырубленных вековых деревьев, обидно, что всех нас разметало по свету. Но посмотрите на фотографии времен доколониальных, снимки XIX в. — там и в помине нет того Ташкента, который дорог нам. Он местному, то есть узбекскому, населению и не нужен. Когда в перестроечные времена анкетировали узбекскую интеллигенцию, там были “знаковые” ответы: нам не нужны театры, не нужны библиотеки; не нужны “русские” заводы и фабрики, нам нужна наша прежняя, традиционная культура. Разрушен “наш” Ташкент, зато строится их Город, такой, какой нужен им. А мы уехали. А Город продолжает жить. Своей жизнью. Без нас» (инф.: Инна Ф.). Возможно, Время, действительно, мудрый судья: пришла пора новой, в чем-то прежней, далекой-прежней жизни Горо1 Книжник 1991: 22–23. Ахматова 1990: I, 237. 3 Копылова 2006а. 2 377 да. Ведь Ташкент — «каменный город» (такова этимология): было время разбрасывания камней, настало время их собирания? Может быть, «время», сотворив этот странный кульбит — Ташкент ХХ века — совершило ошибку? И не нужны были уродливые перипетии в жизни людей, трагикомично воссозданные Рубиной. Возможно. Но были люди, был Город, которого больше нет, — а значит, была История, попытка воссоздания которой с опорой на рубинский Ташкентский текст содержится в этой главе. В одной из повестей Рубина строит диалог между преподавателем музыки и студентом, вчерашним «пастухом», далеким от ментальности столичной жизни и тонкостей русского языка, диалог, который опосредованно говорит о противоестественных процессах, происходивших в том Городе, которого нет: «– Так что это — “серенада”? – Ашул-ля, — наконец выдавил он. – Правильно, песня… На каком инструменте обычно аккомпанирует себе певец, исполняющий серенаду? <…> – Рубаб-гиджак, дрын-дрын… – М-м… правильно, на гитаре… Э-э... “серенада”, как вы знаете, — “ночная песнь”, исполняется под балконом… чьим? <…> – Там эта… девчонкя живет…<…> – А нельзя ли больше чувства… Ведь это песнь любви… Поймите. Ведь и вы кого-нибудь любите? <…> – Нет! Нет! Мы… не любим! <…> Мы… женитц хотим!»1, — комизм (и трагизм одновременно) этого диалога в том, что люди говорят на разных «языках», в их сознании присутствуют разные ценностные, бытовые «алгоритмы», модели общежития. Юный «музыкант» не понимает учителя, учитель не понимает, почему юноша никак не перестроится на «правильный», «человеческий» лад, а рассказчик мудро резюмирует и вопрошает: «…стоит ли скрещивать пастушескую песнь под монотонный звук рубаба с серенадой Шуберта?»2. Время Ташкентского текста — прошедшее. Оно вызывает как ностальгические чувства (маркируемые в мифологии повседневности как позитивные) — у Рубиной «колодец памяти»3, 1 Рубина 2000: 254–255. Рубина 2000: 255. 3 Рубина 2006: 310. 2 378 так и критические (маркируемые как негативные) — «компост памяти»1. Красиво звучащее иностранное слово «компост» по семантике не столь красиво — «смесь навоза с торфом»2, хотя эффект от применения компоста в реальной жизни — созидательный, продуктивный. Использованные Рубиной метафоры неслучайны, в них заложена интенция Ташкентского текста: не только оплакать Город, которого нет, но и создать языком литературы и фольклора прецедент запоминания, нарисовать историко-культурный этюд своеобразной цивилизации, специфического «этноса» — процветавшего и вдруг исчезнувшего. Почему? Ответ на этот вопрос не в компетенции литературы, писателя. Каждый, заинтересованный и тронутый этим «текстом», ответит, или будет искать ответ, самостоятельно и по-разному3: так как область эта — «таинственный лес человеческой памяти»4. «Наверное, человеку свойственна привязанность к местам своего детства и юности… Может, потому, что в них, как в зеркале, как на глади озера, запечатлен твой образ в те годы, когда ты был счастлив… А если и зеркала того уже нет? Если исчезли с лица земли те улицы и здания, деревья и люди, которые тебя помнили? Это неправильно, знаете… Города должны жить долго — дольше, чем люди. <…> Это плохо, когда человеческая память переживает память города, да еще такого обаятельного и милосердного города, каким был Ташкент, который всех нас берег и хранил, а вот мы его — не сохранили…»5. 1 Рубина 2006: 285. Компост – органическое удобрение, смесь навоза с торфом, соломой, землей, ветвями, фосфоритной мукой и т.п. (Новейший словарь иностранных слов и выражений. М.: АСТ, 2002. С. 420). 3 Один из ответов сформулировал ташкентский краевед Б.А. Голендер: «…старый Ташкент “умер”, но рождается другой. И мы живем на этом “стыке”. <…> С одной стороны, для людей, которые здесь росли и жили, жаль терять старый Ташкент. С другой – город не может превратиться в музей. Если это происходит, он умирает. <…> Ташкент никогда не отличался стремлением к сохранению памятников. К сожалению. <…> Но, может быть, это и не плохо, потому что является показателем жизнеспособности нашего города?» [Голендер 2005б: 22–23]. 4 Рубина 2006: 321. 5 Рубина 2006: 179–180. 2 379 «Интересно — куда подевались все эти люди…»1. «Куда подевалась вся моя жизнь?.. <…> Я ныряльщик, спасатель… Уходит под воду океана времен мой город, со всеми моими людьми, деревьями, улицами, домами… — так корабль погружается в пучину, со всеми своими пассажирами; и только мне одной дано извлечь из глубин несколько эпизодов минувшей жизни, несколько лиц, несколько сценок, предметов… Увы, мои силы не беспредельны. Я ныряю и ныряю, с каждым разом погружаясь все глубже… Все холоднее и опаснее воды моей памяти, — однако снова и снова я стараюсь достичь самого дна — искатель черного жемчуга… Там, в глубине, над моей головой борются течения, относят меня в сторону потоки… и видимость становится все хуже и хуже…»2. Все превращено в «компост» памяти — тем не менее, «узора милого не зачеркнуть». Рассказчик, попадая в уже чужой город, философски и оптимистично заключает: «…воздушные стены его (города) расступились и приняли меня. Воздушные стены исчезнувшего города, в котором мне по-прежнему было хорошо»3. Чужой город, переряженный в незнакомые одежды, зажил другой жизнью — ведь ему всегда было свойственно карнавальное существование. Но старый Ташкент будет жить в виртуальном пространстве столько, сколько его будут помнить старожилы и их потомки: Я стану старожилом этих мест. Я стану сторожить и буду помнить июльский град и распорядок комнат в домах давно снесенных, и невест преувеличенно широкие наряды, загадочную смерть актрисы У., на площади небравые отряды – не в эту, в предыдущую войну, писателя, что, мучаясь виною, роман писал (рыбачил, пил вино), о том романе мальчика с вдовою, из книги позже сделали кино, срубившее призов и первых мест, 1 Рубина 2006: 226. Рубина 2006: 227–228. 3 Рубина 2006: 427. 2 380 хотя по самой сути вышло лживо, я стану старожилом неких мест. Жизнь положу, но стану старожилом1. Мотив исхода из города потомков тех, кто «понаехал» не в таком уж давнем прошлом, в очередной раз в современной литературе становится главным в рассказе А. Грищенко «Ребро барана» (2009). Старик узбек, персонаж рассказа, со страстью коллекционера собирает весь «русский» хлам, он «твердо знал: уедут все русские, поумирают, увезут с собой вещи или повыкидывают — и все, ничего подобного больше не будет в городе»2. Потому он священнодействует над своими сокровищами: «несколько шахматных фигур из слоновой кости, бронзовое распятие со стершейся эмалью, гипсовые губы Давида, четыре с половиной алюминиевых бюстика Сталина, которые он выстраивал в колонну строго по росту…»3. Русские уходили, уезжали, способные «…пешком дойти до Москвы!»4. «Еще в девяностые годы дом был полон жизни, не говоря уже о более ранних, благословенных временах, золотых временах, когда и фонтаны на площадях Ташкента били выше и веселее, и официозные розы и парадные канны цвели пышнее, а ирисы и тюльпаны в садике Розы Францевны не переставали радовать ее многочисленных друзей»5, но все в прошлом, «… история в этом месте кончилась, а та, что шла снаружи или даже внутри, но в каком-то параллельном городе, была чужая и страшная история…»6, «нигде русских не было больше, чем на кладбище»7. Кто не уезжал сам, с тем обходились как-то особо изысканно, по-восточному церемониально. До сих пор ходит на Востоке молва о специфическом угощении пловом: врагу гостеприимно-подло впихивали в рот баранью косточку. О том «ритуале» угощения красноречиво повествует А. Волос: 1 Книжник 2001: 16. Грищенко 2009: 139. 3 Грищенко 2009: 139. 4 Грищенко 2009: 143. 5 Грищенко 2009: 141. 6 Грищенко 2009: 145. 7 Грищенко 2009: 145. 2 381 «…самый старший за столом начинает всем по очереди делать оши ту — берет вот так в ладонь плов, да?.. (Макушин завороженно кивнул, следя за тем, как Фазлиддин Ходжаевич, словно руководствуясь инструкцией ученого секретаря, и в самом деле запустил пятерню в маслянистую горку риса.) Немножко его вот так сминает, да?.. — торопился секретарь, — раньше, говорят, на пирах у беков неугодным гостям сюда еще одну такую особую баранью косточку закладывали… говорят умные люди, что бог специально ее создал для таких случаев… видите, как?.. да, закладывали такую маленькую косточку, чтобы гость наверняка подавился и умер… о, беки такие дела делали!.. вот… и гости все по очереди открывают рот… — Фазлиддин Ходжаевич поднял на Макушина взгляд холодных черепашьих глаз, занося руку так, словно хотел швырнуть содержимое горсти ему в физиономию; Макушин, продолжая польщенно улыбаться, покорно раззявился. И — р-р-р-аз! Ладонь Фазлиддина Ходжаевича змеиным броском залепила рот. Макушину показалось, что в глотку вогнали кол — плотный кляп риса, моркови и нескольких кусочков мяса подействовал на него примерно как удар казаном по голове…»1. Картинку финального угощения пловом воспроизводит и А. Файнберг в поэме «Струна Рубайата», правда, подлога-подтекста в адрес европейца, которого кормят, нет, но впечатляет агрессивный напор угощающего: Еще твоя не ведала Европа обычай под названьем «ошатыш». Запомни этот месяц и число. Тебе сегодня крупно повезло. Ты помнишь, оставался холмик плова? Так вот сейчас узнаешь, для чего. Бухой ошпоз с глазами, как стекло, под лампочку пробрался, где светло, и проведя ладонью по лягану, в нее трамбует плова полкило. Покачиваясь с пятки на носок, над рисом жира водрузив кусок, 1 Волос 2000:107. 382 ошпоз икнул, рыгнул, и в заключенье воздвиг над жиром пареный чеснок. Вот это, я скажу вам, бутерброд! Рукой махнешь — и руку оторвет. Хеопса пирамида на ладони. Ну, европеец, открывай свой рот. Да, к ошатышу не был ты готов. Ни горла не жалея, ни зубов, ошпоз ладонью давит, как бульдозер. И кажется — в мозги вползает плов. Ладонь ошпоза — целая каса. И горло запрокинув в небеса, прижал к затылку уши бедолага, в безмолвной муке выкатив глаза. Что эти очи выразить могли? А то, что здесь, от родины вдали в него забили атомную бомбу, и шнур бикфордов к бомбе подожгли. Он лучше б выбрал на Голгофе крест, чем проходить через такой ликбез. Однако ошатыш в его желудок с большим трудом, но все-таки пролез. Да, ошатыш, дружок, не эскалоп. Но не криви обиженно свой лоб. Ручаюсь головой, такого кляпа и ЦРУ придумать не смогло б1. Этот же ритуал воспроизведен и в сюжете у А. Грищенко — в конкретном локусе — Ташкенте: «Георгий ненадолго пережил тетку: погиб при странных обстоятельствах, в разгар знаменитого “хлопкового дела”, — подавился насмерть на министерском торжестве, вроде когда плов ел. Привезли его домой с распахнутым, незакрывающимся ртом, а из глотки торчала баранья косточка, — так и хоронили, прикрыв лицо платком»2. Эта самая косточка, вынесенная в заглавие в виде 1 2 Файнберг 2009: II, 364–366. Грищенко 2009: 141. 383 «ребра барана», становится главной интригой рассказа. Жена так печально «угостившегося» косточкой хранит ее как реликвию. И вдруг косточка исчезла. В четырех небольших главах рассказа рефреном звучит: где косточка? Может, ее унес бывший зять Славик, так неожиданно собравшийся в Россию? А косточка непростая, заговоренная, что тревожило ее «хозяйку»: «…ведь если уже убила она, эта косточка, одного человека, то кого-нибудь еще убить может. Не верилось и в то, что шептали ей тогда соседки-татарки: заговоренная, мол, кость, от заговоренного барана, его нарочно на смерть человеческую откармливали»1. Так и случилось — сгинул Славик. В контексте рассказа косточка превращается в символ. Кто успел — уехал, не успел — косточкой. Помните, Салтыков-Щедрин в «Господах ташкентцах» не раз упомянул «баранину» как главный манок времен рождения «русского Ташкента»? Аукнулась та «баранина» во времена исхода — «косточкой». Круг замкнулся. По-разному складывается судьба носителей Ташкентского текста: кто-то покинул город, кто-то остался, для одного это «земля обетованная», для другого горечь воспоминаний («кость в горле»), но все скорбят о русском Ташкенте, который теперь уже стал фактом истории. 1 Грищенко 2009: 145. 384 Город-карнавал В изгнаньи сладость острая была, Неповторимая, пожалуй, сладость. Бессмертных роз, сухого винограда Нам родина пристанище дала1. Анна Ахматова Город Ташкентского текста нарисован не только посредством сознания наблюдателя, но и участником действа — по законам карнавала, с отсутствием в нем сцены с актерами и зала со зрителями. Участник карнавала одновременно актер, и зритель, и режиссер — координатор карнавального действа. «Думаю, что тут виновато еще одно странное качество моей натуры: с детства я рассматриваю жизнь как вереницу неких сцен. И поскольку в сценах приходится принимать участие, я одновременно становлюсь и зрителем, то есть наблюдаю развитие действия таким, каким мне его предлагают автор пьесы и актеры»2. В Городе-карнавале не может не быть органичных для этого действа фигур — юродивых, травестированных персонажей, монстров, клоунов. Ими наполнен рубинский Ташкент: это городские сумасшедшие, трансвестит Маруся, юродивый Роберто Фрунсо, стиляга Хасик Коган, «дирижер», баскетболистка-великанша — их дороги, проложенные через все локусы Города, так или иначе пересекаются в эпицентре Карнавала — историческом месте — Сквере революции. Именно в нем, в Сквере, сконцентрирована карнавальная энергия Города: его «одежды», яркие, монументальные, скидываются покарнавальному быстро (нет времени на обдумывание деталей «костюма», главное — успеть влиться в праздник, озадачить метаморфозой), удивляя участников действа травестийными перевоплощениями. Городу-карнавалу ничего не стоит превратить главного героя повести — милиционера — в свободную женщину Востока, ее же, прежде жившую по законам шариата, сделать секретарем 1 2 Ахматова 1990: I, 216. Рубина 2006: 204. 385 партячейки; бабушка по законам карнавала травестируется в дедушку, аксакала1; памятник царскому генералу Кауфману сменяется, пройдя ритуальный ряд «подпревращений», фигурой противоположной идеологической символики — Карлом Марксом, и не просто «фигурой», а карнавально-пугающей «головой»; и по той же логике — логике абсурда, перевертыша, ситуации «наоборот» — «голову» сменяет фигура на коне — бывший «враг», ныне «друг» Тамерлан. «– …Дядь Миш, но ведь Мао Цзе-дун — наш друг? Он страдальчески морщится: — Ну… да, Веруня… это — для школы… Но, конечно же, — нет, Веруня… какой он тебе друг? Бандит, негодяй, узурпатор…»2, — подобная карнавализация свойственна была, конечно, не только ташкентской ментальности, это — свойство советской мифологии повседневности вообще. Популярны в русском фольклоре Ташкента анекдоты, в которых сочетается узбекская и русская лексика, рождая комический эффект. «Ночь. В доме все спят. Стук в дверь. Хозяин (зло и грубо, не открывая двери): Ким бу? (Кто там?) Голос за дверью (тоненько): Бу гестапо. (Это гестапо). Хозяин: Нима керак? (Что надо?) Голос за дверью (тоненько): Партизанлар бор? (Партизаны есть?) Хозяин: Йук! (Нет!) Голос за дверью (тоненько): Кечирасиз! (Извините!)» (инф.: Нора А.). Слушателю, «выключенному» из Ташкентского текста, такой анекдот непонятен и, соответственно, не смешон — то есть прагматика жанра (рассмешить) не реализована. «Ухо» же участника Ташкентского текста обнаруживает целую цепь карнавальных кульбитов: во-первых, травестированы интонационные акценты, во-вторых, непереводимые слова с узбекскими аффиксами (не ставшие активной лексикой) сами по себе нелепы, в-третьих, комична ситуация — «гестапо» в узбекском контексте. В Ташкентском тексте присутствует одна перипетия, не вошедшая в роман Рубиной — по причине ее относительной 1 2 Рубина 2000: 260. Рубина 2006: 262. 386 недавности. Начало ХХI в. для Ташкента — это американизация города в прямом смысле1. Город увешан объявлениями — «поможем оформить выезд в США», среди горожан ощутимо стремление к «американским ценностям» (так как политика республики строилась с явным расчетом на поддержку США)2. Но после андижанских событий 2004 г. с политическим флюгером случился карнавальный перевертыш: все американские организации были выдворены из города, установки поменялись: теперь «Большой брат» Ташкента не «янки», а русские. Фольклорный дискурс: «Ташкент. 2006 г. Еду в такси. Доброжелательный водитель-узбек интересуется, откуда я. Обрадовавшись, что я из России, говорит, что теперь мы заживем! Теперь станет лучше! Россия поможет, скоро деньги будут общие, ведь Путин — наш, самаркандский, в молодости он работал в Янгиюле, просто это не афишируется. Но все знают, что он уже двух человек своих поставил в правительство» (инф.: Светлана В.). «Обнимитесь, миллионы!» — так названо одно из художественных полотен рубинской героини Веры Щегловой. В контексте романа этот лозунг читается как призыв ко всем жившим и не жившим в Ташкенте, простым обывателям и «высоким», наделенным властью, идолам и их прототипам — реальным людям, «тотемизированным» Историей. Это — антилозунг, ответ официозу, любому, всех времен («Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Трудящиеся Ташкента, превратим наш город в город социалистического труда!»), и не только, это ответ любому идеологическому «маркетингу», бытующему в повседневности, — «Езжай своя Россия!» — заставившему многих ташкентцев-неузбеков подумать о смене географии 1 Комически обыгран этот новый и недолгий период Ташкента в фильме «Чудная долина» (2004 г., режиссер Рано Кубаева). 2 В те годы жила надежда на приток американцев и утопические настроения, связанные с улучшением жизни: «Американцы пока появляются на публике редко. “Да, пара из них приходила уже сюда на базар”, – говорит один торговец. Однако он разочарован, надежда на приток потенциальных покупателей не сбылась. Это может измениться, если численность передового отряда будет увеличиваться, о чем сообщала “Washington Post”: в Узбекистан должны быть переброшены 50 000 человек и 400 боевых самолетов. Для торговцев настанет пора бизнеса» (Die Welt. 2001. 29 октября. [Электронный ресурс.] URL: // http://uzland. freenet.uz/2001/october/31/04.htm). 387 проживания1. 1 Диалог с информантом: «– Есть ли в повседневности какие-либо тексты, лозунги, “выдавливающие” неузбеков из Ташкента, как в 90-е гг., когда в почтовых ящиках можно было обнаружить листовки с текстом “Русские, езжайте в Рязань, татары – в Казань”? – Насчет лозунгов… почти уверена, что таких нет и никогда не было: узбеки, по сути, не националисты, ими были до поры до времени только представители “культурной прослойки”, я знала таких в литературной среде, но официально, по-моему, никогда не звучало, а уж сейчас и подавно, когда давно уже осознана неразрывная зависимость от России и делается такая большая ставка на нее. Видимо, настало время, когда отступили под напором экономических проблем проблемы межнациональные: всем настолько трудно жить, что не до бурления национального самосознания. И поэтому у узбеков, переставших винить во всех бедах пришлых, снова проявились их исконные качества, в первую очередь гостеприимство – как в золотые пятидесятые, шестидесятые годы. При всей скупости, хитрости, велеречивости – гостеприимства и дружелюбия у них все-таки не отнять. А теперь, когда “русских” здесь осталось так мало, местные особенно остро ощущают себя, как пишут в газетах, “титульной нацией”, хозяевами, а всех “ок кулок” воспринимают как гостей. Я сама это ощущаю на себе каждый день, в том числе на базаре: раньше, когда шла между рядами, торговцы при виде меня радостно потирали руки (одно выражение отрешенное чего стоило у дамочки!), а теперь уступают цену, часто даже не торгуясь. Правда, многие “нетитульные” представители не так благодушно настроены и считают, что у нас положение изменилось в основном благодаря драконовским мерам, принятым против малейших проявлений национализма. Настолько, что дискриминацию по национальному признаку сейчас даже не нужно доказывать, достаточно просто заявить. Нашего соседа-пенсионера на его разбитом, шкандыбающем “Запорожце” остановил гаишник, сделал прокол и в этой самой обычной перепалке имел неосторожность сказать – мол, если ты такой законник, езжай в свою Россию. Тот, тоталитарный мужичок старого закала и довольно сволочного типа, накатал заявление в милицию. Так этот гаишник потом месяц за ним бегал и умолял забрать обратно права – так его трясли за эту историю. Ведь даже русский сейчас введен вторым государственным языком, правда, молчком, статья внесена, но об этом мало кто знает, официально в прессе не объявляли» (инф.: Медора Б.). «Утверждать, что узбеки не любят русских, было бы не совсем справедливо. Первый агрессивный всплеск национального самосознания на волне независимости сошел довольно быстро – как только стало ясно, что оставшиеся в республике русские мало того что суверенитету отныне не угрожают, но и родине своей исторической ничуть не интересны. К русским в Узбекистане питают смешанное чувство соболезнования и брезгливости – как к непонятным, но безобидным загостившимся чужа- 388 Возможно, этот гуманистический и гуманитарный пафос романа — «Обнимитесь, миллионы!» — утопичен, «не отражает жизненных реалий», но ведь было же: «мы увидим небо в алмазах», «я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь…». «Я шла, и все было по пути, все кстати, все двигалось со мною, вдоль и обочь меня, словно я стала осью, вокруг которой нарастал мой собственный, давно утонувший, город. Он собирался, восстанавливался, восставал из выцветших картинок моей безалаберной памяти, как восстанут в будущем мертвые из маленькой, но нетленной косточки»1. И они восстали: и Миша-бедоносец, и Стасик-кентавр, и Лагманщик на Алайском, и острословы в чайхане — и весь затонувший Город, благодаря мессианской сути Творчества: художнического и писательского ремесла. Голос из «хора» — эмигрантского нарратива — тоже свидетельствует о «жизни» Города: «...Когда у меня изпод задницы выдернули мой Ташкент и я обнаружил себя в городе, в котором я не согласен был жить дальше, встала необходимость поиска места. А я такой тип, который не может быть ниоткуда. Помните, у Фазиля Искандера теория о “поэтах дома” и “поэтах бездомья”? Так вот, я хоть и невеликий, но поэт дома, и я должен этот дом построить, поскольку лет пятнадцать назад прежнего дома лишился... Собственно, этим я и занимаюсь все годы… Причем во всех смыслах, от грубо-материального до самого, блин, метафизического. Результаты положительны, но не триумфальны. В Ташкент приезжал не лечить ностальгию, а с задачами по большей части утилитарными. Никогда так не подыхал (как пес) от ностальгии, как в последние мои годы жизни в Ташкенте. Оттуда коллекция открыток, которую даже сам Голендер уважает, и разыскания о городских достопримечательностях. Все это люблю и поныне, но не болею этим. Израиль я люблю тоже. <…> …Ташкент из понятия реального стал субстанцией абсолютно духовной, невидимой, вроде еврейского Бога…» (инф.: Михаил). *** Воссозданный благодаря роману Рубиной и голосам коренных жителей Города и покинувших его, Ташкентский текст свикам, дом которых сгорел за время их отсутствия» [Муратханов, 2005: 169]. 1 Рубина 2006: 428. 389 детельствует о существовавшем в определенный период истории этносе. Безусловно, этот научный термин выполняет в данном контексте функцию метафоры, тем не менее — все условия, предъявляемые наукой для существования этноса, в Ташкентском тексте налицо. «Моделирование системы “этнос” должно быть задано хронологически»1 — Ташкентский текст охватывает период «вавилонского» существования города, в основном русско-узбекский континуум ХХ в. Среди самых общих признаков, объединяющих народ в этнос, значатся: биосфера, климат, ландшафт, ареал, территориальная обособленность, самосознание (мы — они; ташкентские — «харыпы»), язык (гибридный русскоузбекский язык, или поле билингвизма), топонимы (отразившие период поликультурного, полиэтнического существования), имена собственные (узбеки часто, находясь в русскоязычной среде, придумывали себе «русские» эквиваленты узбекских имен, например, Ахмад — Саша, Махмуд — Максим и наоборот: «Его звали теперь не Сергеем и не Сережей, а Сироджиддином»2), артефакты, традиции, обычаи, уклад жизни, быта, этикетные формы поведения. Все эти составляющие этноса присутствуют в Ташкентском тексте — культурном феномене ХХ в. Названия картин художника Веры Щегловой — главной героини ташкентского романа Дины Рубиной — феноменальны тем, что в них знаково, словами-сигналами представлен Ташкентский текст, период его расцвета и заката. В них зафиксированы самые яркие и значимые локусы Города, местный гастрономический артефакт, жизнь базара, ташкентские бедолаги — наследие ссыльного статуса у имперского Ташкента, городские сумасшедшие, уход близких, полиэтничность и… исход: другие берега. Тема присутствия художника на улицах Города, в толпе, в водовороте мегаполиса, по мнению исследователя «искусства города» Дэвида Фрисби, уникальна в художественном пространстве: «Наиболее энергично выразил эту цель Людвиг Мейднер в манифесте 1914 г.: Мы наконец должны начать писать свой мегаполис, навеки возлюбленный нами дом. Лихорадочной рукой, на бесчисленных холстах размером с фрески мы должны запечатлевать все эти восхитительные и любопытные вещи, ото1 2 Герд 2005: 50. Волос 2000: 99. 390 бражать всю чудовищность и весь драматизм его проспектов, вокзалов, фабрик и башен… Улица состоит не из игры тонов и полутонов (как это представляют нам импрессионисты), она бомбардирует нас свистящими очередями окон, гоняющимися друг за другом огнями всевозможных средств передвижения и тысячью завывающих светил, фрагментов человечества, рекламных щитов и угрожающих бесформенных масс цвета»1. «Сквер революции», «Купальщицы на Комсомольском озере», «Лагманщик с Алайского базара», «Аския», «Илья Иванович гадает», «Диссидент Роберто Фрунсо вручает красного петуха Барри Голдуотеру», «Танцы в ОДО», «Житие святого Миши-бедоносца», «Убегающий узник», «Умелец Саркисян», «Решение», «Сеанс черного стриптиза в Милуоки». Апофеозом Вериного творчества можно назвать картину с загадочным названием «Обнимитесь, миллионы!» — возможно, в нем сокрыта авторская позиция, чувство к своим бывшим и нынешним соплеменникам (не случайно Вера не желает комментировать так и не понятое окружающими название), к «Ташкенту», который рассеялся по миру, но бесконечно притягивает к себе живших в нем: интернет-форум бывших ташкентцев — тому свидетельство и благодатный материал для исследования эмигрантского дискурса2. Фольклорный нарратив: «Помню, еще много лет назад — когда начался массовый отъезд из Ташкента — мне, сильно приунывшей от неотвратимого сужения моего острова общения и все более грозно наползающей пустоты, пришла в голову мысль о том, что все мы, где бы ни были, хотим того или нет, — все равно являемся братьями и сестрами великого в своей теплой сердечности Ордена Ташкентцев. Этакие — не “дети вдовы”, а скажем — “Не-Сироты” (знаменитое “Ты не сирота” Гафура Гуляма), во всяком случае, воспитанники многодетной семьи, всегда ей благодарные...» (инф.: Медора Б.). Вернемся к переплету романа Дины Рубиной «На солнеч1 Фрисби 2002: 11. «Обнимитесь, миллионы! / Слейтесь в радости одной! / Там, над звездною страной / Бог, в любовь пресуществленный. / Кто сберег в житейской вьюге / Дружбу друга своего, / Верен был своей подруге, / Влейся в наше торжество! / Кто презрел в земной юдоли / Теплоту душевных уз, / Тот в слезах, по доброй воле, / Пусть покинет наш союз!» (Ф. Шиллер. «Ода» / Л. ван Бетховен. «Ода к радости»). 2 391 ной стороне улицы» — в закрытом фешенебельном «евроокне» видится символический смысл: город стал краше, помпезнее. Все, что напоминало об имперской колонизации, «закатано в асфальт»: парки, памятники, вывески с городскими топонимами. Закатаны и дувалы, старые базары. И в этом есть, наверное, здравый смысл — Город должен жить иначе. Но это уже другой город — закрытый, незнакомый. Теперь я всех благодарю, Рахмат1 и хайер2 говорю И вам машу платком. Рахмат, Айбек3, рахмат, Чусти4, Рахмат, Тошкент! — прости, прости, Мой тихий древний дом. Рахмат и звездам, и цветам, И маленьким баранчукам У чернокосых матерей На молодых руках…5 От «солнечной стороны улицы», нарисованной Рубиной, в реальности осталась тень, отраженное присутствие прежней русско-ташкентской жизни. «Минует несколько десятилетий — и “белые негры” Средней Азии, возможно, сами превратятся в тени, в недостоверное воспоминание о русском присутствии в этом крае. История никого и ничему не учит. Но вспомнят когда-нибудь и о них»6. 1 Рахмат (узб.) – спасибо. Хайер/хайр (узб.) – до свидания. 3 Айбек / Муса Ташмухамедов (1905–1968) – узбекский писатель, автор романов «Священная кровь» (1943), «Навои» (1945), повести «Детство» (1962), стихов. 4 Чусти / Набихон Ходжаев (1904–1983) – узбекский поэт, псевдоним – от города Чуст, что в Наманганской области, городе рождения поэта (город Чуст – родина традиционной для узбеков черно-белой тюбетейки – чусти). С 1939 г. работал в Ташкенте литературным консультантом и директором драматического театра им. Мукими. (1939–1942). Возможно, был репрессирован (сведения о Чусти в энциклопедической литературе отсутствуют). С 1959 по 1968 – научный сотрудник Института языка и литературы. 5 Ахматова 1990: II, 47. 6 Муратханов 2005: 174. 2 392 Прозаические циклы «Цыганка» Сборников рассказов Дины Рубиной опубликовано много: издатели тасуют их в разных составах, вынося на обложку заглавие то одного, то другого рассказа/повести1 — такова издательская политика, коммерческий проект — к литературоведческому анализу подобная циклизация отношения не имеет. А вот с точки зрения собственно авторского замысла интересны два сборника — «Цыганка» и «Несколько торопливых слов любви»2, первородно предложенных читателю как циклы рассказов. Рассказы из сборника «Цыганка» композиционно разведены на две части: «Между времен» и «Между земель». В таком поле подзаголовков автор словно бы обозначает хронотоп сюжета сборника, замысла как целого. Разговор о сборнике «Цыганка» не случайно вынесен в финальную главу. Сборник представляется в некотором роде программным — в нем собраны все темы, все мотивы, волнующие автора на протяжении уже довольно длинного ее творческого пути. Но зазвучали они по-особому — акцентно; не то что бы выразительней (рубинский стиль всегда и везде отличался эмоциональностью и экспрессией), а как бы собранные воедино в сцене-апофеозе. Это характерные для рубинской прозы темы и мотивы: таланта и творчества, памяти, еврейства, сосуществования религий, Ташкентского текста, Иерусалима. И объединяет их метафизическое, иррациональное, вынесенное в заглавие сборника — «Цы1 Вот неполный перечень сборников, изданных издательством «Эксмо»: «Школа беглости пальцев» (2008), «Чужие подъезды» (2008), «Я и ты под персиковыми облаками...» (2008), Избранная проза (2008), «В России надо жить долго» (2007), «Альт перелетный» (2007), «Один интеллигент уселся на дороге» (2007), «Их бин нервосо!» (2007), «Ангел конвойный» (2005), «Когда же пойдет снег?» (2005), «Наш китайский бизнес» (2004), «На Верхней Масловке» (2004). А были сборники, изданные другими издательствами: «Ретро», «Симпозиум», «Вагриус». 2 Я не соблюдаю хронологию в рассмотрении этих сборников: безусловно, «Несколько торопливых слов любви» вышел раньше. В данном случае срабатывает свой, диктуемый логикой исследования подход. 395 ганка». За словом, конечно, тянется шлейф — спектр смыслов, бытующих в обыденном сознании. А теперь по порядку. Рассказ «Фарфоровые затеи» построен в виде интервью, диалога: вопрос — ответ. Собственно повествователя в сюжете нет. Якобы создатель текста проявляется только в ритмично отбиваемом слове пауза — создается эффект записанной на диктофон беседы, да трех предложений, предваряющих интервью — портрет интервьюируемой: «Она крошечная, смуглая, иссушенная — словно обжиг прошла. Седая косица, заплетенная сзади. Глаукома, уже оперированная, но прогрессирующая»1 — своего рода медицинский анамнез. Об обстановке (диван «Шурик», собачка Гуля, нехитрые угощения), на фоне которой происходит диалог (но все же в большей степени — монолог), о телодвижениях интервьюера узнаем от бенефицианта — девяностолетней скульпторши, проработавшей всю жизнь, смолоду на фарфоровой фабрике в Дулёво, Евгении Леонидовны Ракицкой. Первые ее изделия были названы мэтром «фарфоровыми затеями», с тех пор и пошли целые серии: театральный цикл с «Принцессой Турандот», чеховский… Но не столько важны автору, а с ним и читателю фарфоровые затеи Евгении Леонидовны, сколько восхищает сама жизнь скульпторши — «…Это уже не жизнь, это эпоха!»2. Биография ее началась еще до революции в доме миллионера-лесопромышленника, затем экспроприация, сталинские репрессии, неустроенность быта. В рассказе между прочим мелькают знаковые для российской истории, литературы, искусства имена: Фрунзе, Аверченко, Тэффи, Волошин, Книппер-Чехова, Фаина Георгиевна Раневская… Ни жалоб героини, ни сожалений об ушедшем — жизнь была наполненной творчеством, работой, и трудной работой. Безымянный интервьюер подготавливает вопрос: «Вот художник-живописец: пошел, заказал подрамник, натянул на подрамник холст, поставил на мольберт, взял кисточку, выдавил и смешал краски и написал, что хотел»3. «А у нас все только 1 Рубина 2007а: 9. Рубина 2007а: 42. 3 Рубина 2007а: 37. 2 396 начинается…»1, — подхватывает интервьюируемая. И дальше идет рассказ о тяжелых физических и нервных процессах работы-творчества и о ни с чем не сравнимом счастье в итоге. «Потому что — работа, творчество?.. – Потому что — свобода… Неохватная внутренняя свобода. От мужа, картежника и гуляки… от свекрухи проклятой, от всей муторной крестной тяготы… Потому что — любили меня там, были там друзья, помощники, приблудные звери… И какая-то была райская чистота души, рук и глины… Вечная первозданность мира: глина… огонь… новорожденное Творение… Потому что в эти часы и мгновения — ты Бог… <…> … как Бог… <…> …как Господь Бог…»2. С таким персонажем — «музейной старухой» — читатель уже сталкивался в повести «На Верхней Масловке»: тоже скульпторша, тоже жизнь-эпоха, тоже историко-биографический кульбит из аристократов в пролетарии, тоже неустроенная (по меркам обывателя) личная жизнь. Типаж один, но характеры разные: жесткая Анна Борисовна, стесняющаяся своих благородных порывов и потому прячущая их за ворчание и придирки, и миролюбивая, оптимистичная Евгения Леонидовна. Она даже о жестокости людской вспоминает без зла: «У меня была птица знакомая, одноногая голубь. Прилетала ко мне на свидания, я ее кормила. Почему одноногая? Добрые люди оторвали»3. Вспоминаются «добрые люди» из рассказа Б. Маламуда, свернувшие шею птице — птице-еврею. Антисемитская тема в «Фарфоровых затеях» тоже присутствует, она — составляющая истории как таковой (а жизнь героини, как уже сказано, эпоха), о ней помнит Евгения Леонидовна по детским впечатлениям: «Однажды посреди степи на поезд напала банда красных. Один, мордатый такой, голос сиплый, крикнул: “Евреи есть? Выходи!”»4; «Вас крестили? — Нет. Саша (мать Е.Л. — Э.Ш.) сказала “Я родилась еврейкой, и моя дочь ею останется. И пусть будет, что будет. Пусть нас вышлют”»5. Но не это главное в рассказе. Главное — это гимн творчеству — синтезу труда 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 2 2007а: 2007а: 2007а: 2007а: 2007а: 38. 43. 25. 15. 18. 397 и таланта, и память, конечно, — о времени, истории, людях. Вот вековечные темы литературы, но также и наиболее яркие темы в творчестве Дины Рубиной. В рассказе «Душегубица» вступает новая партия (не для прозы Рубиной — для данного сборника) — коварство и любовь, злодейство и талант, «любовная горячка и страшное преступление»1. Забегая вперед, надо сказать, что в рассказе «Адам и Мирьям» о способности человека к такой раздвоенности, о наличии в нем этих антиномичных полюсов сказано следующее — героиней Мирьям, сверх меры повидавшей в жизни: «Видите ли, милосердие и страх, добро и жестокость не распределены между разными людьми, а соседствуют в каждом человеке»2 — мудрость не новая, в отечественном дискурсе, как известно, застолбленная за Достоевским, но, тем не менее, каждый раз звучащая свежо — потому как, несмотря на открытие еще в XIX в., слабо работает в повседневности, привыкшей рассматривать мир в черно-белом раскрасе. Душегубица — это родственница лесковской леди Макбет Мценского уезда, только украинской глубинки, — не терпящая предательства, со страстностью идущая до конца (но не своего, как Катерина Измайлова, а возлюбленного). Угробив любовника, душегубица Берта была оправдана присяжными, так как в ход пошла круговая семейная порука. Бертин любовник был ее двоюродным братом, семья не могла потерять сразу двух сородичей: братья, жалея свою тетку, мать Берты, произнесли «роковые слова обличения: да, брат был легкомысленным обманщиком, совратителем невинной девицы»3. Такая непонятная — вне логики как таковой, но в логике чести отдельной семьи, отдельного рода — этика встретится в сборнике еще раз — в рассказе «Туман», где в метафоре туман читается непонимание мира, в котором перемешаны разные культуры, разные ментальности: обычаи, ритуалы, представления о справедливости, чести, добре, зле. С легкостью преступив, ничтоже сумняшеся, Берта-душегубица пошла по жизни и дожила до девяноста лет — как ее 1 Рубина 2007а: 52. Рубина 2007а: 118. 3 Рубина 2007а: 118. 2 398 соседка по сборнику — скульпторша Евгения Леонидовна. И ведь Берта тоже не без таланта: в ее «светлейшей голове под легкомысленными кудряшками с легкостью проворачивались все финансовые операции»1, «Она с ходу называла суммы вложения, оборот, проценты… А под рукой ни карандаша, ни листочка, ни, упаси боже, деревянных счетов. <…> …Ротшильд! Морган! Рокфэллер! — вот кем она стала бы в другое время и в другой стране…»2. И ведь не наживы ради: после смерти на «сберкнижке у Берты от всех накопленных с Мишенькой срэдств оставалось 32 рубля 40 копеек»3. Талант финансиста двигал ее жизнь, создавал драйв существования. Даже в старости, когда Берта по причине дряхлости вынуждена была сдать себя на попечение племянника, к ней продолжали ходить за советом цеховики. Талант? Конечно! — Дина Рубина идет по следам Н.С. Лескова, который создал целый ряд уникальных, далеких от привычного понимания этого слова, талантов — штопальщика, парикмахера (тупейного художника), Левшу. Но главным мотивом рассказа «Душегубица», играющим стержневую роль именно в составе сборника, видится мотив памяти. Это внучатая племянница Берты, рассказчик и молодая писательница, услышала во время очередного шефского визита к своим родственницам, бабкам, их ругань и брошенное Берте «Убийца!». Началось внимательное рассматривание фотографий, допрос мамы, реанимация семейных воспоминаний — родился рассказ (рассказ в рассказе). «Как жаль, что желание различить свои черты в предыдущих коленах родни приходит в том возрасте, когда валы времени уносят неумолимо щепки человеческих жизней. Не нарочно ли это задумано для того, чтобы каждая новая жизнь прокатывала и прокатывала заново считанные сюжеты судеб; молодость с ее животной жаждой сиюминутной жизни, молодость, отметающая все, что было до, — вот наилучшая плотина между потоком времени и озером человеческой памяти»4, — заключает автор. 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 2 2007а: 2007а: 2007а: 2007а: 48. 57. 67. 49. 399 Заголовочно-финальный комплекс литературного текста, как известно, наиболее сильная и выразительная позиция. В финал рассказа «Душегубица» вынесены слова, в которых ключ к замыслу не только этого сюжета, но и всего цикла: «И бог знает — куда уносятся все эти дни и годы, и даже века. Что за неутомимая заворотчица все крутит там и крутит сладостные мгновения наших судеб. Необъятные горы безысходных конфето-секунд…»1. И непременным атрибутом в рубинском художественном мире, вписанным в данном случае в мотив памяти, становятся знаки Ташкентского текста: «Я пишу эти строки в своем кабинете, в окне — волнистые холмы Иудейской пустыни, а сама я в то же время иду с дядей Мишей по улице Асакинской, вдоль трамвайных путей, осторожно перепрыгивая через трещины в асфальте…»2; «Мы сидим с дядей Мишей на деревянных, еще холодных после зимы скамейках в Сквере революции, мои ноги в сине-красных, с лакированными круглыми носами ботинках не достают до земли…»3 — вспоминаются те локусы города (Асакинская, Сквер революции), которые канули в Лету, но, наряду с былыми любовями, страстями родственников, их страданиями, остаются теми фотографиями истории, памяти, которые так любит рассматривать героиня-рассказчик Дины Рубиной. Вспоминают персонажи «Фарфоровых затей», «Душегубицы»; продолжает всматриваться в альбомные изображения и рассказчица в «Цыганке», вновь окунаясь в «озеро памяти»: «…невнимательно листая альбомы со старыми фотографиями, которых не видела много лет, и бегло проглядывая старые письма, я наткнулась на карточку — из тех, коричневых, “дореволюционных”, которые поражают добротной выделкой давно минувших лиц, добросовестной передачей бликов на запонках, булавках, ручках кресел и носках туфель, что выглядывают из-под клетчатых юбок со складками скульптурной осязаемости»4. Наткнулась на себя: на «пожелтевшем оборо1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 2 2007а: 2007а: 2007а: 2007а: 70. 58. 60. 78–79. 400 те между жирных и чернильных пятен с трудом… разобрала беглую с ятями надпись: “На добрую память дяде Моисею и тете Кларе от вашей ‘Ди Цыгайнерс’. Берегите! С поцелуями, любящая вас…”»1. Пришло осмысление-ощущение кровного родства, той ее тени, которую всегда ощущала затылком. «…Задним умом или, как говаривала бабка, задней памятью я вспоминала все переломанные руки-ноги своих дворовых и школьных обидчиков…»2, и позже — взрослых обидчиков: того, на которого работала «литературным негром», не получив платы; свекра; да и просто случайных людей, обидевших ее, но наказанных после. Ощутила в себе какую-то силу, неуправляемую, необъяснимую, действующую вопреки разуму, по каким-то своим законам — но справедливым. Поделиласьпоплакалась приятелю, «поэту, алкашу, славному парню», он расставил всё по местам: «Мне лет двадцать назад этот ме… ханизм объясняла одна старая армянка… Она чудно гадала и с покойниками разговаривала, как мы с тобой сейчас. Так вот, она сказала: выбираются отдельные э-э-э… объекты. Вроде подсадной утки, извини… И уж за вами — строжайший глаз да гла-а-аз! Типа глазок в тюремной камере… Вам без конвоя даже по нужде не выйти. Но зато всем гадам, кто тебе подосрет, бошки-то поотрывают, все-е-ем!»3. Тема возмездия, не раз мелькавшая в прозе Рубиной, акцентируется как неведомая человеку сила-разум, как высший закон, иной — внесоциальный, внерациональный, но работающий — не зря прапрабабка, оказавшаяся цыганкой, говорила: «кто мою кровь обидит, тот жестоко заплатит!»4, потому как «жизнь идет и, как глины ком, уминает и месит твои принципы, лепит-перелепливает ежеминутно картину мира, меняет представления о том, что есть справедливость, кому воздастся и кто за что ответит»5. В отличие от Анюты из «Почерка Леонардо», не сумевшей распорядиться своим иррациональным даром, «цыганка», тоже избегавшая «смотреть на 1 Рубина 2007а: 79. Рубина 2007а: 72. 3 Рубина 2007а: 77. 4 Рубина 2007а: 85. 5 Рубина 2007а: 88. 2 401 себя в зеркало…»1, тем не менее договаривается с собой: ничего не поделаешь, «я, конечно, принадлежу другому народу»2 (по контексту — не цыганам. — Э.Ш.), «Вот он, народ твой… присмотренный! Подсадная утка Господа Бога, в душу мать!»3. Рассказ «Адам и Мирьям» продолжает развивать тему народа, ставшего «подсадной уткой». Рассказ — диалог, композиция которого сродни «Фарфоровым затеям». Героиня-рассказчица вновь встречает женщину преклонного возраста, которая поведала ей историю своей жизни — о любви и смерти, о могиле, в которой просидела два года, о гибели близких, о разлуке со своей любовью, о встрече с ней через тридцать лет. Рассказ построен на контрастах: сцены прошлого: ад — Холокост, — и настоящего — льющаяся песня о райском пейзаже: «Ты — виноградник… благоуханный плод, взращенный в раю»4. Героиня-рассказчица, называя себя «странствующим собирателем историй»5, являет пример архивариуса, жадного не просто до историй — а историй-сундуков, с непростыми замками, со старинными коваными деталями. Словно бы раскрывая такой сундук, она вынимает слоями уложенные там вещи, принадлежавшие не одному поколению. Так, через судьбу одной бесценной жизни, читается судьба народа, эпохи. Подобный литературный ход называют палимпсестом 6 — похоже, он стал доминирующим в последних произведениях Дины Рубиной. Заглавие-пандан (Адам и Мирьям), традиционное для любовных историй, безусловно, внесет этот нарратив в список лучших рассказов о любви. И все же главной темой этого текста (как и других рассказов с аналогичной композицией заглавия: «Дед и Лайма», даже «Ральф и Шура», где пес страдает по своей подруге кошке, с которой делил кусок и кров), вписанного в общую композицию сборника, видится другая — память. О прошлом, об истории своего, присмотренного, народа: о его 1 Рубина 2007а: 75. Рубина 2007а: 89. 3 Рубина 2007а: 90. 4 Рубина 2007а: 99. 5 Рубина 2007а: 122. 6 Он впрямую работает в качестве интриги в романе Рубиной «Белая голубка Кордовы». 2 402 уничтожении и о спасении, вновь об уничтожении и вновь о воскресении. Ведь Мирьям была как минимум дважды замурована в могилу — но восстала из нее и помнила о своих спасителях, главным среди которых было малопривлекательное, грязное животное — свинья. При музее Яд ва-Шем есть Аллея Праведников, посвященная людям, вопреки опасности спасавшим евреев, — Мирьям таким Праведником, своим спасителем, не в шутку считает свинью1. В контексте темы памяти в рассказе «Адам и Мирьям» развивается мотив, ставший традиционным в мировом дискурсе о Холокосте, — это мотив убежища, в прямом, бытовом смысле. Этот мотив — спасителей-предателей — варьирует в литературе о Холокосте. Например, в романе «Дочь»2 нидерландского писателя Джессики Дюрлахер тоже упоминается убежище, на время недоступное для немецкой полиции, где скрывается несколько человек. Зависть одного из спасителей к своим подопечным (к их образованности, мечтам о будущем) была столь велика, что он доносит на скрывавшихся под его крышей евреев, а впоследствии сам попадает в лагерь и после войны подложно берет себе имя и судьбу погибшего еврея, украшая свою легенду рассказом о том самом убежище. Но расставляет знаки и роли по-своему: это якобы не он предал, а его — прятавшегося еврея. Мотив убежища времен Холокоста ассоциируется прежде всего с «Дневником Анны Франк». Именно в этом документе эпохи без прикрас явлены все узлы трагедии убежища и его контекста, распутываемые, раскрываемые позже на разных языках в мировой литературе: «…Может быть, для всех нас было бы лучше, если бы мы не стали прятаться, если бы сейчас нас уже не было в живых, и не пришлось бы терпеть все эти муки, и, главное, мы бы не подвергали опасности других. Но и об этом страшно подумать, мы еще любим жизнь, голос природы еще говорит в нас, мы еще надеемся, надеемся, что все-все будет по-другому»3. 1 О роли свиньи в еврейском дискурсе, и в частности в рассказе «Адам и Мирьям», речь шла в главе «“Антисемитcкий” текст». 2 Дюрлахер 2009. 3 Франк 2007: 270. 403 В подвалах брюссельского музея два года безвыходно прячется от нацистов герой романа Э.М. Ремарка: «Я два года провел в Брюссельском музее. <…> Скрывался… <…> От немцев, которые оккупировали Бельгию. <…> Днем я сидел взаперти в подвале, где находился запасник. Вечером директор приносил мне еду и выпускал меня на ночь из убежища. Из здания музея я не выходил, но мог выбираться из подвала. Свет, разумеется, нельзя было зажигать. <…> В запаснике не было окон. А когда кто-нибудь спускался в подвал, я сидел не шелохнувшись. Больше всего боялся чихнуть не вовремя. <…> Кто-то обратил внимание, что директор либо чересчур часто засиживается в музее, либо возвращается туда по вечерам. <…> Чем я занимался в музее? Ждал вечера. И конечно, по возможности избегал думать об опасности, которая мне угрожала. <…> Позже я стал ночами бродить по залам музея, рассматривать картины, запоминать их. Скоро я уже знал все полотна»1. Для рубинской Мирьям убежищем становится могила, которую выкопали ее спасители в погребе и где укрывали ее под досками. Но, не совладав до конца со своими благими порывами, измученные страхом разоблачения, бывшие спасители относят ее к воротам лагеря смерти. Так могила — подвал ли музея, жилого дома, отхожее место и проч. — становится амбивалентным образом в литературе о Холокосте. Израильский музей Холокоста — Яд ва-Шем — до сих не прекращает собирать имена жертв, обращаясь к тем, кто помнит и знает что-либо о погибших. Эта музейная миссия стала завязкой сюжета в рассказе «Дед и Лайма», герои которого хотя и не являются жертвами Холокоста, но тем не менее сполна испытали весь набор советских репрессий. И потому своей главной интенцией — памятью — рассказ, с одной стороны, как бы продолжает тему Яд ва-Шема, с другой — органичен для общего замысла сборника. «Цыганка» — этим заглавием автор акцентирует главную мысль сборника, а читатель внимает и верит: будь то в тексте рассказчик или неперсонифицированный повествователь, он везде и всегда вольно или невольно заряжен какой-то маги1 Ремарк 1972: 8–9. 404 ческой силой памяти, которая действует уже вопреки желанию ее носителя. Она не прощает, она судит и наказывает. Не зря в народе цыгане ассоциируются с нечистой силой — чертом, бесом. «Черный цвет волос у цыган объясняется их родством с чертом: цыгане произошли от черта и хромой девушки из числа фараоновых людей, преследовавших Моисея и евреев во время исхода из Египта…»1. А от прабабки цыганки из рассказа Рубиной «всему потомству передались темные волосы, карие глаза и смуглая кожа. И неудержимый нрав»2, «…в народе всегда цыган считали колдунами. А эта праматерь к тому ж предсказывала будущее»3. Вероятно, зная о таком восприятии себя среди чужих, цыгане сочиняли разнообразные сказки о навете, где продажа цыганской души дьяволу рисовалась как афера нечисти, но цыган с честью выходил из нее, оставляя дьявола с носом (подобных сказок множество, вот немногие, о содержании которых можно судить по заглавиям: «Колдун и цыганенок»4, «Как черт хотел цыгана на свое место поставить»5, «Цыган и черт»6, «Как цыгана черт попутал»7, «Как цыган нечистую силу победил»8, «Как цыганка черту душу продала»9, «Как цыганка черта отвадила»10 и др.). Возмездие, проклятие ждет всех, по цыганским представлениям о справедливости, кто нанес им вред. Так в одном из рассказов сборника Рубиной «Белый осел в ожидании Спасителя» немцы Палестины, приветствовавшие приход к власти нацистов, были наказаны: «Темплеров Святой земли закрутил дьявольский смерч: юноши маршировали, выбрасывая руки в римском приветствии… пока британцы, владевшие в те годы 1 Белова 2005: 51. Рубина 2007а: 81. 3 Рубина 2007а: 81. 4 ФРЦ 1987: 68–71. 5 ФРЦ 1987: 77–81. 6 ФРЦ 1987: 125–128. 7 ФРЦ 1987: 139–140. 8 ФРЦ 1987: 151–154. 9 ФРЦ 1987: 163–166. 10 ФРЦ 1987: 166–167. 2 405 мандатом на Палестину, не выкинули из страны марширующих энтузиастов»1. Семантика заглавия сборника «Цыганка», как бы отталкиваясь от коннотации народа неместа, то есть бродячего, от локальных традиций и религий, сводится к обобщению: «Признаться… я была совсем далека от православных священнослужителей, как, собственно, и от служителей всех иных конфессий»2 («Белый осел в ожидании Спасителя»), «думала о разном отношении разных народов к наказанию, к явной каре небес»3 («Гладь озера в пасмурной мгле»). Эту «небесную кару» и символизирует цыганка, вынесенная в заглавие сборника. К финалу первой части сборника «Между времен» опять вступает тема творчества, как бы закольцовывая начатое первым рассказом «Фарфоровые затеи». Это рассказ «Посох Деда Мороза», заканчивающийся сценкой после премьеры в театре одного актера, когда «он (Миша) сегодня, сейчас сыграл Сирано… сыграл почти так, как хотел. И благодарный зритель принял, черт побери, его трактовку образа!»4. Благодаря ощущению счастья от сотворенного взгляд героя выхватывает перо неизвестной птицы, плывующее перед его лицом. Перо заструилось, «ввинчиваясь в толщу пронизанного солнцем воздуха, — так грузило пронизывает толщу воды, так скользящий жест милой руки пронизывает толщу времени… Во всяком случае, и двадцать лет спустя он помнил, как трепетало это перо белым лезвием, планировало медленно и совершенно и наконец вонзилось в сугроб, словно старинный писатель, завершив новеллу, оставил перо в снежной чернильнице»5. Но мы-то, читатели, знаем, что та самая неизвестная птица, конечно же, голубка: ее перышко стало последней точкой в судьбе героя из романа «Белая голубка Кордовы»; в судьбе же Михаила-Сирано оно ознаменовало новый жизненный этап — взлета, творческого озарения, стало рубежом, о котором он помнил спустя десятилетия. 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 2 2007а: 2007а: 2007а: 2007а: 2007а: 283. 283. 255. 161. 162. 406 И последний аккорд в блоке рассказов «Между времен» — это воспоминание о Лидии Борисовне Либединской «В России надо жить долго». Мемуарный характер повествования, насыщенный байками, анекдотами, собственно, и есть тот программный дискурс Дины Рубиной, декларирующий память как основу не только этого сборника, но и всего творчества писателя. Вторая часть сборника — «Между земель»: это смешение рас и народов, ментальностей и культур, совпадающих и нет представлений о добре и зле, чести и нравственности, но тем не менее таких похожих людей, рассыпанных по миру, но вновь и вновь стекающихся к первозданному холму всех цивилизаций — городу Иерусалиму: «И никуда не деваются человеческие лица. Они проступают сквозь века, бесконечно прорастают из завязи древних генов, проявляются, как на старых фотоснимках, да и просто смотрят сегодняшними глазами с полустертых фресок древних атриумов. На обратном пути из Неаполя я узнавала в пассажирах загородной электрички персонажей картин Тициана, Караваджо, Рафаэля, Луки Джордано…»1 («Гладь озера в пасмурной мгле»); «Они строят свои дома прямо под нашими стенами, надвинулись отовсюду, как рать окаянная»2 («Белый осел в ожидании Спасителя»); «Они и вправду живут тут мирно, получая с забредающих туристов и паломников небольшой доход, — семьи двух братьев, когда-то укрывшихся от канонады в гробнице Малых пророков. Один из них стал христианином, другой остался мусульманином. Их дети, оберегаемые разными молитвами, бегают и ползают по двору, присмотренные то одной, то другой женой»3 («Белый осел в ожидании Спасителя»); «Понимаешь… главный культурный шок у нашего брата-европейца… возникает здесь отнюдь не от пейзажа непривычного или там орущего осла. Самый-то шок — от внезапного открытия, что все они были. Все они, которых брат-европеец видал на картинах художников в Третьяковке или Эрмитаже… все они, оказывается, были, все! И Авраам со своей Сарой, и Яаков со своим 1 Рубина 2007а: 251–252. Рубина 2007а: 297. 3 Рубина 2007а: 310. 2 407 колготливым семейством, и куча царей и пророков, и Иисус, и Иоанн Креститель — все, все были тут, неподалеку, в районе твоей поликлиники или прачечной. Вот от этого можно спятить!»1 («Белый осел в ожидании Спасителя»). И опять вступает не отпускающая Дину Рубину ташкентская тема: здесь, в Израиле, происходит случайная неслучайная встреча с земляками: «Я, знаете, уважаю людей, которые не националисты… Сейчас модно хаять и высмеивать это советское понятие — “дружба народов”… А я вот в середине семидесятых жила в Ташкенте… Тут я перебила ее, призналась, что родилась в Ташкенте, выросла и жила там много лет»2; «А наша провожатая никак не могла расстаться со мной, “ташкентской весточкой”. Все время обрывала себя, спрашивала с надеждой: — А Юсуфа Рахматуллаевича из “Узбекбирляшу”, случайно, не знали? А Оганесяна — он в семидесятых был начальником главка?..»3 («По дороге из Гейдельберга»); «Мы оказались в большом дворе, чем-то напоминающем коммунальные дворы моего Ташкента: несколько халуп с разномастно застекленными террасами, обшарпанные сараюшки, белье, развешанное на веревках, подпертых рогатинами»4 («Белый осел в ожидании Спасителя»). И вновь о вечном диалоге непонимания между разными цивилизациями, Западом и Востоком: «Ты проиграл, старичок, это бывает, в том смысле, что Запад есть Запад, а допрос есть всего лишь допрос…»5; «Что тебе далась именно эта средневековая казнь несчастной старой девы?.. У тебя подобных дел — вагон и тележка. Вон, в пятницу в лесочке под Акко опять нашли обгорелый женский труп в машине… Очередное “восстановление семейной чести”. Они так веками жили и жить будут еще сто веков именно так. Ты их перевоспитать намерен? Но откуда ты знаешь, несчастный запад-есть-запад, что на их месте и в их шкуре не стал бы убивать свою Надежду, или вон Юльку, за то, что книги не бережет?»6; «А глав1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 6 Рубина 2 2007а: 2007а: 2007а: 2007а: 2007а: 2007а: 301–302. 234. 239. 308. 204. 205–206. 408 ное, невозможно объяснить всем тем, кто не отсюда, почему это никак невозможно! <…> Просто здесь, уважаемый западесть-запад, надо прожить всего-навсего полжизни, чтобы различать хотя бы азы этого непроизносимого языка взглядов, жестов и знаков»1; «И эти чужие мне… Все друг другу чужие в здешнем туманном мире…»2 — эти цитаты реконструируют заглавие рассказа «Туман», символически означающего не только пейзаж, на фоне которого разворачивается действие в повествовании, но неоднородность аксиологических картин мира у разных народов. Попав в «студию», где идет беседа каббалистов, Аркадий («Туман») сначала видит двух собеседников, одетых в черное и белое, затем слышит рассуждения — о черном и белом — о тьме и свете — извечных сущностях постижения мира, созданных Творцом «для управления миром»3. Кодой дуэли каббалистов стало их совместное пение: «Не день и не ночь, пели они, а утро и вечер — вот начало и конец, извечный круг познания. “Э р́ ев” — вечер, время, когда расплываются очертания мира. “Бóкер” — утро, время, когда вещи отделяются одна от другой, давая возможность разглядеть их отличия, ощутить их границы, осознать меру вещей, осязать душой красоту и величие мира…»4. Апофезом сборника «Цыганка» звучат строки о Иерусалиме в рассказе «Белый осел в ожидании Спасителя»: «Это здесь, здесь остывали горны Господней кузни, здесь высыхала первозданная глина, из ошметков которой подручные ангелы лепили первого человека. Это здесь скрывался беглый Давид от ревнивой мести Саула. Это в здешней скале выбивали погребальные пещеры для иудейских царей и пророков…»5; «Это место, духовно и кровно принадлежащее евреям, проданное турецкими властями Русской православной Миссии, населенное и обжитое арабами, несло в себе зерно и суть нерасторжимой сакральной безысходности любого события на этой 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 2 2007а: 2007а: 2007а: 2007а: 2007а: 210. 211. 221. 223. 300. 409 земле»1; «По склонам Масличной горы, заполненное метельником, спало неисчислимое воинство мертвых в ожидании часа, когда явится Спаситель и, оседлав терпеливого белого осла, спустится своей дорогой вниз, в сопровождении рати, обретшей плоть, и Малые пророки — Аггей, Малахия и Захария — тоже поднимутся и присоединятся к этому могучему потоку»2; «С вершины Храмовой горы потянулся, прерываясь и с яростной силой возбуждаясь опять, привычный зов муэдзина. <…> Здесь, внизу, быстрым шагом спешили к вечерней молитве, арвиту, религиозные евреи в черных сюртуках и черных шляпах, из-под которых у многих до самых плеч спускались кудри вдоль щек. Редкий прозрачный воздух наполнен был смутными, тягучими стонами, гулом колоколов, отрывистым говором на иврите, мягким грудным идишем, рыком машин, шмелиным жужжанием мотоциклов, музыкой ханукального представления в археологическом парке. В этот шум вливался пестро-звучный говор и смех английской, немецкой, испанской и французской, японской и русской, и бог знает какой еще речи…»3; «Спрессованный дух бытия бился и трепетал над главным холмом человечества»4. Так не раз уже было в других текстах Дины Рубиной, в связи с чем можно говорить о специфическом пафосе ее творчества — в романе «Синдикат»: «…мы вплывали в Иерусалим — в Венецию Бога…»5, в романе «Вот идет Мессия!»: «…А та, другая, медленно входила в родниковые воды Иерусалима…»6. Между времен — о вечности, время сборника — это и прошлое, и очень далекое прошлое, и настоящее; между земель — везде: Россия — Москва с Подмосковьем, Саратов, Украина, Ташкент, Рига, Сибирь — бывший СССР; Израиль — Иерусалим, Хайфа, Тель-Авив; Европа — Италия, Германия. Но главным, исходным во все обозримые и предполагаемые времена и топосы было и есть одно место — главный холм цивилизации — Иерусалим, вечный город. 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 6 Рубина 2 2007а: 314. 2007а: 315. 2007а: 317. 2007а: 318. 2004д: 570. 2001а: 384. 410 «Несколько торопливых слов любви» Сборник состоит из двух циклов рассказов: «Несколько торопливых слов любви», «Ручная кладь», а также как будто бы не входящих в циклы текстов «Я и ты под персиковыми облаками», «Высокая вода венецианцев», но, тем не менее, сверстанных под общим любовным заглавием сборника. Любовная тема при разговоре о прозе Дины Рубиной не представляется главной для творчества писателя: она не «певец любви», каковые прецеденты были и есть в истории литературы, хотя тема любви присутствует почти в каждом ее тексте, но все же не в виде самодовлеющей, а скорее, экзистенциальной. «Дело не в любви, бог с ней, с любовью, — она мимолетна, как и вся наша жизнь»1. Потому сборник «Несколько торопливых слов любви» в хронологии произведений Дины Рубиной выглядит как новая заявка писателя, педалирующего любовную составляющую своих текстов. Заглавие цикла рождает аллюзии — прецеденты любовных повествований в русском дискурсе. Кстати, реминисцентно-аллюзивный ряд, сопряженный с русской классикой, заявлен самим писателем уже в первом рассказе — «Область слепящего света». Статус «певца идеальной любви» в русской литературе, бесспорно, принадлежит И.С. Тургеневу. Своих персонажей Тургенев не удостаивает быть счастливыми посредством любви. Не довольствуясь популярной в его время теорией социального детерминизма, которой прежде объяснялась несостоятельность многих любовных историй, Тургенев переходит к теории иррационального в происхождении любви, страсти, к таинственной предопределенности многих земных, необъяснимых вещей. Так рождаются многие таинственные повести Тургенева, роман «Дым», повесть «Вешние воды». Тургенев пристально внимателен к природе человеческих переживаний, в которых заложено нечто иррациональное, разрушающее привычную норму бытия. Социальный элемент отодвигается на второй план. Логически объяснить и рационально понять, почему Литвинов («Дым») оставляет свою невесту и, как в омут, 1 Рубина 2001а: 384. 411 с головой окунается в страсть к другой женщине, невозможно. Именно это пытается понять Тургенев — натуру, свойства которой фатально неизменны, заранее предопределены «слепой и равнодушной» природой (персонаж романа «Дым» Потугин говорит: «Каким в колыбельку, таким и в могилку»1). Знаменательна связь романа «Дым» с повестью «Вешние воды». «Вешние воды» — это новый вариант истории Литвинова и Ирины, но социальная проблематика здесь полностью заслонена психологией интимных переживаний. Мария Николаевна Полозова — это та же Ирина, но изображенная в крайнем развитии дурных сторон своего характера. Оттого что Полозова развратна, аморальна и бездушна, существо дела не меняется: нравственно чистый человек Санин оказывается в позорном плену у нее. Если в конце концов Литвинов отказывается от позорной роли, то Санин этого сделать не может. Таким образом, мысль об иррациональности, стихийности законов любви доводится в «Вешних водах» до безвыходного трагизма. Так постепенно Тургенев выходит к новому пласту в творчестве: к «космическому пессимизму». Тема загадочных, необъяснимых чувств волновала и великих современников Тургенева — в ряд инфернальных женщин: Ирина, Полозова — встают Настасья Филипповна («Идиот»), Грушенька («Братья Карамазовы») Достоевского, Катерина Измайлова Лескова. Они не укладываются в Прокрустово ложе житейской рациональной логики, их поведение противоречиво, алогично. Иррациональное живет, по мнению Тургенева, и в снах: туда приходят персонажи из прошлой жизни героев, которых они никогда не знали, или из наступающего дня, которых они встретят наутро («Сон», «Песнь торжествующей любви»). Отвергнутая при жизни любовь посещает Аратова после смерти влюбленной в него девушки: она приходила по ночам, герой перестал жить обычной дневной жизнью, ожидая свидания с возлюбленной, уже умершей («Клара Милич»). Автор в финале предлагает два объяснения случившемуся: возможно, она действительно приходила — в руках умершего Аратова нашли прядь волос Клары; для рационального читателя — другое объяснение: возможно, это была прядь волос, найденная Ара1 Тургенев 1981: 331. 412 товым в дневнике Клары. Каждый читатель объяснит для себя этот рассказ индивидуально: рационально или иррационально, здесь важен тот факт, что Тургеневым поставлена проблема загадочности, ирреальности любовного чувства, или, скорее, продолжена в новом ракурсе. Литературные открытия и вопросы, каким был богат XIX в., плавно перетекли в ХХ и XXI в. Механизм любви попрежнему не разгадан, по-прежнему волнует литературу — будучи, вероятно, из разряда истории с perpetuum mobile. Какой концепт вокруг темы любви выстраивает Дина Рубина? Цикл «Несколько торопливых слов любви» открывается рассказом «Область слепящего света», детальный пласт которого, да и сама любовная история выстроены с отсылкой к чеховской «Даме с собачкой». Контекстуально — применительно к данному исследованию — чеховский и рубинский рассказы образуют некий комплекс, состоящий из вопроса-ответа: открытый финал «Дамы с собачкой» с вопросом «Как? Как?» находит ответ и завершение в рассказе Рубиной: никак, никогда. Чувство, как вспышка, как искра, как что-то из «области слепящего света», недолговечно. В рубинском повествовании его сопровождают трагедии, смерти. Оно остается в воспоминании того, кто, по счастью, выжил, у визави по любовному пандану. При других обстоятельствах яркое, искрометное чувство просто бы было умерщвлено банальным бытом — так видится по прочтении рубинской новеллы. (Хотя это не новость — не случайно сказочные сюжеты мирового фольклора, не проговаривая эту истину, заканчивают любовное повествование неинтригующим и пресным: «Жили они 30 лет и 3 года и умерли в один день». Так и у Рубиной в одном из финальных рассказов цикла — в «Волшебных сказках Шарля Перро»: «А… дальше? <…> — Дальше неинтересно, потому что обыкновенно: выучились, женились, родили троих детей. Сейчас оба уже — врачи, купили кооператив, живут душа в душу…»1). Ничем не примечательные, одни из многих, люди внезапно находят друг друга; банальный флирт вырастает в большое чувство. Чеховский текст помнят все: Чехов не одной деталью настаивает на обычности, неяркости, возможно, даже 1 Рубина 2003: 90. 413 серости своих героев: «вульгарная лорнетка», на фоне серых деталей пейзажа и интерьера любимым платьем Гурова наАнне Сергеевне было серое. А вот характеристики персонажей Рубиной: «Он оказался невысоким неярким человеком средних лет», «скромной внешности», заикой; она — «автор сценариев двух никому не известных документальных фильмов, два неудачных брака, детей нет, сыта по горло, оставьте меня в покое…»1– распространенный по своей обыденности типаж. Встретились, случилась вроде бы интрижка, и разойтись бы. Каждый понимал, что больше не увидятся: «А вернешься когда? — спросила она. Он хотел ответить “никогда”, и, в сущности, это было бы правдой»2. У Чехова: «Он был растроган, грустен и испытывал легкое раскаяние; ведь эта молодая женщина, с которой он больше уже никогда не увидится…»3. Красноречивой деталью обыденности, завершающей любовную сцену у Чехова, стал арбуз: «На столе в номере был арбуз. Гуров отрезал себе ломоть и стал есть не спеша»4; у Рубиной — подтекающий кран: «Он поднялся, по-старушечьи накинув плед на плечи, побрел в кухню. — Действительно подтекает! — крикнул оттуда. После чего кран был забыт навеки…»5. Первое любовное свидание, полное страсти, — и такие прозаичные, будничные штрихи, лишенные романтики, так необходимой для стилистики темы. К герою Рубиной, как и к чеховскому Гурову, приходит осознание и ощущение невозможности существовать без любимой женщины. «Как молодой», — словно в унисон проговаривают и тот и другой. И чеховский, и рубинский герои ощущают двойственность свою и окружающих: на виду все притворяются, играют роль: священник, попавшийся навстречу герою в рассказе Рубиной, «перешагивал через лужу, придерживая полу сутаны движением женщины, приподнимающей подол платья»6; «она пома1 Рубина 2003: 9–10. Рубина 2003: 10. 3 Чехов 1986: 137. 4 Чехов 1986: 134. 5 Рубина 2003: 10. 6 Рубина 2003: 13. 2 414 хала своей растрепанной, как болонка, шапкой…»1, напомнив ему «даму с собачкой», да и лица своего возлюбленного героиня не видит, а только половину, более выразительную, ту, которая освещена любовным светом. Две жизни у Гурова, тайная и явная: он «с жадностью прочитывал по три газеты в день и говорил, что не читает московских газет из принципа»2; «…все, что было для него важно, интересно, необходимо, в чем он был искренен и не обманывал себя, что составляло зерно его жизни, происходило тайно от других…»3. Не случайно Гуров, провожая дочь в гимназию, произносит фразу, казалось бы, никак не связанную с сюжетом рассказа: «Теперь три градуса тепла, а между тем идет снег… Но ведь это тепло только на поверхности земли, в верхних же слоях атмосферы совсем другая температура»4. Фраза знаковая, метафорическая, она спроецирована особым знанием героя о своей потаенной жизни, но настоящей, полной любви, привязанности. Любви, которая приподнимает героя над буднями, над серостью, в «высшие слои атмосферы», туда, где, по выражению Рубиной, «область слепящего света». Осознанно или волею случая, название рассказа Рубиной, повторяемое как рефрен в повествовании, выросло именно из этой метафорической оговорки Гурова. Именно там, «в высших слоях атмосферы», в «области слепящего света», над черепичными крышами Иерусалима происходит любовное свидание героев Рубиной: «… мы оставим их, беспомощных владык друг друга, разглядывать крыши Иерусалима из-за штор отеля… с высоты двенадцатого этажа…»5. Любовь возможна лишь в «области слепящего света», там, где и «небо в алмазах», где поют ангелы, где все «страдания потонут в милосердии», ведь и рубинская героиня «вознеслась» — именно так видит в последний раз рубинский герой свою возлюбленную, поднимающуюся на эскалаторе по пути в самолет. 1 Рубина 2003: 13. Чехов 1986: 138. 3 Чехов 1986: 143. 4 Чехов 1986: 143. 5 Рубина 2003: 12. 2 415 Фраза, услышанная Гуровым, — «осетрина-то с душком», став знаковой в кульминации его личности, поставила героя вне пошлой, серой обыденности, заставила его мучительно искать выхода, возможно, в «область слепящего света». Есть аналог такой интонации и у Рубиной — это финальная фраза, принадлежащая жене героя: «Ну, если ты еще не переоделся, так вынеси мусор»1. Звучит страшно, так как герой находится в состоянии ступора: он только что узнал, что самолет, в котором летела его возлюбленная, разбился. Если чеховский финал оставляет надежду, возможность поиска выхода («Как? Как?»), то по-хирургически жестко решен финал у Рубиной: большое, страстное чувство не способно приладиться к будням, к обыденности, оно остается там, в «высших слоях атмосферы» (по Чехову) или в «области слепящего света» (по Рубиной). Типологически сходной сюжетной развязкой к «Области слепящего света» близки два рассказа цикла — «Бессонница» и «Двое на крыше». Давид из «Бессонницы», любя жену, не пренебрегал, тем не менее, многочисленными любовными интрижками (новые оттенки в любовном «трактате» Рубиной), об одной стало известно жене — накануне отлета в путешествие. Случилась катастрофа: жена с сыном погибли. Давид потерял покой: «Не сплю… Совсем не сплю. Никогда»2. Любовь к жене была для Давида «стержнем жизни», «…день был хорош или не очень в зависимости от того, в каком настроении Нина просыпалась»3. Поистине уютному и любвеобильному существованию Давида пришел конец — может, это возмездие, предпринятое небесной канцелярией, забравшей к себе, в высшие сферы, его жену? «Она молча пошла по трапу. <…> — Давид! Я жду тебя… <…> Стоит мне закрыть глаза — она уходит от меня по трапу самолета… <…> И каждую ночь она оборачивается… Она оборачивается и говорит мне: — Давид! Я жду тебя…»4. В рассказе «Двое на крыше» случилась семейная драма — причины неизвестны, лишь последовательность: муж вспы1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 2 2003: 2003: 2003: 2003: 14. 61. 61. 63. 416 лил, гнался за женой, застрелил; опомнившись, ужаснулся и застрелился сам. Глазам их дочери, возвращавшейся из школы, и ее спутника предстала уже финальная картина драмы: «…на крыше сарая уплывали в небо мужчина и женщина, погибшие так загадочно и страшно»1. Возможно, этому предшествовала любовная сцена — с ревностью, обидами. Возможно, эти мужчина и женщина — те самые юноша и девушка из рассказа «На долгом светофоре» — сложись их жизнь иначе, они вполне могли оказаться на той крыше в тех же позах. Но они уплывали в небо — трижды, как рефрен, повторено в небольшом трехстраничном рассказе. Это важно для автора. Это важно для контекста цикла. Уплывает в небо и героиня рассказа «Мастер-тарабука». Надев на шею колокольчик — как прежде ходили прокаженные, предупреждая об опасности, она уходит, чтобы сесть в самолет и отправиться в высшие сферы. Любовь была, страстная, на всю жизнь: «Несколько столкнувшихся друг о друга взглядов, две-три фразы… и главное, его, Мити, неожиданное и несвойственное ему с женщинами смущение — словом, минут через двадцать поняли оба, что влипли…»2; они «валились на ощупь на широкий деревянный топчан…»3. Но, как оказалась, на всю жизнь не бывает. Внешние обстоятельства не могли обойти и эту страстную любовь: вот и брат ее решил с ним познакомиться — «…хочет все испортить, — подумал Митя с досадой»4. Сначала она исчезает, а он ее не ищет. Потом Митя получает годовой грант в Италию, что было «захлестнувшим его счастьем», а отношения с Мастер-тарабукой никак для него тогда не вписывались в парадигму счастья, с ней «они почти не виделись… <…> …даже не помнил — как расставались»5. По прошествии двух лет, обознавшись, «по внезапному болезненному толчку в груди (он) понял, что немедленно хочет увидеть ее»6. Вдруг наступило не сразу — прошло время, но «вдруг откры1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 6 Рубина 2 2003: 2003: 2003: 2003: 2003: 2003: 65. 37–38. 38. 40. 41–42. 42. 417 лась дверь и вошла она… Он ахнул и оцепенел»1. И вот только теперь пришло осознание того давнего чувства: «…почему, почему он уехал без нее, почему жил без нее эти годы и как же теперь загладить свою вину, как не отпустить ее, вот так прижать к себе и уже не отпускать от себя ни на шаг!»2. Но время упущено: она ждала, звала, играла на тамбурине, пытаясь вызволить его любовной игрой из странствий. Прошедшее время работало на преграды для любви: Мастер-тарабука заболела СПИДом, «…в одно мгновение он понял — чем она была в его жизни»3, а она: «Я — сколько проживу — буду благодарна тебе за твое лицо тогда… <…> Все-таки я не зря всю жизнь люблю тебя, Митья…»4. Возмездие? — возможно. К мистическим прочтениям любовных историй цикла примыкает рассказ «Заклятье». Начавшись с вопроса «Вы верите в прорицателей?»5, «…совершенно в библейском духе: “Твой час настал, ты взвешен на весах и признан легким…”»6, рассказ заканчивается так, что не поверить нельзя: как напророчила гадалка, так и случилось. «Она говорит, что раскинула сейчас карты и видит, что мы будем вместе ровно семь лет…»7. С наступлением этой сакраментальной даты-срока оба: он из Парижа в Москву, она из Москвы в Париж — ринулись навстречу друг другу. Но она не успела, ей сообщили, что он умер. (Как в «Дарах волхвов» О. Уайльда, где любящие жертвуют ради подарка друг для друга самым дорогим, тем самым лишая прагматического смысла каждый из даров — но это ли главное? Параллель с поворотом в сюжете рубинского рассказа напрашивается по сходству интенций.) Отведенный срок любви закончен. Кто его установил? — в этом интрига сюжета. В рассказе «На долгом светофоре» трагедии-смерти не случилось, но любовь-страсть не сделала ее участников счастливыми. Короткая первая любовь вспомнилась героине на 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 6 Рубина 7 Рубина 2 2003: 2003: 2003: 2003: 2003: 2003: 2003: 43. 43. 47. 47. 54. 55. 57. 418 долгом светофоре: о страсти из области слепящего света исчерпывающе говорит набор тропов, сопровождающий описание недолгой любви: «…обнявшихся с такой неистовой силой, словно через минуту им выпадало расстаться на всю жизнь»1, «смертельная схватка»2, «Бурные ночи… она убегала… он врывался… и выволакивал ее… Плакал… Тяжелая и сильная любовь… Так новобранцев жестокий командир бросает на смертельный участок фронта… <…> …истерзанные неподъемной этой любовью»3. А глазам окружающих эта пара виделась так: «Ребята, вы такие красивые!.. И такие счастливые!..»4. Не может такое чувство жить на земной поверхности — его место в области слепящего света, в высших слоях атмосферы, потому и завершающим аккордом той любви стали два слова: «мимолетный брак». Светофор зажег зеленый свет — пора было ехать в «Кулинарию». Если любовь-страсть, любовь-соревнование этого рассказа из высших, земным умом не постижимых сфер, то в рассказе «Шарфик» нарисованы ровные, свободные, равноправные отношения двоих, один из которых (она) вызывал непроходящее удивление у другого: «Она вообще была забавным созданием, из совершенно иного, чем я, теста. <…> Например, она прыгала с парашютом. Вот что меня еще в ней пугало. Я даже самолетов боюсь. Иногда просыпался ночью и смотрел на нее… Не мог постичь психологию человека, который не только находит в себе силы еще и еще раз подняться в воздух, но и встать на пороге раскрытой двери на безумной, туманной высоте и шагнуть в белесое ничто! Шагнуть!!! Иногда ночью я ощупывал ее плечо и думал: она летела… она сегодня летала… на такой высоте, она была в облаках!!! И не мог, не мог этого постичь!..»5. Новая грань, новое торопливое слово автора о любви: любовь-удивление, любовь-загадка. И опять решения этой загадки не будет, оно невозможно — героиня остается в высших слоях атмосферы: «Сейчас она, поди, с ангелами со1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 2 2003: 2003: 2003: 2003: 2003: 16. 16. 17. 18. 27. 419 ревнуется — кто дальше прыгнет с облака… <…> Эти парашюты, видите ли, имеют обыкновение иногда… Она просто запуталась в своем последнем шарфике…»1. Следующий текст любовного цикла — «В прямом эфире» — рассказ в рассказе от лица двадцатишестилетней женщины, прошедшей столько испытаний, что ее голос в телефоне звучит как старушечий, хрипатый, по словам собеседницы-рассказчицы. Привычны роли любовного сюжета: он и она, банальна история между ними; в отличие от любовных страсти и загадки, в этом рассказе повествуется о любви-предательстве. Изломанная героиня, с горя ушедшая в загул («блядство, пьянки, марихуана»2), поменявшая не только свой социальный статус, моральный облик, но и страну проживания, продолжает любить своего соблазнителя и предателя: «…я его и сейчас люблю и до конца жизни любить буду… <…> Тошно, когда тот, из-за кого ты ветер обнимала, ни разу не пришел навестить, а когда вышла из больницы и приковыляла к нему на работу, на костылях-то, — ух, как он струсил! — весь пятнами пошел и трусцой на другую сторону улицы!»3. В конце концов героиня обретает покой: живет по общепринятым нормам. Сначала находит ласку и понимание у хабадников — «… это единственное место и единственная часть общества, где меня готовы принять такой, какая я есть»4, а затем выходит замуж. Но мужа своего, по словам героини, она никогда не сможет полюбить, несмотря на то, что он «очень хороший человек, программист, умница»5, — «Душа-то чужая»6. Такова еще одна грань в виде внерациональной загадки — еще одно торопливое слово о любви. Рассказ «И когда она упала…» — прочитай его вне цикла — был бы воспринят как комическая зарисовка из будничной жизни ничем не примечательной молодой женщины, для которой поход в Большой театр — событие, ради которого можно 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 6 Рубина 2 2003: 2003: 2003: 2003: 2003: 2003: 28. 33. 32. 35. 35. 36. 420 пойти на не совсем адекватные поступки: в морозный день остаться с голыми ногами, неприлично себя вести, пытаясь безбилетной пролезть мимо билетерши, подраться с ней — забавная история, еще больше удивляющая, будучи помещенной в цикл рассказов под недвусмысленным заглавием — «Несколько торопливых слов любви». Ключ к прочтению рассказа «И когда она упала…» кроется именно в соседстве с сюжетами о любви — страстной, загадочной, мистической, трагической. Любовь как талант. Кто его раздает? Видимо, главный Творец, по совместительству наделяющий билетами и компостирующий их1. Билетов хватает не всем. Многим. Очень многим. Не получила его, вероятно, и героиня этого рассказа Лена Батищева, «чья жизнь — череда безответных или — что еще хуже — ответных любовей…»2, — с иронией замечает рассказчица. Все свои нерастраченные чувства, а также растраченные на ту «череду» Лена Батищева сублимирует в бесхитростные и искренние жизненные «радости»: «И когда все было кончено… а она упала, — я испытала такое облегчение, такой взлет и безумие, такой душевный простор… каких в жизни не испытывала!..»3 — иными словами, можно было вернуться домой и лечь в горячую ванну с лавандовым порошком. Чем не счастье? Рассказы «Голос в метро» и «Гобелен» типологически родственны приемом, который выстраивает сюжет: реальная деталь портрета, интерьера становится поводом для ретроспективы — в нее укладывается целая жизнь. В «Голосе в метро» — ожидаемая благодаря заглавию сборника любовная история. Но, в отличие от других рассказов с мистическими и трагическими завязкой или развязкой, этот сюжет повествует о вполне обыденном, «жизненном». Юношеская безответная влюбленность, метонимически оформившаяся в сознании героини как «голос» возлюбленного («голос — светлого счастливого тембра — ввергал ее в экстаз, сродни молитвенному. Голос был чистой радостью… Стоило ему оказаться поблизости. С ней происходило нечто вроде припадка: 1 Рубина 2006: 72 Рубина 2003: 66. 3 Рубина 2003: 68. 2 421 горло сжималось в спазме, в висках стучали молотки, колени подгибались. По спине бежали мурашки…»1), по прошествии лет исчезает. Новые встречи с бывшим объектом обожания, кроме разочарования и равнодушия, ничего не вызывают: «… он был абсолютно ей безразличен, потому что ничего общего не имел с тем удивительным мальчиком, при звуке голоса которого она цепенела и глохла»2. Увидев как-то раз в метро стайку подростков и услышав голос, тот, из юности, вновь «горло ее сжалось, в висках заколотился пульс, колени ослабели…»3. Это торопливое слово — о подростковой любви и о любви к своей подростковой любви. Традиционный для литературы ход: вынесенное ключевое слово заглавия по мере развития сюжета становится деталью, метафорой, символом, концептом. В рассказе «Гобелен» героиня оказывается на спектакле, в декорации которого есть гобелен. Эмоции, охватившие ее при узнавании картинки на гобелене, были столь сильны, что она не видела спектакля, она только слышала его, а именно песни, доносившиеся со сцены и отбивавшие в ее внутреннем сюжете-воспоминании десятилетия как эпохи, так и ее собственной жизни. «Едут на-ва-селы па земле целиннай!»4 — 1950-е гг., «А у нас во дворе-е-е… есть девчонка одна-а-а…»5 — 60-е, «Ким, Визбор, Никитины, Галич…»6 — 70-е. Воспоминания начались чуть ли не с поры младенчества, когда ее кормили из ложки кашей, в итоге охватили всю жизнь: школьница, первая любовь, несчастливое замужество, рождение ребенка, случайные встречи, второе замужество, взрослая дочь… И все время взгляд цеплялся за гобелен на сцене. Четырежды(!) рассказчица останавливает себя, чтобы не дай бог не впасть в сентиментальность, граничащую с пошлостью, чтобы не начать описывать сюжет картины на гобелене. Когда, наконец, спектакль закончился, когда она оказалась дома, когда всполошила своим гобеленом всех домочадцев, она уснула. И вот во сне го1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 6 Рубина 2 2003: 49. 2003: 50. 2003: 54. 2003: 72. 2006: 74. 2003: 75. 422 белен героиней все же описан: «…горы, опутанные тропинками, прекрасные горы вдали белоснежными пиками уносились ввысь, зазывая в лазурь, в небеса, словом, в будущую — упоительную, полную сумасшедших приключений и единственной верной любви, не омраченную жизнью — жизнь»1. Таково еще одно торопливое слово любви — к жизни, путь к которой лежит через горы, а оттуда — в небеса, в жизнь, не омраченную жизнью. Композиция «Нескольких торопливых слов любви» такова: предложив разные — укладывающиеся в типологический ряд, и совершенно неожиданные — слова о любви, автор, приближаясь к завершению цикла, помещает рассказ, заглавие которого содержит желанную, умиротворяющую установку, идущую из глубин культуры — это «Волшебные сказки Шарля Перро». Что, как не сказка, может предложить счастливый вариант развития любовного сюжета! В рассказе появляется «адаптированный» для восприятия (не очень обремененного образованием — что мотивировано контекстом рассказа) вариант сказки Шарля Перро. Героиня-рассказчица, находясь в палате родильного дома, осовременивает классическую сказку, вписывая ее в типичную повседневность больничной палаты. Можно сказать, что сюжет рубинского рассказа представляет из себя своего рода физиологический очерк, основанный на описании быта, аксиологии, фольклора/мифологии современной палаты родильного дома. Например, представления об иномирности происхождения ребенка, предвестия, связанные с его рождением, реализуются в устной повествовательной традиции, и в пространстве больницы в том числе2. Это рассказы о снах, в которых присутствуют символические образы-вестники будущего ребенка, о приметах3. Все предыдущие сюжеты цикла — слова любви — не вписываются в парадигму сказки: счастливая завязка в итоге или обрывается трагически, или перетекает в равнодушие, безразличие повседневной жизни. Только сказочная установка, на которую настроены слушатели из сюжета «Волшебных сказок 1 Рубина 2003: 79. См.: Разумова 2001: 283. 3 Разумова 2001: 283–288. 2 423 Шарля Перро» (скажем: участники фольклорного дискурса), способна породить такой обнадеживающий финал: «Живешь ты, живешь, очумеешь уже от этой говенной жизни, запаршивеешь душой, думаешь, что никакой любви и нет… А она, девочки, есть! Надо только затаиться, ждать и не рыпаться…»1. Практика мирового нарратива — как фольклорного, так и литературного — не проявляет интереса к жизни влюбленных после их благополучного союза, если это не сопряжено с чем-то экстремальным, трагическим, мистическим и проч. Этот феномен дискурсивной практики еще раз подтверждает любовный цикл «Несколько торопливых слов любви», несмотря на парадоксальный (с точки зрения дискурса, но не реальной жизни) призыв, звучащий в финальном рассказе «Такая долгая жизнь»: «А все-таки знаете, — надо любить! Надо влюбляться, сходить с ума, назначать свидания…»2. Потому-то этот парадокс — любовь, страсть — так интересен, для литературы в частности, потому-то эта тема — любви — принадлежит к разряду вечных, то есть нерешаемых. В сборник «Несколько торопливых слов любви» помещен еще один цикл рассказов — «Ручная кладь». Словосочетание, вынесенное в заглавие, вызывает ассоциацию из набора трансферных услуг. Собственно, все четыре рассказа, включенные в цикл «Ручная кладь», так или иначе сопряжены с путешествием героини-рассказчицы. А «ручной кладью» выступают как предметы, за которыми тянется шлейф семейных анекдотов, историко-культурных реалий: музыкальный инструмент, приобретенные во время поездки книги, так и личности, впечатления: «миг, день, сценка, разговор, сильное переживание, прошлогоднее цветение жимолости… то самое “остановись, мгновенье!” …у нас (писателей. — Э.Ш.), помимо груза собственной жизни, есть еще “дополнительный вес”, разрешенный небесной таможней»3. Многочисленные миграционные кульбиты членов семьи рассказчицы в «Альте перелетном» объединены сопровождающим их предметом — музыкальным инструментом, альтом, 1 Рубина 2003: 90–91. Рубина 2003: 91. 3 Рубина 2008: 46. 2 424 купленным ради вложения капитала. Сделка по незнанию и неопытности, по невезению в «бизнесе» не принесла прибыли — по пословице: не было у бабы печали, купила баба порося. Альт оказался неформатным, неуклюжим, все попытки купли-продажи срывались, дурацкий футляр с альтом, обвязанный бельевой резинкой, вызывал одновременно удивление и недоверие. Шли годы. Альт путешествовал через моря и океаны в надежде найти нового хозяина и обогатить прежних, которые со временем полюбили этого уродца и встречали его каждый раз как вернувшегося близкого родственника, возвратившегося домой из дальних странствий. И читатель верит, что альт, хоть и перелетный, когда-нибудь все же обретет свой окончательный дом и успокоится — дом своей постоянной хозяйки, нынешней его владелицы. Такова планида всех героев Дины Рубиной. Рассказ «Джаз-банд на Карловом мосту» — впечатления путешественника. Само заглавие, содержащее городской топоним, первое слово в повествовании (как правило, одна из сильных позиций текста) — «Прага» — первоначально как будто определяют главную тему сюжета — чешская столица, ее достопримечательности, ее дворцы и замки. Но, развиваясь, сюжет делает неожиданный кульбит: главная тема рассказа — это уничтоженное тысячелетнее европейское еврейство — одна из главных тем всей прозы Рубиной. Однако в этом рассказе она представлена как метафизическое предчувствие катастрофы ХХ в., предчувствие писателя Франца Кафки, который становится главным персонажем как этого текста Рубиной, так и метатекста Праги. Ручной кладью рассказчицы оказались две книжки о писателе: одна — его друга и биографа Макса Брода, вторая — Гаральда Салфеллнера, неумелый до комичности перевод о жизни писателя. Эта ручная кладь играет роль детали, вокруг которой строится сюжет рассказа. В экспозиции есть фраза о том, что Прага населена не только людьми: ангелы и святые, апостолы и мученики, короли, запечатленные в камне, парят в вышине города, на его крышах. Это видимая для туриста, поднявшего голову к небу, история города. Но есть и другая история, скрытая в земле, — это «мертвая толпа», «великая ар- 425 мия отмщения» на еврейском кладбище: «Кажется, что плиты не воткнуты в землю, а, вспоров ее покровы, вкривь и вкось выросли из недр могил»1. Среди них — могила Франца Кафки. «Кафка был Прага, и Прага была Кафка»2 — косно по форме, но точно по сути сказано в переводной книжке, одной из «ручной клади». Если первоначально джаз-банд на Карловом мосту, описанный Рубиной, воспринимается как яркая визитная карточка Праги, то по прочтении кафкианских эпистолярных отрывков у читателя рождаются аллюзии с той, времен Кафки, Прагой. И джаз-банд отныне — это парафраз бродячего еврейского театра, который описан, не без пристрастия, Францем Кафкой в его дневнике. У Рубиной: «На Карловом мосту вы пройдете за раз мимо пяти разноумелых ловцов, под музыку магнитофона ведущих в сетях нитей, свисающих с крестовины, шутов, королей, хасидов, крестьян и барышень в шляпках, колдунов и ведьм на метлах…»3 (курсив мой. — Э.Ш.). У Кафки: «Если бы я пожелал рассказать о них кому-то… я увидел бы… их… людьми, которые вследствие их особенного положения как раз и находятся вблизи центра общинной жизни, вследствие своего бесполезного созерцательного бродяжничества знают множество песен… Они, кажется, из каждого делают дурака, смеются сразу после убийства благородного еврея, продаются любому отщепенцу, танцуют, в восторге хватаясь за пейсы… и все только потому, что они легки, как перышки… они чувствительны… они лишены малейшего собственного веса, а потому сразу взмывают вверх. …Они постоянно во весь рост, а часто и на цыпочках, обеими ногами торчат в воздухе впереди на сцене и не снимают напряжения пьесы. А разрезают его»4. В многочисленных дневниковых записях Франца Кафки о бродячем еврейском театре актеры представлены словно те марионетки из рубинского повествования: их тела безмускуль1 Рубина 2003: 126. Рубина 2003: 128. 3 Рубина 2003: 124. 4 Кафка 2007: 48. 2 426 ны, «привлекает манера выбрасывать кулак, вращать руку… прикладывать растопыренные пальцы к груди… <…> …резкое выпрямление в полный рост»1. Кафка признается: «…я пишу о них (артистах) с неизменной любовью»2. Размышления Кафки о фольклорной культуре восточноевропейского еврейства — одна из ступеней его неспешной и противоречивой самоидентификации. Да и мост как знаковый локус Праги тоже не случаен в заглавии: мост в пространстве Франца Кафки — своего рода космогонический центр, не раз упоминаемый им в тех фрагментах дневниковых записей, которые можно считать экзистенциальными: «…мое положение в этом мире ужасно… дорога эта бессмысленна, не ведет ни к какой земной цели (к мосту? Почему именно туда? К тому же я не дошел до него)…»3. «Мы заговорили о Кафке, о том, что он сам и все его творчество — гигантская гипербола страха, космическое Предчувствие о том, что все родственники Кафки погибли в концентрационных лагерях, как и все эти немецкие интеллектуалы. Говорили о том, что не умри Кафка от туберкулеза, он погиб бы в лагере, как вся его семья, как Бруно Шульц, Януш Корчак, Фридл Дикке-Брандайс, — десятки, сотни талантливых людей… Именно здесь, на бывшем немецком курорте, в центре Европы… в середине просвещенного века, в эпоху расцвета техники, кино, промышленности… одни люди из других людей варили мыло и мастерили абажуры и кошельки — в том числе и из немецкоязычных интеллектуалов…»4. Тема страха у Кафки, как в дневниках и письмах, так и в художественных текстах, одна из главных. По словам исследователей, тема страха преобладает и в иудаике, но там страх дифференцирован: «…есть страх порочный и страх возвышающий»5. «…В Каббале страх в своих высших формах напрямую связан с присутствием Бога в мире»6. Его присутствие и пытался обнаружить писатель, все более и более про1 Кафка 2007: 68–69. Кафка 2007: 69. 3 Кафка 2007: 397. 4 Рубина 2003: 145. 5 Курганов 2005: 36. 6 Курганов 2005: 37. 2 427 являя интерес к иудаистической картине мира. Известны переводческие трактовки фамилии Кафка: галка или ворона — но непременно птица черного цвета. В каббалистическом трактате «Бахир» сказано: «Страх Божий — это высший страх. Он — в ладони Бога, И он является Его Силой. Эта ладонь (КАФ) называется чашей достоинств (КАФ ЗЕХУТ), потому что она склоняет мир к чаше достоинств»1. Мистическое (или логическое?) совпадение: каббалистическая семантика корня писательской фамилии каф спроецировала и жизнь, и творчество земного человека — Франца Кафки. Рассказ «Джаз-банд на Карловом мосту» как бы вложен в обертку под заглавием «Ручная кладь», а уже этот «сверток» помещен в книжку под заглавием «Несколько торопливых слов любви» — и не случайно. Это еще один ракурс темы любви — той любви, которой болел Франц Кафка, которую он искал, обманывая самого себя, вынося себе приговор: «…я покинут вообще… и покинули меня люди, это было бы еще не самое ужасное, я мог бы, пока жив, бежать вслед за ними, но я сам покинул себя, оборвав связь с людьми, мои силы поддерживать связь с людьми покинули меня, я расположен к любящим, но я не могу любить, я слишком далек от всех, я изгнан…»2. Очередной рассказа цикла «Ручная кладь» — «Еврейская невеста». Закавыченное автором словосочетание расшифровано в тексте — это картина Рембрандта, одна из многих, представших по ходу сюжета взору персонажей рассказа. Тем не менее смысл «Еврейской невесты» в контексте повествования много шире: для Йоськи, друга семьи рассказчицы, великовозрастного вечного жениха, поиск еврейской невесты — главный модератор во взаимоотношениях с миром. Каждая находка заканчивается одинаково: «Она хотела от меня только деньги. Я порвал с ней без единого слова»3. Желание создать семью, найти свою любовь, именно еврейскую невесту, определило географию поисков Йоськи — переезд в Израиль. В конце концов Йоська смиряется — поиск невесты прекращен: «Все напрасно… Я ловить воздух… Я ис1 Цит. по: Курганов 2005: 41. Кафка 2007: 397. 3 Рубина 2003: 164. 2 428 кать дым… <…> Всякий мужчина ищет своя половина и находит. <…> У меня же просто нет половина… <…> …она ушла в дым, эта девочка, когда я сидел в пальто и шапке в задней комнате у дяди Говарта и тети Анны… Наверно, ее превратили в пепел, как всех в моя семья… А я не понимал это и все искал и искал ее вся моя жизнь… Теперь хватит, генук…»1. Эта отметина — война, Холокост — не прошла со временем, она должна была отозваться в судьбе еврейского жениха, в его тревожном характере. Йоська был спасен в детстве от уничтожения счастливым случаем — добрыми людьми, голландскими крестьянами: «Буквально за неделю до вторжения нацистов в Бельгию старая кухарка их семьи забрала с собой мальчика погостить к своей бездетной сестре в деревню под Роттердамом. Четырехлетнему горожанину Йоське было обещано, что он впервые увидит близко “коровку, лошадей, уточек…”. И он действительно насмотрелся на живность вдосталь, так как всю оккупацию добряки крестьяне прятали мальчика в задней холодной комнате своего деревенского дома, одна стена которой была общей с хлевом. Он всегда был тепло одет на всякий случай — если немедленно придется бежать. Все остальные сорок девять человек огромной, разветвленной и блистательной семьи брюссельских профессоров музыки, врачей, докторов права, художников, канторов хоральной синагоги, ювелиров и фабрикантов были вывезены в вагонах для скота в один из лагерей смерти на территории Польши…. Отец, известный бельгийский тенор, в это время гастролировал по Америке. Вернувшись после войны в Бельгию, из всех родственников он нашел только худенького, очень вытянувшегося мальчика в теплой шапке, надвинутой на глаза…»2. Используемый писателем «матрешечный» заголовочно-цикловый комплекс создает дополнительные смысловые акценты. Включенный в цикл «Ручная кладь», рассказ «Еврейская невеста» декодирует заглавие: именно Йоська становится той ручной кладью, довеском, с которым приходится мириться, от которого никуда не деться — как самому герою («…пожилой Йоскеле, одинокий Адам, сотканный из дыма сожженных 1 2 Рубина 2003: 174. Рубина 2003: 154–155. 429 жизней своего рода»1), так и другим («С первых же дней знакомства смешной чудак из Бельгии стал для нас просто родственником. Утомительным, надоедливым, неотъемлемым, родным»2, «Я испытывала тоскливое желание, чтобы он уехал как можно скорее»3). Включенный в цикл «Несколько торопливых слов любви» (цикл в цикле), рассказ «Еврейская невеста» достигает верхушки смысловой иерархии — это сюжет о любви, точнее, о желании любви, но невозможности ее — это как род заболевания, когда все слишком запущенно. «Когда я купил этот дом, она (пальма) совсем умирала… Она просила воды. Я дал ей много воды и вот она живет и радуется… Это как человек. Только человек надо много любви…»4. Йоськина судьба так сложилась не по его вине: он был приучен в детстве к строгому порядку (сидеть одетым, всегда готовым бежать, всегда обязанным молчать, таиться), к невозможности жить эмоционально. Он не способен к любви, страсти, так вожделенным им, — интенция этого желания символически выражена образом картины Рембрандта. Эта вынужденная, судьбой сложившаяся двойственность героя подчеркнута в сюжете рассказа контрастом: европейский порядок — и библейские страсти, Йоська с его любовью к порядку — и неудача, да и невозможность обретения еврейской невесты. В рассказе есть пассаж, когда взгляд путешествующих израильтян случайно выхватывает кусочек интерьера бюргерского дома, ничем не изменившегося, если сравнивать с полотнами голландской живописи XVII в.: «Эта незыблемость мира старой Европы, ее домов, лестниц, каналов и парапетов, яхт на воде и мостов над водой, ее добротная сумрачная основательность так контрастировала с нашим ослепительным миром резкого прямого света, с бесслезным — до рези в глазах — пастушьим небом, жестким небом оголенных библей1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 2 2003: 2003: 2003: 2003: 170. 157. 170. 161. 430 ских страстей…»1 (курсив мой. — Э.Ш.). Выделенная курсивом фраза перекликается с первым рассказом цикла — «Областью слепящего света», в котором повествуется о страсти, внерациональности чувства. Не прямо — аллюзивно повествователь выносит таким образом свой приговор герою. (Подобная антитеза присутствует и в повести «Высокая вода венецианцев»: «Странно отличается здешний (венецианский) колокольный звон от такового в Амстердаме. Там — устойчивость, могучая основательность бюргеров. Здесь — мираж, отражение в воде канала, вопрошающий гул рока…»2). Текст, названный «Иерусалимцы», завершает микроцикл «Ручная кладь». Подзаголовком к рассказу (а также авторским жанровым обозначением) стоит слово четки, выполняющее здесь роль метафоры. Четки — это бусинки, зерна, узелки, отсчитывающие молитвы; у рассказчицы Рубиной, с одной стороны, четки — это всегда сопровождающая ее деталь — память о людях, ею встреченных, та самая «ручная кладь»: «Потягиваю пиво, неторопливо перебираю, — как старый араб-торговец перебирает четки своими тусклыми сафьяновыми пальцами, — скользящие за спину густые, тягучие, сдобренные тмином, кардамоном, корицей и ванилью минуты»3. С другой стороны — это непосредственно представленные в рассказе портреты иерусалимцев: безымянные горожане, не всегда адекватные, остроумные, ироничные к себе; одержимый писатель-миниатюрист; реальные медийные личности, в частности, афористичный Губерман; переодетая на новый год в дедов морозов группа «наших» велосипедистов; помимо наших, свои и пришлые иерусалимцы: сиделка — бывший борец то ли ушу, то ли джиу-джитсу, вяжущий крючком носки; водитель автобуса, марокканец, знающий музыку Малера; британский репатриант; репатриант-немец, мать которого в знак протеста Гитлеру приняла иудаизм; француженка-католичка, на которую так подействовала Библия, что она стала иерусалимкой — по факту и вере. Но наших (то есть бывших советских, русскоязычных) в четках, нишах памяти рассказчицы, значительно 1 Рубина 2003: 176. Рубина 2003: 274. 3 Рубина 2003: 183. 2 431 больше: «Что касается правоохранительных органов — в их коридорах можно встретить уже много наших. Причем как по эту, так и по ту сторону закона»1. «Русские» уже заседают и в кнессете, в частности они пролоббировали закон по сохранению собак-поводырей для слепых-пенсионеров. Иерусалим — это «царственный дервиш», «припыленный король городов», «миф сокровенный»2. Город, «который пребудет вечно, даже если распахать его плугом — как это уже бывало, — вечно пребудет, ибо поставлен на скале»3. Метафора дервиш, мусульманская по происхождению, вполне органична для этого города, начала всех начал: и религий, и религиозных течений. Как дервиш постигает Бога в танце, веселье, так и Иерусалим — город вечного карнавала: «Если долго сидеть, то в какой-то момент начинает казаться, что ты присутствуешь на репетиции некой пьесы и придирчивый режиссер без конца гоняет то просцениуму одну и ту же массовку…»4; «…общий карнавальный средиземноморский настрой…»5; «Ежегодный парад в День Иерусалима всегда производит впечатление парада-алле на арене цирка»6; «…толика безумия входит в духовную субстанцию этого места…»7; «Дивная страна! Боже, какая страна — живи, пиши и никогда не испишешься!»8; «Могучее кровообращение еврейской истории, связь времен, замкнутость сюжетов, круги и магические узлы судеб…»9. Рассказ «Иерусалимцы» совершенно органично находит свое место под обложкой с заглавием «Несколько торопливых слов любви», потому что он — о любви к вечному городу: «…кроме всех других нелепых привязанностей, у меня здесь есть Иерусалим»10. 1 Рубина 2003: 185. Рубина 2003: 213. 3 Рубина 2003: 213. 4 Рубина 2003: 182. 5 Рубина 2003: 189. 6 Рубина 2003: 198. 7 Рубина 2003: 199. 8 Рубина 2003: 203. 9 Рубина 2003: 204. 10 Рубина 2003: 181. 2 432 Налицо еще одна особенность рубинской поэтики: по уже привычному алгоритму последние сцены — род апофеоза — многих произведений (в данном случае микроцикла «Ручная кладь») посвящены Иерусалиму. Завершает сборник повесть «Высокая вода венецианцев». Образ Венеции — один из главных в повествовании. Он помещен в пространство антитезы. Венеция одновременно объект любви и восхищения: «Бог трудился над этой лагуной. Он был и весел, и бодр, и тоже — полон любви, восторга, сострадания….»1, «… здесь то и дело кажется, что сердце разорвется от счастья»2 — и образ, не дающий забыть о бренности как самого города, так и человека: «Иллюзия счастья…»3, «…этот город… был так же обречен, как и она, а разница в сроках… И это предощущение их общей гибели, общей судьбы — вот что носится здесь над водой каналов. <…> все обречено… обречено, обречено»4. Героиня, узнав о своем смертоносном диагнозе и находясь на пределе чувств, не желает расстраивать — убивать — мужа, которого любит («У тебя есть семья? — спросил он (Антонио) немного погодя. — Да, — сказала она. — И я очень их люблю»5), и, чтобы побыть наедине со своим приговором, оказывается в Венеции — городе счастья и грядущей смерти, ее и города. Венеция предстает ее глазам всеми своими привычными ликами и символами: каналы, гондолы, мосты, соборы, карнавальные маски — обманки, так соответствующие ее амбивалентному настрою. Веселье, праздник, карнавал — и смертельный ужас исходят от масок. И голуби. Реконструктивный взгляд на прозу Рубиной вычленяет эту деталь под напором последнего, по времени написания, романа о голубке Кордовы. Покормив голубей, героиня «так и ходила по площади, как святой Марк»6. Голубь в новозаветном тексте — символ Духа святого, а в венецианской традиции выпущенный голубь — предвест1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 6 Рубина 2 2003: 2003: 2003: 2003: 2003: 2003: 267. 272. 270. 283. 294. 273. 433 ник начала карнавальных празднеств (механический голубь, взлетая, рассыпает над площадью святого Марка конфетти). Экстремальной фазой в судьбе героини объясняется ее искрометный роман с венецианским портье Антонио — роман греховный, в далекой по времени экспозиции которого лежит инцестуальная, хоть и платоническая, связь. Молодость, облик, имя любовника-портье материализовали былое чувство к покойному двоюродному брату Антону. Свидание-страсть было единственным, но одна из фраз Антонио, с которой он обратился к героине, помещает сюжет этой повести в литературный метатекст. «Так кто же ты? — рассмеялся он, укладывая голову на ее плече. — Что ты за птица? О, какое дивное оперение…»1. Один метасмысл цепляется за другой: голубка, сидящая на руке героини — и любовник, приклонившийся на ее плечо. Но не он голубь, она, героиня, голубка. «Ты белая, белая! — бормотал он по-итальянски»2. Белая, птица, оперение — упомянутые внешние детали голубки. В рассказе И.Б. Зингера «Тойбеле и ее демон» героиня носит имя Тойбеле, что в переводе с идиша — голубка: «… она маленькая, светлая, с голубыми глазами…»3. Молодой разбитной веселый помощник учителя Алхонон, подслушав раз от Тойбеле рассказываемую подружкам историю любви между еврейской девушкой и демоном, решил подшутить над Тойбеле, придя к ней ночью под видом демона. Попутно влюбился в нее, и Тойбеле привязалась к нему не на шутку. Эта связь была преступной, греховной и тайной — в том мире, где жили Тойбеле и Алхонон, или демон Хурмиза. Но эта взаимная любовь дарила им счастье: для Алхонона, не желавшего жить по законам еврейского местечка, это было авантюрное любовное приключение, для Тойбеле — связь с потусторонним миром. Героиня из венецианского повествования Рубиной тоже все время ощущает связь с другим миром: «…ее послали сюда затем, чтобы…»4, «…ее приволокли сюда… подать некий успокаивающий… знак…»5, «И опять ей показалось, что кто-то 1 Рубина 2003: 296. Рубина 2003: 294. 3 Зингер 2004а: 3. 4 Рубина 2003: 256. 5 Рубина 2003: 267–268. 2 434 позаботился об этом неотвязном, бесконечно томительном свидании с покойным братом и ведет и волоком тащит ее по мучительному маршруту с известным, никаким помилованием не отменимым пунктом назначения»1. В этот город «с его призраками…»2: персонажами картин Тинторетто, Беллини — младенцами с ножками пожилых дам, с ожившими в ее сознании соплеменниками, имена которых выгравированы на мемориальной доске в гетто, с травестийными, так характерными для карнавального пространства фигурами: лифтер-арфист, официантка-Буратино, карта ее страны с точным указанием всех израильских локусов, но с несуществующим названием Палестина, и с самым главным — «призраком Антоши»3, ее брата. Такое сгущенное пространство-перевертыш за столь короткий временной отрезок не могло не создать ощущения потусторонности. Дьявол-искуситель пришел: в черной шляпе, с густыми бровями4, со смуглыми кистями рук латинянина5, так похожий на любимого когда-то брата и любившего ее. И связь с искусителем случилась — это было буквально несколько торопливых слов любви: «Она лежала рядом с этим чужим итальянским мальчиком и чувствовала к нему только ровную сильную нежность, понимая, что это чувство останется с ней до самого конца»6. Порочная, тайная, внезапная, стихийная встреча — как природный катаклизм, как аква альта — высокая вода венецианцев, но такая необходимая для нее в этот миг жизни. Текст под названием «Я и ты под персиковыми облаками» предшествует в сборнике рассмотренной выше повести. Я намеренно нарушила последовательность, которую в целом старалась соблюдать. Повесть «Я и ты под персиковыми облаками» — это «история одной любви, бесконечной любви, не требующей доказательств. …Любви неослабной…»7 — к собаке. А завязкой к этой 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 5 Рубина 6 Рубина 7 Рубина 2 2003: 2003: 2003: 2003: 2003: 2003: 2003: 277. 288. 262 260. 291. 297. 217. 435 любовной истории послужил случай, очень похожий на тот, с которого началось торопливое любовное свидание в повести «Высокая вода…». Собственно, здесь как бы делается экзистенциальное обобщение о жизни рубинской Кути (характерное не только для героини из «Высокой воды»): «Ее напасть, роковое, можно сказать, предназначение: всю жизнь подбирала и пристраивала бродячих псов»1. Да и сама эта школьная кличка — Кутя — собачья, которая прилипла к ней, потому что она еще во втором классе носилась со своим щенком по школьному двору, подвывая: «К-у-утя, к-у-у-тя…»2. «Я и ты под персиковыми облаками» — это признание в любви героини-рассказчицы к своему псу Кондрату — члену семьи, собеседнику, слушателю, родному существу, главное в котором — это «красота души»3. Все его чувства, обиды, желания, амбиции, мужеское начало, конечно, очеловечены. Но самым впечатляющим для читателя является финал этого рассказа-портрета. Конечно же, как водится у Рубиной, заключительная панорама повествования — это Иерусалим. Собака — возлюбленный друг героини — не может чувствовать иначе, чем ее хозяйка: они оба замирают на возвышенности под персиковыми облаками, глядя на вечный город. И хозяйка понимает, что придет время расставания: недолог собачий век, но верит, что их встреча состоится — уже в том, другом, так ожидаемом еврейским народом небесном Иерусалиме, который случится по пришествии Мессии, когда восстанет не только ее собака, но все безвинно загубленные, когда, наконец, спустится с небес Третий Храм. Собачья тема для прозы писателя не маргинальная, она поднимается во многих ее произведениях, помимо упомянутых выше, в таких: «Вот идет Мессия!..», «Яблоки из сада Шлицбутера», «На Верхней Масловке», «Ральф и Шурик» и др. В «Иерусалимцах» есть строки: «И только в конце пути поняла, что ехала, поставив ноги на собаку. И поразилась ее мудрому смирению, этому великому терпению ради одной, ее единственной жизненной цели: оберегать хозяина»4. 1 Рубина Рубина 3 Рубина 4 Рубина 2 2003: 2003: 2003: 2003: 289. 242. 221. 203. 436 В главе «Концепт дома» уже шла речь о собаке в иудаистической мифологии, где среди множества функций и коннотаций образа собаки превалирует представление как о нечистом животном. У рубинской героини, пожившей в разных вавилоноподобных городах/странах, своя позиция, свое — демократическое — отношение к собаке (как, собственно, и к регламентированным социальным институтам, например, к религии): «На нацию нам наплевать, были бы душевные качества подходящие»1. Заглавие сборника «Несколько торопливых слов любви» мносмысленно, многозначно. Это, с одной стороны, указание на малые жанры прозы; с другой — на истории о скоротечном чувстве любви; истории о разной любви — трагической, светлой, греховной и проч.; истории о желании, но невозможности любить. Таковы слова о любви любовного сборника Дины Рубиной. Импровизацией на эту же тему стали рассуждения писателя в книге «Больно только когда смеюсь» (сборник интервью, баек, картинок по теме, анекдотов — все из писательской копилки), в главе «Мой день, мой снег, светящийся во тьме…». Дина Рубина отвечает на вопросы интервьюеров о любви: любви как способе жить, таланте любить и быть любимым, идеальной любви, современной любви, назначении любви (любовь — инстинкт или воссоединение с Богом?), ревности, продолжительности любви, женщине — объекте любви и др. Этот текст, в отличие от жанровых повествований, содержит писательские рассуждения — жесткие, откровенные, но все равно созвучные с чувствами ее рассказчиц и персонажей. И самое откровенное о любви — музыкальная кода: «– Является ли творчество альтернативой любви? – О, да, да, да! <…> Это и есть своего рода любовь… Это интрига, борьба, ненависть, пораженье, победа…»2. 1 2 Рубина 2003: 217. Рубина 2008: 309. 437 Заключение Представленное исследование погружает русскую прозу писателя Дины Рубиной в мифологический контекст мировой культуры, а также сопрягает ее с картиной мира еврейского народа, с которым соотносит себя писатель. Истоки мифологической составляющей творчества Рубиной восходят прежде всего к иудейской культуре. Если в доизраильском творчестве писателя еврейская тема проговаривается вполслова, то в израильском она становится главенствующей, акцентируемой писателем. Особенность повествования в прозе Дины Рубиной заключается в присутствии рассказчика, она же героиня, — можно сказать, это единый образ, проходящий через всю прозу писателя. Рассказывание позволяет писателю привлекать в сюжеты своих произведений не только индивидуальное литературное сочинительство, но и собственно устный дискурс: воспоминания современников, байки, слухи, анекдоты, подсмотренные бытовые зарисовки — словом, фольклор. А устный дискурс, как ничто другое, отражает ментальность народа — поэтому ментефакты еврейской культуры, или национальные образы мира, — это то главное, что привлекает внимание писателя Рубиной и становится в ее творчестве сюжетом, деталью, типажом и т. д. Помимо еврейской картины мира, Дина Рубина воссоздала в своей прозе ушедший на рубеже веков русский культурный текст Ташкента — города детства и юности писателя1, или города ее доизраильской жизни. Ташкент, Россия, Израиль — столь отличные друг от друга культурные локальные тексты, воспроизведенные писателем, изначально, в акте своего рождения, замешаны на разных «дрожжах»: ислам, православие, иудаизм. Ко всему добавлена советская ментальность — потому что почти все персонажи трех основных локусов Дины Рубиной — это бывшие советские люди. Какой культуре, цивилизации отдает предпочте1 Рубина 2006: 352. 438 ние автор? Никакой. Ее позиция над географией, этносом, религией: жить по заповедям Божьим (а он, Бог, един у автора), оставаться человеком «при любой погоде, и в любых храмах любой веры». Главным же символом, кухней всех мировых культур Дина Рубина называет Иерусалим. По словам рубинской рассказчицы, когда-нибудь родится новый, Иерусалимский, текст — город-роман1. Однако такой текст уже присутствует в прозе Дины Рубиной: но это не роман, это куда более мощный слой, наличествующий во всех жанровых формах прозы писателя. Он цементирует почти все произведения Рубиной — темы, мотивы, перипетии героев так или иначе восходят к Иерусалиму, потому как в реальной жизни — и в древности, и теперь — в этот город можно только взойти (не приехать, не войти). В книге «Больно только когда смеюсь» (2008) заглавием одной из глав — «Эти восхитительные, упоительные рожи» — и ее содержанием автор в который раз признается в любви к Иерусалиму и его жителям, и восхищается ими, и отдает пальму первенства городу: «…во времена Британского мандата на Палестину — в сороковых годах прошлого века — военным губернатором Иерусалима был англичанин Роналд Сторз, человек мистически влюбленный в этот город. <…> …Сторз писал о своей странной любви к этому небольшому городу: “В Британской империи и вне ее пределов существует немало почетных и высоких должностей, но я чувствую — не могу объяснить, почему, — что после Иерусалима не может быть продвижения по службе…”»2. Вечный город, древний город, святой город, единственный на земле Иерусалим — он, тем не менее, рождает у писателя родственные ассоциации: это Ташкент, такой непохожий-похожий на Иерусалим своей карнавальностью, многонародностью, и Одесса — с ее неповторимым языком и достойными анекдотов сюжетами-картинками («Больно только когда смеюсь»). А весь любовный пафос к местам обитания рассказчицы и персонажей Дина Рубина, как прилежный архивариус, помещает в контекст старых, старинных вещиц, фотографий, имен 1 2 Рубина 2006: 369. Рубина 2008: 120. 439 и лиц, сохраненных памятью старожилов, словечек, еще недавно бывших в повседневной моде, но ушедших ныне из обихода (чего стоит метафора излюбленной Рубиной коллекции слов — уши, эти «гипсовые футлярчики для вместилища всех на свете слов…»1). Рубина как хозяйка большого сундука истории, в котором еще не все ею рассмотрено, не обо всем рассказано. Этот сундук сродни цирковому кофру из «Почерка Леонардо»: «…наш старый кофер. Это такой огромный цирковой чемодан, как сундук… <…> И вот открыл я его, значит… а там — фотографии, костюмы… вся наша жизнь!»2. И вряд ли будет исчерпан тот жизненный материал, который так многообразно ложится в прозу Рубиной, — писатель с каждым новым текстом погружается в новую для него бытовую нишу ли, профессиональное пространство: будь то цирковая среда, мастерская и кухня художника, скульптора, кинодеятеля, литератора, кукольника, музыканта (и даже редкого музыканта: фаготиста, карильониста), мир чиновников благотворительного офиса. И все эти профессиональные срезы-миры созданы не с кондачка, писатель почти исчерпывающе (так видится и верится читателю) воспроизводит действительность (как фольклорную, так и профессиональную) этих человеческих и социальных институтов. 1 2 Рубина 2008а: 318. Рубина 2008а: 434. 440 Список фольклорных информантов1 Zimmermann Elena, 1959 г., живет в Германии, журналист. Алевтина Ш., 1965 г., живет в Москве, филолог. Александр А., 1957 г., живет в Москве, журналист. Алексей Л., 1973 г., живет в Ростовской области, фермер. Анатолий А., 1929 г., живет в Израиле, филолог. Берл С., 1949 г., живет в Израиле, кинорежиссер. Борис А., 1951 г., живет в Израиле, филолог. Валентина Л., 1939 г., живет в Ростовской области, филолог. Валерий А., 1973 г., живет в Москве, журналист. Вероника Д., 1972 г., живет в Ташкенте, музыкант. Владимир Ч., 1952 г., живет в Ташкенте, филолог. Гранель И., 1973 г., живет в Бельгии, журналист. Георгий Ш., 1981 г., живет в Ташкенте, «технарь». Екатерина Л., 1975 г., живет в Москве, юрист. Жанна О., 1952 г., живет в Париже, филолог. Инна Ф., 1949 г., живет в Германии, филолог. Людмила Е., 1949 г., живет в Москве, филолог. Медора Б., 1950 г., живет в Ташкенте, филолог. Михаил, 1961 г., живет в Израиле, врач. Неля З., 1948 г., живет в Томской области, военнослужащая. Нора А., 1948 г., живет в Москве, филолог. Ольга Е., 1950 г., живет в Ташкенте, филолог. Ольга П., 1955 г., живет в Калининграде, филолог. Павел Ш., 1947 г, живет в США, журналист. Роза С., 1931 г., живет в Израиле, учитель. Светлана В., 1950 г., живет в Москве, инженер. Татьяна М., 1953 г., живет в Калининграде, филолог. Тариэл И., живет в Бельгии, журналист. Хамида Ш., 1926 г., живет в Москве, учитель. 1 Номинация информантов (сокращение имен) сделана по их желанию. 441 Библиография Абдуллаев 2001 — Абдуллаев Е. Оправдание Города // Малый шелковый путь: Новый альманах поэзии. Вып. 2. М.: Издво Руслана Элинина, 2001. Абдуллаев 2006 — Абдуллаев Е. Русские в Узбекистане 2000х гг.: Идентичность в условиях демодернизации // Диаспоры. 2006. № 2. Аверинцев 1991 — Аверинцев С.С. Дух святой // Мифологический словарь / Гл. ред. Е.М. Мелетинский. М.: Сов. энциклопедия, 1991. Аверинцев 1991а — Аверинцев С.С. Иудаистическая мифология // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. С.А. Токарев. М.: Сов. энциклопедия, 1991. Т. 1. Аверинцев 1992 — Аверинцев С.С. Мессия // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. М.: Сов. энциклопедия, 1992. Т. 2. Аверинцев 1992а — Аверинцев С.С. Ной // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. М.: Сов. энциклопедия, 1992. Т. 2. Агада 1999 — Литература Агады: Библиотека еврейской классики / Сост. и ред. И. Бегун, Х. Корзакова. М.: ДААТ / Знание, 1999. Азарий — Тайна имени Азарий. [Электронный ресурс.] URL: http://www.goroskopi.ru/publish/open_article/5453/ Андреева 2004 — Андреева С.В. Об одной тенденции в современной речевой коммуникации (подчеркивание неофициальности, усиление контакта с аудиторией). [Электронный ресурс.] URL: http://www.russcomm.ru/rca_projects/rca-konf-2004/ Андрухович 2009 — Андрухович Ю. Город-корабль / Пер. с укр. А. Пустогарова. [Электронный ресурс.] URL: http:// www.proza.ru/2009/08/23/386 Апчинская 2004 — Апчинская Н.В. Предисловие // Шагал М. Моя жизнь / Пер. с франц. Н. Мавлевич. СПб., 2004. Апчинская 2007 — Апчинская Н.В. Творчество Александра Волкова // Мастер «Гранатовой чайханы»: Живопись. Поэзия. Друзья. М., 2007. Арро 2002 — Арро В. Дом прибежища // Звезда. 2002. № 4. Арутюнян 1991 — Арутюнян С.Б. Астхик // Мифологиче- 442 ский словарь / Гл. ред. Е.М. Мелетинский. М.: Сов. энциклопедия, 1991. Аттиас, Бенбесса 2000 — Аттиас Ж-К., Бенбесса Э. Еврейская цивилизация: Энциклопедич. словарь. М., 2000. Афанасьев 1995 — Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: В 3-х т. М., 1995. Афлатуни 2005 — Афлатуни С. Ташкентский роман // Дружба народов. 2005. № 10. Афлатуни 2006 — Афлатуни С. Глиняные буквы, плывущие яблоки: Повесть-притча // Октябрь. 2006. № 9. Ахматова 1990 — Ахматова А.А. Соч.: В 2 т. М.: Правда, 1990. Балашов 1963 — Балашов Д.М. Народные баллады. М.–Л.: Сов. писатель, 1963. Балла 2010 — Балла О. Львов: опыт интериоризации. [Электронный ресурс.] URL: http://yettergjart.livejournal.com/762566. html Бартольд 1998 — Бартольд В.В. Культура мусульманства. М.: Леном, 1998. Басилов 1991 — Басилов В.Н. Пари // Мифологический словарь / Гл. ред. Е.М. Мелетинский. М.: Сов. энциклопедия, 1991. Белова 2005 — Белова О.В. Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции. М.: Индрик, 2005. Беньков 2009 — Беньков Павел Петрович, 1979–1949: Альбом / Авт.-сост. М.Ю. Лещинская; вступ. статья Т.К. Мкртычева. М.: Гос. музей Востока, 2009. Бершин 2005 — Бершин Е. Маски Духа: Роман-с из жизни осколков // Дружба народов. 2005. № 6. Богданов 2001 — Богданов К.А. Повседневность и мифология: Исследования по семиотике фольклорной действительности. СПб.: Искусство — СПб., 2001. Большакова 2004 — Большакова А.Ю. Менталитет // Западное литературоведение ХХ века: Энциклопедия. М.: Intrada, 2004. Браславский 1989 — Сказочные истории раби Нахмана из Браслава / Пер. с идиша р. А. Ганца. Иерусалим: Шамир, 5749 / 1989. Буслаев 2003 — Буслаев Ф.И. Народный эпос и мифология / Сост., вступ. ст., коммент. С.Н. Азбелева. М.: Высш. школа, 2003. 443 Бушуева — Бушуева Н., Корнеева О. В «-станах» шутят поособенному. Передача «Люди и общество». 01.04.2003. [Электронный ресурс.] URL: http://www.kub.kz/article.php?sid=3455 Быков — Быков Д. Камера переезжает // Новый мир. 2000. № 7. Бытие — Бытие // Библия: Книги Священного писания Ветхого и Нового Завета: Канонические / В русск. переводе. М., 1989. Вайль 2007 — Вайль П. Карта родины. М.: КоЛибри, 2007. Вайскопф 2001 — Вайскопф М. «Мы были как во сне»: Тема исхода в литературе русского Израиля // Новое литературное обозрение. 2001. № 47. Вайскопф 2003 — Вайскопф М. Семья без урода. Образ еврея в литературе русского романтизма // М. Вайскопф. Птица тройка и колесница души: Работы 1978–2003 гг. М.: НЛО, 2003. Вамбери 2003 — Вамбери А. Путешествие по Средней Азии / Пер. с нем. З.Д. Голубевой; под ред. В.А. Ромодина; предисл. В.А. Ромодина. М.: Вост. лит., 2003. Вексельман 2005 — Вексельман М. Еврейские театры (на идиш) в Узбекистане: 1933–1947. Иерусалим, 2005. Верещагин 1883 — В.В. Верещагин. Из путешествия по Средней Азии // В.В. Верещагин. Очерки, наброски, воспоминания. СПб., 1883. Вихнович 2002 — Вихнович В.Л. Хасидизм // Религии народов современной России: Словарь / Ред-кол.: М.П. Мчедлов (отв. ред.), Ю.И. Аверьянов, В.Н. Басилов и др. М.: Республика, 2002. Вихнович 2006 — Вихнович В.Л. Иудаизм. СПб.: Питер, 2006. Войнович 2004 — Войнович В.Н. Замысел. М.: Эксмо, 2004. Волков 2007 — Волков А. Дни кочевья: Стихи // Мастер «Гранатовой чайханы»: Живопись. Поэзия. Друзья. М.: Ньюдиамед, 2007. Волос 2000 — Волос А.Г. Хуррамабад: Роман. М.: Независимая газета, 2000. Волос 2005 — Волос А.Г. Таджикские игры: Рассказы и повести. М.: Зебра Е, 2005. Вяльцев 2000 — Вяльцев А. Женщина перед смертью: Повесть Дины Рубиной в журнале «Знамя» // Независимая газета. 2000. 16 марта. 444 Гаврилова 2002 — Гаврилова Ю.Б., Емельянов В.В. Ислам: Карманный словарь / Вступ. ст. В.В. Емельянова. СПб: Амфора, 2002. Галич 1977 — Галич А. Когда я вернусь: Полн. собр. стихов и песен. Посев, 1977. Геннеп 2002 — Геннеп А. ван. Обряды перехода: Систематическое изучение обрядов / Пер. с франц. Ю.В. Ивановой, Л.В. Покровской; послесл. Ю.В. Ивановой. М., 2002. Герд 2005 — Герд А.С. Введение в этнолингвистику: Курс лекций и хрестоматия. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. Гоголь 1951 — Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 14 т. Л.: Наука, 1940–1952. Т. 6, 7. Голендер — Голендер Б.А. Ташкент. [Электронный ресурс.] URL: http://tashkent.freenet.uz Голендер 1997а — Голендер Б.А. Главная улица старого города // Экономическое обозрение. 1997. № 11. Голендер 1997б — Голендер Б.А. Там, где шумел Воскресенский базар // Экономическое обозрение. 1997. № 22. Голендер 1997в — Голендер Б.А. Коммерсанты старого Ташкента // Экономическое обозрение. 1997. № 26. Голендер 2005а — Голендер Б.А. Анна Ахматова: всегда помню и люблю // Uzbekistan Airways. 2005. № 2. Голендер 2005б — Голендер Б.А. Отражения в зеркале истории, или Экскурсия с Голендером / Публикация Т. Петренко // Bella Terra. 2005. № 8. Голендер 2005в — Голендер Б.А. Роковые гастроли // Bella Terra. 2005. № 9. Горенштейн 2001 — Горенштейн Ф. Псалом: Роман-размышление о четырех казнях Господних. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. Грейвс 2002 — Грейвс Р., Патай Р. Иудейские мифы. Книга Бытия / Пер. с англ. Л. Володарской; послесл. Х. Бен-Иакова. М., 2002. Грищенко 2009 — Грищенко А. Ребро барана: Рассказ // Октябрь. 2009. № 6. Гусейнов 1991 — Гусейнов Г.Ч. Семирамида // Мифологиче- 445 ский словарь / Гл. ред. Е.М. Мелетинский. М.: Сов. энциклопедия, 1991. Дандес 2003 — Дандес А. Фольклор: семиотика и/или психоанализ: Сб. ст. / Пер. с англ.; сост. А.С. Архипова. М.: Вост. лит., 2003. Даниил — Книга пророка Даниила // Библия: Книги Священного писания Ветхого и Нового Завета: Канонические / В русск. переводе. М., 1989. Дементьев — Дементьев В.В. Лингвистический аспект светскости. [Электронный ресурс.] URL: http://www.omsu.omskreg. ru/vestnik/articles/y1999 Довлатов 1993 — Довлатов С.Д. Зона // С.Д. Довлатов. Собр. прозы: В 3 т. СПб.: Лимбус-пресс, 1993. Т. I. Довлатов 2006 — Довлатов С.Д. Речь без повода… или Колонки редактора. М.: Махаон, 2006. Дубнов 2001 — Дубнов С.М. Краткая история евреев. М.: В. Шевчук, 2001. Душечкина 2002 — Душечкина Е.В. Русская ёлка: История, мифология, литература. СПб.: Норинт, 2002. Дымшиц 1999 — Дымшиц В. Комментарии // Еврейские народные сказки, предания, былички, рассказы, анекдоты, собранные Е.С. Райзе. СПб.: Симпозиум, 1999. Дюрлахер 2009 — Дюрлахер Дж. Дочь: Роман / Пер. с нидерл. И. Гривниной. М.: Текст, 2009. Еленевская 2005 — Еленевская М., Фиалкова Л. Русская улица в еврейской стране: Исследование фольклора эмигрантов 1990-х в Израиле: В 2 ч. / Отв. ред. В.А. Тишков. М., 2005. Ерофеев 1990 — Ерофеев В.В. Москва — Петушки: Поэма. М.: Интербук, 1990. Жаботинский 2004 — Жаботинский В. О железной стене: Речи, статьи, воспоминания. Минск: МЕТ, 2004. Зайцев 1991 — Зайцев А.И. Аргонавты // Мифологический словарь / Гл. ред. Е.М. Мелетинский. М.: Сов. энциклопедия, 1991. Зингер 1993 — Зингер И.Б. Голуби // И.Б. Зингер. Сын из Америки: Рассказы / Пер. с англ.; сост. А.Л. Величанский; предисл. Т.А. Ротенберг. М.: Прогресс-Культура, 1993. Зингер 2000 — Зингер И.Б. Люблинский штукарь: Повесть / Пер. с идиш А. Эппеля. М.: Иностранка; Б.С.Г.-ПРЕСС, 2000. 446 Зингер 2001 — Зингер И.Б. Враги. История любви: Роман / Пер. С. Свердлова. СПб.: Лимбус-Пресс, 2001 Зингер 2001а — Зингер И.Б. Мешуга: Роман / Пер. с англ. С. Свердлова; под ред. А. Славинской. СПб.: Амфора, 2001. Зингер 2002 –Зингер И.Б. Шоша: Роман / Пер с англ. Н. Брумберг. СПб.: Амфора, 2002. Зингер 2004 — Зингер И.Б. Голем // Книжкин дом: Хрестоматия для детского и семейного чтения. М.: Дом еврейской книги, 2004. Зингер 2004а — Зингер И.Б. Короткая пятница и другие рассказы. СПб.: Ретро, 2004. Зингер 2004б — Зингер И.Б. Суббота в Лиссабоне: Рассказы / Пер. с англ. Н. Брумберг. СПб.: Амфора, 2004. Зингер 2005 — Зингер И.Б. День исполнения желаний: Рассказы о мальчике, выросшем в Варшаве / Пер. с англ. О. Мяэотс. М.: Самокат, 2005. Зингер 2006 — Зингер И.Б. Раб: Роман / Пер. с англ. М.: Текст, 2006. Зингер 2006а — Зингер И.Б. Раскаявшийся: Роман / Пер. с англ. В. Ананьева. М.: Текст, 2006. Зингер 2009 — Зингер И.Б. Почему Ной выбрал голубя / Пер. с англ. В. Пророковой. М.: Текст, 2009. Зогар 1994 – Раби Шимон. Фрагменты из трактата ЗОЃАР / Пер. с арамейск., сост., статьи, примеч. и коммент., кабб. коммент. М.А. Кравцова. М.: Гнозис, 1994. Золотоносов 1994 — Золотоносов М. Русоблудие: Заметки о русском «оно». Антисемитизм как психоаналитический феномен // Новое литературное обозрение. 1994. № 8. Ибрагимов — Ибрагимов З. Узбекистан: колыбель калечит детей. [Электронный ресурс.] URL: http://www.iwpr.net/?apc_st ate=henirca2003&l=ru&s=f&o=176378 Иванова 2001 — Иванова Н. Сквозь ненависть — к любви, сквозь любовь — к пониманию // Ф. Горенштейн. Псалом: Роман-размышление о четырех казнях Господних. М.: ЭКСМОПресс, 2001. Издрык 2011 — Издрык Ю. Львов: фазы психоза / Пер. с укр. А. Пустогарова // Вестник Европы. 2011. № 30. [Электронный ресурс.] URL: http://magazines.russ.ru/vestnik/2011/30/iz28.html 447 Ильин 2004 — Ильин И.П. Пастиш // Западное литературоведение ХХ века: Энциклопедия. М.: Intrada, 2004. Иудаизм — Иудаизм. [Электронный ресурс.] URL: http:// dog-info.narod.ru/iuda.htm Кабаков 2005 — Кабаков А. А. Московские сказки. М.: Вагриус, 2005. Кагаров 2000 — Кагаров Э. Ташкент: Комментарии к прописным истинам... [Электронный ресурс.] URL: http://www. ferghana.ru/tashkent/erken.html Каттабаев 2009 — Каттабаев С. Помпа: Рассказ / Пер. с узб. [Электронный ресурс.] URL: http://banya.uz/ktb.zip Кафка 2007 — Кафка Ф. Дневники / Пер. с нем. Е.А. Кацевой. М.: АСТ, 2007. КД 2004 — Книжкин дом: Хрестоматия для детского и семейного чтения. М.: Дом еврейской книги, 2004. Клубков 2003 — Клубков П.А. «Языковые игры» и малые жанры городского фольклора // Современный городской фольклор. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2003. Книжник 1991 — Книжник М. Готовальня: Сб. стихотворений. Киев, 1991. Книжник 2007 — Книжник М. Ташкент. Сквер: Место во времени. [Электронный ресурс.] URL: http://mytashkent. uz/2007/06/10/tashkent-skver/ Книжник 2001 — Книжник М. Я стану старожилом… // Малый шелковый путь: Новый альманах поэзии. Вып. 2. М.: Издательство Руслана Элинина, 2001. Книжник 2003 — Книжник М. Записная книга // Малый шелковый путь: Новый альманах поэзии. Вып. 4. Ташкент: Фан, 2003. Копылова 2006 — Копылова В. Детство. Отрочество. Ташкент // Московский Комсомолец. 2006. 5 мая. Копылова 2006а — Копылова В. Дама с прозой в руках // Московский комсомолец. 2006. 8 июня. Коран 1990 — Коран / Пер. с араб. И.Ю. Крачковского. М.: Раритет, 1990. Котляр 1991 — Котляр Е.С. Ориша нла // Мифологический словарь / Гл. ред. Е.М. Мелетинский. М.: Сов. энциклопедия, 1991. Кравцов 1994 — Кравцов М.А. Книга о Праведнике // Раби Шимон. Фрагменты из трактата ЗОЃАР / Пер. с арамейск., сост., статьи, примеч. и коммент., кабб. коммент. М.А. Крав- 448 цова. М.: Гнозис, 1994. Кудряшов — Кудряшов А., Кислов Д. Вымирающие игры ушедшего детства. [Электронный ресурс.] URL: http://www. ferghana.ru/comments. Кумок 2000 — Кумок Я. Трудная судьба «Мастера и Маргариты»: К 60-летию создания знаменитого романа // Русский еврей. 2000. № 2–3. Курбанова 2006 — Курбанова Д. «Несмотря на явное оскудение, Алайский базар остается визитной карточкой Ташкента…». [Электронный ресурс.] URL: Фергана.Ру. 10.10.2006. Курганов 2005 — Курганов Е. О необходимости страха // Семиотика страха: Сб. статей / Сост. Н. Букс и Ф. Конт. М.: Европа, 2005. Курсанова 2003 — Курсанова М. Птенцы летят следом… Путеводитель по литературной карте Львова // Знамя. 2003. № 6. [Электронный ресурс.] URL: http://magazines.russ.ru/ znamia/2003/6/kurs.html КЧ 1984 — Караван чудес: Узбекские народные сказки / Пер. с узб.; под общ. ред., вступит. ст. М. Шевердина. Ташкент: Изд-во литер. и иск. им. Г. Гуляма, 1984. Левин 1998 — Левин Ю. И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М., 1998. Леви-Строс 1999 — Леви-Строс К. Мифологики: В 4 т. Т. 1. Сырое и приготовленное. М.; СПб.: Университетская книга, 1999. Лесков 1989 — Лесков Н.С. Очарованный странник // Н.С. Лесков. Собр. соч.: В 12 т. М.: Правда, 1989. Т. 2. Лихачев 1984 — Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в древней Руси. Л.: Наука, 1984. Лозинская 2004 — Лозинская Е.В. Когнитивное литературоведение // Западное литературоведение ХХ века: Энциклопедия. М.: Intrada , 2004. Лопатко — Лопатко Л.П. Базары Ташкента. [Электронный ресурс.] URL: http://www.orexca.com/rus/bazaars_tashkent.shtml Лотман 1991 — Лотман Ю.М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Радуга. 1991. № 5. Лыкошин 1916 — Лыкошин Н.С. Полжизни в Туркестане: Очерки быта туземного населения. Петроград, 1916. 449 Макаревич 2006 — Макаревич А. Занимательная наркология / Комментарии М. Гарбера. М.: Махаон, 2006. Маламуд 2002 — Маламуд Б. Мастер / Пер. с англ. М.: Лехаим, 2002. Маламуд 2005 — Маламуд Б. Еврей-птица // Б. Маламуд. Ангел Левин: Рассказы / Пер. В. Голышева. М.: Б.С.Г.-ПРЕСС, 2005. Мальсагов 1991 — Мальсагов А.У. Сеска Солса // Мифологический словарь / Гл. ред. Е.М. Мелетинский. М.: Сов. энциклопедия, 1991. Мамаднабиева 2004 — Мамаднабиева М. Вначале была глина. [Электронный ресурс.] URL: http://archive.travel.ru/uzbekistan/71713.html Мандельштам 1987 — Мандельштам О.Э. Разговор о Данте // О.Э. Мандельштам. Слово и культура: Статьи. М.: Сов. писатель, 1987. Меламед — Меламед А. Кто же папа «телефота»? [Электронный ресурс.] URL: http://www.centrasia.ru Мелетинский 1998 — Мелетинский Е.М. Избранные статьи. Воспоминания / Отв. ред. Е.С. Новик. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998. Миляев 2002 — Миляев С.А. Петушки — Манхэттен: Рокпоэма. М.: Вагриус, 2002. Михайличенко 2001 — Михайличенко Е., Несис Ю. Иерусалимский синдром // Ориентация на местности. Русско-израильская литература 90-х гг.: Антология. Иерусалим, 2001. Муратханов — Муратханов В. Первородный грех колониста. Русские в Средней Азии // Дружба народов. 2005. № 8. Мяновска 2003 — Мяновска И. Дина Рубина: Вчера и сегодня. Торунь, 2003. Неверов 1961 — Неверов А.С. Ташкент — город хлебный: Повесть. М., 1961. Неклюдов 2005 — Неклюдов С.Ю. Структура и функция мифа // Современная российская мифология / Сост. М.В. Ахметова. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2005. Некрасов 1982 — Некрасов Н.А. Полн. собр. соч.: В 15 т. М.: Наука, 1981–2000. Т. 5. Некрасов 2003 — Некрасов В.П. Записки зеваки. М., 2003. Олейников 1991 — Олейников Н.М. Боевые дни: Рассказы, 450 очерки и приключения / Составл. и сопровод. ст. А.Н. Олейникова. Л.: Дет. лит., 1991. Отин 2006 — Отин Е.С. Словарь коннотативных собственных имен. М.: А Темп, 2006. Панченко 1990 — Панченко А. Юродивые на Руси. Петр I и веротерпимость: Главы из рукописи Александра Панченко «Образы и подобия». Л., 1990. Патай 2005 — Патай Р. Иудейская богиня / Пер. с англ. Л.И. Володарской. Екатеринбург: У-Фактория, 2005. Печейкин — Печейкин В. Тезиковка. [Электронный ресурс.] URL: http://bloxa.ru/964/ Плесовский 1991 — Плесовский Ф.В. Ен // Мифологический словарь / Гл. ред. Е.М. Мелетинский. М.: Сов. энциклопедия, 1991. Подпоренко 2001 — Подпоренко Ю.В. Бесправен, но востребован. Русский язык в Узбекистане // Дружба народов. 2001. № 12. Поликарпов, Лысак 2004 — Поликарпов В.С., Лысак И.В. Феномен еврейской цивилизации. Ростов-на-Дону: Владис, 2004. Полинская 1991 — Полинская М.С. Рупе // Мифологический словарь / Гл. ред. Е.М. Мелетинский. М.: Сов. энциклопедия, 1991. Порохова 2004 — Коран / Пер. смыслов и коммент. Иман Валерии Пороховой. М.: РИПОЛ классик, 2004. Пропп 1976 — Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. М.: Искусство, 1976. Пропп 1976а — Пропп В.Я. Фольклор и действительность: Избранные статьи. М., 1976. Пропп 1986 — Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986. Пулатов 1995 — Пулатов Т.И. Завсегдатай // Т.И. Пулатов Собр. соч.: В 4 т. М., 1995–1999. Т. I. Путилов 2003 — Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. СПб.: Петербургское востоковедение, 2003. Пушкин 1949 — Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 16 т. Л.: Наука, 1937–1949. Т. 11. Пятибратова 2006 — Пятибратова А. Киргизия: молодежь 451 все чаще употребляет традиционный «легкий наркотик» насвай. 22.10.2006. [Электронный ресурс.] URL: http://www.ferghana.ru/article.php?id=4657 Радин 1999 — Радин П. Трикстер: Исследование мифов североамериканских индейцев с комментариями К.Г. Юнга и К.К. Кереньи. СПб., 1999. Радищев 1938 — Радищев А.Н. Полн. собр. соч.: В 3 т. М.–Л.: Наука, 1938–1952. Т. 1. Разумова 2001 — Разумова И.А. Потаенное знание современной русской семьи. Быт. Фольклор. История. М.: Индрик, 2001. Райзе 1999 — Еврейские народные сказки, предания, былички, рассказы, анекдоты, собранные Е.С. Райзе / Сост. и предисл. В. Дымшица. СПб.: Симпозиум, 1999. Распутин 2003 — Распутин В. Дочь Ивана, мать Ивана: Повесть // Наш современник. 2003. № 11. Расул 1981 — Расул Халид. Закирджан Фуркат: Вступ. статья // Фуркат: Избранное. Ташкент: Изд. ЦК КП Узбекистана, 1981. Ремарк 1972 — Ремарк Э.М. Тени в раю: Роман. М.: Прогресс, 1972. РКП 2004 — Русское культурное пространство: Лингвокультурологический словарь: Вып. 1 / И.С. Брилева, Н.П. Вольская и др. М.: Гнозис, 2004. Рубина 2000 — Рубина Д.И. Камера наезжает!.. // Д.И. Рубина. Последний кабан из лесов Понтеведра: Роман, повесть. СПб.: Симпозиум, 2000. Рубина 2000а — Рубина Д.И. Последний кабан из лесов Понтеведра: Роман, повесть. СПб., 2000. Рубина 2001 — Рубина Д.И. «А не здесь вы не можете не ходить?!» // Д.И. Рубина. Вот идет Мессия!: Роман, эссе. СПб: Ретро, 2001. Рубина 2001а — Рубина Д.И. Вот идет Мессия!: Роман, эссе. СПб.: Ретро, 2001. Рубина 2001б — Рубина Д.И. Противостояние // Д.И. Рубина. Вот идет Мессия!: Роман, эссе. СПб., 2001. Рубина 2001в — Рубина Д.И. Итак, мы продолжаем!.. // Ориентация на местности. Русско-израильская литература 90-х гг.: Антология. Иерусалим, 2001. 452 Рубина 2002 — Рубина Д.И. Дом за зеленой калиткой. М.: Вагриус, 2002. Рубина 2002а — Рубина Д.И. Любка // Д.И. Рубина. Дом за зеленой калиткой. М.: Вагриус, 2002. Рубина 2002б — Рубина Д.И. Чем бы заняться?: Сб. рассказов. СПб.: Ретро, 2002. Рубина 2003 — Рубина Д.И. Несколько торопливых слов любви: Новеллы. СПб.: Ретро, 2003. Рубина 2004 — Рубина Д.И. Беседы о доме, о Москве, об Иерусалиме // Д.И. Рубина. Наш китайский бизнес: Роман и рассказы. М., 2004. Рубина 2004а — Рубина Д.И. Во вратах твоих // Д.И. Рубина. Воскресная месса в Толедо: Роман, повести, рассказы. М.: Вагриус, 2004. Рубина 2004б — Рубина Д.И. На Верхней Масловке: Повести и рассказы. М.: Эксмо, 2004. Рубина 2004в — Рубина Д.И. То, что написано за день // Д.И. Рубина. На Верхней Масловке: Повести и рассказы. М.: Эксмо, 2004. Рубина 2004г — Рубина Д.И. Яблоки из сада Шлицбутера // Д.И. Рубина. На Верхней Масловке: Повести и рассказы. М.: Эксмо, 2004. Рубина 2004д — Рубина Д.И. Синдикат. Роман-комикс. М.: Эксмо, 2004. Рубина 2005 — Рубина Д.И. Коксинель // Д.И. Рубина. Холодная весна в Провансе. М.: Эксмо, 2005. Рубина 2005а — Рубина Д.И. Холодная весна в Провансе. М.: Эксмо, 2005. Рубина 2006 — Рубина Д.И. На солнечной стороне улицы: Роман. М.: Эксмо, 2006. Рубина 2007 — Рубина Д. Ангел конвойный. М.: Эксмо, 2007. Рубина 2007а — Рубина Д.И. Цыганка: Рассказы. М.: Эксмо, 2007. Рубина 2008 — Рубина Д.И. Больно только когда смеюсь. М.: Эксмо, 2008. Рубина 2008а — Рубина Д.И. Почерк Леонардо: Роман. М.: Эксмо, 2008. Рубина 2009 — Рубина Д.И. Белая голубка Кордовы: Роман. М.: Эксмо, 2009. 453 Рубина 2010 — Рубина Д.И. Синдром Петрушки: Роман. М.: Эксмо, 2010. Сарнов 2002 — Сарнов Б. Наш советский новояз: Маленькая энциклопедия реального социализма. М.: Материк, 2002. Семенов 2002 — Семенов Н. Для нас он по-прежнему Робертино // АиФ. Долгожитель. 2002. № 8. 17 октября. Содомора 2008 — Содомора А. Листая страницы Львова. [Электронный ресурс.] URL: http://www.mankurty.com/statti/ sodomora.html Спивак — Спивак М. Владимир Ильич Ленин в Институте мозга. [Электронный ресурс.] URL: http:|//www.plexus.org.il/ texts/spivak_lenin.htm СПП 1986 – Средневековая персидская проза / Пер. с персидского; сост. Н.Ю. Чалисовой; предисл. Н.Б. Кондыревой. М.: Правда, 1986. Стеблин-Каменский 1978 — Стеблин-Каменский М.И. Апология смеха // М.И. Стеблин-Каменский. Историческая поэтика. Л., 1978. Султанович — Султанович З. Живая связь. [Электронный ресурс.] URL: http://www.machanaim.org/history/sultanovich Тахо-Годи 1991 — Тахо-Годи А.А. Кербер // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. С.А. Токарев. М., 1991. Т. 1. Ташкент 1984 — Ташкент: Энциклопедия / Гл. ред. С.К. Зиядуллаев. Ташкент: Главная редакция УзСЭ, 1984. Телушкин 2002 — Телушкин Й. Еврейский мир: Важнейшие знания о еврейском народе, его истории и религии. М.: Мосты культуры, 2002. Терц 1992 –Терц Абрам (Синявский А.Д.). Собр. соч.: В 2 т. Москва, 1992. Т. I. Тлостанова 2004 — Тлостанова М.В. Постсоветская литература и эстетика транскультурации. Жить никогда, писать ниоткуда. М.: Едиториал УРСС, 2004. Толстая 2003 — Толстая Е. Западно-восточный диван-кровать: Рассказы. М.: Новое литературное обозрение, 2003. Толстова 2006 — Толстова А. Ташкент — город верный // КоммерсантЪ. 2006. № 226. От 02.12. Толстой 1928–1958 — Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. / Под общ. ред. В.Г. Черткова. М.–Л.: Худ. лит., 1928–1958. Т. 32. 454 Топоров 1991 — Топоров В.Н. Агни // Мифологический словарь / Гл. ред. Е.М. Мелетинский. М.: Сов. энциклопедия, 1991. Топоров 1995 — Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М.: Прогресс — Культура, 1995. Тораваль 2001 — Тораваль Ив. Мусульманская цивилизация: Энциклопедический словарь. М.: Лори, 2001. Тресиддер 1999 — Тресиддер Д. Словарь символов / Пер. с англ. С. Палько. М., 1999. Тургенев 1981 — Тургенев И.С. Полн. собр. соч.: В 30 т. М.: Наука, 1981. Т. 7. УК 1946 — Уголовный кодекс Узбекской ССР по состоянию на 1 сентября 1946 г. Ташкент, 1946. УК 1954 — Уголовный кодекс Узбекской ССР по состоянию на 1 ноября 1954 г. Ташкент, 1954. Улицкая 2006 — Улицкая Л.Е. Даниэль Штайн, переводчик: Роман. М.: Эксмо, 2006. Файнберг 2009 — Файнберг А. Собр. соч.: В 2 т. Ташкент: Изд-во им. Гафура Гуляма, 2009. Форвард 2002 — Форвард М. Мухаммад: Краткая биография / Пер. с англ. А. Гарькавого. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. Франк 2007 — Франк А. Убежище: Дневник в письмах / Пер. с нидерл. С. Белокриницкой, М. Новиковой. М.: Текст: Лехаим, 2007. Фрисби 2002 — Фрисби Д. Разрушение города: Социальная теория, мегаполис и экспрессионизм // Логос. 2002. № 3–4. ФРЦ 1987 — Фольклор русских цыган / Сост., запись, пер. с цыганск., предисл. Е. Друца и А. Гесслера. М.: Наука, 1987. Цивьян 2001 — Цивьян Т.В. «Золотая голубятня у воды»: Венеция Ахматовой на фоне других русских Венеций // Т.В. Цивьян. Семиотические путешествия. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2001. Черняк 2006 — Черняк Л. Метафизические размышления о природе антисемитизма (в связи с работой Д. Шейнина «Об антисемитизме и его причинах»). [Электронный ресурс.] URL: httm://www.machanaim.org Четвертая Книга царств — Четвертая Книга царств // Библия: Книги Священного писания Ветхого и Нового Завета: 455 Канонические / В русск. переводе. М., 1989. Чехов 1986 — Чехов А.П. Полн. собр. соч.: В 30 т. М.: Наука, 1983–87. Т. 10. Чуковская 2007 — Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. М.: Время, 2007. Чуковский 2011 — Чуковский К.И. Дневник: В 3 т. М.: ПРОЗАиК, 2011 / Сост., подгот. текста, коммент. Е. Чуковской. Т. 3: 1936–1969. Чупринин 1993 — Чупринин С. Выбор // Знамя. 1993. № 7. Шагал 2004 — Шагал М. Моя жизнь / Пер. с франц. Н. Мавлевич. СПб., 2004. Шалев 2006 — Шалев М. Русский роман: Роман / Пер. с иврита Р. Нудельмана, А. Фурман. М.: Текст, 2006. Шалев 2008 — Шалев М. Голубь и мальчик: Роман / Пер. с иврита Р. Нудельмана, А. Фурман. М.: Текст, 2008. Шахназарова 1994 — Всемирное остроумие: Сократ, Наполеон, Рабинович… / Сост. и предисл. Л. Шахназаровой. Ташкент: Шарк, 1994. Шванки 1990 — Немецкие шванки и народные книги XVI в. М.: Худ. лит., 1990. Шифман 1991 — Шифман И.Ш. Тиннит // Мифологический словарь / Гл. ред. Е.М. Мелетинский. М.: Сов. энциклопедия, 1991. Шкунаев 1991 — Шкунаев С.В. Давид // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2-х т. / Гл. ред. С.А. Токарев. М., 1991. Т. 1. Шмелева 2002 — Шмелева Е.Я., Шмелев А.Д. Русский анекдот: Текст и речевой жанр. М.: Языки славянской культуры, 2002. Шмитт 2003 — Шмитт Э.Э. Евангелие от Пилата: Роман / Пер. с франц. А.М. Григорьева. М.: АСТ, 2003. Шмитт 2005а — Шмитт Э.Э. Дети Ноя // Э.-Э. Шмитт. Секта эгоистов: Роман, пьеса, повести / Пер. с франц. А. Браиловского, Г. Соловьевой, Д. Мудролюбовой. СПб.: Азбукаклассика, 2005. Шмитт 2005б — Шмитт Э.Э. Мсье Ибрагим и цветы Корана // Э.-Э. Шмитт. Секта эгоистов: Роман, пьеса, повести / Пер. с франц. А. Браиловского, Г. Соловьевой, Д. Мудролюбовой. СПб.: Азбука-классика, 2005. Шмитт 2005в — Шмитт Э.Э. Оскар и Розовая дама // Э.-Э. Шмитт. Секта эгоистов: Роман, пьеса, повести / Пер. с франц. 456 А. Браиловского, Г. Соловьевой, Д. Мудролюбовой. СПб.: Азбука-классика, 2005. Шолом-Алейхем 2002 — Шолом-Алейхем. Кровавая шутка / Пер. с идиша под ред. Д. Карельского. М.: Лехаим, 2002. Шуф 1979 — Шуф П. Мама Хлебушкина: Поэма // Пионер Востока. 1979. Январь. № 5–6. Энпе 1910 — Энпе. Очерки Бухары // Средняя Азия. 1910. Апрель. Эпштейн 1981 — Эпштейн М., Юкина Е. Мир и человек // Новый мир. 1981. № 4. Эпштейн 2000 — Эпштейн М. Эссеистика. Хасид и талмудист: Сравнительный опыт о Пастернаке и Мандельштаме // Звезда. 2000. № 4. Эпштейн 2005 — Эпштейн М. Возвращение ангелов: Марк Шагал. Авраам и три ангела // М. Эпштейн. Все эссе: В 2 т. Т. 2: Из Америки. Екатеринбург: У-Фактория, 2005. Эпштейн 2005а — Эпштейн М. О морализме и мироспасении // М. Эпштейн. Все эссе: В 2 т. Т. 2: Из Америки. Екатеринбург: У-Фактория, 2005. Юрганов 2004 — Юрганов А.Л. Нелепое ничто, или Над чем смеялись святые Древней Руси // Учен. зап. Моск. гум. пед. ин-та. М.: МГПИ, 2004. 457 Указатель ключевых слов Агада 56–59, 68, 111, 191 Ангел 7–8, 50, 52, 57, 110, 123–125, 130, 133–134, 229, 413, 424 Артист 197, 219, 224–225 Арык 273, 284, 318, 335, 337, 348–349 Базар 225, 273, 275, 280, 287, 301, 304–305, 310, 312, 314, 318, 322, 325–334, 336, 339, 359, 362, 365, 368, 390, 392, 394 Виноград, виноградник 37, 40, 51, 280, 315, 323, 326, 332, 335, 354, 387 Голубь, голубка 7–12, 34, 410, 437–438 Город 17, 29, 34, 36, 42, 91, 96–97, 101, 121, 126, 128, 133, 174, 237, 242–244, 246–250, 252, 254–255, 261, 267, 271–274, 276–284, 287–290, 317–318, 332–333, 343, 379, 380–383, 386–387, 391–392, 394, 404, 411, 429, 436–437, 441–443 Двор 293, 318, 320–321, 334–335, 348, 362, 366, 412 Дервиш 117–118, 374, 436 Дерево 62, 247, 254, 266, 287, 298, 318, 320–321, 369–370, 382 Зогар 54, 57, 123, 129, 206 Имя, имена 50, 52–53, 56–57, 59, 73, 104, 124, 126, 137, 160–161, 165, 177, 188, 195, 200, 207, 233–234, 245, 266, 273–274, 279, 285, 288, 292, 302, 374, 392, 300, 408, 438–439, 443 Коран 327, 370 Мессия, мессианство 109–111, 113–115, 117, 125–126, 130, 132, 134, 149, 172–173, 176, 197 Память 8, 11, 22–23, 25, 42, 72–73, 79, 88, 147–148, 158, 166, 177, 214, 321, 380–382, 391, 399, 403–405, 408–409, 411, 435, 444 Свинья, свинина 69, 73–74, 145, 151, 407 Сказка 31, 56, 109, 132, 189–190, 193–195, 280, 326, 328, 409, 427 Талант 26, 48, 195, 200, 213, 216–217, 220, 222, 224–227, 230– 231, 235, 243, 255, 257, 338, 360, 375, 399, 401, 403, 425, 431, 441 Творчество (тема, мотив) 199, 213–218, 222–223, 393, 399–401, 410, 431–432, 441 Трикстер 189, 197, 234–235, 340 Убежище 407–408 Хасид, хасидизм 49, 117–120, 198–200, 430 Холокост 139, 321, 407–408, 433 Художник 7–8, 106, 152, 200, 202–204, 213–217, 220, 222–224, 458 257, 261–262, 265, 275, 280, 289, 302, 311, 314, 334, 360, 374, 392, 400, 403, 411, 433, 444 Шлемазл 195–197, 203 Шофар 63, 70 Эвербутл 258 Юродивый 61, 117–120, 308, 387 459 Именной (писатели, указатель художники, исследователи) Абдуллаев Е. 272, 279, 317, 321 Абуладзе Т. 266, 30 Аверинцев С.С. 8, 51, 111, 117 Андреева С.В. 344 Андрухович Ю. 246, 248, 250, 252–253 Апчинская Н.В. 34, 365 Арро В. 335–336, 375 Арутюнян С.Б. 9 Аттиас Ж-К. 21, 111, 128, 131, 165 Афанасьев А.Н. 39–40, 191 Ахматова А.А. 279, 316, 318, 379, 387, 394 Балашов Д.М. 141 Балла О. 244, 246, 248–249 Бартольд В.В. 327 Басилов В.Н. 9 Белова О.В. 139–140, 142, 144, 149, 156, 409 Бенбесса Э. 21, 111, 128, 131, 165 Беньков П.П. 302 Бершин Е. 113, 316 Богданов К.А. 178, 281 Большакова А.Ю. 112–113 Булгаков М.А. 103, 245, 300, 316 Буслаев Ф.И. 140 Бушуева Н. 350 Быков Д. 209 Вайль П. 277 Вайскопф М. 31, 36–38, 40, 73, 137, 158, 162 Вамбери А. 327, 333 Вексельман М. 284 Верещагин В.В. 275, 311 Вихнович В.Л. 117–118, 199 Войнович В.Н. 136 460 Волков А.Н. 347–348, 374 Волос А.Г. 325–326, 342–346, 351, 357–358, 360–361, 363, 368, 372–373, 383–384, 392 Вяльцев А. 209 Гаврилова Ю.Б. 329 Галич А.А. 71, 135, 218–219, 345 Геннеп А. ван 39, 123–124 Герд А.С. 392 Гоголь Н.В. 94–95, 100, 105, 215, 314 Голендер Б.А. 288, 295, 298, 307, 312, 316, 325–326, 378, 381, 391 Горенштейн Ф. 3, 17, 52, 56, 67, 76, 93, 135, 157–138, 140, 143, 149, 158–159, 161, 164–166, 214 Грейвс Р. 28, 52, 55 Грищенко А. 273, 383, 385–386 Гусейнов Г.Ч. 9 Дандес А. 139, 149, 152 Дементьев В.В. 344 Довлатов С.Д. 135, 155, 218–220 Достоевский Ф.М. 105, 402 Дриз О. 192–194 Дубнов С.М. 165 Думбазде Н. 321 Душечкина Е.В. 175 Дымшиц В. 195 Дюрлахер Дж. 407 Еленевская М. 23–24, 32, 35–36, 40, 43, 84, 135, 144–145, 154, 167, 173, 176, 179–182, 213, 287, 290 Емельянов В.В. см.: Гаврилова Ю.Б. Ерофеев В.В. 97–98, 100, 272, 280, 344, 354 Есенин С.А. 326 Жаботинский В. 24, 41, 105–106, 136, 138, 143, 147, 169–170 Жуковский В.А. 235, 316 Зайцев А.И. 9 Зингер И.Б. 6, 10–11, 17, 48–50, 65–69, 71, 80, 91–92, 114–115, 119–120, 132, 134, 149, 192, 194, 438 Золотоносов М. 147 Ибрагимов З. 352 Иванова Н. 135 461 Издрык Ю. 246–247, 249–250 Ильин И.П. 173 Исмайлов Х. 353 Кабаков А.А. 274 Кагаров Э. 288, 310 Каттабаев С. 11 Кафка Ф. 430–432 Каххар А. 316 Кислов Д. см.: Кудряшов А. Клубков П.А. 181 Книжник М. 290–291, 297, 308, 312, 315, 339, 354, 355, 369, 379, 383 Копылова В. 281, 379 Корнеева О. см.: Бушуева Н. Котляр Е.С. 8 Кравцов М.А. 40, 54, 57, 116, 124 Кудряшов А. 361 Кумок Я. 300 Курбанова Д. 301 Курганов Е. 431–432 Курсанова М. 245–246, 249–250, 252 Левин Ю.И. 171–172 Леви-Строс К. 9 Лермонтов М.Ю. 180, 187, 391 Лесков Н.С. 141–142, 226, 402–403 Лихачев Д.С. 116–117 Лозинская Е.В. 110 Лопатко Л.П. 304 Лотман Ю.М. 14 Лыкошин Н.С. 276 Лысак И.В. 165, 205 Макаревич А. 323 Маламуд Б. 17, 144–145, 149–150 Мальсагов А.У. 10 Мамаднабиева М. 368 Мандельштам О.Э. 198, 201, 245, 271 Маяковский В.В. 174, 183 Меламед А. 374 Мелетинский Е.М. 177–178, 190, 279–280, 304, 319, 327, 349 462 Миляев С.А. 98 Михайличенко Е. 121, 132–133 Муратханов В. 351, 355, 367, 391, 395 Мяновска И. 47 Неверов А.С. 272, 277, 280 Неклюдов С.Ю. 177 Некрасов В.П. 97, 101 Некрасов Н.А. 95, 105, 215 Несис Ю. см.: Михайличенко Е. Олейников Н.М. 316–317 Отин Е.С. 274 Панченко А.М. 116–117 Патай Р. 194, 205–206, 209–210 Печейкин В. 296 Плесовский Ф.В. 8 Подпоренко Ю.В. 345 Поликарпов В.С. 165, 205 Полинская М.С. 9 Понырко Н.В. см.: Лихачев Д.С. Порохова В. 371 Пропп В.Я. 38, 93, 191 Пулатов Т.И. 328–329, 333–334 Путилов Б.Н. 343 Пушкин А.С. 53, 95, 97, 103–105, 171, 181, 217, 224, 310, 314, 371 Пятибратова А. 362 Раби Нахман из Браслава 195–196 Радин П. 189 Радищев А.Н. 95, 97, 106 Разумова И.А. 427 Райзе Е.С. 195 Распутин В. 159 Расул Х. 376 Ремарк Э.М. 12, 78, 408 Сарнов Б. 136, 138, 169 Семенов Н. 376 Содомора А. 246–247, 249 Спивак М. 179 Стеблин-Каменский М.И. 23 463 Султанович З. 118–119 Сухбат Афлатуни 13, 329–330, 342–345, 359, 362, 372 Тарковский А.А. 226, 245, 321 Тахо-Годи А.А. 38 Телушкин Й. 37, 51, 55–57, 74, 80, 82, 89–90, 111–113, 118, 131, 139, 164, 167–168, 191 Терц Абрам 103 Тлостанова М.В. 13 Толстая Е. 182–183 Толстова А. 277 Толстой Л.Н. 66–69 Топоров В.Н. 8, 242, 271, 278, 289 Тораваль Ив. 329–331 Тресиддер Д. 9, 38–39, 70 Тургенев И.С. 230, 415–417 Уайльд О. 422 Улицкая Л.Е. 36, 65, 125, 128, 139, 145, 151, 164, 183 Файнберг А.А. 350, 356, 360, 363, 366, 369, 384–385 Феллини Ф. 47–48, 61, 245, 368 Фиалкова Л. см.: Еленевская М. Форвард М. 332 Франк А. 407 Фрисби Д. 392–393 Цивьян Т.В. 246 Черняк Л. 151 Чехов А.П. 22, 102, 316, 391, 400, 417–419 Чуковская Л.К. 273 Чуковский К.И. 349 Чупринин С. 135 Шагал М. 33–34 Шалев М. 7, 9, 13, 94, 338 Шахназарова Л. 43, 156 Ширяевец А.В. 326 Шифман И.Ш. 9 Шкунаев С.В. 129 Шмелев А.Д. см.: Шмелева Е.Я. Шмелева Е.Я. 181 Шмитт Э.Э. 17, 63–65, 79, 113–114, 153–154, 158, 164, 166–167, 464 196–197 Шолом-Алейхем 17, 149–151 Шуф П. 376 Энпе 275–276 Эпштейн М. 119, 122, 125, 133, 166, 198–199, 201, 212 Юкина Е. 166 (см.: Эпштейн М.) Юрганов А.Л. 116–118, 120–121 465 Указатель художественных произведений (и циклов) Дины Рубиной и других писателей А нам, евреям, повезло (Б. Слуцкий) А не здесь вы не можете не ходить?! (Д. Рубина) Адам и Мирьям (Д. Рубина) Альт перелетный (Д. Рубина) Ангел конвойный (Д. Рубина) Бег времени (А.А. Ахматова) Белая голубка Кордовы (Д. Рубина) Белый осел в ожидании Спасителя (Д. Рубина) Беседы о доме, о Москве, об Иерусалиме (Д. Рубина) Бессонница (Д. Рубина) Библия Больно только когда смеюсь (Д. Рубина) В прямом эфире (Д. Рубина) Во вратах твоих (Д. Рубина) Волшебные сказки Шарля Перро (Д. Рубина) Воскресение (Л.Н. Толстой) Воскресная месса в Толедо (Д. Рубина) Вот идет Мессия! (Д. Рубина) Враги. История любви (И.Б. Зингер) Высокая вода венецианцев (Д. Рубина) Гладь озера в пасмурной мгле (Д. Рубина) Глиняные буквы, плывущие яблоки (Сухбат Афлатуни) Гобелен (Д. Рубина) Голем (И.Б. Зингер) Голос в метро (Д. Рубина) Голубь и мальчик (М. Шалев) Готовальня (М. Книжник) Дама с собачкой (А.П. Чехов) Даниэль Штайн, переводчик (Л.Е. Улицкая) Дано мне тело… (О. Мандельштам) Двое на крыше (Д. Рубина) Двойная фамилия (Д. Рубина) Дед и Лайма (Д. Рубина) 466 День исполнения желаний (И.Б. Зингер) Дети Ноя (Э.-Э. Шмитт) Джаз-банд на Карловом мосту (Д. Рубина) Дом за зеленой калиткой (Д. Рубина) Дочь (Дж. Дюрлахер) Душегубица (Д. Рубина) Евангелие от Пилата (Э.-Э. Шмитт) Еврей-птица (Б. Маламуд) Еврейская невеста (Д. Рубина) Еврейскому народу (И. Эренбург) Еще одно лирическое отступление (А.А. Ахматова) Завсегдатай (Т.И. Пулатов) Заклятье (Д. Рубина) Замысел (В.Н. Войнович) Занимательная наркология (А. Макаревич) Западно-восточный диван-кровать (Е. Толстая) Записки зеваки (В.П. Некрасов) Записная книга (М. Книжник) Золотая Бpичмулла (Д. Сухарев) Зона (С.Д. Довлатов) И когда она упала… (Д. Рубина) Иерусалимский синдром (Е. Михайличенко, Ю. Несис) Иерусалимцы (Д. Рубина) Итак, мы продолжаем!.. (Д. Рубина) Их бин нервосо (Д. Рубина) Кадиш (А. Галич) Как в трапезной – скамейки, стол, окно… (А.А. Ахматова) Камера наезжает!.. (Д. Рубина) Карта родины (П. Вайль) Коксинель (Д. Рубина) Кому на Руси жить хорошо (Н.А. Некрасов) Концерт по путевке «Общества книголюбов» (Д. Рубина) Коран Кровавая шутка (Шолом-Алейхем) Любка (Д. Рубина) Люблинский штукарь (И.Б. Зингер) Майн пиджак ин вайсе клетка (Д. Рубина) Мама Хлебушкина (П. Шуф) 467 Маски Духа (Е. Бершин) Мастер (Б. Маламуд) Мастер-тарабука (Д. Рубина) Мертвые души (Н.В. Гоголь) Мечта барона Гирша (И.Б. Зингер) Мешуга (И.Б. Зингер) Москва – Петушки (В.В. Ерофеев) Моя жизнь (М. Шагал) Мсье Ибрагим и цветы Корана (Э.-Э. Шмитт) На Верхней Масловке (Д. Рубина) На долгом светофоре (Д. Рубина) На исходе августа (Д. Рубина) На солнечной стороне улицы (Д. Рубина) Несколько торопливых слов любви (Д. Рубина) Область слепящего света (Д. Рубина) Оскар и Розовая дама (Э.-Э. Шмитт) От героев былых времен… (Е. Агранович) Отрывок (А.А. Ахматова) Очарованный странник (Н.С. Лесков) Петушки – Манхэттен (С.А. Миляев) По дороге из Гейдельберга (Д. Рубина) Под знаком карнавала (Д. Рубина) Последний кабан из лесов Понтеведра (Д. Рубина) Почему Ной выбрал голубя (И.Б. Зингер) Почерк Леонардо (Д. Рубина) Предостережение (А. Галич) Прогулки с Пушкиным (Абрам Терц) Противостояние (Д. Рубина) Псалом (Ф. Горенштейн) Путешествие из Москвы в Петербург (А.С. Пушкин) Путешествие из Петербурга в Москву (А.Н. Радищев) Раб (И.Б. Зингер) Ральф и Шура (Д. Рубина) Раскаявшийся (И.Б. Зингер) Ребро барана (А. Грищенко) Речь без повода… или Колонки редактора (С.Д. Довлатов) Романс (Б. Окуджава) Русский роман (М. Шалев) 468 Ручная кладь (Д. Рубина) Синдикат (Д. Рубина) Синдром Петрушки (Д. Рубина) Старый Хелом (Овсей Дриз) Струна рубайата (А. Файнберг) Таджикские игры (А.Г. Волос) Такая долгая жизнь (Д. Рубина) Ташкент – город хлебный (А.С. Неверов) Ташкентский роман (Сухбат Афлатуни) Тени в раю (Э.М. Ремарк) То, что написано за день (Д. Рубина) Тойбеле и ее демон (И.Б. Зингер) Тростник (Д. Рубина) Туман (Д. Рубина) Уроки музыки (Д. Рубина) Учитель географии (А.М. Олейников) Фарфоровые затеи (Д. Рубина) Хазарула (Н. Думбадзе) Холодная весна в Провансе (Д. Рубина) Хуррамабад (А.Г. Волос) Цыганка (Д. Рубина) Чем бы заняться? (Д. Рубина) Шарфик (Д. Рубина) Шоша (И.Б. Зингер) Я и ты под персиковыми облаками (Д. Рубина) Я кайфую (Д. Рубина) Я стану старожилом… (М. Книжник) Яблоки из сада Шлицбутера (Д. Рубина) 469 Научное издание Элеонора Федоровна Шафранская Синдром голубки Мифопоэтика прозы Дины Рубиной Верстка Е. Касьяновой ISBN 978-5-4386-0046-6 ООО «Свое издательство» 199004, Санкт-Петербург, ул. Репина, д. 41 Тел.: (812) 966-16-91 Интернет: http://isvoe.ru E-mail: editor@isvoe.ru Подписано в печать 1.03.2012 Гарнитура Newton. Печать цифровая. Формат 60 × 84 1/16 Отпечатано в типографии «Своего издательства»

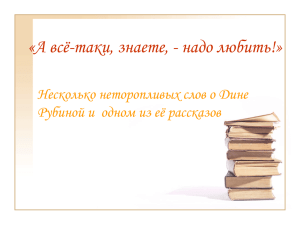
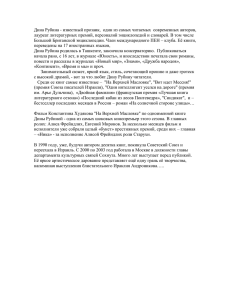
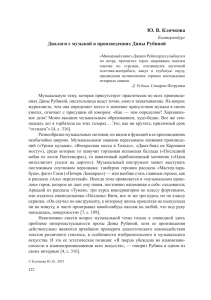
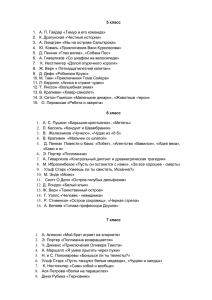

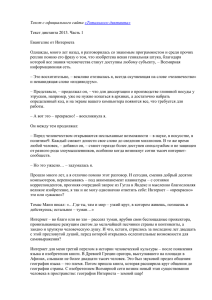
![[ ], (который ... (если ), [ ... [ , (который ...](http://s1.studylib.ru/store/data/000589101_1-4e8dfdacd8b8e11f201dda1df7723d55-300x300.png)