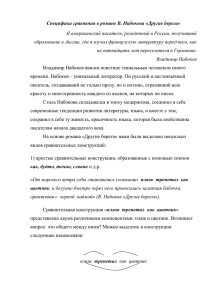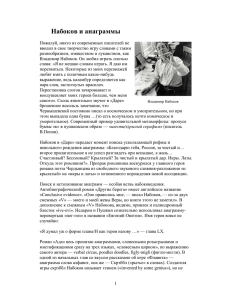Творческая работа к IV Набоковским чтениям
реклама
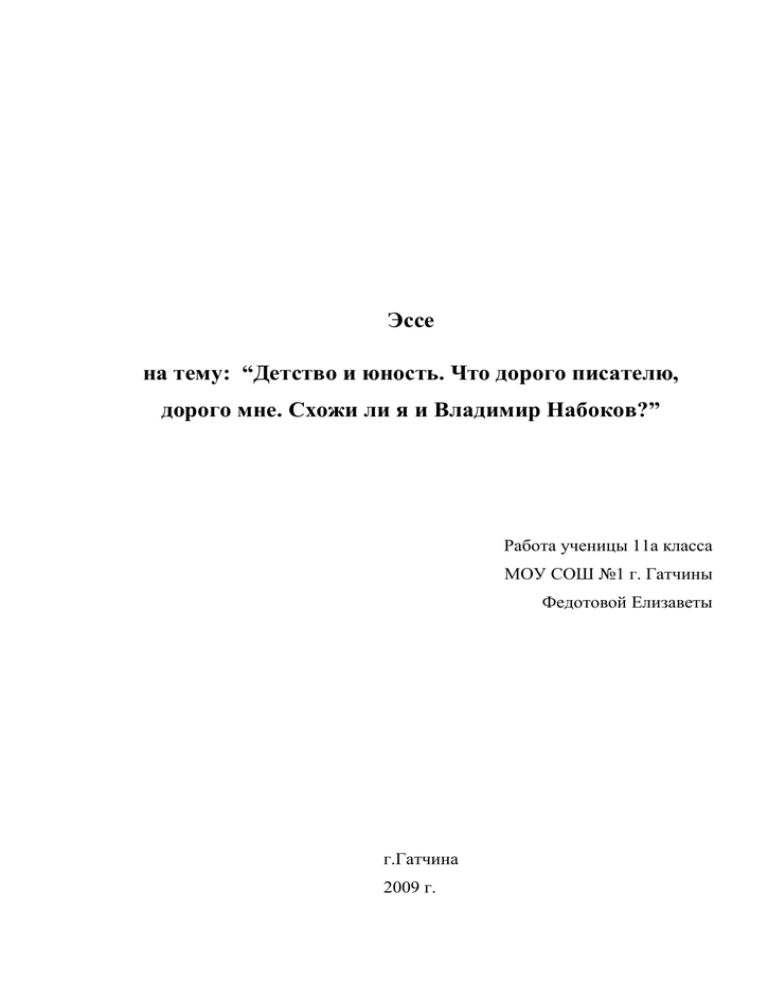
Эссе на тему: “Детство и юность. Что дорого писателю, дорого мне. Схожи ли я и Владимир Набоков?” Работа ученицы 11а класса МОУ СОШ №1 г. Гатчины Федотовой Елизаветы г.Гатчина 2009 г. «О, как гаснут – по-степи, по-степи, удаляясь, годы!» Годы гаснут, мой друг, и, когда удалятся совсем, никто не будет знать, что знаем ты да я. Владимир Набоков Боже, где оно – все то далекое, светлое, милое! Владимир Набоков «Однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда», этим утверждением заканчивает свой биографический роман «Другие берега» Владимир Набоков. Он действительно много видел в жизни: распад одной великой державы и строительство другой, блестящую жизнь российских аристократов и скитания оторванного от Родины человека, Кембридж и домашнее обучение детей русских интеллигентов. А чего стоят хотя бы его обожаемые бабочки? Скольких из них он повидал, начиная с диковинного самца червонной лицены в саду Вырского имения и заканчивая Eupithecia nabokovi McDunnough, пойманной в горах в Ютахе? Все это осталось в том укромном, без адреса и средств опознания месте – в памяти Владимира Набокова. The remain (остатки прошлого) бережно хранит богиня памяти и мать муз – Мнемозина, невидимо парящая над мыслями писателя, над его пером, всю жизнь – его и свою (она у них на двоих). Именно Мнемозина, мудрая, как все боги и заботливая, как все матери, сподвигла Набокова написать автобиографию. С ее легкой руки в 37 лет (кажется, рановато браться за мемуары) он пишет очерк на французском языке «Mademoiselle O». Далее появляется англоязычная книга «Conclusive Evidence». Ну а в 1953 году русскоязычный читатель узнал «Другие берега» Набокова. Полюбилась читателям книга сразу же. Ведь «Другие берега» 1 можно назвать портретом эпохи – начала XX века. Пушкин – Лермонтов – Достоевский… О Владимире Набокове в этом списке никак нельзя забыть. Он рисует портрет сюрреалистично. Бережно выводит малозначительные на первый взгляд детали одноволосковой кисточкой по идеально белому, грунтованному холсту воспоминаний. Отодвигает на задний план или делает почти незаметной точкой на полотне грузные, неповоротливые столпы истории. Детство – пора, которая больше всех остальных периодов жизни насыщена мелочами. И Набоков не стесняется своей слабости вспоминать эти мелочи. Погружаясь в мир детства, он растворяется в нем, становится «точкой искусства» (сколь удачно сформулированное Набоковым понятие!). И вот он, американец средних лет, вновь - маленький мальчик из аристократической семьи известного российского политика Владимира Дмитриевича Набокова. Снова забирается Володя за диван (ах, эти «пещерные игры»!). Снова на самой середине своего победоносного диванного пути ему становится страшно в этом иссиня-черном туннеле. Он выбегает из своего укрытия, как будто подгоняемый теми самыми чудовищами, которых 10 секунд назад героически поверг в своем воображении. Сбивает тяжелую подушку, служившую заслоном с одного из концов дивана. Или вот другой подарок Мнемозины – воспоминание – Набокову: «Проснувшись раньше обыкновенного, я сооружал шатер из простыни и одеяла, и давал волю воображению среди бледного света, полотняных и фланелевых лавин, в складках которых мне мерещились томительные допотопные дали, силуэты сонных зверей». Как же мы похожи в этом с Набоковым! Как же он в этом похож со всеми детьми! Я помню (помнят все – стоит только побередить минувшее), как когда-то оттягивала укладывание в кроватку, как искусно и, пожалуй, достойно фантаста придумывала поводы, чтобы не идти спать. Точно так же, только веком раньше, противился сну маленький Володя Набоков. Много чего мы можем еще вспомнить из нашего детства (благо, Мнемозина готова придти на 2 помощь). Много вспомнил и Владимир Набоков. «Жизнь – только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями». Разумеется, Владимир Набоков не может помнить, как вышел он из кромешной тьмы вечности. Но тот слабый свет детства навсегда остался в его памяти. Как многие дети «старой гвардии», еще до школы он получил прекрасное образование. «Я научился читать по-английски раньше, чем по-русски», нашептывает американцу русская Мнемозина. Весь этот рой гувернанток, гувернеров и преподавателей: мисс Рэчель с бисквитами в голубой бумаге, Mademoiselle с тройным подбородком (или около того – точное количество подсчитать было затруднительно), мисс Норкот – томная и печальная, чудесный Василий Мартынович, шотландец Бэрнес с «лицом цвета сырой ветчины», старомодный в манерах и раритетный по существу мистер Куммингс – всех их в портретах и пронзительных тонкостях сохранила жадная до мелочей память. Одно из самых сильных чувств – любовь – может причинять боль, если было безответно, может заставлять трепетать, если приносило счастье, но вот остаться без внимания богини памяти – никогда! В Биарриц у Набоковых была вилла. Туда они выезжали каждый год. А что за счастье для детей поездки! Родители сидят на парусиновых стульях, загорают, им хочется пообщаться в приятной ненатужной атмосфере. А в это время свободный от бремени родительского внимания ребенок может делать, что ему вздумается. Конечно, жизнь Володи Набокова немного осложнялась наличием вездесущих гувернанток… Однако на его детских, но, по его разумению, вполне серьезных увлечениях девочками, это никоим образом не отразилось. «Двумя годами раньше, на этом самом пляже, я был увлечен своей однолеткой, - прелестной, абрикосово-загорелой, с родинкой под сердцем, невероятно капризной Зиной, дочкой сербского врача; а еще раньше, в Болье, когда мне было лет пять, что ли, я был влюблен в румынскую темноглазую девочку со странной фамилией Гика. Познакомившись же с Колетт, я понял, что вот это - настоящее», - не без иронии рассказывает Владимир Набоков о 3 событиях 1911 года. Причиной такого трепетно-нежного и экзальтированного по природе своей чувства была совсем не волнующая детская красота француженки Колетт, не её очаровательная веснушчатость, но жалость (она часто является возбудителем любви, как палочка Коха туберкулеза) – «трогательное волшебство», как называет его автор «Других берегов». Вот и теперь болезненно-влюбленное состояние явилось только симптомом жалости. «Я понимал, между прочим, что она менее счастлива, чем я, менее любима», - и как тут не влюбиться?! Эта страсть – страшно подумать – едва ли не превзошла увлечение бабочками! Любовь живет мечтой, она ею питается. Володя Набоков в своих мечтах представлял себя славным рыцарем, спасающим красавицу Колетт – принцессу, если хотите – от ужасных ее родителей. Мыслями о побеге на золотой луидор (детское заблуждение насчет «цены жизни» и «ценах в жизни» дает о себе знать) полнились голова и сердце новоявленного героя. Но славные похождения доблестного рыцаря и его прекрасной спутницы заканчиваются, когда при совершении побега их настигают гувернеры – бесчестные и кровожадные разбойники с большой дороги детства. Однако спустя годы, Владимир Набоков помнит это увлечение… Это странное явление можно приписать разве что проделкам Мнемозины и, вероятно, действительно сильному чувству юного обольстителя – жалости. Обстановка дома, запах комнаты, вкус варенья, мягкость перины, извечно покачивающийся стул - зачастую память о детстве составлена именно этими мелочами. Но, разумеется, childhood (детство) – это милый сердцу, никогда не забываемый образ родителей. Мама… «Нежная и веселая», любившая всяческие игры и воспоминания о своем девичестве, имевшая гипертрофированное пристрастие к коричневым таксам, навсегда останется в памяти Владимира Набокова сопряженной с любимыми ее занятиями… Если вернуться на век назад, переместиться в имение Набоковых под Петербургом и оказаться рядом с садовой скамейкой, то можно увидеть Елену Ивановну с дополна заполненной корзинкой «благородных» грибов: боровиков, подберезовиков, 4 подосиновиков. Она выкладывает их на железный стол, сортирует и считает. Если мы по своему могучему велению окажемся в конце узкой и длинной просади дубков, то застанем Елену Ивановну за игрой в теннис… Папа… Выдающийся политический деятель для истории и общества, заботливый (в особенности по части образования) отец для детей, без тени «хозяйственной жилки» для домашних, он оставил глубокий след в памяти Владимира Набокова. «В отношении моем к отцу было много разных оттенков, безоговорочная, как бы беспредметная гордость, и нежная снисходительность, и тонкий учет мельчайших личных его особенностей, и обтекающее душу чувство, что вот, независимо от его занятий, мы с ним всегда в разговоре, и посреди любого из этих чуждым мне занятий он может мне подать – да и подавал – тайный знак своей принадлежности к богатейшему «детскому миру», где я с ним связан был таинственным ровесничеством», - вспоминает взрослый американец. Остался в памяти Владимира Набокова «похожий несколько на Теодора Рузвельта, но в более розовых тонах, Милюков в своем целлулоидном воротничке». Тот самый Милюков, который 28 марта 1922 года будет выступать в Берлинской филармонии с докладом «Америка и восстановление России». Тот самый, на которого совершат покушение Шабельский-Борк и Таборицкий и один из преступников выстрелит в Владимира Дмитриевича Набокова… Это событие поразит сознание молодого студента Набокова, его брата Сергея, сестер, мать, умершую позже, 2 мая 1939 года вдали от Родины в страшной нищете . Ну а пока… детство оказалось передано временем во владение Мнемозине. Наступила пора юности. А с какого времени считать юность? С первой любви? Тогда у Набокова, получается, детства не было совсем. С того момента, когда человек перестает видеть в облаках причудливые фигуры невиданных животных и начинает осознавать нависший над головой сгусток мелких льдинок и воды? Слишком иллюзорно. Ради справедливости и конкретики, в угоду общественному мнению начнем исчислять юность с получения аттестата зрелости. В 1917 году Владимир Набоков закончил 5 Тенишевское училище, досрочно сдав экзамены. Однако чудовищной несправедливостью по отношению к Мнемозине было бы опустить период в 6 лет с момента поступления на третий семестр в училище. Итак, 1911 год. Набокову 11 лет. «Училище, в которое он <отец> меня определил, было подчеркнуто передовое. Классовые и религиозные отличия в Тенишевском Училище отсутствовали, ученики формы не носили, в старших семестрах преподавались такие штуки как законоведение, и по мере сил поощрялся всякий спорт. За вычетом этих особенностей, Тенишевское не отличалось ничем от всех прочих школ мира». Обучение Владимиру давалась легко, без насилия души и разума. По-прежнему он увлекался своими бабочками, книгами, играми, «и в общем то не очень бы страдал в школе, если бы дирекция только поменьше заботилась о спасении его гражданской души». Воспитываясь в семье англомана, он привык к не очень значительным, но все-таки делающим жизнь приятнее аглицким мелочам. И здесь, в училище, он не желал «приобщиться к среде», доселе ему чуждой. Однако можно было бы шесть его лет в Училище считать спокойными, если бы в памяти не воскресали и не приходили в движение во всех подробностях воспоминания о злоключениях – скорее забавных, чем страшных – например, о драке с одним из лучших друзей. Исход этого поединка ощутили оба: Владимир Набоков все-таки прекратил слухи о дуэли своего отца (хоть их и нельзя назвать надуманными), а у друга треснула щиколотка. Но все уходит в прошлое, складываясь в короб памяти в покоях богини Мнемозины. Ушла в прошлое и страна, в которой родился и так прекрасно жил 18 лет Владимир Набоков. За «последними вспышками еще свободной, еще приемлемой России» в начале лета 1917 года последовали все те ужасы надвигающейся диктатуры большевизма. Отец, Владимир Набоков-старший, будучи убежденным кадетом, уверенным в возможности откинуть большевиков от руля страны, остался в Петербурге. Семья же частями отправилась в еще жилой Крым. В Симферополе 18-летнему Владимиру, его братьями, сестрам и матери пришлось увидеть и пережить нечто ужасное. «Из Севастополя 6 прибыли опытные пулеметчики и палачи, и мы попали в самое скучное и затруднительное положение, в котором могут быть люди, - то положение, когда вокруг все время ходит идиотская преждевременная смерть, оттого что хозяйничают человекоподобные и обижаются, если им что-нибудь не по ноздре. <…> На Ялтинском молу большевистские матросы привязывали тяжести к ногам арестованных жителей и, поставив спиной к морю, расстреливали их», - нехотя достает из закромов памяти Мнемозина. И вот, одна из самых блестящих семей России не в силах больше жить в стране, которой уже нет, отправляется на Запад. В Кембридже Владимир Набоков собирался учиться задолго до кровавых, пепельно-багровых, смешанных с обломками истории и жизни, событий в России. А сейчас, оторванный от страны, поступил он в Trinity College . Но не это оберегает Мнемозина, такие факты биографии хранят скупые, но важные энциклопедии, и обязательные, но бессмысленные предисловия к книгам. Слово «юность» в голове человека (а бога – уж само собой) ассоциируется с тем нежно-прекрасным, зачастую неуловимым, целительным или уничтожающим чувством – любовью. Поленька… Дочь кучера (Набокова, богатого и родовитого дворянина, ни в детстве, ни в зрелые годы – никогда не смущала разница в социальном и общественном положении с его избранницами). «Боже мой, как я ее обожал! - восклицает память голосом отца семейства, - странно сказать, но в моей жизни она была первой, имевшей колдовскую способность накипанием света и сладости прожигать мой сон насквозь, а между тем в сознательной жизни я и не думал о сближении с нею, да при том пуще боялся испытать отвращение от запекшейся грязи на ее ногах и затхлого запаха крестьянского платья, чем оскорбить ее тривиальным господским уважением». Не давала покоя Набокову и американка Луиза, вычлененная путем дифференциации из группы «изящных, стройных молодых американок» в Германии в 1911 году. «Другие берега» - книга автобиографическая, но, тем не менее, имена многих настоящих героев жизни Набокова заменены на псевдонимы. Авторы часто придумывают своим персонажам «говорящие имена». Владимир 7 Набоков же придумывает имена «цветные». Еще в детстве (разумеется, как только выучился русскому языку) делил он буквы по их окраске: чернобурую группу составляли А, Р, Г, Ж, Я, белесую – Л, Н, О, Х, Э и так далее. Свою самую сильную любовь юности – Валентину Шульгину в «Других берегах» он называет Тамарой (псевдоним, окрашенный в цветочные тона ее настоящего имени). С Тамарой (делаем вид, что не знаем, кто скрывается под этим псевдонимом) шестнадцатилетний Владимир Набоков знакомится в Вырском имении. Все лето молодые ребята, души которых оказались, как патиной, подернутыми любовью, бегали на свидания в березовую рощу, к реке, встречались они и во сне. Снова был повод волноваться на Володино увлечение бабочками, но нет – обошлось, любовь бабочкам – не помеха! С наступлением зимы и с переездом Набоковых в особняк на Морской, 47 их «безрассудный роман был перенесен в городскую, гораздо менее участливую обстановку». Свидания, счастье, прогуливание школы, посиделки на скамейках в Таврическом саду, Эрмитаж, Музей Александра Третьего, Музей Суворова, позже – «длинная тонкая трещина в любви», отъезд Тамары, вечная разлука. Вот такими patches of memory – лоскутами воспоминаний составлены «Другие берега» Набокова. Точно вплетенные во временную канву тонкими нитями памяти прочно держатся в сознании автора портреты, незначительные детали, мысли, сиюминутные чувства его детства и юности. Чего стоит хотя бы портрет Дитриха, молодого немца, который в 30-х годах коллекционировал не бабочек, не марки и даже не тарелки разных стран – а фотографические снимки казней. Человек, который видит красоту в лужах крови, в невозмутимом взгляде палача, мечтающий побывать в Америке, не чтобы посмотреть на статую Свободы, а чтобы насладиться сенсационными облачками дыма вкруг смертника, подвергающегося элекрокуции, неплохо может послужить для обрисовки нравов того канунного времени. Да и в общем, человек, его биография – лучшая иллюстрация эпохи. Константин Дмитриевич Набоков счастливо миновал две вехи истории – российской и мировой. «Ответив как-то «Нет, спасибо, мне тут рядом», а в другом случае 8 изменив планы и возвратив билет, он дважды в жизни избег необыкновенной смерти: первый раз, в Москве, когда его предложил подвезти вел. кн. Сергей Александрович, обреченный встретиться с Каляевым; другой раз, когда он собрался было плыть в Америку на «Титанике», обреченном встретиться с айсбергом». А Осип, камердинер Набокова-старшего был педантично расстрелян большевиками за то, что угнал к себе бывшие велосипеды Набоковых, а не передал их народу, - глупый, до безумия простой и показательный случай времен так ожидаемой диктатуры пролетариата. Владимир Набоков 15 апреля 1919 года покидает Россию навсегда. Он не вернется в любимую Выру, не пройдет по залам господского дома в Рождествено. Будет ли он скучать? Будет. Но не по той России, которая осталась за бортом лайнера «Надежда», а по России, в которой он был счастлив, в которой прошло его детство, так детально запомнившееся ему усилиями Мнемозины. Он будет жить во многих странах. Свободолюбивый Набоков назовет своей второй Родиной Соединенные Штаты. Там он и напишет «Другие берега», где сможет рассказать о своем отношении к Ленину, к новой России, изложить свои воззрения на литературу. Должна отметить, что перечень тех книг, которые стоят ближе всего к рабочему столу, которые перечитываются по несколько раз и отдаются под роспись в ведение Мнемозины, у нас одинаков. Стрелы критики Набоков пускал в адрес Майн Рида (как можно быть так чудовищно нетолерантным к литературе той страны, в которой живешь?), Конан Дойла, Достоевского, Лескова, Лермонтова, Гиппиус, Мережковского, Северянина. Всячески отрицал он фрейдизм и при любом упоминании о значимости воспоминаний, о снах осекался: «Прошу заметить, что я безоговорочно отметаю фрейдовщину и всю ее темную средневековую подоплеку, с ее маниакальной погоней за половой символикой, с ее угрюмыми эмбриончиками, подглядывающими из природных засад угрюмое родительское соитие». Такой бесстрашный в выражении мыслей, такой грамотный в писательстве, такой умный в жизни, такой единственный – Владимир Владимирович 9 Набоков. «Я американский писатель, рождённый в России, получивший образование в Англии, где я изучал французскую литературу перед тем, как на пятнадцать лет переселиться в Германию. …Моя голова разговаривает поанглийски, мое сердце — по-русски, и мое ухо — по-французски», - говорит американец средних лет, отец семейства, популярный мировой писатель, покинувший родную страну и служащий другой родной стране, говорит американец по-английски, в то время, как все его воспоминания гулким стоном отдаются в русском сердце… 10