ПОДОБИЕ ПРОЛОГА - Неофициальный сайт Тюменского
реклама
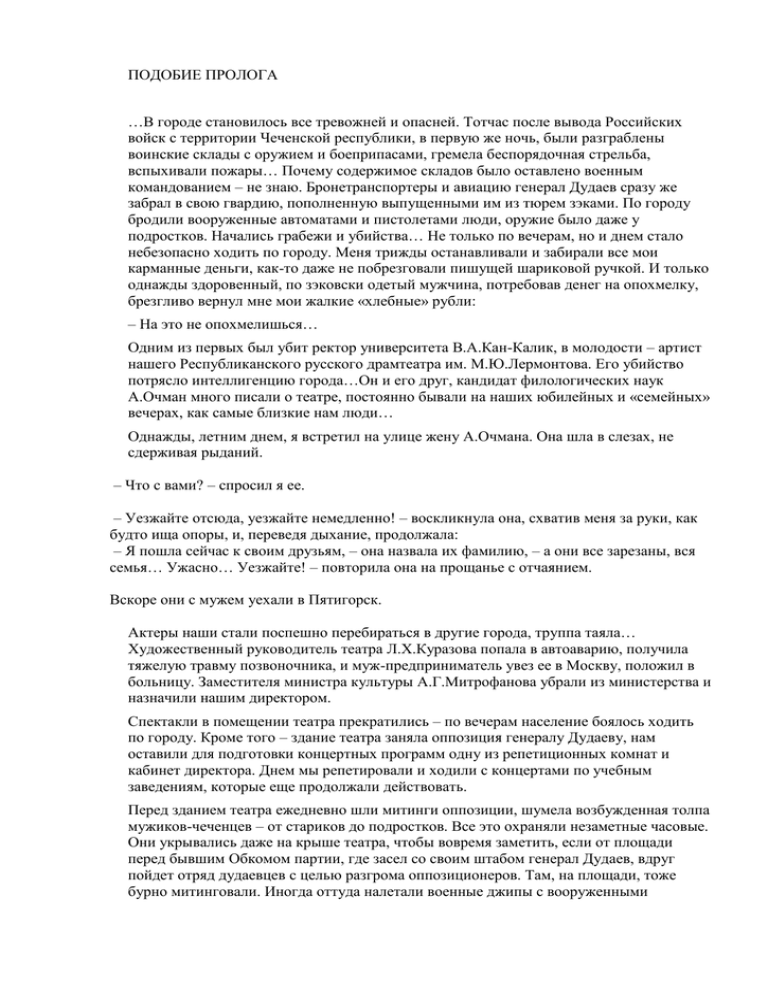
ПОДОБИЕ ПРОЛОГА …В городе становилось все тревожней и опасней. Тотчас после вывода Российских войск с территории Чеченской республики, в первую же ночь, были разграблены воинские склады с оружием и боеприпасами, гремела беспорядочная стрельба, вспыхивали пожары… Почему содержимое складов было оставлено военным командованием – не знаю. Бронетранспортеры и авиацию генерал Дудаев сразу же забрал в свою гвардию, пополненную выпущенными им из тюрем зэками. По городу бродили вооруженные автоматами и пистолетами люди, оружие было даже у подростков. Начались грабежи и убийства… Не только по вечерам, но и днем стало небезопасно ходить по городу. Меня трижды останавливали и забирали все мои карманные деньги, как-то даже не побрезговали пишущей шариковой ручкой. И только однажды здоровенный, по зэковски одетый мужчина, потребовав денег на опохмелку, брезгливо вернул мне мои жалкие «хлебные» рубли: – На это не опохмелишься… Одним из первых был убит ректор университета В.А.Кан-Калик, в молодости – артист нашего Республиканского русского драмтеатра им. М.Ю.Лермонтова. Его убийство потрясло интеллигенцию города…Он и его друг, кандидат филологических наук А.Очман много писали о театре, постоянно бывали на наших юбилейных и «семейных» вечерах, как самые близкие нам люди… Однажды, летним днем, я встретил на улице жену А.Очмана. Она шла в слезах, не сдерживая рыданий. – Что с вами? – спросил я ее. – Уезжайте отсюда, уезжайте немедленно! – воскликнула она, схватив меня за руки, как будто ища опоры, и, переведя дыхание, продолжала: – Я пошла сейчас к своим друзьям, – она назвала их фамилию, – а они все зарезаны, вся семья… Ужасно… Уезжайте! – повторила она на прощанье с отчаянием. Вскоре они с мужем уехали в Пятигорск. Актеры наши стали поспешно перебираться в другие города, труппа таяла… Художественный руководитель театра Л.Х.Куразова попала в автоаварию, получила тяжелую травму позвоночника, и муж-предприниматель увез ее в Москву, положил в больницу. Заместителя министра культуры А.Г.Митрофанова убрали из министерства и назначили нашим директором. Спектакли в помещении театра прекратились – по вечерам население боялось ходить по городу. Кроме того – здание театра заняла оппозиция генералу Дудаеву, нам оставили для подготовки концертных программ одну из репетиционных комнат и кабинет директора. Днем мы репетировали и ходили с концертами по учебным заведениям, которые еще продолжали действовать. Перед зданием театра ежедневно шли митинги оппозиции, шумела возбужденная толпа мужиков-чеченцев – от стариков до подростков. Все это охраняли незаметные часовые. Они укрывались даже на крыше театра, чтобы вовремя заметить, если от площади перед бывшим Обкомом партии, где засел со своим штабом генерал Дудаев, вдруг пойдет отряд дудаевцев с целью разгрома оппозиционеров. Там, на площади, тоже бурно митинговали. Иногда оттуда налетали военные джипы с вооруженными дудаевцами, открывалась стрельба. В одном из таких налетов погиб племянник генерала Дудаева… В стеклянных стенах вестибюля и верхнего фойе театра появились дырки от автоматных пуль. Мы их рассматривали, выходя осторожно в фойе во время репетиционных перерывов. Нас удивляло, что сами стекла не разбивались… Электричество в здании театра было отключено, двигаться по его темным коридорам стало опасно – там могли быть заложены мины с растяжками кем-нибудь из проникнувших дудаевцев. Всех, проходящих в здание, проверяли тщательно, даже нас – но потом узнавали в лицо и зная, что мы артисты, радушно пропускали без проверки… Выдача зарплаты прекратилась. Только изредка А.Г. Митрофанову удавалось достать для нас кое-какие деньги. Чтобы хоть как-то прожить, мы с женой, Марией Михайловной, продавали все, что покупалось – ставшую лишней посуду, мои столярные и слесарные инструменты, серебряные безделушки. Я сдавал книги из своей библиотеки в книжный магазин и получал какой-то процент после их продажи. Однажды утром, когда я в скверике ожидал открытия книжного магазина, ко мне подошел известный чеченский поэт и прозаик Магомет Сулаев. У меня с ним были очень хорошие, почти дружеские отношения. Это был седой, полноватый человек светлой души и природного благородства… В последнее время он печатал в местных газетах короткие исторические притчи о высоких этических обычаях чеченского народа, которые в настоящее время преданы забвению… Он хоть как-то пытался остановить процесс одичания, морального падения своих соплеменников… Он поздоровался, спросил о жизни, о том – зачем я здесь. Я ответил, показав на свой портфель, набитый книгами, что вот – сдаю в магазин книги, чтобы получить хоть какие-то деньги. Он ответил задумчиво: – Мне тоже надо заняться этим… Его кто-то окликнул. Мы обернулись. Невдалеке стоял поэт, председатель республиканского Союза писателей Шайхи Арсанукаев – невысокий, щуплый, тоже седой и удивительно скромный человек. Мы издали поздоровались. – Иду! – ответил ему Сулаев и, сказав мне, что они спешат на какое-то собрание интеллигенции по поводу теперешних событий, торопливо зашагал к Арсанукаеву. Я прощально помахал им вслед – и больше никого из них не видел. Сулаев вскоре умер – не выдержало сердце происходящего, а об Арсанукаеве – ничего не знаю, даже не знаю – жив ли он сейчас… Но у меня есть их книги, которые я храню бережно. Трудно стало доставать хлеб. Приходилось бегать по магазинам в поисках его, выстаивать длинные очереди, а когда хлеб привозили и дверь магазина открывалась – все, как сумасшедшие, лезли в нее, безжалостно давя слабых…При мне однажды, в дверном тамбуре, так сдавили друг друга, что потерял сознание молодой парень. Его еле выволокли из тамбура обратно на улицу, на воздух, – в магазин протолкнуть было невозможно. Часто по таким очередям мы мотались с Магометом Цицкиевым, великолепным актером ингушского театра. Его жена, Роза Хасановна, полуингушка-полуукраинка, была актрисой нашего театра, и у нас давно наладились с ними хорошие, уважительные отношения. Однажды утром, когда мы с ним стояли у хлебного магазина, рядом с нами остановился, проходя мимо, Руслан Элаудинович Сайханов, бывший руководитель отдела культуры при Обкоме партии. Как обычно – с мягкой иронией поздоровался, спросил: – За хлебом? – За хлебом, – ответили мы. – Трудно приходится? – Да, нелегко… – Зато свободными стали, суверенными, – жестковато сказал он и, пожелав нам удачи, пошел дальше… Трудно, голодно было всем – и русским, и чеченцам, и всем другим. В соседнем с нами микрорайоне изредка стала появляться машина, загруженная хлебом. Ее хозяин, чеченец, видимо предприниматель, сам раздавал этот хлеб вначале несмело подходившим старикам, женщинам, детям. Раздавал бесплатно, всем подряд. Да, наряду с грабежами и убийствами – было и такое… Летом 1993 года нам с женой стало ясно, что мы в Грозном не выживем. Надо было уезжать. Но куда, как, и на какие деньги? Уже уехавшие театральные товарищи приглашали нас в Краснодар, в кубанскую станицу Новоивановскую, в Пензу, в Москву…Но вот пришло письмо от сына Бориса, из Тюмени. Он и вся его семья звали нас к себе. И начали мы думать, как же совершить наш переезд… К тому времени у нас, в нашем подъезде, появились новые соседи. На нашем этаже поселился с женой-студенткой Юминой молодой ингуш Муса Гадаборшев, а через этаж выше – чеченец Иса с женой. Им надо было устраиваться на квартирах, и они часто обращались ко мне за инструментами, шурупами, гвоздями. У меня всего этого было достаточно, ибо все свои домашние поделки делал я сам. Так завязались хорошие соседские отношения. Иса с женой переехал сюда с женой из Сальских степей Калмыкии, где они были на заработках. Иногда он снова ездил туда, привозил оттуда мясо, часть которого бесплатно отдавал нам. Хорошо зная, что вокруг идут грабежи и убийства, жена Исы однажды крикнула сверху: – Тётя Мария, если на вас будут нападать – кричите нам громче, Иса пистолет купил, поможет! Почти так же сказала нам Юмина: – У Мусы автомат есть, так что вы не стесняйтесь, кричите, если нападут… Дверь у нас, как и у всех, была в сущности картонной, крепкий чеченец мог вышибить ее одним ударом ноги. На ночь, закрыв замок, мы заставляли ее стульями, гладильной доской, чтобы загрохотало, если ворвутся. А потом я сказал жене: – Ведь они все равно стрелять будут… Тогда зачем просыпаться на грохот, пусть лучше сонных стреляют, не так страшно… Она согласилась, но потом все равно сооружала на ночь нашу баррикаду. Муса часто заходил к нам звонить по телефону, Юмина тоже – Муса наказал ей учиться у «тёти Марии» кухонным делам, учиться готовить вкусно. Бывали у нас отец, мать, сестра его и брат – вся семья. Им пришлось покинуть свой дом в Пригородном районе Северной Осетии, когда там начались кровавые события из-за территории района между ингушами и осетинами. Теперь они занялись своим устройством на новом месте и торговыми делами, чтобы обеспечить себя. Я решил довериться Мусе и попросил совета, как осуществить наш переезд в Тюмень. Он, во-первых, предупредил, чтобы мы о нашем переезде никому не говорили и не выписывались с квартиры, потому что грабили и убивали в первую очередь именно тех, кто собирался уехать и уже выписался – значит как бы перестал быть жителем Чечни, сам поставил себя вне закона. Но сняться с пенсионного учета было необходимо, и мне удалось без проблем сделать это. И главное – деньги на все нужды переезда он тратил свои, сам взял на вокзале билеты для нас, сам загрузил контейнер частью наших вещей (холодильником, телевизором, одеждой, моими книгами в разборных стеллажах), сам отвез все это в Назрань и от своего на мое имя отправил контейнер в Тюмень. Взамен, за его труды и траты, я оставил ему нашу квартиру для их семьи, с распиской, что разрешаю им жить в ней во время нашего отсутствия, оставил нашу мебель, пианино, музыкальную аппаратуру. В театре я подал Анатолию Георгиевичу заявление о с воем уходе, он отдал мне трудовую книжку, и мы еще долго сидели с ним, грустно поникнув – нам с ним так часто приходилось вместе делать разные театральные дела, ездить и по республике и в Осетию на юбилеи, творческие форумы, когда он был заместителем министра, а я парторгом театра. Продолжалось это двадцать два года… Я спросил его: – Почему вы не уезжаете? – Куда? – с горькой усмешкой спросил он, – Родных у меня нет, а жена местная, и дочери еще маленькие… Теперь с ним, без меня, оставались главный художник театра заслуженный деятель искусств республики Александр Сновинг, народный артист РСФСР Владимир Белоглазов, артисты Герман Булушев, Элеонора Карпенко, Светлана Хомская, Наташа Гоголева., помощник режиссера Валентина Криволапова, еще несколько человек из технического состава и бухгалтерии. Исчезал, собственно – уже исчез хороший театр, где когда-то блистали яркие актеры, шли захватывающие спектакли, гремел аплодисментами зрительный зал… Театр имени Михаила Юрьевича Лермонтова, что особенно согревало наши сердца. Вскоре и оставшиеся актеры разъехались, директор оказался без творческого состава. Впоследствии мне рассказали, что он был обвинен в шпионаже в пользу России, его забрали, долго издевались над ним и расстреляли… Когда наш контейнер был отправлен – Муса сам отвез нас на вокзал, посадил в купе, где было уже два молодых человека – чеченец и ингуш. Муса представился им и попросил: – Ребята, эти старички – мои друзья, вы будете вместе ехать до Москвы, поберегите их, помогите им доехать благополучно. – Хорошо, – приветливо улыбнулись парни, – Располагайтесь! В коридоре появился патруль – чеченцы в камуфляжной форме и с автоматами. Мы с женой напряглись, но старались держаться спокойно. Они проверили документы у парней, затем обратились к нам. Я подал наши паспорта. Они сразу же посмотрели, выписаны ли мы, – штампов о выписке не было. – Куда же вы едете? – спросил старший. – В Тюмень к сыну, повидаться надо… Они внимательно посмотрели на два наших стареньких чемодана, помолчали, переглянувшись. Такие чемоданишки им проверять, очевидно, не захотелось. Старший отдал мне паспорта и грубовато спросил Мусу: – А ты чего тут? – Провожаю, – беззаботно ответил Муса, и они потопали в другой вагон. Муса весело подмигнул нам – мол, поняли, почему я советовал не выписываться? Мы на прощанье тепло, благодарно обнялись с ним, и он поспешил из вагона… Когда поезд, наконец, тронулся, у нас отлегло от сердца. Впереди была Москва, а затем – Тюмень, родные люди… Мы, уже спокойно и деловито, разложили вещи, застелили кровати и уселись, глядя в окно вагона. Мы с женой молча прощались с Чечено-Ингушетией, в которой так хорошо, интересно прожили двадцать два года… Парни сдержали свое слово, всю дорогу были с нами почтительны и предупредительны. Они рассказали о себе. Чеченец Леча после летних каникул возвращался в Москву, в свой институт, к началу учебного года. Ингуш Умар ехал далеко, в Томск, к брату, который занимался там торговлей. Леча внимательно поглядывал на меня и вдруг сказал: – Мне знакомо ваше лицо…где-то я вас видел. – Мы же актеры, – ответил я, – видели вы меня в каком-нибудь спектакле, в театре, или по телевидению, – я часто выступал там… – А-а…Да, верно. Но здесь вы какой-то…другой, – деликатно сказал он. Я подумал: «Еще бы! Без грима, да еще после всего пережитого…» Вот так мы ехали, мирно и приятно, чеченец, ингуш и двое русских, и словно совсем не думали о том, что происходило в только что оставленной Чечне и к чему это вело. Во всяком случае – мы об этом не говорили… И вот, 3 октября 1993 года – мирный и шумный город Тюмень, взволнованность при встрече на вокзале с сыном, внуками, племянниками… Потом – притирка к совместной жизни в одной квартире семьи сына и нас, хлопоты по оформлению наших документов… На улице Республики, на тумбах, я увидел афиши об открытии сезона в Государственном театре драмы и комедии – так теперь он именовался, наш прежний облдрамтеатр. Ведь мы с женой работали в нем с пятидесятого по пятьдесят четвертый год! Я пришел на открытие. Показал при входе мое грозненское театральное удостоверение, сказал: – Я актер из другого города. Можно посмотреть ваш спектакль? – Билетерша подозвала молодую женщину-администратора. – Вы актер! – приветливо улыбнулась она, посмотрев удостоверение, – Из города Грозного… Приходите к нам работать! Я поблагодарил ее, приняв это предложение за шутку. Мне было шестьдесят девять лет! От актеров такого возраста уже стараются избавиться, а не принимать их на работу. Я прошел в заполненное зрителями фойе. Было немножко тревожно, радостно и грустно. За последнее время я уже отвык от такой праздничности, яркой людности театрального фойе, подумал – а что же сейчас творится там, в нашем грозненском театре… – Вы случайно не Панов… Вениамин Данилович? – кто-то вывел мня из задумчивости неожиданным вопросом. – Да… Но… – я замялся, глядя на бородатого, длинноволосого человека, вроде бы совсем незнакомого мне. – Не узнаете… Я Александр Ческидов, работал у вас в Грозном когда-то. Я встрепенулся…Саша Ческидов! Совсем молодым, только что окончившим Омскую студию, он приехал в наш театр. Несколько лет работал увлеченно, интересно, потом убыл с нашим директором, которого перевели во Владивосток, в краевой драмтеатр. Я слышал, что впоследствии он стал тюменским артистом, но постоянно занят в киносъемках – и совсем не ожидал встречи с ним. Да и как бы я мог узнать его, прежде стройного юношу, в этом бородатом и уже с проседью в волосах человеке! Заговорили мы взахлеб, перебивая друг друга. Он коротко, как бы отмахиваясь, отвечал на мои вопросы и больше спрашивал сам: как там, в Грозном, где прежние товарищи, как я оказался здесь? И когда я рассказал все, он воскликнул: – Так вам надо работать здесь! Да! – он отметил мое ошарашенное, нерешительное состояние, – Вас возьмут, такие актеры здесь нужны! И заявил, что сам завтра представит меня директору тюменского театра. Я шел на эту встречу с неловкостью, не веря, что действительно нужен здесь. Директора я увидел еще вчера, на сцене, перед началом спектакля. Он говорил об успешных летних гастролях театра в Новгороде и Петербурге, о планах на новый сезон…Был он красив, мужествен, элегантен. Держался свободно, говорил легко и веско, уверенный в добротности своего театра. Спектакль – «Чудеса пренебрежения» Лопе де Вега – мне понравился. Я сам когда-то играл героя этой пьесы, и сейчас меня захватила свежесть сценического решения спектакля, живая, не наигранная яркость образов, слаженность и задор актерского исполнения. Сразу же запомнились актеры Анатолий Бузинский,. Владимир Орел, Сергей Белозерских и, конечно же, очаровательная, величественно-властная Татьяна Пестова… С Орлом я только что столкнулся в актерской раздевалке. Я узнал его и поблагодарил за вчерашний спектакль, сказал, что мне понравилось его исполнение роли комедийного соперника героя. Он на полном серьезе, пряча юмор, лихо спросил: – Правда, я хороший артист? – Конечно! Плохого актера с первого же его выхода аплодисментами не встречают, – ответил я. А его появление на сцене вызвало дружные, бурные и радостные аплодисменты всего зала. Впоследствии мы подружились с ним. Саша Ческидов встретил меня в вестибюле и повел в директорский кабинет, представил директору. Владимир Здзиславович смотрел на меня с любопытством, начал расспрашивать, особенно о Чечне, потом спросил: – А как у вас с жильем? Я ответил, что живем у сына. Поговорили еще немного – и он заключил: – Несите заявление, свои документы, возьмем вас, работайте. Главного режиссера в театре не было – директор сам решал все основные вопросы деятельности театра. Поразила простота и легкость зачисления меня в театр…Конечно, помогло то, что обо мне говорил Саша Ческидов. Когда вышли из кабинета, я поблагодарил его – он отмахнулся: – Да ну, чего там… На протяжении всего первого сезона меня вводили в старые спектакли. Мое актерское возрождение началось с «Дикаря» Алехандро Касона. Это было действительно возрождением, я был совершенно размагничен, сказались все-таки последние два года в Чечне… Зажимало то, что я вхожу в такой крепкий актерский состав, волновало возвращение на сцену, на которой когда-то, тридцать девять лет назад, прошли четыре года моей актерской молодости… А вводился-то я не на такую уж сложную роль Ролдана, но спектакль был поставлен бывшим главным режиссером Плавинским, легендою театра, и теперь его самого попросили сделать этот ввод… Мудрый Евгений Анатольевич прекрасно понимал мое состояние, был мягок и терпелив и постепенно возвращал мне профессиональную уверенность. Я был понастоящему благодарен ему и моим новым товарищам, партнерам по спектаклю – Анатолию Бузинскому, Ирине Халезовой, Галине Домниковой, Владимиру Ващенко… Они сразу же стали считать меня своим, и это снимало мою зажатость, освобождало органику. Последующие вводы – на Каркунова в «Сердце не камень» А. Островского, на Клебера Карлье в «Блезе» К.Манье – окончательно оживили меня, возвратили мне творческую форму. На меня, как на нового актера и, к тому же, прибывшего из Чечни, наседали с вопросами и мои коллеги и журналисты, пишущие о театре. Телеэкран был переполнен материалами о Чечне, о происходящих там трагических событиях. И вот я услышал, что одним из полевых командиров стал Ахмет Закаев, актер чеченской труппы, которого я довольно хорошо знал. Отношения наши были взаимно-уважительными, и я даже, как парторг театра, приглашал его перейти в нашу, русскую труппу. Он мог бы стать у нас хорошим «социальным героем». По-русски говорил чисто, выглядел великолепно, имел отличное театральное образование... Но он вежливо отказался. А когда подошли очередные выборы председателя Республиканского отделения Союза театральных деятелей – он сам предложил свою кандидатуру, пообещав прекратить хищения финансовых средств Союза. И члены Союза всех театральных коллективов республики почти единогласно проголосовали за него. Он сдержал свое слово, хорошо руководил работой нашего Союза, никогда не проявлял враждебности к русскому театру, а вот теперь – стал полевым командиром у генерала Дудаева… Я был поражен, рассказал об этом всем нашим актерам, кто меня расспрашивал, и даже в очередном интервью. И в одной из тюменских газет было напечатано примерно так – вот, из двоих бывших товарищей по профессии один спокойно продолжает свою творческую работу в Тюмени, а другой, в Чечне, добровольно избрал другую долю, стал полевым командиром и, возможно, уже погиб в какой-нибудь перестрелке с федеральными войсками… Время показало, что журналистка ошиблась – Закаев не погиб, он занимал высокие посты в мятежной республике, а в настоящее время, задержанный Интерполом в Лондоне, находится под судом за свои преступления… Я охотно отвечал на все вопросы своих новых товарищей, рассказывал о работе в разных театрах, с разными режиссерами и актерами, и кто-то из них поинтересовался: – Книгу воспоминаний не думаете писать? – Пока мне было не до этого, – ответил я, – да и сейчас пока тоже… Этот вопрос, после очередного интервью, повторил журналист Леонид Ткач. Я ответил так же – и задумался. Я не знаменитость, обыкновенный актер – что про себя рассказывать? Но я уже пятьдесят шесть лет на сцене, работал в разных городах и театрах, в них было так много интересных людей и отличных актеров, – а может попытаться рассказать об этом? И когда совсем недавно вопрос был вновь повторен уже предпринимателем, нашим спонсором Юрием Хозяиновым – я решился и ответил: – Буду писать. Когда все это происходило – я не задумывался, почему из нескольких сильных желаний победило именно это: стать актером! А ведь я мечтал быть художником еще задолго до того, когда впервые увидел театральный спектакль. В старинном сибирском селе, в трехстах семидесяти километрах севернее Томска, где я родился в таком далеком теперь 1924 году, коренные сибиряки-чалдоны понятия не имели о театре. К нам провозили только кино, само слово «кино» таило в себе какое-то волшебство, к тому же оно было созвучно названию нашего села – Инкино… В этом чудился какой-то таинственный знак, какое-то непонятное родство… Сначала кино было немым, потом, уже к середине тридцатых годов, начали привозить и звуковое. Денег «на кино» родители почти не давали, их попросту на «баловство» не хватало, и я старался попасть в клуб всеми правдами и неправдами. Мы, пацаны, заранее проходили в клуб (обычный деревенский домик) залезали в углах под скамейки и, дождавшись, когда все зрители рассядутся и киноаппарат застрекочет – осторожно вылезали из-под скамеек… К сожалению, не всегда этот номер удавался, иногда нас выволакивали «на божий свет» и выставляли за дверь клуба. Но когда удавалось посмотреть фильм – я долго ходил под его впечатлением, а в наших ребяческих играх – бессознательно подражал его полюбившимся героям. Так – после фильма «Поэт и царь» я по утрам, едва проснувшись, поднимался в постели и, как раненный Пушкин, долго целился в воображаемого, ненавистного Дантеса… Мне страстно хотелось застрелить Дантеса, всегда тянуло попасть туда, в пространство фильма, и не играть там какую-то роль (я об этом еще не имел представления), а просто находиться там, общаться с его персонажами… Еще в мой дошкольный период к нам, на второй этаж нашего дома, поселили сосланного за что-то из Москвы Давида Марковича Зеленского. Это был высокий, красивый, обаятельный и добрый человек, всегда веселый и деятельный. Но он очень скучал по оставленным в Москве жене и дочери и, очевидно, чтобы хоть немного утолить тоску по дочери, стал заниматься со мной по утрам, учить читать, писать, считать… Однажды он поручил мне выучить наизусть одно стихотворение и, когда у нас собрались наши сельские гости, он спрятал меня за большую русскую печь и громко объявил: – Сейчас перед вами выступит артист Вена Панов. Он продекламирует вам стихотворение. Похлопайте ему! И мужики, сидящие за столом, стали громко хлопать своими большими, тяжелыми ладонями, а я, страшно волнуясь, вышел из-за печи, поднялся на вторую ступеньку лестницы, ведущей на второй этаж, и оттуда, срывающимся голосом, но громко, прочел заученное стихотворение. Оно было о молодом рабочем. До сих пор помню две последние строчки: …Буду синюю блузу носить, А в кармане – газету! Произнося эти строки, я высоко поднял руку со сложенной газетой, которую заранее дал мне Давид Маркович. Мужики снова захлопали, я поклонился им, побыстрей положил газету на стол и выбежал на улицу, к беззаботно играющей детворе… Так состоялось мое первое публичное выступление, так впервые, хоть и в шутку, я был назван артистом, но ничего, кроме ужаса преодоления стеснительности, все это в моей душе не оставило… Когда я начал учиться уже в четвертом классе нашей школы, нам задали выучить пушкинское «Уж небо осенью дышало…» А осень, действительно, наступила уже, была красивой и грустной, жалко было пролетевшего лета – и меня захватили пушкинские слова, захотелось вложить в них мое настроение. Но я боялся, что ребята будут смеяться, если я начну декламировать «с выражением». И я откровенно попросил их перед уроком: – Ребята, вы только не смейтесь, если меня вызовут рассказать стихотворение… Меня учительница вызвала, и я, с усилием проглотив свою проклятую застенчивость, начал читать. Класс замер… Это подхлестнуло меня, я обнаглел и прочел стихи так, как мне хотелось. Учительница с удивлением смотрела на меня, потом сдержанно похвалила, а впоследствии поручила мне и еще старательной, тихой ученице Куклиной читать вслух, по очереди, на уроках литературы, книгу «Рыжик» Свирского. Читали мы почти весь учебный год. Одноклассникам это чтение нравилось, история мальчика-сироты захватила всех, а меня и Куклину – в первую очередь. И было жаль, когда книга подошла к концу. Но и это необычное чтение не породило во мне актерских мечтаний – очевидно потому, что я не знал, что это такое – «актер», «артист», «театр»… 2 В селе нашем произошла неожиданная беда – оно почти полностью сгорело в страшном пожаре. Сгорел и наш двухэтажный дом. В малюсенькой избушке, которую отец собрал из чьей-то бани, трудно было разместиться немалой нашей семье, и старшие сестры мои стали разъезжаться. Одна из них, Фаина, с которой мы очень дружили, увезла меня с собой в Барнаул, чтобы я там доучился в школе. И там, когда я учился уже в девятом классе – я впервые попал на театральный спектакль… Сестра смогла купить мне билет только на галерку. Зато сверху я хорошо видел всю сцену – площадь перед Зимним дворцом, солдат в шинелях, затем коридор в Смольном, и вдруг появился живой Ленин… Это поразило меня, как будто произошло оживление исторической личности. И совершал такое чудо театр!.. До сих пор я видел только кино, оно завораживало, но было только игрою света и тени, а тут – двигались по сцене живые люди! И все же – пока к ним не тянуло, кроме рисования появилось новое сильное увлечение – поманила романтика странствий по горам и лесам, романтика геологоразведки… Во время зимних каникул я поехал в Новосибирск, к другой сестре, Марии. Она и муж ее Миша (так всю жизнь ласково называли мы его) по моему виду поняли, что нам с Фаиной, на ее зарплату, приходится не сладко, решили оставить меня у себя в Новосибирске и срочно оформили мой перевод в новосибирскую школу №79… Так я стал новосибирцем и начал изредка ходить на спектакли ТЮЗа. Пока это было просто развлечением. Но вот я попал на спектакль «Сказка» Михаила Светлова, в нем действовали геологоразведчики, артисты свободно жили той жизнью, о которой я мечтал… Но я их же видел и в других спектаклях – там они «воевали» в «гражданской войне» («Как закалялась сталь»), дрались на шпагах в «эпохе Возрождения» («Ромео и Джульетта»), и мне с горечью подумалось: вот стану я геологом-разведчиком, и это одно – на всю жизнь. А они, артисты, уже стали «геологами», на другой день – «участниками гражданской войны», на третий – станут «жителями» другой, далекой и романтической эпохи… И так – всю жизнь будут путешествовать по временам и странам, в разных профессиях и обличиях, с разными – такими яркими! – характерами… Я, конечно, понимал, что это была всего лишь игра, но как она походила на настоящую жизнь…И позавидовал я им, и родилась мечта – стать актером. В фойе театра красовались рисунки школьников – сцены из спектаклей, актеры в ролях. Рисунки постоянно менялись. А я ведь тоже мог рисовать, даже хотел стать художником… И я каким-то чудом преодолел свою застенчивость и сделал свой первый решительный шаг к театру – обратился к заведующей педагогической частью театра. Сказал просто – что тоже хочу рисовать артистов. Она дала мне фотоснимки спектаклей – и я дома перерисовал их акварелью и цветными карандашами. Я вложил в рисунки всю свою душу, захваченную театром. Рисунки понравились заведующей, она стала помещать их в общей выставке, давала мне новые снимки. А когда узнала, что у меня нет денег на театральные билеты и я не могу смотреть все спектакли – она добилась для меня разрешения свободно приходить не только на спектакли, но и на генеральные репетиции, чтобы я мог видеть то, что потом рисовал. Я на всю жизнь благодарен ей, тогда уже немолодой женщине, тихой, немногословной, вероятно – тоже влюбленной в театр… Однажды она сказала мне: – Тебя хочет видеть Зайнаб Викентьевна Новик. Это была актриса-травести, невысокого роста, утонченного изящества и красоты, в которой удивительно сочетались трогательная женственность и мальчишеское озорство. Конечно же, она была одной из наших любимиц... Наша встреча состоялась в кабинете заведующей. Зайнаб Викентьевна сидела за столом, напротив меня, рассматривала меня своими восточно-темными глазами и расспрашивала – о чем я мечтаю, кем хочу стать. Мне стыдно было признаться, что я хочу быть актером, и я сказал: – Хочу стать театральным художником. Она удивилась: – Зачем театральным? У вас так хорошо получаются лица, с такими живыми глазами. И попросила меня повторить специально для нее рисунок, который я только что нарисовал для выставки. Это был ее портрет из недавней премьеры. Конечно, я исполнил ее просьбу с особым настроем и тщательностью… 3 Вторым моим решительным шагом к будущей профессии было вступление в драматический коллектив при Доме художественного воспитания детей (ДХВД), который находился на втором этаже того же здания, где размещался театр. При вступлении я прочитал стихотворение Маяковского. Конечно, был зажат моей проклятой стеснительностью и читал плохо, но руководительница коллектива позволила мне посещать занятия и репетиции, а весной даже ввела в спектакль «Таня» Арбузова на бессловесный эпизод буфетчика-китайца. Я всего лишь разносил посетителям их заказы… На следующем нашем занятии, когда все вместе обсуждали прошедший спектакль и делали друг другу замечания, Нина Мамаева сказала, указав на меня: – А вот он ничего не играл, просто исполнял работу буфетчика – и получилось хорошо, правдиво… Это было первой похвалой за мое первое участие в «настоящем» спектакле. Ни за что, конечно, но все-таки… Нина Мамаева! После войны она стала знаменитостью, народной артисткой Советского Союза… Драматический коллектив состоял из двух групп – старшей и младшей. Я, как десятиклассник, попал в старшую группу. Руководила ею бывшая актриса Петухова. Она была внучкой генерала Кондратенко, героя прославленной обороны Порт-Артура, но тогда скрывала свое родство с бывшим царским генералом. Узнал я об этом уже в 1954 году, когда играл роль ее замечательного деда в спектакле «Порт-Артур» в Тюменском облдрамтеатре. А рассказал мне все это режиссер И.Я.Хасин, тогда приехавший к нам на работу из Новосибирска… Состав нашей группы был очень талантлив. Но шел 1941 год, в июне началась война, и почти все эти ребята погибли на фронте. С одним из сохранившихся, с Борисом Суховым, я встретился во Владивостоке во второй половине пятидесятых годов, – он был артистом Краевого драмтеатра. Конечно, вспоминали Новосибирск и наш ДХВД, и я напомнил ему, как однажды мы вместе смотрели тюзовского «Скупого» Мольера, я реагировал бурно, несдержанно, а он сидел сосредоточенный и сказал мне тихо: – Хочу играть в театре, где бы ставили одного Мольера… Такого театра он не нашел, да и искал ли. Из Владивостока он уехал в Севастополь, оттуда в какой-то закрытый город, и там его путь прекратился… Когда я сыграл Яго и Гамлета, я повторил его фразу в своем варианте: «Хочу играть одного Шекспира…» Конечно, это был отголосок нашего мальчишества. Да, нашим парням, в основном, не повезло, а из девушек, кроме Нины Мамаевой, еще одна попала в знаменитости, сыграв роль Любки Шевцовой в кинофильме Герасимова «Молодая гвардия». Инна Макарова стала в пятидесятых и шестидесятых годах одной из самых популярных актрис Советского Союза… Мой третий решительный шаг к театру был сделан уже после войны, когда я добился демобилизации (молодого офицера не хотели отпускать из армии) и поступил в студию при Русском театре города Дзауджикау (Владикавказа). Привела меня туда из драмкружка при Доме офицеров, которым она руководила, Валентина Александровна Шаванова, актриса этого театра, заслуженная артистка СОАССР. Это произошло летом 1947 года, и с тех пор театр стал моим домом, моим жизненным пространством. ЛИХА БЕДА-НАЧАЛО 1 Прежде чем рассказать о «лихой беде своего начала», я хочу хоть немного поведать о городе, в который меня каким-то чудом привела судьба моя. Встреча в армии с сестрой Фаиной. 1944 г. А чудом этим было назначение меня, молодого лейтенанта, в апреле 1944 года на службу в 10-й Отдельный автомобильный учебный полк. Этот полк был переведен сюда из-под Ленинграда, после прорыва блокады, где обеспечивал деятельность прославленной Дороги жизни, проложенной по льду Ладожского озера. Полк состоял не только из ассовводителей, но и из интеллигенции – технической и творческой. Я в нем познакомился с ленинградскими актерами, танцовщиками, музыкантами, даже с композитором Соловьевым, но не Седым… Замечательные ребята, они тепло приняли меня в свою среду, не обращая внимания на мое офицерское звание (они все были рядовыми), я запросто бывал на их репетициях. Это подогревало мою страсть к театру, было своеобразной ступенькой приближения к нему. При полку был организован свой джаз-оркестр, пели в нем бывшая солистка Большого театра Лидия Петровна Дорошенко и молодая девушка, вольнонаемный писарь из штаба полка… Лидия Петровна до войны была звездой Киевской оперы, она и подруга ее Зоя Гайдай украшали театр своей вокальной одаренностью. Потом Лидия Петровна вышла замуж, мужа ее перевели на работу в Москву, она переехала с ним, очень успешно дебютировала в Большом театре, но… Мужа ее вскоре арестовали, как врага народа, а ей предложили покинуть Большой театр. В таком страшном положении застало ее начало войны… Не знаю подробностей, как это происходило, но, видимо, поклонник ее еще по Киевской опере, командир полка полковник Трубченко принял ее солисткой в свой полковой джаз, то есть – материально обеспечил ее дальнейшую жизнь. Когда закончилась война и в городе возродилось Музыкальное училище – она стала одним из вокальных педагогов… У меня с ней были очень теплые, дружеские отношения, несмотря на большую разницу в возрасте. Одинокая женщина, щедро одаренная природой, но со сломанной судьбой, она, вероятно, видела во мне никогда не бывшего у нее сына… В Музыкальном училище она взяла меня в свой класс, занималась со мной с особым вниманием, но сама она имела от природы поставленный голос, объяснить процесс дыхания и пения логически не могла, действовала собственным примером, то есть пела (а пела она великолепно!), девчонки легко схватывали ее манеру и технику, а мне, мужчине, это не давалось… И я пользовался теми навыками, которые успел получить от первой моей преподавательницы Н.П. Лузиновой, имевшей большой педагогический опыт. Лидия Петровна принимала это легко и бесспорно и обращала больше внимания на художественную выразительность и душевную наполненность моего пения… 1946 г. Я, продолжая свою армейскую службу, был направлен однажды в командировку в Киев. Лидия Петровна попросила меня отыскать там ее подругу, уже народную артистку СССР Зою Гайдай и передать ей свое письмо. В разбитом войною городе я отыскал дом, в котором жили солисты Оперы, постучал в квартиру знаменитой артистки, дверь открыла пожилая женщина. Я спросил о Зое Гайдай. – Она в Москве, – ответила мне женщина, – У нее там концерт. Я ее мама. И когда я рассказал, кто я, и что я привез письмо от Лидии Петровны, она взволнованно воскликнула: – Письмо от Лидочки!.. Где она? Как она? Я охотно ответил на все ее вопросы. А через некоторое время Зоя Гайдай перетащила свою подружку в Киев и устроила ее жизнь на родной земле... Я не помню фамилию другой солистки нашего полкового джаза, писаря штаба полка, но именно она привела меня на занятия к бывшей солистке Мариинской оперы Петербурга Наталии Петровне Лузиновой, у которой занималась и сама. Наталия Петровна прослушала мой голос, обнаружила лирический баритон и включила меня в число своих учеников… Так начались мои первые уроки пения… Наталия Петровна перемежала свои занятия рассказами о великих певцах, с которыми ей, в начале девятнадцатого века довелось петь оперные спектакли – об итальянце Титто Руффо, о Шаляпине, о Тартакове… К сожалению, занятия мои с Наталией Петровной продолжались только год. Приехала откуда-то ее дочь, скрипачка и тоже вокальный педагог, и увезла свою престарелую мать куда-то на север. 2 Но все же – о городе… Основан он был давным-давно, 6 мая 1784 года, как военная крепость, «после торжественного молебствия, при громе русских пушек» близ старинного осетинского селения Заур. Отсюда начиналась знаменитая Военно-Грузинская дорога – через Дарьяльское ущелье, известное еще со времен Плиня и Страбона… Укрепление получило звучное название Владикавказ. Оно быстро разросталось, в 1861 году стало городом... В советское время его переименовали в город Орджоникидзе, война дала ему новое название – Дзауджикау, в начале пятидесятых годов снова вернулось Орджоникидзе, а в конце восьмидесятых, в перестроечное время, ему возвратили его изначальное, историческое имя – Владикавказ. Так я и буду его именовать… В доме офицеров г. Владикавказа. Внизу, справа - Л.П.Дорошенко. Когда я впервые пошел по его улицам, вымощенным булыжником, я задохнулся от восторга: это была нетронутая романтическая старина… Центром города был старинный, уютный проспект с тенистым липовым бульваром. Начинался он от, как говорили, бывшего дворца генерал-губернатора Воронцова, того, пушкинского… В ясную погоду казалось, что он упирается в Столовую гору, хотя до нее от города было несколько десятков километров… Справа от Столовой горы царственно возвышался знаменитый двуглавый Казбек, ослепительно сверкая на солнце своими снежными вершинами. А справа от бульвара, за домами нескольких улиц, гремел своим бурным потоком не менее знаменитый Терек… Я об этом городе, о Северном Кавказе и о печально знаменитой кавказской войне девятнадцатого века узнал еще в детстве, в нашем селе, во-первых из биографий и кавказских поэм Пушкина и Лермонтова, затем – из Л.Толстого, в первую очередь из его варианта «Кавказского пленника». Мне в подарок сестра Мария и ее муж Миша Поспелов привезли из Новосибирска толстый, старинный, издания 60-х или 70-х годов девятнадцатого века том полного собрания сочинений и писем М.Ю.Лермонтова с подробной его биографией и великолепными, романтического стиля, рисунками художника Полякова. Я упивался этой книгой, с наслаждением всматривался в рисунки, бредил Кавказом. В то же время я увидел немой кинофильм «Абрек Заур”, а затем «Зелимхан», «Беллу» по «Герою нашего времени»... И вот пришло время, и я познакомился с самим абреком Зауром, то есть с человеком, который играл эту роль в том немом кино. Только вместо лихого джигита я увидел теперь высокого, болезненно-худого пожилого осетина, который был фотокорреспондентом и снимал нас, молодых актеров республиканского русского театра, в наших спектаклях. Он и не заикался о своем киношном прошлом, нам рассказали о нем другие, уже тоже пожилые свидетели съемок фильма в городе… Город Владикавказ издавна назывался городом «бывших людей» – очевидно потому, что сюда съезжались, выходя в отставку, бывшие генералы царских времен, различные чиновники, не имевшие имений на территории центральной России… Еще в свою офицерскую пору я попал в русский круг начинающих писателей и познакомился там с настоящим Лермонтовым! Да, у этого человека отроду была такая фамилия… Ему, очевидно, было уже за сорок, он был высок, худощав, строен, с горбоносым узким лицом, с длинными пальцами удивительно пластичных рук. Он был великолепным художникомграфиком и пытался заниматься литературой. Относились к нему тепло, уважительно, но было в нем некое чудачество, которое вызывало добрую ироничность его окружения… Был он и общителен и замкнуто-задумчив, фамилией своей не кичился, но я не посмел ни разу заговорить с ним, распросить – из какого он рода… В затеречной стороне города я обнаружил скромную улицу, называемую Тенгинской… Сразу колыхнулось сердце: ведь Михаил Лермонтов был поручиком Тенгинского полка! Не квартировал ли когда-то на этой улочке Тенгинский полк?! Потом я полюбил навещать эту улочку, неторопливо проходить по ее булыжнику, разглядывая небольшие старинные домики с зарослями фруктовых садов за ними… Послал я однажды свои стихи в газету «Социалистическая Осетия» и получил приглашение посетить редакцию. Меня встретила в своем кабинете заведующая литературной частью редакции, ее звали Милица Алексеева. Полноватая молодая женщина с мягкими, добрыми чертами лица, она, как я потом узнал, была дочерью царского генерала Алексеева – но не бывшего начальника штаба Российской армии в годы первой мировой войны. Этот Алексеев тоже был известен – он совершил на фронте военную операцию, подобную знаменитому Брусиловскому прорыву. После революции он не принял ни чьей стороны, ушел в отставку и мирно жил во Владикавказе в кругу своей небольшой семьи – с женой и с дочерью. Новые власти его не трогали, но когда началась Финская военная компания – его пригласили в Москву, в Генеральный штаб. Он не посмел отказаться, попрощался с семьей и поехал. Но до Москвы он не доехал – умер в поезде от сердечного приступа… Когда началась Великая Отечественная война – Милица была студенткой Ленинградского университета. Она сразу же пошла в добровольцы, воевала смело, отчаянно, в одном из боев потеряла ногу, и ее после госпиталя демобилизовали, наградив орденом «Красной звезды». Она возвратилась во Владикавказ, в родной дом, к старенькой матери, со своим костылем, и стала работать в редакции республиканской газеты. г. Владикавказ, 1948г. На первомайской демонстрации. В первом ряду актеры: А.Карпов, В.Панов, А.Саркисян, Д.Гуторов. Она сама писала стихи, собирала вокруг себя молодых поэтов, устраивала поэтические вечера то в редакции, в своем кабинете, то у себя дома. На редакционных вечерах я бывал почти постоянно, на домашнем – однажды… Меня взволновал живописный генеральский особняк с застекленной верандой, с запущенным фруктовым садом. В большой комнате стоял старинный рояль, на полках – военные сувениры: живописно спаянные друг с другом винтовочные гильзы, подобия ваз из снарядных, искусно обточенных гильз разных калибров… Все это были солдатские окопные поделки, сделанные в подарок любимому генералу. Они хранились в доме свято, как память о генерале – муже и отце… На вечер были приглашены из нашего полка уже зрелый актер и поэт Сережа Афанасьев, великолепный пианист Збарский, бывший школьный директор (не помню его фамилию), – все ленинградцы, рядовые солдаты, – и я, лейтенант, с почитанием смотрящий на них, на их одаренность, знания и жизненный опыт… Вечер прошел превосходно. Говорили о поэзии, читали стихи – свои и классиков, Збарский играл на рояле любимые фортепьянные пьесы, потом пели, бродили по саду, продолжая разговаривать, читать стихи, и любовались на крупные яркие звезды, которые, казалось, опустились до вершин яблонь и груш, запутались в их листве. Для меня все это было праздником души, познания, взросления… Вскоре Милица возвратилась в Ленинград, заканчивала университет и работала в какой-то редакции. Она продолжала писать свои стихи-миниатюры, однажды попала на вечер к Анне Ахматовой, набралась решительности прочесть их ей. Анна Андреевна тепло расцеловала ее, даже сказала окружающим: «Вот моя продолжательница!» Но вскоре грянуло злополучое постановление ЦК партии о Ленинградских писателях Зощенко, Ахматовой – и о Милице Алексеевой я больше ничего не слышал… 3 Жил в то время в городе удивительный человек – военный врач Карпов. Он считался театральным врачом, театральные работники всегда могли попасть к нему на прием, получить необходимую им помощь. Страстно и высоко влюбленный в театр, он был в театре своим, родным, глубокоуважаемым человеком. Аристократично-седой, худощавый, подтянутый, всегда спокойно-приветливый, он радовал глаза наши одним своим появлением в театре… Ни в одном театре впоследствии я не встречал такого человека. По своему замечательной была его жена, полная пожилая красавица благородного склада… Она с внуком и с такой же пожилой, интеллигентной подругой своей обычно приходили на сдачу наших спектаклей. И вот как-то, свободный в сдаваемом спектакле, я сидел рядом с ними. Они меня уже знали по сцене, приняли мое соседство благожелательно. Я сидел с края ряда, рядом была подружка жены Карпова, мальчик смирненько сидел меж ними. Впоследствии мне сказали, что подружка была к тому же гувернанткой мальчика. Она иногда потихоньку говорила ему что-то по-французски, и он свободно отвечал ей тоже на французском языке. Она сказала мне, что мальчик, как и я, учится в музыкальном училище, но на инструментальном отделении. Мне почему-то польстило, что она знает о моей учебе в музыкальном… Гувернантка оказалась разговорчивой. Она охотно, чуть хвастливо, рассказала мне, что жена Карпова в молодости была участницей студенческого драмколлектива юного Вахтангова, что он всегда хвалил ее, называл самой талантливой в коллективе, а играла она героинь в его спектаклях. Уж как-то там получилось, но актрисой она не стала, у нее была другая судьба… Я с почтительным волнением потихоньку посматривал на гордый профиль вахтанговской героини. Она сидела привычно-величественная, загадочно-молчаливая, с большими темными глазами, устремленными на сцену… Жалела ли она когда-нибудь, что не стала актрисой?.. Еще в офицерское время мое, когда нам, офицерам, разрешили жить не в казарме, а на частных квартирах, я и такой же молоденький лейтенант Воронович поселились на квартире у грузин. Это были замечательные люди – бабушка Схиртладзе Мария Алексеевна, ее замужняя дочь Лобжанидзе Ольга Николаевна, муж которой погиб на фронте, и ее дети – маленькая Натка и подросток Вахтанг… Так вот, Мария Алексеевна как-то рассказала мне, что девчонкой еще она видела знаменитого абрека Зелимхана. Она жила тогда в Кизляре, куда однажды утром прискакал Зелимхан во главе своего отряда, переодетого в казачью форму. Они спокойно остановились у здания городского банка, вошли в него, забрали из хранилищ все деньги и ускакали из города. И никто из видевших это, проходя по улице, не заподозрили, что происходит ограбление, что конный отряд – не казаки, а знаменитые абреки… 4 В городе Владикавказе дважды был Пушкин – по дороге в Эрзрум и обратно. Преподаватель республиканского Пединститута Кандиев в своей лекции для нас, слушателей вечернего университета при Доме офицеров, рассказывал, что в первый свой приезд Александр Сергеевич встретился с тогдашними офицерами у полковника Скворцова, в караульном помещении при комендатуре гарнизона. Встреча была горячей, душевной, шумной… Уходя с вечеринки, благодарный Пушкин написал мелом на двери караулки: Полковник Скворцов Угощал молодцов Славно! Теперь на месте того караульного помещения разбит сквер и установлена небольшая мраморная доска с надписью о том памятном событии… Сколько раз, проходя по площади перед величественным зданием Обкома партии, я вспоминал, что некогда она была рыночной, а со стороны Терека ее ограничивало здание гостиницы, в которой останавливались лермонтовские герои Печорин и Максим Максимыч, а значит и он сам – Михаил Юрьевич… Весь город был для меня пронизан историей, – на другой стороне Терека я обнаружил улицу, которая называлась Тенгинской… Но ведь Лермонтов был поручиком Тенгинского полка! Возможно когда-то на этой улице квартировал Тенгинский полк, вот ее и назвали Тенгинской!? Еще в школе, старшеклассником, я запомнил снимок домика в книге о жизни Е.Б.Вахтангова. Теперь я увидел его воочию, на углу проспекта и улочки, спускающейся к парку и Тереку. Я даже, в свою офицерскую пору, встречал однажды в нем новый год! С каким трепетом я входил в него тогда… И жители этого дома знали, где они живут! Как жаль, что теперь этого дома нет – дома, где жила семья Вахтанговых… Зато судьба подарила мне другую радость, – я был участником прикрепления мемориальных досок на двухэтажном, казарменного типа, доме, где Евгений Багратионович родился, и на бывшей гимназии, а в наше время просто школе, где он учился в детстве и юношестве своем... И в этом удивительном городе суждено было начаться моей театральной жизни! Этот город изначально был театральным. Мысль о необходимости своего театра возникла в нем, когда в городе насчитывалось всего тринадцать тысяч жителей… Осуществиться сразу, из-за финансовых трудностей, она не могла. Театр открылся в 1871 году спектаклем «Маскарад». Город был овеян лермонтовским духом, так что выбор пьесы был не случайным. Здание театра построили в классическом стиле – с ложами по бокам партера, с амфитеатром в конце зала, с бельэтажем, в центре которого красовалась «царская ложа», с ярусами… Меня волновала эта классическая форма, настраивала на особый лад. Я чувствовал себя причастным ко всей романтической, легендарной театральной давности, я вступал в эту среду и должен был стать достойным ее… 5 Да, начало было «лихим» – я сразу же, кроме поступления в студию, был зачислен во вспомогательный состав театра и, кроме того – продолжал свою учебу на вокальном отделении республиканского Музыкального училища, начатую еще во время моей офицерской службы… Занятия в Музыкальном училище были для меня уже привычными, а каждый мой приход в театр – на студийные ли уроки или на репетиции – волновал меня заново. Трудновато верилось, что я уже не офицер, а работник театра, в который захожу свободно, без билета, учусь здесь актерской профессии, а вечерами уже бываю занят в спектаклях – вместе с другими студийцами изображаем за кулисами разные «шумы»: птичье пение на свистульках, гром, дождь, цокот лошадиных копыт… Да, магнитофонов тогда еще не было, и за кулисами находился целый набор всевозможных приспособлений для подражания природным звукам. Все это было ответственно для нас, мы старались подражать хорошо, похоже на действительные звуки, попадать в настроение сцены – и таким образом психологически сами готовились к своему будущему выходу на сцену. Всей массой молодежи собирались за кулисами, чтобы изобразить шум и гвалт толпы. А в одном из спектаклей мне, как поющему, довелось изображать радио. Герой на сцене, в диалоге с героиней, включал «радио», пианистка за кулисами, Тамара Георгиевна Бекузарова, начинала бурно играть с середины вступления, а я подхватывал: «Еще в полях белеет снег…» Это был романс Рахманинова. На словах: «Она нас выслала впере-ед!» – на самой высокой ноте романса герой на сцене меня «выключал»… Каждый мой учебно-рабочий день был насыщен делами до предела, у меня не оставалось времени ни для того, чтобы нормально поесть, ни передохнуть хоть немного… В самом начале работы, в свой первый театральный отпуск, я заболел малярией, промаялся все это время, но к началу нового сезона встал на ноги и со всем пылом души ринулся в свои занятия и исполнение театральных обязанностей… Постоянное чрезмерное напряжение привело к тому, что у меня начался жесточайший гастрит… Помогало мне кое-как справляться с ним непрерывно-радостное, возбужденное состояние оттого, что я – в театре, что теперь-то уж я стану актером, да еще – в таком театре… Трепетное отношение именно к этому театру возникало и потому, что в нем ощутимо витало легендарное прошлое, о чем мы читали в мемауарах, слышали от наших старших актеров, заставших это прошлое. На этой уютной, маленькой сцене трудились известные деятели русской сцены В.И.Никулин, П.П.Медведев, И.А.Ростовцев, Н.Н.Синельников, М.Г.Савина, В.П.Давыдов, работал в труппе Синельникова не менее знаменитый Орленев. Здесь периодически гастролировали братья Адельгейм… Одним из старейших работников театра был Франц Станиславович Блажиевский. Высокий, грузноватый, седой, с низким волевым голосом, он никогда не был актером, но любил театр ненасытно, с малых лет. Пришел в театр мальчишкой, задолго до революции, исполнял любую посильную ему работу, потом вместе с женой многие годы управлял реквизиторским цехом, в наше время был замечательным театральным кассиром, которого, наряду с любимыми актерами, знали все театралы города. В молодости своей видел всех именитых гастролеров, охотно рассказывал о них. Помню, как он говорил о Рафаэле Адельгейме: – Когда он, играя Франца в «Разбойниках» Шиллера, после какой-нибудь сцены шел к себе в гримировочную, с ним страшно было встречаться – таким мощным, мрачным огнем горели его глаза… Он не сразу отходил от роли… Из наших теперешних старших актеров в труппе Синельникова работали когда то М.Н.Репина-Раппонет и Х.Н.Мосолов, а Д.П.Речной играл с самим Мамонтом Дальским… Как мы любили слушать их рассказы! Это тоже было для нас своеобразной школой. Не менее знаменательно было и то, что в восьмидесятых годах девятнадцатого века в этом театре начинал свою трудовую жизнь тогда молодой художник, а впоследствии великий осетинский поэт, родоначальник осетинской литературы Коста Хетагуров. Так и хочется думать, что именно с него началась на этой сцене история будущего, замечательного Осетинского театра, который в настоящее время имеет свое великолепное здание, является Академическим и носит высокое имя К.Хетагурова… 6 Наша театральная студия была создана по инициативе молодого режиссера Л.А.Ящининой, ученицы Б.Е.Захавы, в 1944 году. Я был принят в эту студию летом 1947 года, после демобилизации из армии, когда Ящинина во Владикавказском театре уже не работала… С 1946 года руководил театром и вел наши занятия в студии маститый режиссер, ученик Таирова, опытный театральный деятель Борис Александрович Пиковский. Учил он нас в поклонении системе Станиславского, но в нем постоянно прорывалось увлечение яркой театральностью, символической сценической формой. В наше сознание он внедрял свое главное требование: импровизировать внутри образа, каждый раз обновляя свою внутреннюю жизнь, но не ломать режиссерского рисунка сцен, не безобразничать с мизансценами… Он говорил, что импровизировать мизансцены, не разрушая, а обогащая спектакль, способны далеко не все, даже очень талантливые актеры, что это умение приходит с колоссальным сценическим опытом. Он постоянно напоминал, что создает мизансцены, особенно массовых сцен, по законам классической живописи, что даже если внезапно остановить спектакль – то застывшие мизансцены все равно должны оставаться художественными, нести определенный смысл, что все своевольные, капризные и бестолковые перемены разрушают гармонию спектакля, его сложную полифонию… Пиковский учил нас: – Внимание бывает непроизвольным (в жизни) и произвольным – на сцене, определяемое требованиями роли и условиями предлагаемых обстоятельств. Постоянно тренируйте свое произвольное внимание, насколько сможете – сближая его с непроизвольным. Старики наши владели своим вниманием безупречно… Безупречно владели паузами, наполняя их глубоким содержанием, всевозможными неожиданностями… А как владели они контрастами – в речи, в манере сценического поведения… Пиковский в процессе нашего обучения много внимания уделял «оправданию» поз, мизансцен. Он говорил: – Режиссер, выстраивая мизансцены, учитывает не только сценическое действие и психологию ваших ролей, но ищет и выстраивает контрапункты, ищет, как сильней воздействовать на зрителей. А вы должны силою своей фантазии внутренне оправдывать их, делать своими, и исходя из этого – сами выстраивать свои мизансцены вашего тела. Он учил нас самим внутренне оправдывать, делать естественными любые мизансцены, которые были необходимы ему в спектакле. Актеры во время репетиций иногда ворчали на него, но относились к нему с искренним уважением. Помню одну из репетиций какого-то спектакля, в котором был эпизод: женщина с грудным ребенком в пустынном месте. Ей нужно выбраться отсюда – она отчаянно высматривает хоть какой-то попутный транспорт, мечется по сцене… Пиковский предложил актрисе: – А теперь положите ребенка посередине авансцены и продолжайте поиски на более высоком градусе! Актриса опешила. – Как же я, хоть на минуту, оставлю своего ребенка?! Так не бывает! – А мне это необходимо. Это повысит напряженность сцены. Актриса задумалась… Наконец она поняла, что это возможно – именно для спасения ребенка, – ведь он поневоле мешал поискам, отвлекая ее внимание на себя… Это было возможно в крайнем отчаянии, как самое высокое напряжение поиска, самый высокий порыв его… И сцена пошла – как бы сама собой, стремительно, с неожиданными остановками от растерянности, с неожиданными порывами… Я наблюдал репетицию, прекрасно понимал, что это – всего лишь выстраивание игры, но мне невольно стало страшно за ребенка и его мать… Для меня это был наглядный пример оправдания заданной мизансцены. В то же время он в какие-то периоды работы над спектаклем позволял актерам быть абсолютно самостоятельными. Помню, как репетировалось начало «Пигмалиона» После застольных репетиций Пиковский вывел актеров в готовую декорацию начала спектакля и сказал: – Вот вам место действия. Ознакомьтесь, обживитесь в декорации и действуйте, поиграйте сами, как вам захочется и где захочется – как это могло бы быть с вами в жизни… И он ушел, поручив одному из старших актеров последить за порядком и дисциплиной. И мы начали играть… Сначала была бестолковая толкотня, потом начало постепенно что-то выстраиваться. Мы начали получать удовольствие, что отыскивали удобные места, чтобы укрыться от дождя, завязывался разговор, интересно было влезать в него… Так, свободно импровизируя, притираясь друг к другу, мы репетировали, то есть играли непринужденно два дня. На третий день пришел Борис Александрович. Он сначала посмотрел всю нашу репетицию, не прерывая нас, потом, поблагодарив всех, попросил сыграть еще раз – и тут уж начал делать некоторые правки, кое-что переиначил, и все принимали это с удовольствием, чувствуя себя как бы равными соучастниками творческого процесса. Все были довольны, что правок было не так уж много… Актеры верили в фантастические режиссерские возможности Пиковского, говорили так: «Он может из Ермолаева, – это был наш молоденький помощник режиссера, – сделать Арбенина. Так выстроит мизансцены, что публика во все поверит…» А дело было в том, что у нас уже шел спектакль «Маскарад», Арбенина играл по-своему удивительный актер Л.А.Штормский. Он был крупный, с мощным, но мягким, очень красивым голосомбаритоном, обладал магическим обаянием. Зрители города любили его до самозабвения. Стоило им услышать его голос из-за кулис – и они уже начинали ему аплодировать. Первый выход его Арбенина на сцену постоянно встречался бурными, радостными аплодисментами всего зрительного зала. Поначалу актеры говорили: «Ну, любят его здесь зрители, вот и аплодируют заранее…» Но когда мы поехали на гастроли в Пятигорск, где зрителями были люди, приехавшие на лечение со всех концов Советского Союза, – повторилось обычное: при первом же появлении на сцене Арбенина-Штормского зрительный зал взорвался от аплодисментов… А появлялся он в глубине сцены, на высокой площадке, спокойно, но властно, оглядывал «игорный зал», карточных игроков за большим столом, и не спеша спускался по ступенькам… Вот и все! Он даже не успевал еще сказать ни слова своим волшебным голосом… Актеры поверили, что это – воздействие мизансцены Пиковского, силы его режиссерского дара… Борис Александрович колоссальное внимание уделял ритмическому построению своих спектаклей, требовал неукоснительного сохранения отрепетироавнных им ритмов на каждом представлении, живого наполнения их смысловым, действенным и эмоциональным содержанием. Он регулярно смотрел спектакли, если не целиком, то какие-то особо важные для него сцены. Актеры знали об этом и не допускали расхлябанности. Даже родилась поговорка: «На сцену нельзя выходить с распущенным животом!» Требование творческой дисциплины было постоянным и строгим. Я помню случай, когда, кажется в 1948 году, во время денежной девальвации, мы играли массовый спектакль «О друзьях-товарищах» для трех или четырех человек… Горожанам было не до театра, все, после работы, бегали по магазинам, стараясь хоть на что-то сбыть оставшиеся деньги, которые уже на завтра превращались в пустые бумажки… За кулисами раздавались голоса: «Надо отменить спектакль! Это позор – играть для трех человек!» Но Борис Александрович твердо заявил: «В настоящем театре спектакли не отменяются, – пришедшие зрители, сколько бы их ни было, ни в чем не виноваты. Будем играть. И прошу играть ответственно, – я буду смотреть!» И он действительно сел в директорскую ложу и внимательно просмотрел весь спектакль… В теперешнее время многое переменилось и в режиссерской и в актерской технологии, иначе и быть не могло. Б.А.Пиковского театральные критики ругали за привнесение музыки в классические спектакли, ругали за отрыв от бытовизма, за нарушение внешнего правдоподобия, клеили ему ярлык: формалист. А актеры любили с ним работать, зрители по нескольку раз смотрели его спектакли, приходили на полюбившиеся им сцены… Теперь той его новизной никого не удивишь, это стало всеобщим явлением, режиссеры пытаются прорваться на какие-то новые просторы, в иные сферы, актеры все больше и больше своевольничают, и это становится палкой о двух концах… Театр – это живое творчество не одного человека, а целого коллектива, только творчески сильные личности способны владеть таким коллективом, быть лидерами, не ущемляя творческие индивидуальности своих добровольных подопечных… Все это создает очень сложные взаимоотношения, и высокий градус их служит своеобразным возбудителем творческого горения… Б.А.Пиковский был именно таким руководителем театра. Тогда обо всем этом мы не очень задумывались, прекрасно понимая, что война унесла множество актеров, театральные труппы поредели, и нам необходимо как можно быстрее осваивать профессиональные секреты хотя бы на том уровне, который был нам посильным, чтобы заполнить пробелы в актерских рядах… В те годы перед показом зрителям новые спектакли обязательно просматривались приемной комиссией, в которую входили партийные руководители и представители общественности. В большинстве своем это были некомпетентные люди, но с большим апломбом, говорили много чепухи… Пиковский выслушивал все внимательно, в конце – благодарил за высказанные замечания, потом – назначал репетицию на другое утро, на которой сам никогда не присутствовал, поручал кому-нибудь из ведущих актеров провести эту репетицию так, как все сделано в спектакле, чтобы каждый актер перед премьерой самостоятельно осмыслил, проверил все, что он делает в роли… Вечером играли премьеру, члены комиссии говорили Пиковскому: – Вот видите, стало гораздо лучше! Актеры все прекрасно понимали и только друг с другом тихо посмеивались… 7 В студию театра пришли уже взрослые люди. Ребята успели повоевать, только что сняли с себя военную форму, девушки – или уже работали где-то или учились в педагогическом институте города. Все полностью осознавали, что программа нашего обучения неполноценна, и чтобы стать профессионально-грамотным актером, надо многое постигать самостоятельно, в первую очередь – учиться у наших мастеров, имеющих колоссальный творческий опыт… Те же, по собственному почину, охотно отдавали нам свои знания и опыт, доброжелательно следили за нашим развитием. Мне никогда не забыть, как заботливо пестовала нас народная артистка республики Мария Николаевна Репина-Раппонет. Французская часть ее двойной фамилии никогда не упоминались, говорили просто – Репина, хорошо знали и любили ее поколение за поколением городских зрителей. Многие из них наивно и почтительно называли ее: «Наша Яблочкина!» После труппы Синельникова, начиная с двадцатых годов, она постоянно работала в этом театре, стала своеобразной достопримечательностью и гордостью города. Худенькая, щупленькая, небольшого росточка, она обладала колоссальной жизненной и творческой энергией, великолепно играла и глубоко-драматические и острокомедийные роли, была неисчерпаема в благожелательности и доброте своей… До сих пор помню Марию Николаевну в «Маскараде», – нет, не в роли, там нет роли для старухи – а в одном проходе, когда от мертвой Нины выходят представители высшего света, идут мимо поникшего Арбенина и бросают ему свои язвительные реплики. Марию Николаевну проводили под руки, обессиленную от горя и рыданий… Только и всего! Но горе ее поражало зрителей, захватывало до слез… Мы, молодежь, всегда смотрели на это, как на чудо… Как она достигала этого?!. Мария Николаевна Репина играла роли характерных старух. Основных старух, особенно в пьесах А.Н.Островского, играла Лина Георгиевна Башкина. В молодости – блистательная героиня, которую купцы-театралы носили на руках, заваливали цветами и дорогими подарками, она сохранила в себе личностную значительность, женский шарм, некоторую величавость. Она рассказывала нам о своей дружбе с великой оперной певицей Неждановой, с Качаловым, говорила, что мечтает умереть на сцене, но – одинокая, беспомощная в быту, была отправлена в Дом ветеранов сцены. Она с большой обидой восприняла это… Как живописно, красочно, и в то же время абсолютно органично они умели говорить – все наши старики! Как свободно, импровизационно общались в спектаклях с партнерами! Сколько подтекстов переливалось в их общении, хитро подлавливая друг друга, переплетаясь в замысловатый узор…Как умели они носить костюмы разных эпох! За сценической речью актеров строго, внимательно следил великолепный старик-герой, как и М.Н.Репина – практически воспитанный Синельниковым, – Хрисанф Николаевич Мосолов. Он был высок и строен, в молодости – окончил Московский университет, и только потом стал актером. Особенно строго он следил за стихотворной речью, когда играли «Горе от ума». Сам – великолепно играл Фамусова, был настоящим, величавым барином, – тем смешней был его страх перед тем, «Что скажет Марья Алексевна!» Он, как и Репина, свободно чувствовал себя и в комедийных, и в драматических ролях. В спектакле «Хижина Дяди Тома» оба они, играя пожилую семейную пару, вынули изо-рта свои вставные челюсти и так смешно шамкали, произнося свои реплики… При этом – ни одно слово у них не пропало, глубина исполнения была поразительной! А как ярко и глубоко играл Хрисанф Николаевич роль немца-композитора в «Дворянском гнезде!» Но однажды с ним произошел очень неприятный казус. Играли мы пьесу Винникова «Чаша радости» – о том, как казачья станица переселяется на новое место, освобождая территорию под будущее водохранилище. На станичном митинге выступает могучий старик, которого играл Хрисанф Николаевич, агитируя за переселение… Я играл одного из его сыновей, мы стояли с ним рядом. И вдруг он вместо слова «орден» произносит: – Мой старший сын получил на фронте крест! Почему ему подвернулась на язык царская боевая награда – Георгиевский крест?! Он остановился на мгновение, быстро соображая, что же такое ляпнул… Это было мгновенье ужаса. Он кашлянул и, взяв себя в руки, как ни в чем не бывало горячо продолжил: – Так вот, я говорю – мой сын на фронте получил орден… Думаю, что зрители едва ли успели зафиксировать эту оговорку, но когда сцена окончилась и мы вышли за кулисы, Хрисанф Николаевич со страхом огляделся – не пришли ли за ним из КГБ? Потом быстро-быстро, как бы убегая, зашагал в свою гримировочную…Это случилось зимой 1949 года, когда снова начались аресты «врагов народа»… Мне запомнилось, как однажды, рассказывая о прошлом, он сказал мне: – А ты знаешь, Вера Федоровна Комиссаржевская умерла вовремя. У нее же не было перехода на возрастные роли… Я посмотрел на него с недоумением – и он пояснил мне: – Её уделом были молодые героини, но ее молодость уже прошла, а возрастных она играть не могла… Меня тогда поразила жестокость его фразы, но потом я понял – это жестокость актерской профессии, мне впоследствии самому нелегко достался такой переход… 8 Я не могу подробно рассказать обо всех актерах-мастерах, которые работали в то время во Владикавказском театре, это заняло бы слишком много места в моих воспоминаниях. Но не рассказать хоть немного о Валентине Александровне Шавановой было бы бессовестно, неблагодарно с моей стороны. Валентина Александровна Шаванова попала во Владикавказский театр во время войны – после работы в Киеве и Днепропетровске. Красавица аристократического склада, она не полагалась на свои превосходные сценические данные, настойчиво совершенствовала артистическое мастерство, быстро заняла ведущее положение в театре и вскоре получила почетное звание Заслуженной артистки СОАССР. Её лучшими ролями были – герцогиня в «Стакане воды», Сара в чеховском «Иванове», Раневская в «Вишневом саде», Диана в «Собаке на сене», баронесса Штраль в «Маскараде»… Зрители горячо полюбили ее, после каждого спектакля он шла домой с цветами, в сопровождении поклонников и поклонниц… Но ей – волевой, энергичной, умной женщине – досталась тяжелая, драматическая судьба. Перед войной – театральная молодость в Киеве, замужество, а затем – мать-одиночка с двумя детьми, война, старшая из детей – дочь оказывается на оккупированной фашистами территории, заболевает туберкулезом… После освобождения этой территории Валентина Александровна находит ее. Во Владикавказе все складывается благополучно, но не надолго. Больная дочь умирает в студенческом возрасте… И Валентина Александровна с сыном-подростком уезжает на Волгу, к дорогому человеку, с которым возможно семейное счастье… Но – что-то там не вышло, и снова – в путь… Работала даже на крайнем Севере, в театре города Норильска… В первой половине восьмидесятых годов я с Грозненским театром им.М.Ю.Лермонтова попал на гастроли в город Шахты. И там узнал, что в Шахтинском театре работала В.А.Шаванова, заслуженная артистка СОАССР. Теперь – она на пенсии, больна, живет в этом городе вместе с сыном-шахтером, тоже пенсионером. Я разыскал их… Встреча обрадовала нас – всех троих. Наговорились, насмотрелись друг на друга, вспомнили все, что было нам по силам, посмотрели альбом со снимками, уходя зрительной памятью в далекие годы… Когда я возвратился с гастролей в Грозный – переписка помогала нам общаться друг с другом еще около года. Потом пришло письмо, написанное сыном Валентины Александровны. Её самой не стало… Я на всю жизнь благодарен ей – Валентине Александровне Шавановой – за то, что она буквально привела меня в театр, помогла мне совершить последний, решающий шаг к осуществлению моей заветной мечты. Благодарен за ее личный пример душевного благородства, святости отношения к театру, профессиональной ответственности. Как много и настойчиво занимался с нами замечательный актер и человек, народный артист республики Леонид Алексеевич Кондырев! Он пробовал свои силы и в режиссуре, ставил с нами молодежные спектакли, его отношение к нам было дружеским, без тени превосходства, и мы открывались ему всей душой, гордясь его дружбой и вниманием и никогда не переступая грани уважения… Я пришел в студию, когда там уже давно шли занятия, мне пришлось догонять своих новых товарищей. Но оказалось, что в общем развитии я был сильней их, начитанней, – еще в школьные годы прочел книги Станиславского «Моя жизнь в искусстве», «Работа актера над собой» – ее первый том, который в то время уже был издан, – имел теоретическое представление о сущности актерского творчества, кое что осталось во мне от занятий в Доме художественного воспитания детей в довоенном Новосибирске… Зато они уже имели некоторый практический опыт, играли значительные роли в спектаклях. Так – Миша Кондрашев играл Петю в «Вишневом саде», в нескольких ролях был занят Анатолий Карпов. В «Платоне Кречете» он играл шофера Васю, был органичен, обаятелен, нравился мне. И захотелось мне попробовать тоже сыграть эту рольку… Я выучил и текст и мизансцены и обратился с моей просьбой к режиссеру спектакля Е.Сахарову. И он, именно он впервые выпустил меня на сцену. Это было для меня – как прыжок в холодную воду: будь что будет! До этого – сколько раз я бывал на сцене в концертах! Там я привык брать себя в руки, но тут было что-то иное, еще по-настоящему не испытанное мной… Мне казалось, что эпизод пролетел моментально, и когда я оказался за кулисами – я был чуточку ошарашен. Но это было прекрасно: я побывал в другой жизни, в жизни другого человека… Первой партнершей моей стала уже играющая студийка Маша Кутель, впоследствии – моя жена, с которой мы объехали чуть ли не всю театральную провинцию… Недаром говорят, что актерство – это не профессия, а судьба. Для нас это оказалось именно так. Для нашего состава студии первым молодежным спектаклем, где мы полностью отвечали за его художественный уровень, была «Молодая гвардия», поставленная Б.А.Пиковским в сезон 1947-48 годов. До этого, находясь в Москве, в период моих демобилизационных хлопот, я посмотрел знаменитую «Молодую гвардию» в постановке Н.Охлопкова, да еще в тот день, когда было объявлено о присуждении спектаклю Сталинской премии… С каким необычайным подъемом играли в тот вечер знаменитые охлопковские актеры! Спектакль потрясал… И теперь мне страшно интересно было, как же будет ставить с нами свой вариант Борис Александрович? Нас горячо волновала героическая и трагическая судьба молодогвардейцев, наших сверстников, многое из военного времени мы сами пережили и потому легко входили и в характеры своих персонажей и в предлагаемые обстоятельства. Их мысли и чувства были нашими мыслями и чувствами… Репетиции спектакля Борис Александрович вел не в порядке чередования сцен – он начал их со сцены вечеринки молодогвардейцев. Он сказал нам: – Когда вы эту сцену освоите, заживете в ней по-настоящему, вам легко будет освоить все остальное. И действительно – в ней оказалось все: и наша прежняя мирная жизнь в ощущении вечеринки – как будто в недавнее, дооккупационное время, и необходимость конспирации, и подготовка к активным действиям… Нам удалось стать свободными, естественными, импровизационными, и это само собой перенеслось на другие сцены, как будто появилась почва под ногами… Я про себя постоянно вспоминал московский спектакль Охлопкова. Мне интересно было сравнивать решение сцен у Охлопкова и у нас. В нашем спектакле почти не было условных символов, не было романтической приподнятости, как у охлопковцев. Мы играли более приземленно… Но наш исполнитель роли Сергея Тюленина – Анатолий Карпов – в одной из сцен, когда речь шла о предателе, горячился, гневно выбрасывал фразу: «Я убью его!» У Охлопкова Борис Толмазов говорил это тихо, пораженный предательством… Чтобы разобраться в разнице исполнения, я спросил об этом у Пиковского. Он ответил: – У Толмазова это – высший класс. Нашему Толику такое пока не по силам. Но это не страшно, он делает по-своему, как может… Постановочная работа шла быстро, на одном дыхании, мы перестали ощущать в Борисе Александровиче педагога и режиссера, он был не просто с нами, а рядом с нами – как участник всех играемых событий – и спектакль, к нашей всеобщей радости, состоялся! Он выдержал сходу двадцать пять аншлагов, «зрителей волновала его высокая человечность, сочетание молодости, ребячества с готовностью на подвиг, на смерть во имя Родины» – так писала впоследствии республиканская пресса. Безусловно, по уровню актерского мастерства мы значительно проигрывали охлопковским ассам, но нас выручала неподдельная молодость, истинная непосредственность, наша наивная естественность… Выручало, как это не парадоксально, отсутствие профессионализма. Ну и зрительский патриотизм играл немалую роль! Олега Кошевого играл приезжий молодой актер Воронин. Он был чуть похож на Кошевого, обаятелен, искренен – зрители принимали его безусловно… Однажды наш спектакль смотрели родственники молодогвардейцев, которые приехали из Донбасса на встречи с молодежью города. Они плакали на спектакле, горячо благодарили нас, а о Воронине сказали: – Как он похож на нашего Олежку… Как будто мы увидели живого Олега! Роль Ульяны Громовой играла тогда еще просто коллега для меня Маша Кутель, играла с полной отдачей своих душевных сил – и до сих пор воспоминание об этом спектакле, об этой роли является для нее одним из самых дорогих… Очень хороша была ее сцена с подружками в самом начале спектакля, когда они, гуляя за городом, находили цветы, растущие в небольшой степной речке, – ее монолог о чистой, светлой красоте лилии… Это была сцена о чистоте их собственной юности, звучала она – как символ прекрасной молодой жизни, которую вот-вот оборвут… М.М.Кутель, В.Д. Панов в парке г. Владикавказа Мария Михайловна Кутель пришла в студию, окончив пединститут, была из нас самой развитой и образованной, горячо любила не только театр, но и литературу. Это особенно ярко проявлялось в сцене, когда ее Ульяна после допроса и пыток в полиции сидела на тюремных нарах среди своих подруг, сидела напряженно выпрямившись, чтобы не потревожить спину, на которой вырезали звезду, – и стараясь внушить мужество девочкам, отвлечь их на дорогие школьные воспоминания, читала им из лермонтовского «Демона»: «Что люди? Что их жизнь и труд?..» Ее голос звучал тоже напряженно, но задушевно, подымаясь над временем, над их судьбой. Вселенская, всечеловеческая, космическая тема входила всей своей огромностью в маленькую тюремную камеру и как бы расширяла, уничтожала ее стены, приносила с собой свободу духа… Зал замирал, захваченный этим неожиданным сопоставлением – мятежный, величественный Демон, дух вечной борьбы и трагического одиночества – и эти молодые ребята-молодогвардейцы, такие маленькие по сравнению с грандиозной фигурой Демона, но тоже великие стойкостью душ своих… Это была одна из лучших, высоких сцен спектакля. А кульминацией стала сцена клятвы, волновавшая и самих исполнителей до слез. Конечно, хорош был Толя Карпов – Сергей Тюленин. Заразительно-веселый, захватывающе-горячий и отчаянно-смелый, он был настолько естественным, живым пареньком, что зрители забывали, что пред ними – актер… Любку Шевцову играли две исполнительницы – рослая, полноватая, самоуверенная актриса Алексеева и бывшая наша студийка Тамара Алексанян, маленькая, худенькая, совсем молоденькая. В театре считалось, что Алексеева играет лучше, профессиональней, но Тамара была непосредственней, трогательней… Когда один мой знакомый офицер делился со мной впечатлениями о нашем спектакле, перечисляя всех исполнителей, и я сказал ему, что в театре лучшей считают Любку-Алексееву, он возмутился: – Ерунда! Разве можно поверить, что эта крупная, пожившая тетя – озорная Любка Шевцова! Вот этой маленькой, молоденькой я верю полностью – и наплевать мне на ваши «профессиональности»! Друг мой Юрий Богдзевич играл роль предателя «Молодой гвардии» Стаховича… Впоследствии, немало лет спустя, выяснилось, что этот человек был оклеветан, его реабилитировали, но тогда его образ вызывал недобрые чувства, мы ненавидели его – и Юрию не очень хотелось играть такую роль. Но он играл ее умно и глубоко, вскрывая душу снаружи обаятельного, но мелкого, неустойчивого человека… Мне тогда досталась роль командира «Молодой гвардии» Ивана Туркенича. Я сам только что был офицером-командиром – и чувствовал себя на сцене, что называется, «при исполнении своих обязанностей». Конечно, я был рад, что меня заняли в спектакле, да еще в значительной роли, но ничего особенного я еще сделать не мог, просто – был самим собою в предлагаемых обстоятельствах…Впоследствии, после перемены в составе труппы, мне довелось еще играть и роль Сергея Левашева. Было в этом спектакле и смешное самовольство одного из наших молодых актеров, – это был Костя Кесаев, который в прологе, у памятника молодогвардейцам, стоял на митинге в образе генерала. Он стоял боком к зрителям, не поворачивался, и поэтому гримировал только одну сторону лица. В общем-то, по тем временам такая шутка была рискованной, но она осталась между актерами… 9 … Летом 1967 года Краснодарский театр, в котором мы с женой тогда работали, был на гастролях в Одессе. Почти половина Дерибасовской улицы была уставлена щитами с нашей фоторекламой… Гуляя по скверу Дерибасовской, я увидел двух пожилых людей, не спеша, с наполненными «авоськами» в руках, о чем-то переговариваясь, шедших передо мной. Чтото знакомое ощутил я в них. Я обогнал их и оглянулся – это были Борис Александрович Пиковский и Леонид Александрович Штормский, но как они потускнели! Оба стали как будто ниже ростом, голоса – прежде звучные, мощные, богато обертонированные – потеряли свою красоту, ослабли, стерлись до обычных, житейских… – Борис Александрович, Леонид Александрович, здравствуйте! – остановил я их. Они с недоумением смотрели на меня. – Конечно, вы не узнаете меня, прошло семнадцать лет… – продолжал я, – Я ваш ученик, Борис Александрович, я Панов Вена… Русский театр во Владикавказе… – Веня! – воскликнул Штормский, узнав меня первым, и начались расспросы… Я сказал, что мы с женой, Машей Кутель, работаем в Краснодарском театре, и вот сейчас – на гастролях здесь. – Я хочу посмотреть ваш «Маскарад», – сказал Борис Александрович, – Каков он у вас? Кто поставил? Кто Арбенин? Я ответил ему, высказал свое мнение о нашем спектакле… Они рассказали мне, что оба уже пенсионеры, вот – живут здесь, в солнечной Одессе. Мы расстались до спектакля, но не знаю, приходили ли они – после спектакля среди уходящих зрителей я их не нашел… Борис Александрович Пиковский – наш первый театральный педагог. Он обучил нас основам актерской профессии, воспитал в нас чувство творческой дисциплины, уважения к авторству драматурга и режиссера, и вместе с тем – самостоятельности в постоянном стремлении к глубинам смысла и психологического начала – источника, «корня крика» по поэтическому определению Гарсиа Лорки… Тогда, в Одессе, была моя последняя встреча с ним и с Л.А.Штормским. 10 …Практика постановки молодежных спектаклей продолжалась. Участие в них в ведущих ролях профессионально укрепляло нас, расширяло творческие возможности, придавало уверенность в своих силах. Спектакли с молодежью, кроме самого Пиковского и очередного режиссера Е.Сахарова, ставили и ведущие актеры – заслуженные артисты Мосолов, Востоков, Кондырев, артист Крылов. Николай Владимирович Крылов был основным героем-любовником, играл свои роли добротно, но уже думал о своем возрасте с необходимостью будущего перехода на другие роли, пробовал себя и в режиссуре… Однажды он рассказал нам занятную историю о себе. Еще до войны, работая кажется в Воронеже, он получил роль Ромео. Репетировал изо всех сил, все шло хорошо, дело дошло до премьеры, и тут его охватил страх: на премьерах у него обязательно случались какие-нибудь неприятности! И вот – премьера… Благополучно проходят одна, другая сцена… Все хорошо! Он успокоился, воодушевленно довел роль до конца и, «отравившись», свалился на пол, про себя думая: слава Богу, ничего неприятного не случилось! Но вот Джульетта тоже «отравилась», повалилась на него и так больно ударила локтем ему в живот, что тело его рефлекторно подскочило… В зале раздался невольный смех, финал спектакля был испорчен!.. В ту пору у меня с Крыловым были чисто официальные отношения, с моей стороны – уважительные. Однажды он сказал мне: – Вчера я читал по радио ваши стихи… Ничего, что я в них изменил одно слово? – и он назвал это слово. Я ответил, что это не страшно… Я в ту пору писал стихи для республиканской газеты и для радио, на радио иногда читал их сам, чаще – это делали дикторы, но впервые прочел их наш актер… Это было приятно, но немного настораживало – не иронизировал ли он по моему адресу? Но Крылов был вполне серьезен, что еще больше расположило меня к нему… Вскоре он уехал из театра, а впоследствии – пригласил нас с Машей во Владивосток, где стал директором театра… 11 Постоянно думающий о нас Леонид Алексеевич Кондырев поставил с нами молодежную пьесу Любимовой «Они поспорили». В ней у нас с М.Кутель были главные роли, спектакль вызвал живой интерес школьников-старшеклассников и резкую критику учителей – и нам пришлось впервые испытать, каково это, когда одни хвалят, а другие чуть ли не нас самих обвиняют в безнравственности и распущенности… Видите ли, наши герои, старшеклассники, позволили себе влюбиться друг в друга! В советской-то, высоконравственной школе! М.М. Кутель в роли Тани в спектакле "Женитьба Белугина" Х.Н Мосоловым были поставлены «Два капитана» Каверина, инсценировка романа, необычайно популярного среди молодежи того времени. Молодые актеры все больше и больше занимались во «взрослых» спектаклях, обретали зрительскую любовь… Кроме самого Пиковского, очередного режиссера Е.Сахарова и ведущих актеров Кондырева и Мосолова их ставили такие же актеры – Востоков и Крылов. Л.А.Кондырев решил поставить водевиль Симукова «Солнечный дом». В главных ролях он занял меня и недавно приехавшую к нам из Москвы, по окончании ГИТИСа, Т.Дедулину. В спектакле была еще одна молодая пара, роли которых играли наша студийка Скульская и ослепительный красавец Олег Туманов. Если у нас с Татьяной Дедулиной была пара романтизированных любовников, то у Скульской и Олега были роли, приближенные к опереточным субретке и простаку. С каким удовольствием геройлюбовник Олег играл своего простоватого персонажа, он упивался комедийными ситуацями, действительно – купался в роли… Для нас с Т.Дедулиной, в нашей главной сцене любовного объяснения, Леонид Алексеевич построил такие красивые мизансцены – с пластико-танцевальным разлетом во всю сценическую площадку, с пением – что уже это построение захватывало нас и несло как на крыльях. Вот тут я возблагодарил мою учебу на вокальном отделении Музучилища – я свободно выдерживал голосовую нагрузку, свободно и увлеченно пел… Именно в этом спектакле, в этой сцене я впервые испытал ощущение полета – стремительного, легкого, радостного… Это ощущение запомнилось, и впоследствии, когда возникало в какой-либо роли, оно служило мне признаком того, что роль – пошла, стала живой… Оно возникало даже в трагических сценах, особенно – в роли Гамлета. Группа спектакля "Солнечный дом" на выезде в городок Садон. Третью, старшую пару, играли с упоением замечательная Мария Николаевна Репина и сам постановщик спектакля Леонид Алексеевич. Играли с полетной легкостью, с тонким изяществом, с моментальными психологическими переключениями, на что способны только дети… Чудо их игры восхищало нас, придавало и нам свободу и легкость. Это было вроде показательного урока, который незаметно, сам собой входил в нас, руководил нами. Атмосфера на репетициях и на спектаклях была такой душевной, светлой, как на празднике, что все трудности актерские не угнетали, а подзадоривали нас. Спектакль этот стал праздником и для зрителей города, особенно для студенческой молодежи. В зале царили радость и безудержное веселье… Для меня он раскрыл некие новые творческие возможности, профессионально укрепил меня, остался в памяти, как одно из самых светлых воспоминаний актерской молодости… Спектакль много играли на выездных площадках, для чего возили с собой свое пианино, и на нем наша заведующая музыкальной частью Т.Г.Бекузарова заменяла театральный оркестр – играла для наших вокальных и танцевальных номеров… Однажды, во время гастролей в Пятигорске, нас послали на какой-то новый курорт, где еще не был выстроен клуб, и мы должны были играть в столовой, освободив часть ее от столов и стульев. Но пианино поставить было некуда! Тогда вплотную к открытому окну подогнали наш грузовик, в кузове которого стояло пианино – и Тамара Георгиевна оттуда, изо всех сил колотя по клавишам, аккомпонировала нам… Именно на этот период пришлось обострение моего гастрита. И я заметил странную вещь: за кулисами, перед выходом на сцену, я сидел согнувшись от боли в желудке, но как только звучала реплика на выход и я появлялся на сцене и включался в действие – боль проходила! Интересно мы ездили: в кузов огромного трофейного грузовика ставили у кабины, для равновесия – поперек кузова, пианино, затем грузилось оформление – ставки, столы и ступенечки, а затем уж, в свободные промежутки, устраивались мы Конечно, это противоречило правилам безопасности – но тогда на это никто не обращал внимания. Пианино и декорации, на случай дождя, укрывались брезентом… 12 С этого спектакля началась наша дружба с Олегом Тумановым. Он был чуть старше меня. Сын моряка, он бредил морем. Когда началась война, стал в Новороссийске подводником и воевал на Черном и Азовском морях. После ранения – лечился где-то в Среднеазиатском госпитале, попал на съемки фильма «Кощейбессмертный», снялся в массовке, познакомился с актерами – и началось его новое увлечение. После госпиталя, по окончании войны, он стал актером… Наделенный обалденной красотой, высокий, идеально мускульно-вылепленный – он был обречен на роли героев-любовников. И он играл их вполне прилично. Так – у нас играл он князя Звездича в «Маскараде», был ослепителен в своем военном мундире, влюбленные поклонницы не давали ему прохода… Но влекли его другие роли – с яркими, сильными характерами, с вполне земной романтикой. В 1950 году, в конце пятигорских гастролей, мы с женой решили уехать в другой театр, в сибирский город Тюмень. Попрощались мы с Олегом по окончании последнего спектакля, в парке, выпив на счастье по стакану сухого вина… Он вскоре тоже уехал из Владикавказа, знаю – работал какое-то время в Смоленске, может–еще в каких-то городах, а потом начал сниматься в кино («Тень у пирса», «Екатерина Воронина» и др.) и закрепился в Москве, в тогдашнем театре Железнодорожного транспорта, где на несколько лет его коронной ролью стала роль Прохора в «Угрюм-реке» Шишкова… В последний раз мы встретились с ним в Москве, на актерской бирже, на которую забрели просто так – авось встретится кто-то из бывших коллег, с кем давно не видались. И встретились друг с другом… Олег погрузнел, стал каким-то утомленно-сосредоточенным, не очень говорливым. Но друг другу мы обрадовались, начались расспросы и рассказывания… И вдруг он сказал: – Тебе играть не надоело? Именно сказал – его не очень интересовал мой ответ. – А вот мне надоело, – продолжал он как-то особо душевно и слегка усмехнулся, – Устал, что ли… Ночами не спится, лезут в голову всякие воспоминания, мысли… И подумалось: а почему бы мне не записывать их? И стал я, друг, записывать, и так это меня увлекло… Показал кое-что Юрию Нагибину, он похвалил и напечатал один из моих рассказов. Вот – и пишу я теперь помаленьку… Тогда я спросил у Олега, работает ли еще в театре Транспорта режиссер Белла Давидовна Зеленская. Он сказал – «Да». Я рассказал, как в детстве моем отец ее был в ссылке в нашем сибирском селе, учил меня грамоте, тоскуя о жене и дочери, как она сама еще школьницей приезжала к нам с матерью, повидаться с отцом… Рассказал, как был у них в сорок шестом году, какой интересной, волнующей была для меня встреча с ними… Как позже, став актером и бывая в Москве, я хотел навестить их, но сдерживала стеснительность – зачем я им? – Напрасно стеснялся, – сказал Олег, – теперь уже Давида Марковича нет, скончался в пятьдесят шестом… В семидесятых годах, когда мы с женой работали в Грозном, к нам приехал из Москвы Голубовский, главный режиссер теперь уже театра им. Гоголя, приехал посмотреть и забрать к себе нашего главного режиссера и актера Красницкого Е.И. И я спросил у него, работает ли еще в театре Олег Туманов? Он ответил коротко: «Нет. Я убрал его». «А мне подумалось: убрал ли? А может он сам ушел?» У Олега к тому времени вышло из печати уже несколько книг рассказов и повестей. У меня есть часть его книг. Я иногда перечитываю их и берегу, как память о друге, которого, к сожалению, давненько уже нет на свете… В те же грозненские годы я узнал адрес Беллы Давидовны и написал ей. В ответ она прислала подробное письмо – как долго в последнее время болела ее мать, как сама она осталась одна и после работы в театре перешла на Центральное телевидение… Но переписка наша вскоре оборвалась. Когда мы с женой работали в Ивановском театре, мне рассказали, что Белла Давидовна, по окончании ГИТИСа была направлена со своим мужем, молодым героем-любовником, на работу к ним, в Иваново. Во время летних гастролей в Кинешме в театре случился пожар, загорелась сцена, а гримировочная, где готовились к спектаклю ее муж и еще один актер, выходила дверью на сцену, была без окна, и они, не успев проскочить сквозь пламя, задохнулись в ней… Убитая горем Белла возвратилась в Москву к родителям, а позже стала работать в театре Транспорта… У нас тоже были гастроли в Кинешме, мне довелось гримироваться в той же гримировочной… В том пожаре выгорела только сцена, ее восстановили, а остальное осталось без перемен. Зная о том трагическом случае, было очень неприятно находиться в течение спектаклей в опасной гримировочной ловушке… 13 Труппа Владикавказского театра пополнялась актерами и из других городов. Они были чуть старше нас, но значительно опытней. Один из них, кроме Олега Туманова, который приехал чуть позже, Юрий Богдзевич – легко, ненавязчиво, как-то совершенно естественно стал моим другом. Он был одарен и как актер, и как музыкант, сочинял музыку для некоторых наших спектаклей, обрабатывал осетинские народные мелодии для симфонического оркестра республиканского радио. В театре – лучшей работой его была роль Пети в «Последних» Горького. Сколько бы я потом не видел исполнителей этой роли – никто из них не затмил впечатления от Юрия. В нем была такая незащищенность умного, тонко чувствующего мальчика, такая неизбывная боль души и стремление понять этот страшный мир, в котором ему суждено было родиться… В этой роли сама собой вылилась боль души самого Юрия. Он не очень много рассказывал о себе, но я понял, что он – одинок, не имеет ни родителей, ни близкой родни. Возможно – все были потеряны во время войны… Но Юрий не утаил от меня, что он сидел в тюрьме, за что – он не уточнял, а я не распрашивал, понимая, что скорей всего – за воровство от голода, бездомья… Он постоянно поучал меня: не будь таким скромником, тихоней, уступающим всем дорогу, смелей и решительней заявляй о себе, у тебя есть на это право одаренности… Однажды он сказал мне: «Давай на время поменяемся нашей верхней одеждой!» И несколько дней он ходил в моей офицерской шинели, а я – в его скромном пальто. Это было как бы закреплением нашего братства… Часто задумчивый, рассеянный, постоянно что-то сочиняющий на ходу, однажды он на повороте улицы споткнулся о выступ подвальной лестницы и полетел вниз по каменным ступеням… Долго болели его ушибы, мешая ему двигаться… Моя сестра Фаина, которая приехала со мной во Владикавказ из Сибири еще в 1946 году, по окончании моего первого послевоенного отпуска, решила памятно отпраздновать свой день рождения. Мы тогда жили в квартире у Лобжанидзе. Бабушка Мария Алексеевна и ее дочь Мария Николаевна охотно согласились на проведение у них праздничного веселья. Пришли на вечер друзья Фаины по работе и по соседней квартире. Пришел, кстати, молодой офицер-фронтовик, красавец-осетин Юрий Дигуров, который в недалеком будущем стал на всю свою жизнь мужем Фаины, породнив меня с этим удивительным, одаренным и мужественным народом… Я привел своего Юру, Богдзевича. В разгаре веселья он сел за пианино – и полились песни, закружились танцы… Слегка опьяненный, я предложил Юре состязание: он будет играть вальсы, один за другим, а я – вальсировать, меняя партнерш – кто быстрей устанет? Состязание под одобрительные возгласы началось… Состязались мы долго, окружающие уже заскучали, заговорили меж собой. Я кружил своих партнерш то в одну, то в другую сторону, чтобы голова моя не закружилась, и был уже мокрый, но не сдавался. Наконец Юра завершил мелодию резкими аккордами и заявил: – Хватит! У меня же пальцы поставленные, я могу играть сколько угодно, а ты – упадешь скоро… Гости заоплодировали и объявили великодушно: «Ничья!» Богдзевич проработал у нас около двух сезонов и уехал в Молдавию с разведенной женщиной, спасая ее от жестоких притязаний бывшего мужа. Несколько раз мы с ним обменялись письмами, потом, с переездом нашим в Тюмень, переписка оборвалась. В конце семидесятых годов, когда мы с Грозненским театром были на гастролях в Кишеневе, я спрашивал старожилов Кишеневского театра – не помнят-ли они актера Юрия Богдзевича? Увы, почти тридцатилетней давности уже никто не помнил… 14 Сколько интересного рассказывали нам наши старшие, действительно маститые актеры – и о своей жизни, и о том, чему были свидетелями, и о замечательных актерах прошлого! Помню чей-то рассказ о том, как блистательный герой-любовник Блюменталь-Тамарин в роли Армана Дюваля в «Даме с камелиями» так горевал об умершей Маргарите, стоя перед зрительным залом, что слезы градом катились из широко открытых глаз его… Одна из них непременно попадала на носок его лакированного туфля и вспыхивала яркой звездочкой в свете софита. Пораженный зрительный зал замирал от восторга и взрывался бурной овацией… Л.А.Кондырев рассказал нам, как один из знаменитых гастролеров в двадцатых годах, играя в провинциальном театре героя из библейской пьесы, среди горячего монолога вдруг резко повернулся к ним, к массовке, и вдруг произнес тихонько, но решительно: – «Сейчас скажу: «Да здравствует Великая Октябрьская революция!» Они замерли от ужаса: ведь это было бы ни к селу ни к городу! Он трижды, горячим шепотом, повторил эту фразу, доведя их до желания зажать ему рот… Затем он вновь, но уже с могучей величавостью, повернулся к зрителям и с такой силой продолжил свой монолог, как будто убежденность его увеличилась стократно… «Потом мы догадались – заключил Леонид Алексеевич – что этот фокус был ему необходим для повышения напряженности сцены!» Он же, Леонид Алексеевич, рассказал нам грустную и немного смешную историю об одном уже немолодом человеке, который в начале двадцатых годов, в Таганроге, пришел к ним в театр и попросился на работу, хоть на какую. Он в прошлом был интендантским офицером в царской армии, сознательно отстал от белых в Таганроге и влачил жалкое существование. Он был совершенно одинок, беспомощен в житейских делах, и его пожалели. Попробовали в актерстве – но он оказался абсолютно бездарным. Предложили стать помощником режиссера, объяснили подробно, что надо делать – он согласился. Помреж, как сокращенно говорят в театре, обязан проверять техническую готовность репетиций и спектаклей, контролировать присутствие актеров, управлять закулисными шумами, обеспечивать их своевременность – и т.д. Но несчастный человек этот был в постоянной задумчивости и рассеянности, допускал множество накладок, хотя в сценарии ведения спектакля аккуратно записывал все актерские реплики и шумы, которые должны были следовать за ними… Однажды, после дневной репетиции, он ушел за город, в степь, и бродил там в своей задумчивости до темноты, забыв обо всем на свете… Конечно, он опоздал на спектакль, все сделали и начали спектакль без него… В другой раз, когда в спектакле на сцене должен был прогреметь выстрел, он, внимательно глядя в свой сценарий и слушая реплику, поднял руку, что означало «Внимание!», и резко опустил ее точно по реплике, что означало команду «Огонь!» Но «стрелять»-то было некому и нечем, – а надо было поставить табурет, положить на него фанерный лист и изо- всей силы ударить по нему плашмя старой шашкой… Тогда он, ничуть не растерявшись, подошел к стене и шлепнул, как мог, по ней ладонью… Конечно, его тут же стали упрекать за накладку, на что он, морщась от боли, досадливо отмахнулся отбитой ладонью: – «А-а, все равно все знают, что это неправда!» Запомнился мне рассказ Леонида Алексеевича об одном старом актере, с которым он работал в молодости. Тот говорил ему, делясь своим опытом: «Когда я чувствую, что смогу в роли бледнеть и краснеть – я гримом лицо не покрываю…» Леонид Алексеевич взял этот опыт на свое творческое вооружение. В «Горе от ума» он, играя князя Тугоуховского, выходил на сцену без грима, но как преображалось его лицо! Щеки обвисали, нависали на глаза затяжелевшие верхние веки, обвисали губы, при этом – лицо становилось надменно-аристократичным, породистым… Каким был их диалог с графиней-бабушкой, Марией Николаевной Репиной, когда они, оба глухие уже, вели взаимную светскую беседу, пытаясь услышать и понять друг друга, обвиняя друг друга в глухоте… Вот тут-то лицо Леонида Алексеевича бледнело и краснело от возмущения, и каким же дружным хохотом и аплодисментами зрителей покрывался финал диалога: «Да, глухота – большой порок!» Женой Леонида Алексеевича была яркая, замечательно-красивая, в меру полная женщина с боевым характером, но в то же время – женственная, добрая, отзывчивая на всякую человеческую беду… Она была парторгом театра, исполняла партийный долг со всей своей безупречной честностью и широтой характера. Сама великолепная актриса с широким творческим диапозоном – от светских красавиц-героинь до бытовых и характерных, она заботилась о нас, молодежи, как о своих родных людях, настойчиво вникая во все наши трудности. М.М. Кутель-Панова, В.Д. Панов в спектакле Тюменского театра "На всякого мудреца довольно простоты" Помню наше сопоставление двух «основных героинь» театра – Арычевой Екатерины Петровны и Крыжановской – не помню ее имени-отчества… Играли «Хижину Дяди Тома». Мы с Толей Карповым были негритятами, Арычева – то ли нашей тетей, то ли мамой… Складывалась тяжелая, драматическая ситуация… Такая же тяжелая ситуация постигла и белую женщину, которую играла Крыжановская. Она заливалась настоящими слезами, их было много – настоящих мокрых слез! Но они почему-то не трогали зрителей, которые только наблюдали за мастерской игрой актрисы, не забывая, что это – всего лишь игра… Арычева не проливала ни одной слезинки, они только блестели в ее глазах, но такое бурное, гневное и в то же время бессильное горе было в ней самой, захватывало ее дыхание, ей было ни до чего, она пыталась вырваться из этого горя – и зал замирал, захваченный таким же горем и сочувствием… Мне тогда впервые, наглядно стало ясно, что «переживания» без действия на сцене ничего не стоят… Екатерина Петровна и Леонид Алексеевич составляли удивительно интересную, обаятельную, жизнерадостную пару, бескорыстно щедрую на доброту и благожелательность, всегда готовую вникнуть в чьи-то проблемы и тут же помочь… Для нас с Машей они стали родными людьми, в каждый свой приезд в этот город, уже из других городов и театров, мы обязательно навещали их, словно отчитывались перед ними о наших творческих делах и всегда уходили от них заряженными их оптимизмом… Народный артист СОАССР, заслуженный артист РСФСР Леонид Алексеевич Кондырев скончался на сцене, в середине идущего спектакля… Так бывает с теми, кто отдает себя роли и зрителям полностью, не думая о последствиях для себя лично. Заслуженная артистка СОАССР Екатерина Петровна Арычева после смерти мужа еще долго работала в театре, не избегая никаких ролей, как и Леонид Алексеевич, отдавая себя сцене в полную меру своих сил и способностей. Мы переписывались с ней до тех пор, пока она, уже в Доме ветеранов сцены, не потеряла память и способность отвечать на письма… 15 Однажды я попал в квартирку заслуженного артиста СОАССР Востокова Александра Сергеевича – кажется, помог ему донести что-то до дому. Дома его ждала такая же старенькая, как и он, но уже не работавшая в театре жена. Они радушно угостили меня чайком и, сидя за тесным шатающимся столиком, мы говорили об их театральном прошлом. Вернее – я спрашивал, а говорили они, в основном – он. Александр Сергеевич рассказал мне, что в 1918-19 годах руководил театром в Полтаве, и вот явился к нему молодой, высокий, рыжий парень и сказал: «Я хочу работать у вас.» – «Ты артист?» – «Ни…» – «А что же ты можешь?» – «Могу спиваты…» Да как запел! У него оказался очень красивый, легкий, нежный тенор бесконечного диапазона… На голос сбежались артисты со сцены. – «Ты кто? Откуда?» – «Я Козловский Иван. Из Киева». Да, он действительно приехал на лето в Полтаву из Киева, а обратно вернуться не смог – Киев заняли петлюровцы… Конечно, в театр его взяли, и он играл и пел сезон в украинских спектаклях. Потом в Полтаве появился Свешников со своим хоровым ансамблем, взял Ивана к себе – и всю свою дальнейшую жизнь Иван Семенович пел… Став знаменитым солистом Большого театра, великим певцом и артистом, он никогда не забывал свой первый театрик в Полтаве, свои первые шаги по сцене, своего первого театрального наставника. Их взаимно-уважительная дружба сохранилась на всю жизнь, – почти каждый свой отпуск Александр Сергеевич с женой проводили, по настойчивому приглашению, в Москве, у народного артиста СССР, лауреата Сталинской премии Ивана Семеновича Козловского… Александр Сергеевич показал мне потрепанный фотоснимок, кадр из какого-то немого фильма, в котором он играл эпизод кочегара… На снимке он был такой же худенький, как и теперь, по пояс голый, черный от «каменноугольной пыли», узнать его было очень трудно… Несколько лет спустя, когда мы с Машей уехали в другой театр, а Александр Сергеевич с женой были отправлены в Ленинградский дом ветеранов сцены – мы увидели его в новеньком тогда кинофильме «Двенадцатая ночь» по Шекспиру. Он играл старенького священника… Вот так замкнулась его актерская жизнь, вся жизнь – на сцене, а в начале и в конце актерского пути – два появления в кино… У Александра Сергеевича под старость ослабела память, поэтому каждую свою роль он переписывал в маленький блокнот, который постоянно носил с собой, постоянно подучивал роль – и даже брал блокнот с собой на сцену, на всякий случай, как студент шпаргалку. Он не стесняясь показал мне свои блокноты, и я впоследствии перенял его привычку – стал переписывать свои роли в такие же блокнотики, но не для выноса на сцену, а чтобы постоянно иметь роль при себе, постоянно общаться с ее текстом, вникать в него… 16 Мы знали, что Дмитрий Павлович Речной был дворянского происхождения – и он не скрывал этого, увлеченно рассказывая о своей кавалергардской молодости. Стройность, изящество кавалергарда сохранились в нем на всю его жизнь… Когда меня стали выпускать на сцену в небольших ролях, мне довелось быть его партнером в нескольких спектаклях. И я получил возможность не только постоянно наблюдать, как он играет, но и в свободные минутки слушать его рассказы. Вот один рассказ из его кавалергардского периода жизни. Однажды, в Зимнем дворце, когда император Николай II вышел из кабинета, спустился по лестнице и, пройдя внизу, начал подниматься по противоположной лестнице – из его кабинета выбежал с руганью, очевидно нетрезвый, Великий князь Константин и выстрелил в спину императора. Он промахнулся… Николай остановился, спокойно обернулся к Константину, погрозил ему пальцем – и пошел дальше… Стоящие на посту, на лестнице, часовые дернулись в сторону стрелявшего и растерянно застыли… Они обязаны были схватить его, как преступника, но это же был Великий князь… Их тут же сняли с постов, строго-настрого наказали молчать о случившемся – и разослали из Петербурга по разным провинциальным воинским частям… Остаться кавалергардом Дмитрий Павлович не захотел и, вопреки воле отца, начал учиться на архитектора, а затем стал актером. Ему почти сразу удалось попасть в гастрольную труппу Мамонта Дальского… – Это было чудо, а не актер… – рассказывал Дмитрий Павлович, – Очень жаль, что мне довелось поработать у него только один сезон. Началась мировая война, и меня мобилизовали и отправили на фронт… О Дальском он говорил всегда с восторгом. Играя Гамлета – в сцене фехтовального состязания с Лаэртом, Дальский, получив укол шпагой и догадавшись о предательстве Лаэрта, в гневе отбрасывал свой плащ вверх так, что возникал как бы трагический столп, застывавший на мгновение… Это было великолепное сочетание фантастической актерской техники с безграничным, потрясающем темпераментом. И в то же время, в каком-нибудь гастрольном городке, если он, гримируясь на того же Гамлета, узнавал от своего администратора, что билетов продано очень мало – резко говорил своей костюмерше: – «Колета не надо, буду играть в своем пиджаке. С них и этого довольно!..» Как уживались в нем такие крайности?.. Однажды молодой актер, игравший Нелькина в «Свадьбе Кречинского», сказал ему: – «Мамонт Викторович, я же играю богатого человека, дворянина, а посмотрите, какие у меня туфли… Дайте мне денег на приличные!» Дальский посмотрел, поморщился, буркнул: – «Ладно…» А вечером, принимая кассу, крикнул ему: – «Иди сюда! Смотри-ка, фальшивая сторублевка… Вот мошенники! Слушай, возьми ее. Смелости хватит – купи себе туфли, сдачу забирай себе.» Актер сначала опешил, потом взял фальшивку. На другой день долго ходил с ней по базару, по лавкам, но купить на нее злополучные туфли так и не решился. Под вечер, грустный, брел он к театру, увидел у кассы зрительскую очередь – и его осенило. Он стал в очередь, сунул в окошечко кассы свою купюру, взял билет и немалую сдачу. Тут же побежал в лавку и купил себе модные туфли… Вечером, как бы между прочим, показался в них Дальскому. – «Смотри-ка, получилось», – ухмыльнулся Мамонт, а через некоторое время, принимая кассу, снова закричал: – «Иди сюда! Видишь?! Опять фальшивка!.. Что за город мошеннический… Вот что, раз уж ты умеешь сбывать такие бумажки – забирай и эту». Актер охотно взял купюру и на следующий день проделал тот же фокус. После вечернего спектакля Дальский ласково позвал его к себе и, помахивая «очередной» фальшивкой, ошарашил: – «Узнаешь? Та же самая… Дурачок, кого ты хотел надуть, – я же в ней дырочку проколол, видишь?» И вычел из его оклада стоимость туфель… М.М. Кутель-Панова, В.Д. Панов в спектакле Тюменского театра "Женихи" Когда, несколько лет спустя, уже в Тюмени, я пересказал эту историю пожилому актеру Чернышеву, который тоже в свое время работал у Мамонта Дальского, тот покачал головой: – Что-то на Дальского не похоже… С нами он был другой. Едем в поезде, он в своем купе играет в карты, кто-нибудь из актеров заходит, просит денег – он, не отрываясь от игры, спрашивает: – «Сколько?» Подает нужную сумму, говорит: «Записываю…» – и действительно записывает карандашом эту сумму на… стене вагона. Подъезжаем к нужной станции, выходим, а все его записи уезжают в покинутом вагоне. И так бывало не единожды… Не думаю, что Дмитрий Павлович сочинял, думаю, что Дальский был в разное время разным. Когда произошла революция, Дмитрий Павлович ушел из армии и вернулся к актерству. В Москве собралась актерская группа, сами ставили спектакли и играли их в городе, где придется, а в основном – в подмосковном окружении. Играли, откровенно забавляя полусельское население. В спектакле «Ревизор» Гоголя исполнитель роли Хлестакова был без одной ноги – потерял ее на фронте. Ходил на протезе. Для забавы делали так: спящего Хлестакова слуга Степан будил, дергая его за ногу. Хлестаков незаметно отстегивал протез, Степан при сильном рывке «отрывал» его ногу и, перепуганный, убегал от него, а возмущенный Хлестаков, прыгая за ним на одной ноге, исступленно орал: «Отдай мою ногу, мерзавец!» Эффект неизменно был потрясающим – наивный зрительный зал помирал со смеху… В спектакле «Русский генерал», о знаменитом генерале Брусилове, я играл три эпизода. Два из них были адьютантами – императора Николая II и самого генерала, роль которого исполнял Д.П.Речной. Да, это был подлинный царский генерал с великолепной выправкой и военной аристократичностью. Несомненно, ему помогало его прошлое кавалергардство… После моего офицерства, которое тоже в какой-то мере помогало мне – я учился у Дмитрия Павловича настоящему, мужественному изяществу боевого офицераадьютанта… Забавно, что роль императора Николая Романова у нас играл актер Николай Романов. Это потешало всех, вызывало множество шуток и розыгрышей. Интересно, что негласным консультантом по ролям императора и императрицы была, как меж собой почтительно говорили актеры, бывшая директрисса петербургского Института благородных девиц, которая хорошо знала эту венценосную пару, «пивала чаи» с ними, а теперь – потихоньку доживала свой век в этом удивительном городе «бывших» людей… В частности, она сказала нашему Николаю, что император, когда волновался, имел привычку теребить машинально пальцами мочку уха, и наш Николай, на потеху актерам, старательно проделывал это… В одном из «современных» спектаклей Дмитрий Павлович Речной играл какого-то начальника, а я – его помощника. Он почти постоянно находился на сцене, я получал от него задания и мчался исполнять их, а потом докладывал ему, что там и как…Поэтому в течение всего спектакля я был с ним связан, даже за кулисами – внимательно ожидая свои реплики на выход. И тогда я заметил, что реплики, которые он давал партнерам и партнерские – ему, он знал и говорил точно, а все остальное – импровизировал, хорошо зная смысл сцен! Конечно, он позволял себе это только в современных пьесаходнодневках, далеко не совершенных и пустячных, а таких игралось немало. Зачем ему было тратить свою память на пустословие! Но в классике – он был абсолютно, уважительно точен… Более значительное партнерство с Д.П.Речным у меня было в спектакле «Дворянское гнездо». Мне поручили роль Паншина… Это была одна из первых моих «настоящих» ролей. Я страшно волновался, попросту – боялся… Мне, в сущности – еще мальчишке, надо было играть в компании маститых, увенчанных почетными званиями артистов, полностью соответствовать им. Роль Лаврецкого исполнял Д.П.Речной, был в ней великолепен. А мне предстояло быть его соперником в любви к Лизе, спорить с ним на общественно-литературную тему, пренебрежительно отзываться о Пушкине… Говорить неуважительно о Пушкине у меня язык не поворачивался, а надо было делать это горячо, убежденно… Я был очень благодарен Дмитрию Павловичу за то, что он не снисходительствовал по отношению ко мне, принимал меня всерьез, как равного партнера, и это освобождало меня от зажатости. Не меньше меня самого волновалась за меня незабвенная, удивительно добрая Мария Николаевна Репина. Она всеми силами успокаивала меня, свои замечания и советы говорила мне деликатно, осторожно, стараясь не задеть обостренное самолюбие… Я благодарен ей на всю мою жизнь. Дмитрий Павлович был холост, казалось – очень легко относился к своему одиночеству, и вдруг он влюбился… Это сразу стало заметно всем, – он как будто помолодел, засветился изнутри, ходил – празднично опьяненный своей любовью, а как играл свои роли в это время! В антрактах, счастливый, читал стихи всем нашим актрисам – и молодым, и возрастным… А потом мы увидели ее – его богиню. Она была на одном из его спектаклей и по окончании представления зашла к нему, за кулисы. Это была высокая, стройная, строго, но со вкусом одетая ярко-красивая женщина лет сорока, полурусскаяполугрузинка, держалась просто, но с достоинством княгини… Они стали мужем и женой – и через некоторое время уехали вместе в какой-то российский город. Я не знаю, как сложилась их дальнейшая судьба, но мне всегда казалось, что они удалились от нас в какую-то сказку… 17 Летом 1949 года, когда мы с Машей уже были мужем и женой, сидел я у нас в садике, занимаясь каким-то делом, и вдруг в калитку вошел актер театра Александр Федорович Борисов. Он поздоровался, извинился за непрошеное вторжение и сказал: – Я по срочному делу. Веня, выручай. Дали мне роль Нецветаева для ввода в спектакль «На той стороне». Но это же не моя роль, там же бывший белогвардейский офицер, должна быть выправка, порода… А я же – бытовой, во мне ничего этого нет… Я опешил. Да, исполнитель этой роли, Николай Романов, из театра уехал, вводить кого-то надо, но роль-то возрастная, там должен быть зрелый мужчина… Да и как это я могу вводиться с просьбы актера, такие дела решает главный режиссер… – Борис Александрович уже все знает, и он дал добро. Идем, Веня! Там уже ждут, назначена репетиция… И пошел я следом за Александром Федоровичем, стараясь преодолеть свою робость… Сколько потом их было, этих вводов, больших и малых, срочных и с достаточным временем для подготовки… Но это – был мой первый большой ввод, сделать его надо было срочно, преодолев все ролевые трудности и возрастную разницу – свою с ролью, и свою с партнерами, – играли наши зрелые мастера… Не думаю, что ввод у меня получился полноценным, но Борис Александрович его принял, – значит все-таки что-то вышло. И потом, в ходе спектаклей я постепенно набирал уверенность и силу…Это было своеобразное испытание на прочность и урок на обретение профессиональной уверенности. Вот каким было первое обсуждение моей работы серьезным театральным критиком. В водевиле «День отдыха» мне поручили роль старичка-швейцара. Ну я, конечно, постарался – надел седой растрепанный парик, наклеил соответствующие бороду и усы. Шаркал ногами, чуть горбился. Свой молодой звонкий голос, с вокальным оттенком, постарался заглушить хрипотцой, шамканьем. Товарищи хвалили – молодец, мол, не узнать!.. И был еще спектакль – «Призрак бродит по Европе» Н.Вирта. В нем я играл слугу Народного фронта, – входил в зал заседаний фронта и объявлял прибывающих – только и всего! И вот – приехала из Ленинграда смотреть наши спектакли известная тогда театральный критик Раиса Беньяш – маленькая, изящная, черноволосая женщина. Говорила негромко, делая замечания мягко, как бы извиняясь, что вынуждена делать их… Начала с больших, серьезных спектаклей. Дошла очередь до «Призрака»… – и она стала разбирать слабости пьесы, искусственность ее построения. И вдруг сказала: – Обратите внимание на слугу Народного фронта, как он объявляет приходящих деятелей. Ведь он же видит их насквозь, отлично понимает их поднаготную… И он почти не скрывает этого – оно невольно прорывается в манере произношения их фамилий и постов, во взгляде, в тщательно сдерживаемой иронической улыбке… И если уж он видит их так хорошо, почему же они-то сами не могут рассмотреть и раскусить друг друга? Отличная работа молодого актера! А вот ваш старичок-швейцар – обратилась она вдруг прямо ко мне, – сотворен по избитым штампам … И зачем он вам! Вы должны играть героев – вот ваше основное дело… Я запомнил все сказанное слово в слово, во всяком случае – смысл, потому что говорилось обо мне впервые, да еще так неожиданно: уничтожительно о том, что считалось недурно сделанным, и так похвально про то, чему я сам почти не придавал значения… 18 Как заведено было тогда – была в нашем театре суфлер, женщина средних лет, добродушная, приветливая. Она исправно, на каждом спектакле, сидела сбоку у передней кулисы и прекрасно знала, кому из старших актеров и в каком месте надо подать текст, подсказать всего лишь одно-два слова. На нас, молодежь, она не обращала внимания, – мы обязаны были знать, да и знали свой текст назубок. Был у нее муж, бывший оперный бас, характером и приветливостью похожий на нее. С ним я общался частенько – расспрашивал его о секретах пения, о трудностях певческой жизни. Отвечал он всегда охотно и подробно. Например: – Приходишь на спектакль, а горло – сухое, какой тут может быть звук… И я страховался так – всегда имел в своей гримерке селедочные хвосты. Сухое горло – беру, пососу хвостик – и все в порядке! Слизистая оболочка восстанавливается – и горло звучит, как надо. Важно начать петь, а потом уж, когда распоешься – голос сам идет, никаких хвостов не требуется… И вот однажды летом, после грозового дождя, суфлерша наша пришла на спектакль какаято странная, перепуганная. Оказалось – в их квартиру залетела шаровая молния и так шарахнула там, что они оба оглохли. Хорошо еще, что ничего не загорелось… Глухота ее еще не прошла – и она села на свое место, напряженная, сосредоточенная… Она внимательно смотрела на губы актеров и своевременно переворачивала листы пьесы. Актеры видели это и были спокойны: не подведет, выручит! И спектакль прошел чисто, без единой текстовой заминки. Она же поняла: надо регулярно переворачивать листы – это успокаивает актеров, делает их уверенными в знании текста. А зимой, когда в театре было очень холодно и мы замерзали на сцене, она сидела на своем месте в шубе, склонив голову к пьесе, дремала, а порой засыпала на несколько секунд и, спохватившись, наугад перелистывала листы… Мы, молодежь, замечали это, но никогда не выдавали ее. Зима была нашим проклятием и наказанием за что-то. В конце сороковых годов отопление в театре еще не было налажено, небольшое тепло шло только из нескольких колориферных решеток за кулисами, на полу сцены. И перед выходом актеры, особенно актрисы, становились на эти решетки по двое-трое, спиной друг к другу, запасались теплом… В «Горе от ума» и в «Маскараде» декольтированные актрисы с посиневшими плечами обмахивались веерами, просили мороженное, изо рта у них шел пар, и когда произносилась фраза: «Здесь жарко так, что я растаю» – зрители заливались хохотом, – сами-то они сидели зачастую в своих пальто… В те годы актеры тщательно гримировались, в характерных ролях изобретали невообразимые гримы, стараясь стать неузнаваемыми… Какие только носы не лепили из гуммоза, каких париков не надевали, каких усов и бород не наклеивали! Особенно отличались у нас Заслуженные артисты Востоков А.С. и Мятелев И.А. Востоков в спектакле «На бойком месте» пышные черные усы наклеивал на кончик носа, – они и густая черная борода закрывали всю нижнюю часть лица. На оставшуюся часть носа он прилеплял гуммозную пипку, и при черном взлохмаченном парике получалось некое смешновато-страшноватое чудище с коротеньким-коротеньким носиком, похожее на огромного жука… Подстать характерному гриму искали и манеру речи, звучание голоса. Мятелев Иван Андреевич в «Чудесах пренебрежения», играя отца героини, так изменил и внешность и голос, что на сдаче спектакля наши технические работники восхищенно спрашивали друг друга: – Кто это? Кто это?! «Кто это?» – было высшей похвалой актеру, ведь при всех видоизменениях надо было соблюдать органику, чтобы найденная характерность стала выражением живого характера персонажа. Нам, молодежи, старшие актеры говорили: – Сначала научитесь играть стариков, разные характеры, научитесь подальше «уходить от себя»… А сами собой быть на сцене всегда успеете, да это и не так уж трудно, к тому же – так вы надоедите зрителям очень быстро! И мы старались во всю – надевали седые и лысые парики, заклеивались бородой и усами, лепили носы, чертили на наших молодых гладких лицах морщины – «железные дороги», как их в шутку называли… В спектакле «Русский генерал» я играл адьютанта императора Николая II, затем солдатаагитатора, которого тут же расстреливали, и вновь адьютанта, но уже у генерала Брусилова. С какой скоростью, по окончании сцен, я мчался на второй этаж в нашу молодежную гримировочную, сбрасывал с себя костюм, напяливал другой, менял грим… В адьютантах менялись офицерские мундиры, усы и прическа, а для солдата я должен был стать похожим на Чернышевского – так задумал режиссер. В «Хижине дяди Тома» я сначала был мальчиком-негритенком, потом быстро смывал с лица черноту и превращался в старого, седого аукционщика… В сцене аукциона однажды произошел такой случай. Опытный, хороший актер Николай Романов играл покупателя рабов. Он кого-то перебил, назвал свою более высокую цену, ожидая реплику со следующей ценой, но ее никто не назвал – партнер что-то напутал и промолчал. Нависла короткая, мучительная пауза… Но сцену надо было продолжить – и Романов выкрикнул свою очередную цену, давая реплику следующему покупателю. В результате получилось, что он сам для себя ни с того ни с сего повысил цену! Это было до того неожиданно и глупо, что все расхохотались – и актеры на сцене, и зрители… Как потом, за кулисами, Романов обругал своего невнимательного партнера! Сейчас мы к таким «накладкам» относимся спокойней… Оформление спектаклей было, как правило, громоздким, иллюстративным, в интерьерах – подробно обставлялся быт, для изображения природы обязательно рисовался «задник», навешивались падуги с нашитыми древесными листьями…Никогда в одном оформлении не совмещались разные места действия, для каждой картины делалось свое оформление. Когда в одном акте было несколько картин – закрывался занавес и быстро менялось оформление, это называлось «чистой переменой»… Монтировщикам приходилось трудно – они бегом носились по сцене, как фокусники быстро прилаживали ставки друг к другу… Тут же бегали реквизиторы, разнося реквизит по своим местам… Наша бригада монтировщиков, то есть рабочих сцены, работала в театре еще до войны. Потом почти все пошли на фронт. После фронта, кто остался жив, снова вернулись в театр. Они любили театр, и для них – монтировка декораций была профессией… Однажды им устроили нечто вроде бенефиса. Во время перестановок оформления занавес не закрывался. Зрители оставались в зале и смотрели, как быстро и ловко рабочие делают свое дело… Оркестр (тогда еще не было радиомузыки в театрах) играл для них то маршевую, то танцевальную музыку… Это было весело и забавно, и монтировщики и зрители были очень довольны. Теперь таких рабочих сцены нет… Я застал еще время, когда актеры раскланивались после каждого акта, – это означало, что начинается антракт. Спектакли были длинными, в 3-4-5 актов, заканчивались поздно. Но зрителей это не смущало, напротив – посещение театра было для них праздником на целый вечер, когда в антрактах можно было погулять в фойе, показать свои наряды и дорогие украшения, поболтать с друзьями и знакомыми, полакомиться в буфете… Актеров заваливали цветами, а если даже в уже виденном спектакле появлялись новые исполнители – шли их смотреть. 19 Главной особенностью нашей работы в этом театре было то, что работали мы в одном помещении, на одной сцене с осетинским театром. Половину месяца сцена принадлежала им, другую половину – нам. Это создавало немало постановочных трудностей. Не редкостью были ночные репетиции. На афишных щитах у театра появлялись то русские, то осетинские названия, иногда это путало зрителей. Однажды произошел такой анекдотический случай. Накануне первомайского праздника наверху фронтона поставили огромные фанерные буквы: «ПИГМАЛИОН». Это была реклама нашей предстоящей премьеры… Прохожие, мало знакомые с драматургией, спрашивали у стоящего на посту русского милиционера: – Что это там написано? И он глубокомысленно отвечал: – Должно быть это по-осетински – «Да здравствует Первое мая!» Гримировочные комнаты были расположены по обе стороны театра, с одной стороны осетинские, с другой – наши… Но, несмотря на трудности такого совмещения, актерские труппы дружили меж собой. Конфликтовали только наши администраторы – из-за распределения времени и репетиционных площадок. Мы же с удовольствием смотрели спектакли друг у друга, особенно сдачи, когда требовалась поддержка зрительного зала – и мы обеспечивали ее своим горячим приемом. Нас трогала поддержка наших молодежных спектаклей осетинской молодежной студией, – ее руководитель М.К.Цаликов, великолепный актер осетинской труппы, отменял занятия в день нашей сдачи и приводил в зал всю студию. Как они радовались каждой нашей удаче, как подогревали нас своими аплодисментами! Нам было сложней, – мы же не понимали осетинского языка и судили об их спектаклях только по яркости играемых характеров, по степени органичности и эмоциональной отдачи, по общей эмоциональной заразительности. В осетинском языке нет обращения на «вы», нет сочетания имени-отчества, поэтому мы даже Тхапсаева, уже тогда набиравшего свою знаменитость за «Отелло», звали просто «Володя», и ему это нравилось. Он не пропускал ни наших сдач, ни премьер, поздравляя душевно всех. Эта человеческая простота и доступность были главными чертами его характера, они органически вошли в его самый значительный и самый знаменитый сценический образ Отелло. Более десяти лет спустя, после его нашумевших гастролей в Москве, в театре Моссовета, где он играл в спектакле Юрия Завадского, мы с женой приехали из Томского «закрытого» театра в отпуск – и я пошел в осетинский театр повидаться со всеми. В репетиции был занят и Тхапсаев. Вел репетицию мхатовский режиссер И.М. Раевский. Он помнил меня по Ивановскому театру, где тоже проводил репетиции, и разрешил мне присутствовать в репетиционном зале. После репетиции я пригласил Володю в летний ресторан в парк. Он вечером был свободен и охотно согласился. Мы уселись за отдельный столик, укрытый виноградной листвой, понемножку пили и много рассказывали друг другу. Он рассказал мне о своих московских гастролях, как волновался, – он же говорил по-осетински, это затрудняло общение с партнерами… Как просил московскую Дездемону говорить просто, не уходить в романтический туман… Она же играла с Мордвиновым и привыкла к его чуть приподнятому тону… Как по окончании спектакля, после долгих раскланиваний на бурные аплодисменты зрителей, он пошел в гримировочную, а за кулисами актеры-моссоветовцы, выстроившись в два ряда, хлопали ему, идущему смущенно по этому живому коридору, и радостно скандировали: – Тхапсаев, Тхапсаев, Тхапсаев!!! Он рассказывал об этом с детским недоумением, до сих пор удивляясь своему успеху… Я смотрел на него тоже с удивлением, как на чудо, – он был абсолютно искренен… Когда я сказал ему, что играл Яго в Ивановском театре – он загорелся: – Слушай, переезжай работать в наш театр – играть Яго… – Что ты, Володя! Я же не знаю осетинского языка… – Ничего, научим… – А главное – у вас же есть великолепный Яго – Цаликов, вы так давно играете вместе… – Ну и что, будут два Яго! Понимаешь, я хочу научиться играть Отелло по-русски, а у меня такой сильный акцент… Мы с тобой постепенно подготовили бы наши сцены порусски, поиграли бы их в концертах, потренировались бы, а потом уж я сыграл бы всю роль по-русски… Конечно, он просто мечтал и сам верил в свою мечту, а может – просто хотел верить… Я сказал ему, что играю Гамлета – вот уже во втором театре. Он поразился: – Слушай, а как же ты это делаешь? Я прочитал пьесу и ничего не понял, – чего этот Гамлет все говорит, говорит, а сам то ничего не делает, то убивает других, а не короля… Да, ему это было непонятно – как горцу, горцы так не поступают… В начале семидесятых годов, когда мы в Краснодарском театре играли «Отелло» и я снова был Яго (вместе со Степаном Шмаковым) – возникла мысль пригласить на гастроли Тхапсаева. Но пока велись эти переговоры, мы с женой переехали на работу в Грозный, в театр имени М.Ю.Лермонтова. Гастроли Тхапсаева в Краснодаре состоялись, но мне с ним сыграть так и не проишлось… Оттого, что мы работали рядом, в одном помещении, нам повезло быть свидетелями того, как вырастал у Владимира Васильевича Тхапсаева образ Отелло. Вначале спектакль был поставлен молодым режиссером Зарифой Бритаевой, дочерью основоположника осетинской драматургии. Затем с Тхапсаевым много работал И.М.Раевский, постоянно совершенствуя и углубляя его роль, в которую Тхапсаев врос всей душой… Мы видели Владимира Тхапсаева – короля Лира, в спектакле, поставленном режиссером Е.Г.Марковой. А без нас уже им был создан очередной шекспировский образ Макбета… Зато мы видели его замечательным Егором Булычевым. И во всем он был человечен, до предела искренен, психологически глубок… Мы застали в полном расцвете мастерства таких корифеев театра, как Б.Тотрова, В.Каргинову, В.Баллаева, Т.Кариаеву, С.Икаеву… Мы были свидетелями творческой молодости замечательных актеров К.Сланова, Е.Туменовой, Н.Саламова, Ю.Мерденова – впоследствии – ведущих мастеров осетинского театра. Помню, как мы провожали театр на Московские гастроли. На вокзале молодой, исхудалый Н.Саламов говорил нам с грустью: – Замучила малярия… Не знаю, как выдержу эти гастроли. Может, обратно приеду в ящике… Гастроли прошли успешно, и Саламов вернулся благополучно. Много лет спустя он стал, после Владимира Тхапсаева, вторым Народным артистом СССР в Осетии. Был в этом театре очень яркий характерный актер Касаев – крупный, грузный мужчина с великолепным басом. Он, как и я, учился пению в музучилище, приходился мне, по осетинскому замужеству моей сестры, дальней родней… Когда, после московских гастролей, возвращались домой – все были без денег, растранжирилсь в Москве. А Касаев, на остатки денег, купил поллитра водки, ободрал этикетку, приладил к горлышку бутылки аптекарский ярлык с каким-то рецептом, и в дороге изредка наливал себе в стакан порцию, выпивал, морщась и жалуясь – вот, мол, угораздило простудиться, выписали какую-то гадость, и теперь приходится глотать… Но мужчины-актеры все-таки унюхали, что это водка, и с веселым возмущением поделили остатки ее на всех… 20 …Театральные судьбы наших товарищей-студийцев сложились по-разному. Вначале почти все мы были оставлены при театре. Потом произошло сокращение коллектива, под сокращение попали и часть бывших студийцев, некоторые из них уехали в другие театры (Дубова, Скульская). Был у нас в студии один паренек, который «прославился» тем, что на занятиях на память физических действий разбирал воображаемые карманные часы. Все замирали, глядя на него, – он садился за стол, напяливал на глаз воображаемую лупу, клал на стол воображаемые часы, брал в руки воображаемые маленькие отмычки, отвертки и углублялся в ковыряние, забывая обо всех окружающих, в том числе и о педагоге… Возможно, из него получился бы своеобразный, интересный актер. Но он с матерью уехал во Фрунзе, в Русский театр, там они отправились однажды на выездной спектакль, автобус в горах свалился в обрыв, и они погибли – он с матерью и все остальные… Трагическая судьба выпала на долю бывшего студийца Женю Сенько. Еще до войны он начал учиться в Музучилище, у него был красивый, сочный баритон. Во время войны он воевал на севере, попал в плен, в Норвегию. Когда он там был освобожден – его направили уже в наш концлагерь… Освободили в 1946 году, он вместе со мной поступил и в Музучилище и в студию, вместе мы бегали с занятия на занятие, на репетиции и спектакли… Когда его сократили из театра – он работал где попало, в основном – грузчиком… А через несколько лет мне рассказали: сидел он однажды ранним утром на бульварной скамье, сидел угрюмый, одинокий, а когда рядом загрохотал проходящий трамвай – он бросился под него и погиб. К тому времени не было у него ни родных, ни близких… Мы с женой, Марией Михайловной, по окончании гастролей театра в городе Пятигорске, решили уехать в далекий сибирский город Тюмень. Там жила моя сестра Рая, у нее была подруга-актриса Вера Петровна Шелегина, которая сказала Рае, что Тюменскому театру нужны молодые актеры. Театралка-Рая загорелась желанием перетащить нас туда, они с Шелегиной взялись за дело – и вот мы получили официальное предложение перейти на работу в Тюменский Облдрамтеатр. Б.А.Пиковский и директор нашего театра Тельнова не захотели отпустить нас, сказали – идите к министру культуры республики. Министр, Хаджимар Газеевич Цопанов, недоуменно спросил: – Почему же вы хотите уйти? Разве вам здесь плохо? – Не-е, – устыдился я, – Мы очень благодарны за хорошее отношение к нам, но уже хочется попробовать свои силы в другом коллективе, на других зрителях, с другими режиссерами… – Так куда же вы надумали? –В Тюмень… – В Тумэн? – удивленно, с акцентом, произнес министр, – Так ведь туда едут, когда податься больше некуда… Не понимаю вас! Но мы вежливо настояли на своем – и нас отпустили… После нас уехали из театра Миша Кондрашев и Петр Климухин, который был чуть старше нас, но кучковался с нами, учился вместе со мной в Музучилище. Прошло двадцать лет, когда мы с ними встретились снова. Они работали в Севастопольском театре Черноморского флота и приехали на гастроли к нам в Краснодар… Однажды вечером мы собрались в нашей квартире. Маша на радостях от встречи хорошо накрыла стол. Мы с удовольствием пили за разные приятные тосты, с аппетитом ели, задушевно разговаривали – рассказывали друг другу, как жили эти годы, в каких театрах работали. Миша рассказал, как он стал писать музыку, самостоятельно изучив гармонию, законы композиции. Сел за наше пианино, стал играть и петь. Нам понравились его песни. И стали мы петь втроем – любимые песни, арии… Иногда к нам присоединялась Маша… Пели с таким наслаждением, с такой душой, веселием и грустью – как будто посылали привет нашей ушедшей молодости… На другой день наш пожилой сосед, бывший оперный певец, сказал Маше: – Как хорошо у вас вчера пели… Кто это был с вами? Маша рассказала ему о нашей встрече с прежними товарищами, к сожалению последней, – больше мы не встречались… Ушел из театра и уехал в Армению Альберт Саркисян, удивительно одаренный, любимец всех актеров за великолепные пародии, импровизации. Он так и не нашел достойного применения своего яркого таланта в родном театре, а в Армении – ушел на эстраду… Из всей нашей группы на всю жизнь остался в родном городе, в родном театре один Анатолий Карпов. Работал интересно, разнопланово, был любимцем зрителей всех поколений, получил кучу почетных званий – и ушел из жизни широко признанным, гордостью театра и города… 21 В середине пятидесятых годов, когда мы с Машей приехали, уже из города Иваново, во Владикавказ, на время своего отпуска, и, как всегда, зашли в родной театр, режиссер Л.Ящинина сказала мне: – Веня, у нас уехал актер, который играл Люсиндо в «Хитроумной влюбленной», – не мог бы ты войти в спектакль и поиграть, пока вы в отпуску? А там – приедет новый актер… Я охотно согласился. С Ящининой, всего лишь пару лет назад, мы работали вместе в Тюмени, и там я играл эту роль в ее же спектакле. Здесь редакция спектакля была иной, другие партнеры, другие танцы и фехтовальные бои – это вызывало интерес, азарт, ввод шел легко. Музыка и у нас и здесь была Молчанова, песни переучивать мне не потребовалось…И вот – я снова играл на родной сцене, на спектакль пришли некоторые зрители, которые помнили меня по прежней работе в театре, пришли посмотреть – каким я стал, поднесли мне цветы… Конечно, все это радовало, но особенным было то, что я познакомился с новыми для меня актерами, поиграл с ними… Главной из них была Валерия Хугаева, недавняя выпускница ГИТИСа, великолепно одаренная, красивая, обаятельная, умная… Она навсегда связала свою жизнь с этим театром, с этим городом, стала Народной артисткой России. Муж ее, Георгий Хугаев, однокурсник по институту (еще студентами они познакомились, полюбили друг друга, поженились) стал главным режиссером осетинского театра, интересным драматургом, известным деятелем театрального искусства страны. Оба они теперь – одни из главных фигур культуры Осетии… В настоящее время русский театр в Осетии-Алании, которому уже более 130 лет, стал Академическим, носит высокое имя Е.Б.Вахтангова, в обновленном здании его творит талантливая труппа, а зрители города Владикавказа из поколения в поколение являются его верными поклонниками. …Провожали нас из Владикавказа в далекий путь, пожилые родители Маши и моя сестра Фаина, которая приехала со мной сюда когда-то из любопытства и осталась в этом прекрасном городе на всю жизнь. И поехали мы в неизвестность с нашим годовалым сыном Борисом в общем, переполненном, душном пассажирами вагоне… Конечно, нам нелегко, грустно было уезжать из своего города, из своего театра… Но здесь мы работали под постоянной опекой наших педагогов, были еще мало самостоятельны. Самостоятельной и жизнь и работа актерская наша должны были стать в другом городе, в другом театре… Студия, театр города Владикавказа явились для нас местом нашего актерского рождения, но взлетной площадкой, с которой началась, как потом оказалось, наша театральная орбита – стала Тюменская сцена, ибо сам самостоятельный творческий полет начался – и вот теперь для меня завершается – именно здесь, в городе Тюмени, как бы замыкая свою замысловатую окружность… МОЛОДО-ЗЕЛЕНО 1 После красивого, романтичного южного города Владикавказа – Тюмень от самого вокзала показалась нам грязной, большой деревней… Встретил нас на вокзале муж моей сестры Раи, главный инженер завода «Механик», Раковский Викентий Викентьевич. Он весело приветствовал нас, пощекотал носик годовалому Бориске, мы с ним уложили наши вещи на заводскую телегу, сами уселись на нее, Викентий взял вожжи – и заводская лошадь повезла нас от вокзала по грязной улице Первомайской… Невольно вспомнились слова министра Цопанова: «В Тумэн едут, когда податься больше некуда!…» Видя наши унылые лица, Викентий шутил, стараясь подбодрить нас… – А вот и ваш театр, – сказал он, указав рукой вправо. Ужас! После красивого старинного театра Владикавказа – унылое, длинное здание, похожее на склад… Впоследствии мы узнали, что это действительно бывший соляной склад купца Текутьева…Едем мимо здания цирка, мимо городского сада, жалкого по сравнению с пышным парком Владикавказа, сворачиваем направо по улице Ленина. Господи! Грязь на улице имени Великого вождя еще глубже и гуще, лошадь с трудом вытягивает из нее ноги, колеса утопают почти по ступицу… Вечереет… Тяжелые облака ползут почти по крышам одноэтажных, серых деревянных домиков, за которыми – огороды… – Это сад имени Шверника, – указывает Викентий налево, где темнеют сплошной массой лиственницы и тополя… – А вот и наш дом, – указывает Викентий направо, на деревянный особняк в конце улицы. Началась наша тюменская жизнь – период с 1950 по 54 год… Рая подхватила Бориску на руки, не подозревая, как много ей впоследствии придется возиться с ним… Ее собственные дети – Галя, Тома, младший Володя с любопытством смотрели на нас, особенно на Бориску, своего будущего подопечного… Мама с сыном Рая накрывает на стол, начинается торжественный ужин встречи родни, знакомства с Машей, с Бориской. – Чтоб вам не дурно жилось у нас, – чокается с нами Викентий граненым бокальчиком водки. Я пью с опаской, надеясь, что мой гастрит успокоился прочно… Наутро меня скрючивает от боли в желудке, Маша одна идет в театр – доложить дирекции, что мы приехали, но я немного простудился в дороге… Начало получилось конфузным, но потом все обошлось хорошо. Сестра Рая срочно и активно взялась лечить меня разными отварами, и я вскоре стал готов к работе. Оказалось, что в театр – из разных городов – приехала целая группа молодежи и ведущих актеров, руководство театра было довольно, что прибыли все приглашенные. Можно было приступать к репетициям, к подготовке открытия нового театрального сезона. Приезд новых актеров в театр всегда вызывает повышенный, несколько взвинченный интерес коллектива театра. Новенькие сначала держатся чуть обособленно, знакомятся друг с другом, интересуясь – кто откуда приехал, затем на них наваливаются с расспросами старожилы театра… Идет их скрытая оценка приехавших, благожелательная и неблагожелательная, прикидка – кто чего стоит, какое место займет в коллективе, кто может стать соперником… Впоследствии, переезжая в другие театры, мы привыкли к таким «экзаменам», а на первый раз это вызывало не очень приятное, двойственное ощущение: поначалу – вроде бы люди рады знакомству с тобой, а потом – возникает некая дистанция, почти откровенно означающая «Ну-ну, посмотрим, чего вы стоите, на что способны!» Новыми были – героиня Соколовская, немного похожая на знаменитую Валентину Серову, ее муж Иммонен, характерно-комедийный актер со скандинавской внешностью и веселым характером, грубовато-простоватый социальный герой Лихачев, самоуверенный и бесцеремонный, его жена – характерная актриса с «типажной» внешностью, Артемов – характерный герой, общительный и моложавый… Все они были старше нас, держались уверенно и чуть поодаль от нас, самых молодых. А самыми молодыми были мы с Машей, Виктор Шмаков, Георгий Дьяконов, Александра Суворова. Правда, муж ее, Попов, был заметно старше ее… Своей уверенностью чуть отделялся от нас Георгий Дьяконов, который вскоре подружился с Мишей Артемовым (их поселили вдвоем в одной квартире). Быстро сошлись с нами молодые тюменцы Виктор Налобин и Меркурий Харламов, красивые, жизнерадостные ребята… Меркурий много и охотно рассказывал о коллективе, практически знакомил нас с основными, маститыми актерами труппы. Оказалось, и в прошлом в театре работали замечательные актеры, например – Мирвольский, о котором рассказывали чудеса, Краснопольский – впоследствии народный артист СССР… Театр имел свою интересную, богатую историю, и нам с Машей подумалось тогда: напрасно владикавказский министр культуры так снисходительно, с ноткой пренебрежения, говорил нам и о Тюмени и о ее театре… Рассказал Меркурий тогда о молодом актере Евгении Матвееве, который, как и я, был офицером и пришел в театр из военного училища. Сам Матвеев к тому времени работал уже в Новосибирске в театре «Красный факел». Меркурий говорил о поразительной работоспособности Матвеева, о его одержимости театром… Рассказал он и такой случай, – в спектакле об Иване Грозном Матвеев, играя молодого опричника, в сабельной схватке с такой силой рубанул своей саблей, что от нее, при ударе о саблю противника, отломился конец, полетел в зал и вонзился в боковинку зрительского кресла… Все страшно перепугались, но все обошлось благополучно. Много-много лет спустя, когда я познакомился с Евгением Семеновичем и напомнил ему об этом случае, он, облегченно вздохнув, сказал: – Господи, как же я сам-то тогда перепугался!.. Он обладал неимоверной силы темпераментом и не всегда мог справиться с ним… В нашей бедненькой костюмерной того времени, когда не на что было шить новые костюмы, мне говорили, подавая старые брюки: – Вот, наденьте эти… Я послушно надевал, но штанины волочились по полу, и я возмущался: – Они же длиннющие!.. – Ничего, подогнем, – отвечали мне, добавляя с легкой иронией по поводу моего заурядного роста, – Это брюки Жени Матвеева… Основу театра тогда составляли – старейшая, великолепная актриса Ксения Ивановна Кривская, основная героиня с характерным уклоном Екатерина Стивина, герой-любовник Анатолий Шепеленко, комедийно-характерный актер Петр Никлаевич Козлов с супругой Мониной, особо стоявший, в силу своего характера и большого самоуважения, основной герой Ушаков… Кривская великолепно относилась к молодежи, никогда не отказывала нам в своих замечательных советах. С благодарностью вспоминаю, как во время репетиций «Грозы» Островского она убеждала меня: «Не верьте, что роль Бориса – неинтересная, бесхарактерная, я когда-то говорила это своему покойному мужу, он тоже играл ее, вначале – с неохотой… У Бориса есть и характер и воля, но есть и свой расчет, «благоразумие»… В результате – мне эта роль доставляла удовольствие. Подробней об этой работе я расскажу попозже… Кривская была азартной преферансисткой, но играла она своеобразно. Она искренно верила, что лучше всех, играющих в ее компании, знает правила игры, и следила за всеми, шумно поправляла всех, горячилась, за своей игрой следить ей было некогда, и потому она всегда проигрывала… Но это никогда не расстраивало ее – она получала странное удовольствие от всего этого процесса, а над проигрышами своими весело смеялась… Вообще – очень любила шутку. Меркурий с Виктором Налобиным как-то рассказали мне про забавный случай. На малых областных гастролях они жили в вагоне, который перегонялся от станции к станции, и им пришлось находиться в одном купе с Кривской и Стивиной. Разумеется, спали они на верхних полках, а внизу располагались женщины. Однажды они после спектакля загулялись, возвратились в вагон поздно, в темноте осторожно влезли на свои полки, и Меркурий тихо говорит: «Ох, как пожрать охота…» Виктор указал ему на что-то, смутно видневшееся на столике. «Смотри, кажется булочка… Возьми и съешь». Меркурий дотянулся рукой, взял булочку и сунул ее в рот, стараясь откусить побольше. Но зубы и язык его ощутили что-то упругое, обтянутое тканью… «Ой, Витька, что это?» Виктор взял у него булку, пощупал – и чуть не расхохотался в полное горло. «Меркушка, ты же чуть грудь Кривской не слопал!» Виктор знал, что у Кривской одна грудь была удалена при раковом заболевании, что она подкладывала в свой лифчик муляж, но забыл, что на ночь она его вынимала… Наутро сам Меркурий не утерпел и рассказал Кривской и Стивиной о ночном происшествии, пытаясь извиниться. Но Кривская залилась таким хохотом, что нужда в извинении отпала сама собой. Потом это как анекдот разошлось по всему театру, долго потешало всех… Екатерина Стивина была таким же веселым человеком, хотя личная жизнь у нее явно не сложилась… Театр, роли, ей заменяли всё. К тому же она по своей инициативе организовала кукольный театр в городе и руководила им увлеченно, любовно, успевая управляться со всеми своими делами, никогда не жалуясь на трудности. К сожалению – ненадолго застали мы в коллективе замечательного артиста Горева… Интересной личностью был старенький, худенький, суетливо-подвижный актер Петр Мартынович Уздемир. Он не только играл еще маленькие роли, но и был помощником режиссера. Смуглое худощавое лицо его напоминало горбоносую птицу, на голове упрямо сохранялись седые кудри, морщинистый высокий лоб был откинут назад – как будто бы встречным ветром… Он охотно рассказал мне, что совсем молоденьким приехал из Крыма в Петербург учиться в театральной школе при Александринке. Очевидно татарского происхождения, он был по-восточному красив, обладал взрывчатым темпераментом и очень понравился М.Г.Савиной. Когда у него кончились средства на учебу, он пришел в отчаяние, не стесняясь плакал, рвал свои роскошные кудри… Савина сказала ему: «Дурачок, пожалей свои волосы, придет время – сами выпадут…» Всю дальнейшую учебу его она оплатила сама, а по окончании школы – устроила его в вильнюсский театр… С каким благоговением говорил он о Савиной! Впоследствии он стал великолепным героемлюбовником, успешно работал в хороших театрах провинции, а во время первой мировой войны попал на фронт, и там ему было присвоено офицерское звание. В период революционной неразберихи он ушел из армии и вернулся к актерской профессии. Жизнь его шла благополучно до середины тридцатых годов, когда случилось страшное. В какомто спектакле ему досталась роль белогвардейского офицера, сыграл он ее глубоко и сильно, и его тут же забрали в ОГПУ. Там его обвинили в том, что он, как бывший царский офицер, воспользовался этой ролью для белогвардейской пропаганды… Потом его выпустили, но, очевидно, там его сильно избивали, причем – били по голове, потому что он был не только запуган, но и потерял память… Большие роли он играть уже не мог, влачил жалкое творческое существование на маленьких эпизодах и массовках, стал помощником режиссера и пытался очень старательно исполнять свое дело. Но память его подводила… Однажды, во время спектакля, он в панике метался за кулисами, ища исполнителя какой-то рольки. Он всех спрашивал – кто же ее играет? где он? почему опаздывает на свой выход? – пока ему не сказали: «Да вы же, вы сами ее играете, выходите скорей!» Актеры относились к нему по доброму, но – такова уж актерская натура! – иногда подшучивали над ним. Была у него хорошая, умная жена, которая работала в администрации театра, был у них чудесный умница-сын, ученикстаршеклассник, они любили своего Петра Мартыновича, старались относиться к нему внимательно и бережно… О других актерах театра расскажу в процессе описания спектаклей, а сейчас – о начале работы нашей в этом театре. 2 Готовили к открытию нового театрального сезона 1950-51 годов «Счастье» Павленко – о людях, завербованных для поселения в Крыму. Спектакль ставил очередной режиссер Павел Андроникович Сыров. Спектакль этот мы только что играли во Владикавказе. Очевидно по нашим репертуарным листам это было учтено, и Маша вновь получила роль Наташи Поднебеско. В прошлом спектакле роль ее мужа играл Анатолий Карпов, здесь – как я уже упоминал, тоже только что приехавший в театр молодой, но уже опытный актер Георгий Дьяконов, вскоре ставший для меня на много-много лет просто Жорой-Жоркой. Я играл эпизод больного офицера-отставника, для которого Крым был последней надеждой на выздоровление. Этот эпизод являлся для меня тренажем на будущие возрастные роли. У Маши с Дьяконовым была молодая семейная пара энтузиастов, захваченных задачей восстановления сельского хозяйства, порушенного войной в Крыму. Дуэт состоял из любовных сцен и невольных ссор из-за бытовой неустроенности переселенцев. Сам спектакль ничем особенным не запомнился, но он познакомил нас с Дьяконовым, с его незаурядной одаренностью. Сын актера, опереточного простака, он был рожден для театра. Мать его всю жизнь работала театральной костюмершей, и он с младенческих лет рос в театре, театральная среда – актеры, режиссеры, репетиции, спектакли – естественно стала его родной жизненной средой. Она заразила его страстью к лицедейству, как бы само собой вложила в него практическое знание театра, того – что и как надо играть… Спектакль Мария Панова - Коля-маленький "Сильные духом" Спектакль «Счастье» познакомил нас с тюменской публикой – с ее зрительской отзывчивостью и ненасытной любовью к театру, что постепенно примирило нас и с уличной непролазной грязью в периоды ненастья, и с этим неуклюжим театральным зданием, вернее – мы стали относиться к этому, как к чему-то второстепенному… Вторым спектаклем для Дьяконова стала «Свадьба с приданым», с роли Курочкина началась повальная помешанность зрителей на Дьяконове. Оказалось он виртуозно владеет юмором, великолепно поет частушечные песенки, изобретательно-смешно танцует, неистощим на выдумку фортелей, которые как будто сами легко рождаются у него в процессе игры… В этом спектакле состоялся вполне успешный дебют новой героини Соколовской, в нем мы увидели в роли героя Анатолия Шепеленко – он был обаятелен, обладал мягкостью и лиричной искренностью, чувствовалось, что публика его любит… Познакомились мы и с творческой индивидуальностью Петра Николаевича Козлова, с его добрым юмором, бытовым правдоподобием. А вскоре начались и наши добрые отношения и с ним и с его женой – он в какой-то мере стал моим опекуном, делал мне дружеские замечания, давал хорошие советы… Он, как и Меркурий Харламов, любил рассказывать мне о Матвееве. В спектакле «Без вины виноватые» Петр Николаевич играл Шмагу, а Матвеев – Незнамова… «Выходим после первой нашей сцены за кулисы, – рассказывал Петр Николаевич, – чувствую, Женя еще не раскочегарился… Говорю ему: «Женечка, разве ж так играют эту роль? Ты представляешь, какие артисты ее играли – и как они играли!» Женька обиженно сопит, хмурится… Потом бурчит мне: «Петр Николаевич, я же еще молодой актер, зачем же вы со мной так…» Выходим на финальную сцену, он уже горит, еле сдерживает себя, и так выдает свой знаменитый монолог «о сувенирах, которые жгут сердце», что зал замирает, а потом взрывается бешеными аплодисментами… Впоследствии, уже работая в Москве, в Малом театре, он великолепно играл Незнамова, и даже избалованные, пресыщенные московские театралки гонялись за ним, за его автографами… Но жизнь его в образе Григория Незнамова началась здесь, в Тюменском театре. Хорошо помню, как на одной из репетиций главный режиссер театра Дмитрий Саввич Бархатов зачитал нам одно письмо Е.Матвеева. Тот писал после гастролей «Красного факела» в Москве и Ленинграде. Он блистательно показался там в роли Улдыса («Вей, ветерок!» Яна Райниса) и получил сразу два приглашения – в Ленинградский театр им. А.С.Пушкина (Александринку) и в Московский Малый… Он просил совета у своего первого главного режиссера – куда лучше ему пойти, в Пушкинский или в Малый? Ксения Ивановна Кривская тогда не выдержала: – Как же он пойдет в Малый, у него же такой сильный украинский акцент! Когда впоследствии я рассказал Евгению Семеновичу об этом разговоре, он рассмеялся: – От своего акцента я избавился еще в Новосибирске, в «Факеле»! К чести Матвеева – он никогда не зазнавался перед своими прежними тюменскими коллегами. Когда кто-то из наших актеров бывал в Москве, он с удовольствием встречался с ними, доставал им пропуска на спектакли Малого театра. А в 2000 году, во время гастролей теперешнего Тюменского театра в Москве, в помещении театра им. Е.Б Вахтангова, он, уже после первого нашего спектакля, сказал, обращаясь к зрителям: – Я горжусь, что начинал свой актерский путь в этом театре! Интересно зародились мои отношения с А.П. Шепеленко. На репетициях «Свадьбы с приданным», когда мы познакомились, он сказал, что летом лечился в Пятигорском санатории и видел наши спектакли. Наш Владикавказский театр произвел на него хорошее впечатление, и он удивился, почему же мы уехали из такого театра и из таких красивых, а главное – теплых мест в холодную, суровую Сибирь… Он был серьезно болен – страдал от язвы желудка, от ее «капризов», нередко выбывал из строя, и мне впоследствии пришлось заменять его в некоторых спектаклях, но это ничуть не испортило наших взаимно уважительных отношений… 3 Для меня первым ролевым спектаклем стал «Великий еретик» – о Галлилее. Мы с местным молодым актером Виктором Налобиным играли роли его учеников, тоже исторические – Торичелли и Вивиани. В этом спектакле я творчески познакомился не только с Налобиным, но и с моими партнершами по любовным сценам – казавшейся совсем молоденькой Александрой Суворовой и с одной из главных героинь театра Екатериной Стивиной. Роль Галлилея великолепно играл пожилой актер Н.Я.Горев. Высокий, прямой человек с крупным породистым лицом и с низким, гудящим голосом, он когда-то был знаменитым исполнителем роли Ивана Грозного, за что его взяли в Москву, в Малый театр. Но играть там почти ничего не давали, сделали председателем профсоюзного местного комитета. Председательствовал он, председательствовал, ожидая, когда получит достойную роль, надоело ждать – он плюнул на все и вернулся в провинцию… Маша помнила, как он работал во Владикавказе, – действительно, это был крупный актер! Опыт у него был невероятнейший… Он учил нас с Виктором прямо на спектаклях. В сцене, когда я, сам не зная того, подавал ему бокал с отравленным вином, а зрители уже это знали – он, беседуя со мной, не спеша брал бокал, в процессе разговора ставил его на столик, чтобы освободить руку для какого-то жеста, потом снова брал, подносил ко рту, но вспомнив, что не все сказал мне, опять, опускал руку с бокалом – и так раза по два в течение всего разговора, пока не чувствовал, что довел публику ужасом ожидания до изнеможения – и лишь тогда разом выпивал «вино», публика ахала, а он тихонько бормотал мне: – Учись, как надо заводить их… В другой сцене, когда его, уже ослепшего от яда, осторожно сводили мы с Виктором из его обсерватории – он говорил нам: – Смотрите, я еще не появился, а публика уже насторожится… И он вытягивал руки с растопыренными, ищущими пальцами под свет прожектора, который сам устанавливал заранее, на видимой зрителям освещенной стенке возникали увеличенные тени этих рук – и зал замирал… Мы спускались ниже, выходили на прямую лесенку, где публика уже видела нас, а он осторожно шел, поддерживаемый нами, но с такими же вытянутыми руками – публика понимала, что он ослеп, и снова раздавался этот общий глубокий выдох: – Ах!.. Таковы были эти актеры, таковы были тюменские зрители… Это был актер поистине старой, добротной по глубине актерской школы. Как он любил гримироваться! Сам художник, – он и оформлял спектакли,– он тщательно делал разнообразнейшие гримы, иногда по старости свой перебарщивал, и когда режиссер мягко говорил: – Уберите это, – указывая на какую-нибудь излишнюю деталь грима, он послушно убирал ее. У него была коронная фраза: – Настоящий актер должен любить лак! – имелся в виду клей для бород и усов. Он быстро и как-то незаметно исчез из театра, вероятно – уехал куда-то… В этом театре мы встретились с удивительной практикой, – каждый новый спектакль отыгрывался до конца, пока работники БОРЗа (бюро по организации зрителей) могли заполнить на него зрительный зал. К этому времени выпускался очередной новый спектакль, «борзовики начинали организовывать зрителей уже на него, а предыдущий, чаще всего, через некоторое время прекращал свое существование. Выручали параллельные спектакли, в основном они позволяли делать какое-то репертуарное накопление. Очень редко спектакли переходили из сезона в следующий сезон. За один сезон успевали поставить 12-14 спектаклей. Сейчас трудно представить себе такую напряженность постановочной работы… В свой первый сезон в тюменском театре я бы занят в десяти спектаклях, причем в семи из них были настоящие, полноценные роли. После Торичелли – второй ролью стала для меня роль гусара Курчаева в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» Островского. В нем мы снова работали с режиссером П.А.Сыровым. Моя жена получила роль племянницы Турусиной Машеньки, в которую Курчаев влюблен, мы с ней уже не однажды были сценическими партнерами, поэтому репетировалось и игралось потом легко. К тому же – во Владикавказе она уже играла эту роль в спектакле, поставленном одним из учителей наших Л.А.Кондыревым… Затем, в «Дворянском гнезде» Тургенева, поставленном актером РАУшаковым, я заново, уже более уверенно сыграл роль Паншина. Лаврецкого играл сам Ушаков, играл слишком мужиковато, в любовных сценах с Лизой (А.Суворовой) был примитивно сентиментален, но это замечал, возможно, только я, невольно сравнивая его с владикавказским Д.П. Речным… Сравнение было явно не в пользу Ушакова. Однако зрителям спектакль нравился, зал был всегда заполнен. Мне запомнился такой случай, – однажды, зимним вечером, я шел в театр готовиться к этому спектаклю, и на перекрестке улиц, у здания театра, меня остановил какой-то молоденький офицер: – У вас нет на сегодня лишнего билета? – Не-ет… – невольно удивился я. – Что за город! – почти возмущенно воскликнул офицер, – Который день не могу попасть в театр… Мария "В степях Украины" Панова в спектакле Занятно началось мое участие в спектакле «Гроза» Островского. В приказе о распределении ролей я был назначен на роль Бориса в очередь с А.П.Шепеленко. Спектакль ставил главный режиссер Д.С.Бархатов, и конечно же, репетировал Шепеленко, а я сидел и слушал… И вдруг пришло мне в голову: я же теряю время! И я тоже начал репетировать, но «про себя». Я слушал реплики партнеров и мысленно, по роли, отвечал им. Постепенно я так увлекся, что слышал только партнеров и почти не замечал, как говорит Шепеленко. Суть, жизнь роли начали входить в меня, и это доставляло мне своеобразное удовольствие, – я как бы тайком общался со своими партнерами… И вдруг однажды Шепеленко не явился на репетицию, слег со своей язвой желудка… Бархатов был вынужден включить меня в репетиции. И тут я понял, как хорошо сделал, что сам репетировал мысленно. Бархатову не понадобилось возиться со мной, специально готовить меня к вхождению в репетиционный процесс, – я уже находился в нем и мыслями и душой. И вот тут подхватила меня своим вниманием Ксения Ивановна Кривская, которая играла Кабаниху. Именно тогда она сказала мне, что роль Бориса не бесхарактерная, не «голубая», как называли «бесхребетные» роли. Она постоянно следила за тем, что и как я делал, и помогла мне стать уверенным в своих возможностях. Меня даже перестало смущать, что моя Катерина (Надежда Фризель) по возрасту гораздо старше меня, – в одном из следующих спектаклей она уже играла мою мать… Здесь она внутренне была не просто молодой, а как бы окрыленной своей первой, настоящей любовью. В сцене нашего свидания в вечернем овраге, когда мы, увидев друг друга, застывали на расстоянии, а с нее как бы сама собой спадала накинутая на плечи шаль – всегда взрывались взволнованные, сочувственные аплодисменты зрителей… Мне понравилось играть свою роль, именно свою – так я стал воспринимать ее. Мне нравилось мое актерское окружение. Великолепным Кудряшом был Георгий Дьяконов, это была «его» роль, он упоенно купался в ней. Кулигина играл Михаил Лихачев, который удивительно преобразился в этой роли. Из грубоватого, резкого «социального героя» он стал мягким, душевно-благородным, мечтательным человеком. Мы с ним на сцену приходили заранее, – или бродили потихоньку в декорации, не мешая друг другу, или забивались в укромные уголки и там ожидали начало действия. И так приятно было представлять, что прогуливаешься по набережной улочке у Волги, или сидишь на скамеечке, глядя в заволжские дали … И когда открывался занавес – играть шли с чистой, открытой душой. И я, кроме режиссера-постановщика, был очень благодарен Ксении Ивановне Кривской за то, что она помогла мне войти в мир этого захолустного городка и во всю эту грустную историю… Когда Анатолий Прокопьевич Шепеленко выздоровел – у нас уже состоялась премьера, и вводиться в спектакль он не стал. После «Грозы» я снова попал в спектакль, который ставил Р.А Ушаков. Это была пьеса Мдивани «Люди доброй воли» – придуманная история о национально-освободительной борьбе в какой-то маленькой республике… Играл я в ней молоденького паренька, участника этих героических событий. Конечно же, я был влюблен, мою любимую девушку играла А.Суворова. Мне этот спектакль запомнился тем, что я для него, а по действию – для себя, написал текст лирической песенки. Музыку для нее сочинил наш заведующий музыкальной частью Николай Сергеевич Линдер, и с этой песенки начались наши с ним своеобразные дружеские отношения, своеобразные потому, что он был значительно старше меня. 4 Главным режиссером театра был Дмитрий Саввич Бархатов, маленький, полноватый человечек с сиплым голоском, который на первой встрече с нами, новоприбывшими, тщательно и настойчиво объяснял: – Не Исаевич я, а Саввич, понимаете? Саввич, от имени Савва… Был Савва Морозов, знаете конечно, – Савва! Говорилось серьезно, с легким оттенком шутки… На репетициях он пил воду не из графина, обычную, а наливал из бутылок минеральнуюгазированную. Я тогда подумал, что голос сипел у него именно от большого количества газированной воды – ведь она сильно щиплет горло… Режиссер он был средний, традиционный, но крепкий, хорошо знающий технику режиссуры, с артистами обходился вежливо, терпеливо. В меня он поверил, не обижал ролями, а когда посмотрел, как я играю в пьесе Розова «Ее друзья» роль Володи Чернышева, он позвал меня в свой кабинет и доверительно сказал: – Вениамин Данилович, вы можете играть Лермонтова, вы похожи на него и внешне и внутренне. Я понял это по сегодняшней вашей роли. Сейчас Лавренев пишет пьесу о Лермонтове, – давайте исподволь готовиться к этой работе! Почитайте его и о нем повнимательней… Лермонтова я любил с детских лет, за школьные годы прочел его полностью, меня глубоко волновала его трагическая судьба. Со сладко забившимся сердцем я согласился… Заново перечитал его строго по порядку, по датам написания, сопоставил все с его биографией – почему это было им написано, как рождалось из его жизни… К тому же – совсем недавно мы были на гастролях в Пятигорске, Кисловодске, Железноводске, Ессентуках… Я побывал в его домике, где он жил, увидел стол, за которым он работал, посетил я и дом Верзилиных, где произошла злополучная ссора и вызов на дуэль, конечно же – был на месте дуэли… И, видимо, от того, что я читал не вразброс, а строго по порядку, со всеми черновыми, первоначальными вариантами, что пятигорские его места видел воочью – я ощутил его, как человека, он стал мне душевно близок, понятен… Но когда пьеса Лавренева появилась в печати, оказалось, что в ней почти шестьдесят исторических персонажей, да каких! Царь Николай I, Бенкендорф, Белинский – и т.д. Для нашего театра она была явно непосильна. Впоследствии оказалось, что ее поставили в СССР только два театра – МХАТ в Москве и театр им. Пушкина (Александринка) в Ленинграде… Тогда Дмитрий Саввич сказал мне: – А давайте работать над «Гамлетом», и поставим. Если уже читали – перечитайте еще! Шекспира мы немного «проходили» в каком-то из старших классов школы, я даже учил наизусть монолог Гамлета «Быть или не быть…» Но когда я прочел пьесу теперь – я пришел в смятение от сложности работы, понял, что еще зелен-зелен для такой роли… Я откровенно сказал об этом Бархатову – он с сожалением выслушал меня, но понял мою робость и только сказал: – Ну что ж!.. Роль Гамлета я сыграл через семь лет, в другом театре. А Дмитрий Саввич вместе со своей супругой уехал от нас – возвратился в Омск, в ТЮЗ, из которого когда-то к нам приехал… Летом 1971 года на гастролях в Москве с краснодарским театром я однажды, освободясь от спектакля, прогуливался по саду «Аквариум» (мы играли в театре «Моссовета») и увидел его среди входящих на спектакль зрителей. Да, это был он – я не ошибся – с его походкой, но уже седой, чуть сгорбленный… Была ли с ним жена – не просматривалось, да ее-то я мог и не узнать… Мне захотелось окликнуть его, но было неудобно вытаскивать его из череды идущих. Я только смотрел ему вслед, про себя прощаясь с ним, – другую случайность встречи предположить было трудно… И вспомнилось мне, как он однажды, на застольной репетиции, для юморной передышки рассказал нам о себе: – В молодости я был актером, играл маленькие эпизодики, а жил на квартире у сердобольной старушки. Она все сокрушалась – почему мне не дают больших ролей? И я пошутил: – «Я же утром люблю поспать, когда роли раздают – прихожу в театр поздно, хорошие большие роли уже бывают расхватаны актерами – вот и достается мне всякая мелочь…» Она спросила – когда же в следующий раз нам будут раздавать роли? Я ответил, когда примерно будет распределение на следующий спектакль, и позабыл об этом разговоре, уверенный, что она поняла шутку. И вдруг однажды она будит меня ранним утром: – Дима, вставай, беги в театр, а то опять опоздаешь, опять все хорошие роли порасхватают!… 5 Хорошие отношения у меня были и с директором театра Анатолием Ярским. Это был худощавый, подвижный человек активных действий. Он рано приходил в театр, обходил все здание, все технические цеха, проверял, как начинается рабочий день – и лишь тогда шел в свой кабинет… Больше такого театрального директора я не встречал. Он ценил молодежь, отличившихся каким-нибудь успехом в конце сезона приглашал к себе в кабинет и говорил: – Не убежите в другой театр, с начала нового сезона вам будет повышена ставка. И конечно же – мы охотно оставались. Но в 1953 году, из-за каких-то неурядиц с руководством области, он сам уехал из Тюмени и стал директором театра в Магнитогорске. Летом 1954 года и мы с Машей решили переехать в другой город, в другой театр. Я сначала написал письмо в Иваново – нам хотелось поработать недалеко от Москвы, чтобы и меть возможность почаще смотреть спектакли московских театров. На всякий случай я написал и в Магнитогорск, Ярскому. И вот пришли приглашения сразу в два театра – в ивановский и в магнитогорский. Причем Ярский написал, что для нас уже готова квартира, что для начала я должен играть в «Василисе Милентьевой», и прислал нам подъемные деньги. Мы решили ехать в Магнитогорск. И вдруг возникло непредвиденное осложнение – нам с Машей отказали в снятии с партийного учета. И это после того, как мы настойчиво поговорили с начальником областного управления культурой Худолеевым, который сначала не хотел отпускать нас, даже упрекнул в неблагодарности к театру и городу, но потом все-таки разрешил нам уволиться… Я пошел в партийные инстанции. Секретарь райкома направил меня в горком. Строгий секретарь горкома Пацко сказал, что распоряжение дано свыше, и он не намерен его нарушать. И пошел я в обком к секретарю по идеологии Колоскову. Колосков постоянно бывал в театре, запросто беседовал со всеми, знал всю нашу подноготную… Он сказал мне: – Горячев (первый секретарь обкома) распорядился не отпускать из области молодые партийные кадры, а вы к тому же – секретарь театральной парторганизации… Разговор у нас получился не простой, но в конце концов Колосков согласился отпустить нас. Я пришел домой, обрадовал жену, но тут же задумался… Ярский переехал в Магнитогорск тоже с какими-то трудностями в обкоме. А когда снимаешься с партучета, ты обязан сообщить, куда едешь – туда пересылается твоя учетная карточка… И мне пришло в голову, что Ярскому может влететь по партийной линии за переманивание партийных кадров. Подводить его не хотелось – я возвратил ему подъемные с сожалением о необходимости отказаться от предложения ехать в Магнитогорск и объяснил, почему так поступаю… И мы уехали в Иваново. На мое извинительное письмо Ярский мне не ответил. 6 В начале сезона 1951-52 годов, на первом сборе труппы, нам представили новых актеров, приехавших из Омска – героиню Тамару (Дзидру) Дымзен и пожилого крупного мужчину, заслуженного артиста РСФСР, Павла Ивановича Лешкова. Почему они переехали к нам из очень солидного Омского театра – не знаю. Дымзен окончила Омскую театральную студию. Высокая, красивая, с несколько болезненным видом, профессионально-крепкая актриса, она успешно играла там роли классических героинь. Возможно, вытеснили ее конкурентки… Но Павел Иванович Лешков, бывший корифей Александринки (академического театра им.А.С.Пушкина в Ленинграде), получивший «Заслуженного» еще в самом начале появления этого звания!.. Он был сослан на периферию за неосторожно и наивно сказанные слова во время войны, когда отстал от своей Александринки, эвакуированной в Новосибирск, и работал в Блокадном театре… Еще полный сил и творческой энергии – как же он мог оказаться неугодным Омскому театру?.. Поистине – судьбы и пути актерские неисповедимы! Мы смотрели на Павла Ивановича как на снизошедшее к нам божество, – он же начинал свой актерский путь среди таких легендарных, великих актеров, как М.Г.Савина, К.А.Варламов, В.П.Далматов, В.Н.Давыдов… Играл с ними на прославленной сцене, а с В.Н.Давыдовым и Р.Б.Аполлонским находился в дружеских отношениях, хотя был значительно моложе их… И вот теперь – он работал с нами! И был настолько прост и доступен в общении, таким всегда дружелюбно настроенным! Первым спектаклем для него оказалась «Клятва у старой кумирни» А.Барянова. Павел Иванович получил роль крупного китайского землевладельца. У меня была небольшая роль крестьянского сына Юнь-шу. Мы с моим отцом, старым крестьянином (П.Н.Козловым), приходили к своему владельцу с какой-то просьбой. При появлении из-за кулис опускались на четвереньки и так передвигались через всю сцену к креслу, в котором восседал, как на троне, наш жестокий хозяин… Мне было интересно наблюдать – как репетирует артист легендарного театра. Для меня это было заманчивой тайной, – казалось, что столичные артисты как-то по-особенному входят в образ, с помощью каких-то загадочных приемов достигают чуда перевоплощения, поразительной культуры исполнения… Но поначалу он делал все так же, как и мы, провинциалы. В застольный период просто читал свою роль, разбирался с помощью режиссера в ее содержании. Потом, в тех местах роли, где текст уже запомнился, начинал разговаривать с партнерами так просто и естественно, как будто говорил собственные слова… И я, наблюдая за ним, ощущал – что вот оно, приближается чудо перевоплощения! Но память у Павла Ивановича была уже не очень надежной, он снова утыкался глазами в роль, и приближение чуда обрывалось… В те годы за столом сидели долго, пока не создавался особый, чтецкий вариант спектакля. А когда спектакль ставился очередным режиссером – проводилась даже сдача застольного периода главному режиссеру. Актеры, сидя за столом, проигрывали ему весь спектакль, делались замечания, предложения – и только тогда мы выходили на сцену в «выгородки». Оформления еще не было, оно условно выгораживалось стульями. И нас как будто отбрасывало назад, в начальный период работы, – осваивая предлагаемые режиссером мизансцены, мы как бы заново вникали в смысл ролей и пьесы… Переход этот, как правило, был мучителен, его надо было перетерпеть. Оживало все заново с появлением оформления, – материальную обстановку уже не надо было «воображать», входи себе в почти настоящую дверь, выглядывай в почти настоящее окно и так далее, – то есть начиналось конкретное действие, которое втягивало тебя в сценическую жизнь, рождало ощущение правды происходящего, органику поведения… И многоопытный Павел Иванович покорно и терпеливо проходил вместе с нами этот «тернистый» путь. Вот только результат у каждого был свой… Александринский мастер как-то само собой, естественно и непринужденно поднимался на такую высоту, которая для нас, особенно молодых, была пока недостижима. В те вечера, когда я был занят в спектаклях вместе с Павлом Ивановичем, я любил приходить заранее, чтобы быстрей загримироваться и одеться. Потом я заглядывал в гримировочную своего кумира, он радушно приглашал войти, и, гримируясь, охотно отвечал на мои дотошные вопросы. Сценические фотоснимки П.И.Лешкова Однажды он рассказал, как впервые вышел на сцену Александринки. После зачисления в труппу он какое-то время не был занят в спектаклях, и вдруг ему вручают текст роли купчика, который в «Свадьбе Кречинского» является к нему потребовать денежный долг. Кречинского играл знаменитый В.П.Далматов, спектакль шел уже давно, это был ввод вместо заболевшего актера. «Явитесь вечером пораньше, зайдите в гримировочную к Далматову, и он пройдет с вами сцену» – сказали мне. За день я старательно выучил роль и вечером, одетый и загримированный, робко постучал в дверь знаменитого артиста. «Войдите», – ответил он и, увидев меня, приветливо протянул: «А-а, новый исполнитель! Садитесь, подавайте текст». Я начал старательно проговаривать свой текст, пытаясь сделать все побыстрей, чтобы не отвлекать надолго своего почитаемого партнера. Он сидел перед зеркалом, неторопливо накладывал грим и, не глядя на меня, легко подавал свои реплики. И вдруг резко обернулся ко мне и грозно, звучно спросил: «Что-с?!» Я испугался и пробормотал: «Извините…» «Ну и что же вы растерялись, – улыбнулся он, – я вам подал реплику в тоне, вот так я буду играть. Отвечайте!» Я постарался взять себя в руки, и мы договорили сцену до конца. «А теперь бегите к помрежу, он вам покажет мизансцены». Слава богу, я справился с волнением, на спектакле сцена прошла хорошо, и лишь тогда я поверил в себя, поверил, что смогу работать рядом с такими великанами…» А я, слушая этот рассказ, подумал – какая же свобода импровизации и органического действия на сцене была в них, тогдашних молодых актерах, заложена школой, если они могли сходу, практически без репетиции, играть свободно и достойно… В этот сезон у нас был поставлен спектакль «С любовью не шутят» Лопе де Вега. Павел Иванович посмотрел его и сказал нам: – Если бы вы видели, как играл такие роли Юрьев! И мы поняли, как нам далеко еще до настоящего мастерства! На репетициях, во время перерывов, мы, молодежь, садились вокруг него, и он охотно рассказывал об Александринских актерах. Нас поражало то, что он помнил тексты не только из своих прошлых ролей, но и показывал, как читали свои монологи Юрьев, Далматов, Аполлонский. Особенно тепло вспоминал он о Давыдове… А вот новые тексты запоминал трудно, часто говорил их своими словами, импровизируя по смыслу. Когда мы репетировали «Ревизора», он продемонстрировал нам удивительный пример мастерства. В тридцатые годы он играл в Александринке Городничего, причем Хлестаковым был Борис Бабочкин, только что прославившийся в кино в роли Чапаева… У нас Павел Иванович получил роль Земляники, но еще великолепно помнил текст Городничего и однажды, перед началом репетиции, сыграл нам один всю первую сцену спектакля. Он произносил и свой текст и реплики всех партнеров. Вел сцену увлеченно, неся огромное, опасное событие – приезд инкогнито столичного ревизора… Партнерские реплики произносил, как бы повторяя их, чтобы лучше вникнуть в смысл, оценивая их важность или глупость, или гневаясь, неся свое отношение к персонажам… Мы были поражены блеском его мастерства, психологической точностью, эмоциональной многокрасочностью и силой… Он сам явно получал удовольствие, купаясь в сценической ситуации и наслаждаясь великолепным гоголевским текстом… По окончании сцены сами собой взорвались наши аплодисменты. Впоследствии я прочел в мемуарах Бориса Чиркова, знаменитого кино-героя Максима, что он в юности учился в Ленинградской театральной студии, и педагогом его был П.И.Лешков. С какой благодарностью он вспоминал об этом! И сейчас в Павле Ивановиче был жив неуемный дух педагога, и он пытался помочь нам, молодым. Со мной он детально прошел роль почтмейстера в «Ревизоре», сняв у меня напряженность, говоря, что это – легкий человек с неумеренным любопытством, и вскрывает он чужие письма без дурного умысла, а совершенно естественно для себя, наивно радуясь чужим секретам… Я был очень рад его советам, принимал их полностью и находился в ощущении радостного полета, когда играл эту роль. Павел Иванович пытался давать советы и нашему исполнителю роли Городничего, уже возрастному актеру Р.Ушакову – но тот высокомерно отверг их, заявив, что сам во всем разберется… Летом 1953 года, после смерти Сталина, Павлу Ивановичу разрешили возвратиться в Ленинград, в свой театр. Когда он уезжал от нас, мы с Мишей Артемовым договорились встретиться с ним в Москве на театральной бирже, куда он собирался заглянуть на всякий случай – вдруг туда заедут знакомые актеры или режиссеры. И мы с ним там встретились в назначенное время. Он появился в белом костюме, нарядный, величественный, веселый. Сказал нам, что остановился в Москве у своего бывшего ученика, а сейчас – артиста Малого театра Хохрякова, который готовился играть Городничего и попросил Павла Ивановича поработать с ним над ролью несколько дней. И мы с Мишей вспомнили, как в Тюмени наш артист Ушаков высокомерно отказался от его помощи… Все, кто находился в большом зале биржи, с удивлением уставились на нас, вернее – на большого, величественного, ослепительно красивого, пожилого, но статного Павла Ивановича. И вдруг только что вошедший в зал среднего возраста человек остановился в изумлении и с широко открытыми глазами воскликнул на весь зал: – Павел Иванович! Вы!!! Раскинув руки, он ринулся к нашему Лешкову, опустился на колено и почтительно поцеловал его руку. Потом, обернувшись к вошедшему вслед за ним молодому человеку, радостно позвал: – Сын! Иди сюда! Это же Павел Иванович Лешков! И тут весь зал, как бы очнувшись, двинулся в нашу сторону, окружая нас живым кольцом любопытных, восхищенных и трогательно узнающих Павла Ивановича глаз. Нам с Мишей стало неловко стоять так запросто с ним рядом, и мы отодвинулись в сторонку… Потом, когда это возбуждение утихло, люди почтительно отошли от радостносмущенного Павла Ивановича, мы попрощались с ним тепло и душевно, пожелали ему счастливого возвращения в Ленинград, в свой родной театр, и, взволнованные происшедшей сценой, оставили его, как после оказалось, навсегда… Через сколько-то лет я услышал его голос по радио, его знакомые интонации… Он читал что-то из классики, я не понял по фрагменту – из кого это, но читал он великолепно. Я упивался его живым голосом, видел его перед собой – и думал о нем, а не о том, что он читал… Это было моим последним – через эфир – восприятием его, как бы последней встречей с ним… В середине 2004 года, когда я уже снова работал в Тюменском театре, и мой сын Борис, инженер-электронщик, создал свой сайт в сети Интернета о театре – мы с ним получили запрос из Соединенных Штатов Америки от правнука Павла Ивановича – Даниила Лешкова. Он писал, что его прадедушка работал в Тюменском театре, что сам он очень мало знает о нем, попросил сообщить – что мы знаем о Павле Ивановиче, и нет ли у нас его фотоснимков. Наш заокеанский корреспондент! Я сообщил ему все, что рассказывал о себе его замечательный прадед, что Павел Иванович осенью 1953 года возвратился в Ленинград в свой театр, мы послали американскому адресату портрет уже пожилого Лешкова, который сохранился в нашем театре, но что о дальнейшей судьбе его я ничего не знаю. Теперь этот фотопортрет висит у нас в театре в ряду знаменитостей и ветеранов, которые в свое время играли на тюменской сцене… Воспоминания трудно упорядочить. Когда они возникают – они, как бы соперничая друг с другом, стремятся забрать твое внимание на какое-то время, а другие ревниво выталкивают их, вылезают на первый план – и это продолжается само собой до тех пор, пока не устанет твоя голова… Помню, что в то время, когда Павел Иванович еще был у нас, я с увлечением читал великолепную книгу театральных воспоминаний Ю.М.Юрьева. И вот дошел до того места, где Юрьев пишет, как в период после Февральской революции 1917 года в Александринке игрался спектакль из Российской истории. Сторонника монархии играл Аполлонский, играл мастерски, с полной отдачей, сценам и монологам его воодушевленно аплодировал партер, где сидели дворяне, аристократы – сторонники монархии. Оппонента Аполлонского играл молодой тогда, горячо-темпераментный Павел Лешков. Ему неистово аплодировала демократичная, революционно настроенная галерка… Юрьев писал об этом так, как будто возрастной уже монархист Аполлонский и молодой революционный демократ Лешков сознательно-политически боролись на сцене, раскалывая зрительный зал на две враждебные половины… Вечером, перед спектаклем «Любовь Яровая», возбужденный прочитанным, я забежал в гримировочную к Лешкову. – Павел Иванович! Я только что прочитал в мемуарах Юрьева, как вы в 1917 году играли в одном спектакле с Аполлонским, как горячо принимала ваш образ галерка, а Аполлонского – партер… Вы помните это? – А как же! – воспламенился он, – Я же только что был принят в императорский театр, мне же надо было соответствовать уровню Аполлонского. Вот я и старался, выкладывался, как мог… И я понял, что ни о какой политике он тогда не думал, он просто стремился хорошо сыграть свою роль… Для меня, молодого еще актера, это было удивительным открытием. Он просто от себя очеловечивал свою роль. Старался быть искренним, убедительным, войдя в судьбу своего героя, а получалось – гораздо большее, значительнее, чем он сам задумывал… В процессе репетиций «Любови Яровой» постановщик спектакля Дмитрий Саввич Бархатов, чтобы актеры лучше поняли и ощутили время Гражданской войны, роздал некоторым из нас темы для коротких исторических рефератов. Мне выпало доложить о судьбах интеллигенции в этот трагический период. Я постарался – ознакомился со всем, что смог найти в библиотеке на эту тему, выбрал самое главное, связал это с персонажами пьесы, и когда прочел свое сообщение на репетиции – в перерыве ко мне подошел Павел Иванович, задал несколько дополнительных вопросов и трогательно сказал : – Спасибо! Вы мне очень помогли… Он репетировал роль профессора, которого ведут вроде на расстрел, а потом признают в нем Карла Маркса из-за длинных седых волос и бороды, и что-то Павлу Ивановичу в этой ситуации было не совсем понятно, мешало войти в органику своего персонажа. Конечно, меня тронула его благодарность, но я был очень удивлен тем, что мои выбранные из разных источников факты и мысли смогли дать ему что-то неизвестное для него – ведь он же сам пережил этот сложный период, сам был творческим интеллигентом и на себе испытал все проблемы того времени… Очевидно эти проблемы воспринимались ими тогда как-то иначе, не совсем так, как это описывали исторические статьи и книги. Я впервые столкнулся в тот момент с такой неожиданной мыслью… У нас Павел Иванович не только играл, но и занимался режиссурой. Поставил он «Свадьбу Кречинского» Сухово-Кобылина. Кречинским был актер Юрий Замятин – высокий, породистый мужчина, роль Расплюева – Павел Иванович взял себе. Он откровенно сказал нам, что играет по рисунку В.Н.Давыдова, у которого эта роль была одной из коронных. Давыдов в свое время тоже откровенно признавал, что взял рисунок у провинциального актера и антрепренера П.М.Медведева, но внес в этот рисунок столько жизни и смысла, что роль стала шедевром. Очень интересно было наблюдать, как репетировал и играл Павел Иванович – он был на удивление трогательным, хотя жуликоватость сквозила из всей огромной, но жалкой, приниженной его фигуры. При первом выходе на сцену – на спине его черного, потрепанного сюртука был отпечатан меловой след сапога, свидетельство того, как был изгнан Расплюев из биллиардной…Павел Иванович сохранил этот след – как давыдовскую, а может – медведевскую деталь. Мне была поручена роль Нелькина. Старшие актеры говорили – это «голубая», неинтересная роль. Интересным в ней был только монолог: «Правда, правда, где ж твоя сила!» Считалось, что если после этого монолога, на уход Нелькина, раздавались аплодисменты – роль удалась. И если судить по этому признаку – роль у меня получилась… Конечно, я был рад, что играю в солидном актерском составе. В спектакле «Свои люди – сочтемся» А.Н.Островского Павел Иванович играл в молодости роль Подхалюзина, он прославился в этой роли и даже ездил с ней по провинции как гастролер. Спектакль тогда был поставлен Евтихием Карповым, тем самым, который режиссировал еще при самом Островском и воплощал непосредственно его указания… Теперь Павел Иванович отдал роль Подхалюзина Михаилу Артемову, разделал ее со всеми деталями, купеческими знаковыми жестами, которые были показаны ему Карповым… Так протягивалась ниточка традиций от самого А.Н.Островского! И Артемов играл это здорово, сплавляя традиции в одно целое со своими личными, современными особенностями и личной психологией… Себе Лешков взял роль богатого московского купца, неразборчивого в средствах наживы, Большова Самсона Силыча. Играл увлеченно, глубоко. Изумительным был перелом его сознания в финале спектакля, когда он – старый, ушлый купец – возвращался домой после отсидки в долговой яме и узнавал, что ставший ему зятем Подхалюзин бессовестно, подло и хладнокровно обманул его, сделал нищим… Его потрясение, горечь, бессильный гнев, потоком вылившиеся в последний монолог, до слез трогали зрителей, они горячо, сочувственно аплодировали ему – а в рецензии на спектакль в областной газете обругали Павла Ивановича за то, что он не обличил своего героя, не развенчал его, не выявил его отрицательной социальной сущности, а заставил зрительный зал жалеть чуждый элемент, сочувствовать ему… Но Лешкова словно и не смущало это зачеркивание его создания, он оставался верен своей традиции – быть просто живым, а не надуманным человеком на сцене. Это ругательно называлось тогда «объективизмом», настоятельно требовалась социальная, классовая тенденция. Теперь это кажется настолько наивным требованием, в которое трудно поверить… Однажды Павел Иванович рассказал нам о факте, который узнал от Е.Карпова. Знаменитые «старухи» Малого театра пожаловались Островскому на большое количество текста в своих ролях, особенно в начале какого-то спектакля, который они репетировали. Островский ответил им неожиданно просто: – А вы вычеркивайте то, что вам не нужно. Я для того и написал так много, чтобы у актеров была возможность выбора… Поразительный пример авторской скромности! В 1930-е годы Лешкову довелось однажды участвовать в Кремлевском правительственном концерте, выступать перед самим И.В.Сталиным. Вместе с Екатериной Павловной Корчагиной-Александровской они сыграли скетч «Депутатка». Очень волновались, но все прошло благополучно. После концерта в его гостиничный номер явилось официальное лицо и выплатило ему гонорар за выступление. Павел Иванович спокойно получил деньги и поблагодарил официальное лицо… – И свалял дурака! – смеялся он, рассказывая нам эту историю, – Катя оказалась хитрей. Она отказалась от гонорара… Заявила торжественно, что для родного Правительства она играла бесплатно, что это и так для нее великая честь. И что вы думаете? Через некоторое время она получила звание «народной артистки», а я как был «заслужённым», так и остался… Он так и произнес это слово – «заслужённым», по-питерски… Помню курьез, который произошел с Лешковым на спектакле «Вас вызывает Таймыр» А.Галича. В самом начале спектакля мы, «командированные», просыпались в гостинице «Москва» и в одних трусах и майках бежали в туалетную комнату «умываться». В то время это шокировало зрителей: мужчины на сцене почти голые!.. После короткого замешательства из зала слышались «ахи», хохот, подзадоривающие реплики… Один Павел Иванович просыпался в пижаме – он играл директора Крымской филармонии, среди всех нас – самую важную фигуру. Мы, «умывшись», возвращались на сцену и напяливали на себя брюки и рубашки опять-таки на глазах у зрителей. А Павла Ивановича одевали за кулисами, натягивая брюки прямо на пижамные штаны, чтобы он успел на выход. Я играл молодого геолога-заику, который звонил с утра своей девушке и от застенчивости никак не мог объясниться ей в любви. За моей спиной показывался уже одетый Павел Иванович и пытался помочь мне, подсказывая нужные слова… Играем эту сцену, я, так и не объяснившись, удрученно бреду к своей кровати, а «филармонический директор» следует за мной и утешает меня. И вдруг в зале начался смех…Я в недоумении остановился, – что же случилось? Ведь тут не над чем смеяться… Обернулся к «директору» и замер: его брюки сползли до колен, обнажив полосатые пижамные штаны… Павел Иванович тоже остановился, с недоумением глядя на свои штаны – и вдруг воскликнул: – Батюшки, да это же мои! – и начал пытаться натянуть брюки. При его полноте это было очень трудно, он не мог нагнуться… И тут обрушился на нас с ним такой громовой хохот – откровенный, общий, и зрителей и актеров на сцене! Удержаться было невозможно… Мы, занятые в сцене, общими усилиями натянули на растерянного «директора» брюки и, еле успокоившись, продолжили спектакль… С таким откровенным, общим хохотом я больше не встречался ни в одном театре. Дорогой, замечательный Павел Иванович! Он был растерян и расстроен, как ребенок. Одевальщицы, которые второпях плохо застегнули его брюки, так извинялись потом перед ним, умоляя простить их… Он смущенно махнул рукой и сказал: – Да ладно уж!… Выехали мы на малые сельские гастроли по райцентрам области. Жили в примитивных гостиницах, играли на убогих сценках. Скрашивало эти гастроли только то, что зрителей в сельских клубах всегда было битком, принимали они спектакли с шумным восторгом… Я смотрел на Павла Ивановича: каково ему-то, столичному, бывшему императорскому артисту, было переносить все неудобства этих, громко говоря, гастролей? Но он был, как обычно, весел и жизнерадостен. Он служил театру, служил народу, был верен своему призванию… Однажды мы с ним вместе пошли пообедать в сельскую «чайную». Жалкая обстановка столовой его ничуть не смущала. Мы уселись за свободный столик, сделали заказы супа, котлет и компота подошедшей девушке (тогда еще не было самообслуживания), к блюдам Павел Иванович заказал стопку водки, я следом за ним – то же… Как священнодействовал он за столом, как аккуратно расставил свои блюда перед собой, с каким великолепным изяществом чокнулся со мной простенькой стопкой и вкусно выпил эту дешевенькую водку, как ловко и красиво орудовал ложкой, вилкой и ножичком, который специально попросил у официантки, как аппетитно принимал простенькую столовскую пищу… При этом мы легко о чем-то беседовали, я незаметно наблюдал за ним, стараясь хоть чуточку перенять его манеры и культуру застолья… Во всем его поведении не было ни чуточки покровительственности, он общался со мной просто, потоварищески, как с равным… Это тоже было для меня хорошим, наглядным уроком. В другой раз мы встретились за домашним столом Николая Сергеевича Линдера, нашего заведующего музыкальной частью театра. Он пригласил нас на вечер воспоминаний о городе Харбине… Я к этим воспоминаниям не имел никакого отношения, я просто сидел с ними за одним столом и внимательно, увлеченно слушал… Сам Николай Сергеевич провел там детство. Его отец, инженер, уехал туда с семьей по контракту в двадцатых годах, когда существовала КВЖД – российско-китайская железная дорога. В те годы существовал там русский театр с переменными творческими составами, играли и драматические спектакли и пели оперные. Целый сезон пел на харбинской сцене молодой, еще не знаменитый тогда Сергей Яковлевич Лемешев. Павел Иванович ездил туда вместе со своим другом Р.Б.Аполлонским… За столом шел увлеченный, дружный разговор, иногда затихая на минутку… При этом мы пили водку из крохотных, изящных рюмочек, которым Павел Иванович обрадовался, как драгоценностям из прошлого. Они каким-то образом сохранились в семье Линдеров – бывших прибалтийских баронов, как я узнал многие годы спустя. А тогда я с упоением слушал… Николай Сергеевич показал нам любительский узкопленочный фильм о жизни их семьи в Китае. Это была комедийная лента, в которой снялись и сам он, и жена его, и сыновья – Николай и Георгий. Они там забавлялись в духе Чарли Чаплина, импровизируя на ходу смешные ситуации, развлекались талантливо, самозабвенно… Попадали в кадры соседские ребятишки-китайчата, которые с удивлением смотрели на то, что выделывают эти непонятные русские… Павел Иванович наслаждался этим вечером, решительно сбросив с плеч груз прожитых лет и выпавших на его долю испытаний. В моих глазах – он как бы плыл в грустноватом облаке счастья… Это было прекрасно! К самобытной личности Николая Сергеевича я возвращусь чуть позже, а сейчас расскажу о грустной и позорной для нашего театрального коллектива истории. Это произошло на второй или третий день после траурного извещения о смерти И.В.Сталина. Все были потрясены случившимся, репетиции и спектакли отменились, но появилось странное объявление – о срочном сборе всего коллектива театра, со строгой добавкой: явка обязательна! Все думали – это, очевидно, продолжение траурного митинга, но почему? Собрались в фойе, там уже были расставлены стулья для нас, стол для президиума и отдельно – скамья, которую просили не занимать… За стол молча сели наши руководители – директор театра, главный режиссер и очередной режиссер Ящинина Лидия Александровна, которая была парторгом. Они коротко перекинулись какими-то словами, потом решительно встала Лидия Александровна и сурово, с оттенком горечи и возмущения, начала: – Товарищи! Все замерли, чуя что-то неприятное… Она говорила жестко. Сообщила, что вчера Павел Иванович Лешков и художникисполнитель… (я не помню его фамилии) устроили в театральном общежитии пьянку, причем за водкой они посылали ученицу парикмахерского цеха, комсомолку, что это – чудовищное оскорбление памяти великого Вождя, оскорбление нашего всеобщего горя… П.ИЛешкова и художника она холодно-вежливо попросила сесть на отдельную скамью, что они немедленно исполнили, и потребовала объяснить суть происшедшего. Бедный Павел Иванович встал первым, он был бледен, растерян и говорил сбивчиво. – Но мы же… по русскому обычаю… просто хотели справить тризну по усопшему… по великому человеку… Он чистосердечно покаялся в содеянном, попросил прощения у коллектива. Встал его «собутыльник» и своими словами сказал то же самое… Лидия Александровна вызвала к столу мою комсомолку (я в то время был секретарем комсомольской организации театра) и потребовала объяснения и с нее. – Я же не знала, – пролепетала она со страхом, – они просто попросили меня… Они же старшие, я и сбегала… помогла им… Наступила короткая, тяжелая пауза. Все знали, что оба обсуждаемые были репрессированы, а художник – еще и дворянин по происхождению… Положение было опасным. – Я прошу товарищей выступить, высказать свое отношение к данному факту, – прервала паузу Лидия Александровна. Говорила она не на шутку серьезно, и начались выступления… Конечно – осуждали поступок, кто искренне-гневно, кто – по необходимости. Были и такие, кто заявил, что не верит в политическую злоумышленность содеянного, что это – скорей действительно поминки, но по политической слепоте этих людей, недопонимания неуместности и двусмысленности такого застолья… Я сказал коротко, в таком же духе и пообещал собранию, что с нашей комсомолкой мы разберемся на специальном комсомольском собрании. Ко всеобщему облегчению – все завершилось благополучно. «Виновникам» – Павлу Ивановичу и его напарнику – вынесли строгое общественное порицание, такое же наказание на комсомольском собрании получила и наша молодая провинившаяся. Я невольно думал потом – как же мы были пронизаны контролем, слежкой с последующими доносами куда следует. Кто-то же донес о тихой, мирной выпивке двух пожилых людей в своей комнатушке в нашем общежитии – и поступило гневное указание парторгу театра разобрать, обсудить, осудить, доложить об исполнении… Представляю, как досталось самой Ящининой в каком-то высоком кабинете: куда вы смотрите? что у вас творится под самым носом? Как она сама-то переволновалась перед собранием… Павел Иванович перенес все это тяжело, несколько дней ходил молчаливый, отрешенный… Таким был П.И.Лешков в Тюменском театре Летом последовала его амнистия, в конце августа он возвратился в Ленинград. Я уже рассказал о том, как я и Миша Артемов встретились с ним в Москве на театральной бирже – и там мы расстались с ним уже навсегда… В кино он остался только в двух фильмах: «Чапаев» и «Ленин в 1918 году». В «Чапаеве» он играл друга белогвардейского генерала Бороздина, роль которого великолепно исполнил И.Н.Певцов, замечательный актер Александринского театра. О Певцове Павел Иванович всегда рассказывал нам с величайшим уважением… В сцене, когда генерал в глубоком раздумье играет на рояле, персонаж Павла Ивановича сидит в сторонке на диване и читает газету. Денщик генерала натирает паркет и вдруг начинает слезно просить его пощадить своего брата Митьку, приговоренного к расстрелу за попытку дезертирства. Персонаж Павла Ивановича краем глаза наблюдает из-за газеты, с еле уловимой иронией ожидая, что же ответит генерал на мольбу своего верного денщика… Эпизод небольшой, но очень содержательный, углубляющий смысл сцены о сложности социальных отношений в трагическое время Гражданской войны. В фильме «Ленин в 1918 году» Лешков – председатель Государственной думы, который тщетно пытается навести порядок в бушующей думе – как бы стараясь навести порядок не только в думе, но вообще остановить грозные революционные события… Вот и все, где можно увидеть сохранившуюся тень большого артиста… Все, что создается театральным актером, исчезает вместе с ним. Грустная профессия. Память об актере практически исчезает вместе с уходом из жизни его современников – вот почему так хочется рассказать об этих своеобразных людях, оставить след о них хотя бы на бумаге…