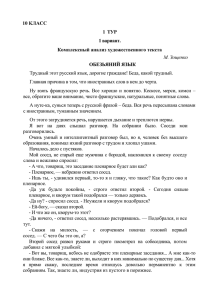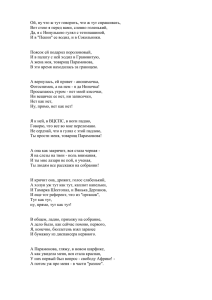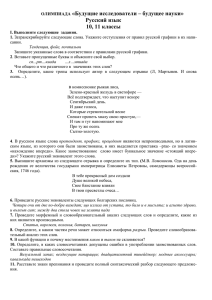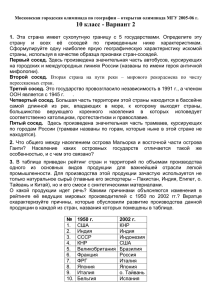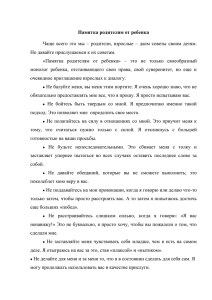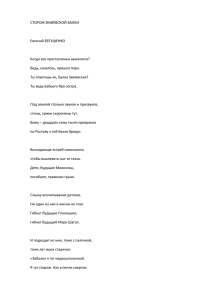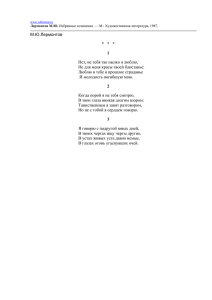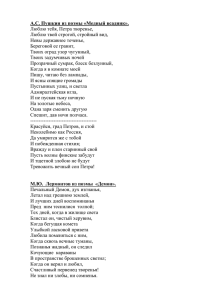Открою тебе тайну сердца моего, любезный друг! Я влюблен, и
реклама
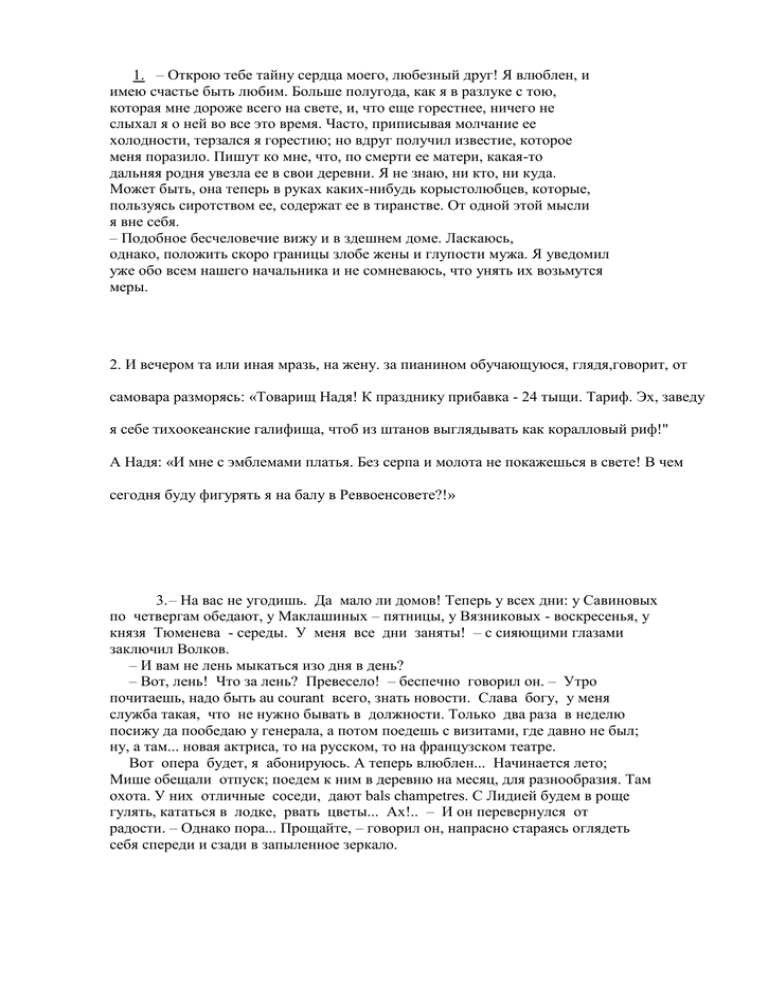
1. – Открою тебе тайну сердца моего, любезный друг! Я влюблен, и имею счастье быть любим. Больше полугода, как я в разлуке с тою, которая мне дороже всего на свете, и, что еще горестнее, ничего не слыхал я о ней во все это время. Часто, приписывая молчание ее холодности, терзался я горестию; но вдруг получил известие, которое меня поразило. Пишут ко мне, что, по смерти ее матери, какая-то дальняя родня увезла ее в свои деревни. Я не знаю, ни кто, ни куда. Может быть, она теперь в руках каких-нибудь корыстолюбцев, которые, пользуясь сиротством ее, содержат ее в тиранстве. От одной этой мысли я вне себя. – Подобное бесчеловечие вижу и в здешнем доме. Ласкаюсь, однако, положить скоро границы злобе жены и глупости мужа. Я уведомил уже обо всем нашего начальника и не сомневаюсь, что унять их возьмутся меры. 2. И вечером та или иная мразь, на жену. за пианином обучающуюся, глядя,говорит, от самовара разморясь: «Товарищ Надя! К празднику прибавка - 24 тыщи. Тариф. Эх, заведу я себе тихоокеанские галифища, чтоб из штанов выглядывать как коралловый риф!" А Надя: «И мне с эмблемами платья. Без серпа и молота не покажешься в свете! В чем сегодня буду фигурять я на балу в Реввоенсовете?!» 3. – На вас не угодишь. Да мало ли домов! Теперь у всех дни: у Савиновых по четвергам обедают, у Маклашиных – пятницы, у Вязниковых - воскресенья, у князя Тюменева - середы. У меня все дни заняты! – с сияющими глазами заключил Волков. – И вам не лень мыкаться изо дня в день? – Вот, лень! Что за лень? Превесело! – беспечно говорил он. – Утро почитаешь, надо быть au courant всего, знать новости. Слава богу, у меня служба такая, что не нужно бывать в должности. Только два раза в неделю посижу да пообедаю у генерала, а потом поедешь с визитами, где давно не был; ну, а там... новая актриса, то на русском, то на французском театре. Вот опера будет, я абонируюсь. А теперь влюблен... Начинается лето; Мише обещали отпуск; поедем к ним в деревню на месяц, для разнообразия. Там охота. У них отличные соседи, дают bals champetres. С Лидией будем в роще гулять, кататься в лодке, рвать цветы... Ах!.. – И он перевернулся от радости. – Однако пора... Прощайте, – говорил он, напрасно стараясь оглядеть себя спереди и сзади в запыленное зеркало. 4. …разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «бей разруху!» – я смеюсь... Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займётся чисткой сараев – прямым своим делом, – разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удаётся, доктор, и тем более – людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор ещё не совсем уверенно застёгивают свои собственные штаны! 5. – Барон в этом деле дилетант, – отвечал он, слегка краснея, – но в его статье много справедливого и любопытного. – Не могу спорить с вами, не зная статьи... Но, смею спросить, сочинение вашего приятеля, барона Муффеля, вероятно, более придерживается общих рассуждений, нежели фактов? – В нем есть и факты и рассуждения, основанные на фактах. – Так-с, такс. Доложу вам, по моему мнению... а я могу-таки при случае свое слово молвить; я три года в Дерпте выжил... все эти так называемые общие рассуждения, гипотезы там, системы... извините меня, я провинциал, правду-матку режу прямо... никуда не годятся. Это все одно умствование – этим только людей морочат. Передавайте, господа, факты, и будет с вас. 6. — Я,— говорит,— ну, словно слон, работаю за тридцать два рубля с копейками в кооперации, улыбаюсь,— говорит,— покупателям и колбасу им отвешиваю, и из этого,— говорит,— на трудовые гроши ёжики себе покупаю, и нипочём то есть не разрешу постороннему чужому персоналу этими ёжиками воспользоваться. Тут снова шум, и дискуссия поднялась вокруг ёжика. Все жильцы, конечно, поднапёрли в кухню. Хлопочут. Инвалид Гаврилыч тоже является. — Что это,— говорит,— за шум, а драки нету? Тут сразу после этих слов и подтвердилась драка. Началось. А кухонька, знаете, узкая. Драться неспособно. Тесно. Кругом кастрюли и примуса. Повернуться негде. А тут двенадцать человек впёрлось. Хочешь, например, одного по харе смазать — троих кроешь. И, конечное дело, на всё натыкаешься, падаешь. Не то что, знаете, безногому инвалиду — с тремя ногами устоять на полу нет никакой возможности. А инвалид, чёртова перечница, несмотря на это, в самую гущу впёрся. Иван Степаныч, чей ёжик, кричит ему: — Уходи, Гаврилыч, от греха. Гляди, последнюю ногу оборвут. Гаврилыч говорит: — Пущай,— говорит,— нога пропадёт! А только,— говорит,— не могу я теперича уйти. Мне,— говорит,— сейчас всю амбицию в кровь разбили. А ему, действительно, в эту минуту кто-то по морде съездил. Ну, и не уходит, накидывается. Тут в это время кто-то и ударяет инвалида кастрюлькой по кумполу. Инвалид — брык на пол и лежит. Скучает. 7. – Да что ты ко мне лезешь со всяким вздором! Может, я с тобой и говорить-то не хочу. Ты должен был прежде узнать, в расположении ли я тебя слушать, дурака, или нет. Что я тебе — ровный, что ли? Ишь ты, какое дело нашел важное! Так прямо с рылом-то и лезет разговаривать. – Кабы я со своим делом лез, ну, тогда был бы я виноват. А то я для общей пользы, ваше степенство. Ну, что значит для общества каких-нибудь рублей десять! Больше, сударь, не понадобится. – А может, ты украсть хочешь; кто тебя знает. – Коли я свои труды хочу даром положить, что же я могу украсть, ваше степенство? Да меня здесь все знают; про меня никто дурно не скажет. – Ну, и пущай знают, а я тебя знать не хочу. – За что, сударь, Савел Прокофьич, честного человека обижать изволите? – Отчет, что ли, я стану тебе давать! Я и поважней тебя никому отчета не даю. Хочу так думать о тебе, так и думаю. Для других ты честный человек, а я думаю, что ты разбойник, вот и все. Хотелось тебе это слышать от меня? Так вот слушай! Говорю, что разбойник, и конец! Что ж ты, судиться, что ли, со мной будешь? Так ты знай, что ты червяк. Захочу — помилую, захочу — раздавлю. – Бог с вами, Савел Прокофьич! Я, сударь, маленький человек, меня обидеть недолго. А я вам вот что доложу, ваше степенство: «И в рубище почтенна добродетель!» – Ты у меня грубить не смей! Слышишь ты! 8.— А что, товарищ, это заседание пленарное будет али как? — Пленарное,— небрежно ответил сосед. — Ишь ты,— удивился первый,— то-то я и гляжу, что такое? Как будто оно и пленарное. — Да уж будьте покойны,— строго ответил второй.— Сегодня сильно пленарное и кворум такой подобрался — только держись. — Да ну? — спросил сосед.— Неужели и кворум подобрался? — Ей-богу,— сказал второй. — И что же он, кворум-то этот? — Да ничего,— ответил сосед, несколько растерявшись.— Подобрался, и всё тут. — Скажи на милость,— с огорчением покачал головой первый сосед.— С чего бы это он, а? 9. А встретился я с ней во дворе дома. На собрании. Гляжу, стоит этакая фря. Чулочки на ней, зуб золочёный. — Откуда,— говорю,— ты, гражданка? Из какого номера? — Я,— говорит,— из седьмого. — Пожалуйста,— говорю,— живите. И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней. В седьмой номер. Бывало, приду, как лицо официальное. Дескать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода и уборной? Действует? — Да,— отвечает,— действует. И сама кутается в байковый платок, и ни мур-мур больше. Только глазами стрижёт. И зуб во рте блестит. Походил я к ней месяц — привыкла. Стала подробней отвечать. Дескать, действует водопровод, спасибо вам, Григорий Иванович. Дальше — больше, стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит себя под руку принять. Приму её под руку и волочусь, что щука. И чего сказать — не знаю, и перед народом совестно. Ну, а раз она мне и говорит: — Что вы,— говорит,— меня всё по улицам водите? Аж голова закрутилась. Вы бы,— говорит,— как кавалер и у власти, сводили бы меня, например, в театр. — Можно,— говорю. 10. Я всегда симпатизировал центральным убеждениям. Даже вот когда в эпоху военного коммунизма нэп вводили, я не протестовал. Нэп так нэп. Вам видней. Но, между прочим, при введении нэпа сердце у меня отчаянно сжималось. Я как бы предчувствовал некоторые резкие перемены. И действительно, при военном коммунизме куда как было свободно в отношении культуры и цивилизации. Скажем, в театре можно было свободно даже не раздеваться — сиди, в чём пришёл. Это было достижение. А вопрос культуры — это собачий вопрос. Хотя бы насчёт того же раздеванья в театре. Конечно, слов нету, без пальто публика выгодней отличается — красивей и элегантней. Но что хорошо в буржуазных странах, то у нас иногда выходит боком.